Агилета Святая с темным прошлым
По-видимому, на свете нет ничего, что не могло бы случиться.
Марк Твен© Электронная версия книги подготовлена компанией ЛитРес, 2014
* * *
Женщины в истории всегда в тени. Если и упадет на какую-нибудь из них отсвет известности, то следует оглядеться по сторонам в поисках мужчины, щедро озаряемого славой. И мало кому приходит в голову, что слава эта соткана зачастую именно женскими руками. Воспитательницы, музы, верные спутницы, они незаметно вращают миром, то мудро наставляя, то вдохновляя, то утешая. Насколько высоко смог бы взлететь Наполеон, если бы накануне своего первого похода он не обвенчался с Жозефиной и не пообещал ей будущее величие? И, как знать, сколь ярко светило бы потомкам «солнце русской поэзии» без его Натали и роковой дуэли? Кем остался бы в истории реформатор церкви Генрих VIII, не воспылай он страстью к Анне Болейн, им же впоследствии казненной? У каждого Робин Гуда своя Мэрион, а у Перикла своя Аспазия.
Кто же они, эти женщины за спиной прославленных мужчин, чудом избежавшие извечной женской участи – забвения? Всегда – любимые, порой – «беззаконные кометы», но, как правило, жены. О матерях традиционно забывают (их роль в истории исчерпана культом Богородицы), но порой удается сверкнуть теткам, как в случае с Цезарем, бабушкам или даже няням. Дочь же вспоминается только одна – Суворочка – ради нее одерживал победы отец-генералиссимус.
Однако есть и те, чью роль в судьбе великого человека трудно описать привычными словами. Такой была Василиса Покровская. Кем приходилась она тому, кто озарил ее имя? Она подарила ему жизнь, не будучи его матерью. Она любила его, не став, однако, той, кого привычно именуют «любовница». Она была его спутницей, но спутницей «святой», как ее недоуменно величали. Однако к лику святых ее никто не причислял.
И наверняка можно сказать только одно – она была удивительной женщиной! О чем, возможно, догадывалась, иначе едва ли оставила бы потомкам свои воспоминания. На их страницах сверкает имя ее блистательного возлюбленного и гремят его подвиги, но не менее ярко светится и ее собственная необыкновенная личность. Словно солнце и луна восходят на одном небосклоне, и от их двойного сияния невозможно оторвать взгляд.
Ее портрет, передаваемый в семье из поколения в поколение, удивляет спокойной мудростью во взгляде. Светло грустят чуть опущенные уголки глаз, но неожиданно полные, чувственные губы сложены в полуулыбку. Эта женщина познала и страсть, и страдание, но нашла в себе силы преодолеть и то, и другое, не сломавшись и не растеряв себя.
И потому, раскрывая страницы ее мемуаров, я испытываю трепет, как если бы эта полная достоинства дама в строгом платье с нежной шалью, обнимающей шею и плечи, вдруг подала мне руку и, подобрав юбки, сошла с портрета, чтобы поведать о том времени, когда она была молода, смеялась и горевала, теряла и обретала, терпела поражения и праздновала победы. И любила, конечно, любила. Как могла она не любить?
Часть первая
I
«…И прибрал Господь матушку, зане на небесех лучшее ей уготовил житие, чем на земли…»
А ведь и верно – лучшее! Еще пять-десять лет – и согнулась бы матушка от трудов, сгорбилась; все сильнее тянула бы ее к себе земля, все больше остывало бы не знающее радости в вечных заботах сердце и изнашивалось от бесконечных родов тело. И посетовать не на что: куда от женского естества деться? Как обвели тебя в пятнадцать лет трижды вокруг аналоя и заставили поменяться кольцами с едва знакомым человеком, так и трудись: носи детей в утробе, рожай, корми, поднимай, а то и хорони, да все это между делом: перво-наперво поспевай по хозяйству да мужа не забывай обихаживать. А хозяйские дела не кончаются, да младенцы с рук не сходят – только встанет один на собственные ножки, а тут уж новый у груди – на них все силы и кладешь. Все и счастье бабье, если муж тебя жалеть станет да приласкает иной раз. Но и при добром муже к сорока годам ты старуха с изнуренным телом и потухшим взглядом, ничего-то в жизни и не видевшая, кроме трудов, трудов, трудов. И велика ли радость, что ты не крестьянского сословия, а духовного, и муж твой не землю пашет, а обедню служит? Сельскому батюшке одной службой без земельного надела да скотины не прокормиться; вот и впрягается молодая жена, едва переступив порог мужниного дома, в тяжкий воз бесконечных хлопот и тянет его, пока достанет сил. Кормит, поит, в чистоте содержит, лечит, утешает, ободряет и обо всех на свете помнит и заботится, помимо самой себя. А как иссякнут силы, уходит, вздохнув в последний раз будто бы с облегчением.
И посчастливилось еще матушке Серафиме уйти молодой (старшей ее дочери, Василисе, едва семь лет сравнялось), еще красивой, еще статной, еще веселой, то и дело поющей за работой. Такой осталась она в памяти дочери, а в памяти мужа еще и нежной, чуткой, трепетной. Такой, что ни одна другая ни при жизни, ни после смерти не могла с ней сравниться. И верность ей, ушедшей, хранить было не трудно, тем паче, что старшая дочь росла живым напоминанием о матери. Тот же светлый, всегда устремленный в какие-то иные дали взгляд, так же тихо радуется и остро страдает от любой несправедливости, пусть и самой малой. Так же тонка и телом и душой, а в движениях легка, как птица. Точно василек во ржи подрастала девочка – нечаянной радостью – и часто смеялась во сне. Видно, в те часы, когда душа витает в потусторонних пределах, встречалась с ней матушка и играла со своей любимицей.
II
«…Батюшка мой, отец Филарет, был самой благочестивой и строгой жизни. При нем живя, и самый малый грех совершить было мудрено…»
Блаженны отдающие себя целиком своему делу! У них спокойна душа, они снискали всеобщее уважение, и в глазах собственных детей они всегда на пьедестале.
Отец Филарет был словно рожден для того, чтобы стоять между Богом и людьми и соединять их в таинстве Причастия. Нравом спокойный, к словам внимательный – такому легко открывать душу на исповеди. Не стяжатель – беря пятак за панихиду, служил ее на двугривенный. Со смирением переносящий утраты – помимо матушки Серафимы, лишился он и нескольких детей, появившихся на свет прежде Василисы, но умерших во младенчестве. Отец Филарет никогда не роптал на судьбу, к водке прикладывался разве что на свадьбах, поминках да по большим праздникам, мужественно нес свой крест вдовца, не срамил священного сана и ни с кем не жил во грехе.
Проповеди он читал так, что казалось: никаких иных слов и подобрать было нельзя. Фразы из них частенько всплывали потом у Василисы в памяти, когда сама она не находила, что сказать, и, повторяя батюшкины слова, с гордостью ощущала себя причастной его мудрости. В ее представлении отец всегда возвышался над людьми, как на амвоне, и в наставлениях его была особая сила.
Не самой располагающей внешности (высокий бугристый лоб нависал над глазами, точно всегда нахмуренный), батюшка становился прекрасен во время службы и исполнения треб, как и все люди, стоящие в жизни на своем, верно определенном месте. Горел его взгляд, буйные, как струи мельничного водопада, волосы золотилась в сиянии свечей, выделяя из полумрака преображенное лицо, а звучный, низкий, выразительный голос, уж на что Василиса была к нему привычна, даже ее заставлял иной раз трепетать. На взгляд дочери, что-то роднило батюшку с Иоанном Предтечей, каким того изображают на иконах: облик диковатый, но внушительный. Только вот Предтеча на образах темноволос, а батюшка, напротив, был светел: голова его и борода напоминали цветом начинающее колоситься, еще не пожелтевшее поле. Такой же была коса и у самой Василисы, и глаза – светлыми, как у отца, прозрачно-серыми, не скрывавшими ничего, что на душе.
Помимо двух дочерей, старшей, Василисы и Аглаи, полутора годами младше, не осталось у батюшки в живых никого из детей. Деревенские жалели его за то, что нет у него наследника-поповича. Прислуживал бы сейчас батюшке в алтаре, а затем и место его занял… Правда по кончине отца Филарета приходу должно остаться за Василисой, а место попа перейдет ее мужу, но наверняка ли? Не вмешается ли родня с их безместными попами – племянниками, да двоюродными братьями? Завалят архиерея жалобами, приправят жалобы подарками – и уйдет от Василисы место. Поскорей бы отец Филарет замуж дочь выдавал, да ставил зятя вторым священником. Правда, дворов у них в приходе двадцати не наберется, ну да ничего, как-нибудь прокормятся!
III
«…По смерти матушки призвал батюшка тетку, Лукерью Савельевну, и поставил ее на хозяйство…»
На хозяйство поставил, а в душу не пустил. В душе жила матушка Серафима, жили дочери. И большая половина под кровом души отца Филарета была отведена старшей, Василисе.
Младшая, Аглая, будто нарочно ничего не унаследовав от отца и матери, пошла в ту родню, к коей у отца Филарета сильно не лежала душа. Телом ладная, лицом румяная, а в глазах даже не пустота – муть беспросветная. Превыше всего любила Аглая лузгать с теткой семечки и перемывать кости всем деревенским и всем сродникам, ближним и дальним. Глядючи на них, дивился батюшка, сколько же у них в огороде подсолнухов, если каждый божий день тетка с племянницей целую гору налузгивают. Как выйдут подсолнечные, берутся за тыквенные, а разговоры все те же: «Кум Федот с женой не живет, а кума Ульяна потонула спьяну». Казалась тогда отцу Филарету младшая дочь похожей на хавронью, благо ноздри у нее загибались точно пятачок у свиньи.
Когда бы ни собрались парни с девками на посиделки, откупив для того у старших избу на вечер, Аглаю звали непременно. Так была она горазда молоть языком, столько сплетен приносила, как сорока на хвосте, что было с ней не до скуки. И так умела Аглая сладко взглядом поманить, что парней тянуло к ней, как рукой за шиворот.
Василису же на посиделках не жаловали, да и звали редко. Не ко двору она там приходилась: тихая, задумчивая, и приобнять рука не тянется, и слово бойкое на ухо не молвишь. Сиди с ней бок о бок и кисни. Хоть с лица и не дурна, да с лица не воду пить. Точно не от мира сего была поповна, а в мир ее как будто и не влекло.
Зато завсегда ее видели на подводе рядом с батюшкой, коли тому случалось отлучиться по делам. Словно бы не замечая, как трясет телегу, вела она с отцом Филаретом неспешный, теплый разговор, а тот, хоть и не охотник был до улыбок, подле дочери светлел лицом. И чудилось тогда, что едут эти двое не в соседнее село и не к отцу благочинному, а в такие удивительные дали, куда всем остальным дорога заказана.
* * *
Современному жителю мегаполиса, с рожденья видящему мир как набор неограниченных возможностей и расходящихся во все стороны путей, трудно даже представить себе, насколько строго очерченным было будущее человека, рожденного, как и Василиса, в XVIII веке. Единицы выбирали свою дорогу сами (подобно Ломоносову и Тредиаковскому); подавляющее же большинство устремлялось в то русло, по которому надлежало течь их сословию.
Крестьяне, мещане, купечество, дворяне. Трудно определить для духовенства должное место в этом идущем по нарастающей списке. Все духовные лица были свободны от государственных податей, рекрутчины и телесных наказаний, но при этом архиереи и настоятели крупных городских церквей по уровню жизни и весу в обществе стояли почти наравне с дворянством, а сельские батюшки располагались лишь немногим выше крестьян.
Принадлежность к сословию (с соответствующей записью в метрических книгах) определялась по отцу. Поэтому к духовенству автоматически причисляли всех детей священников, и мальчики в дальнейшем должны были занять место отцов у алтаря.
Однако алтари доставались далеко не всем. Количество сыновей в семьях духовенства, отнюдь не равнялось количеству вакантных священнических мест. И тогда безместные клирики (коих насчитывалось великое множество) устраивали свою судьбу как могли. Одним из наилучших вариантов был старый верный способ – брак. Брак с дочерью священника, у которого нет сыновей, с тем, чтобы стать его наследником.
Да, дела духовные, как и корона со скипетром, передавались почти исключительно по наследству. Нет, конечно, и мещанину, и купцу, и дворянину, и, в редких случаях, крестьянину, не возбранялось избрать себе духовную карьеру, вопрос был только в том, где им потом служить, если многочисленные дети белого духовенства – женатых батюшек – получали приходы практически в наследство за своими отцами. Браки также заключались в своей среде. Задумывалась Василиса о том, или нет, ее судьба была предрешена: сватовство того или иного поповича, представление его кандидатуры архиерею для одобрения, в случае одобрения – свадьба, далее – рукоположение мужа в священнический сан – и свежеиспеченный батюшка становился вторым священником в церкви отца Филарета, а по смерти последнего – настоятелем храма. Сама же девушка после венчания из девицы духовного сословия превращалась в матушку Василису, попадью. Судьба же Аглаи, напротив, казалась не завидной. Так называемая «невеста без места» (именно отсюда пошло это выражение), она не приносила будущему мужу желанной должности. Третий батюшка на село, где нет и двадцати дворов? Это уж чересчур! Дай Бог, чтобы двум-то попам хватило тех пожертвований за требы, что понесут их немногочисленные прихожане!
А будущий муж Василисы, мог ли выбирать он? Едва ли. По сердцу девушка или нет, но, ведя ее под венец, ты выходишь на подобающее тебе место в жизни, в противном случае, куда податься семинаристу, окончившему курс наук? Разве что в мелкие чиновники, или, если повезет, управляющим в дворянском имении. Но на такие должности, как известно, предпочитали брать немцев.
А не задастся семейная жизнь, что тогда? Да ничего, терпи и молись! В дворянских семьях не поладившие супруги могли разъехаться; для духовенства это было не мыслимо. Разошедшегося с женой батюшку дальше служить не благословят. Даже вдовым во второй раз жениться нельзя, иначе поминай как звали священнический сан. Для женщин же выбора и вовсе не имелось: вышла замуж – будь при муже, вот и весь сказ.
И выходило так, что, с рождения ступив на проторенную дорогу, Василиса не должна была сходить с нее до могилы. Однако во все времена существовали люди, вокруг которых упорядоченное течение жизни вдруг начинает закручивать немыслимые водовороты, и неприметная поповна, как ни удивительно, оказалась одной из них.
IV
«…То диковинное свойство мое становилось явным не токмо во время молитвы, но и по другим случаям…»
О странности этой не ведал никто: ни батюшка, ни сестра, Аглая, ни тетка Лукерья, не говоря уже о ком-то из деревенских, а для самой Василисы происходящее с нею до конца дней оставалось загадкой. Впервые испытала она такое во время службы в батюшкином храме: сперва ощутила, что не чует больше под собою ног, точно парит в эфире, а затем и все свое тело перестала чувствовать. Умолкли для нее произносимые батюшкой слова ектеньи[1], голоса певчих на клиросе и покряхтывания да шорохи прихожан. В небывалую тишину погрузилась поповна, в безмолвие, коего и на свете-то не бывает. Растворились мысли, точно соль в быстрой воде, пролился в них горний свет, и в миг наивысшей незамутненности души, что-то вдруг охватило ее, словно обняло, и стало колыхать из стороны в сторону. После не смогла бы описать Василиса, что вершилось внутри нее в те мгновения, помнила только, что непроницаемое будущее вдруг явилось перед глазами прозрачным. И, очнувшись, твердо знала, чему суждено случиться.
Начало происходить с ней такое с самой матушкиной смерти. С похорон унесли девочку ослабевшей от крика и горячей от поднявшегося жара; долго не могла прийти она в себя. Все не понимала, как матушку с нежными теплыми руками можно было оставить в ледяной ноябрьской земле, где она продрогнет до костей, просила принести покойницу домой и обогреть. К девятому дню девочка оправилась, но вплоть до сороковин ходила, как тень, и спала много дольше обычного. А во время панихиды на сороковой день впервые охватило ее то, чему не находилось названия. Едва на клиросе запели «Со святыми упокой», так отчаянно сжалось ее сердечко, что разом отхлынуло от Василисы все мирское, оставив девочку как на безлюдной песчаной отмели. А когда вернулся мир с его шумом и голосами, то было ей почему-то радостно, а не горько, как до сих пор, будто успела за это время приласкать ее матушка и шепнуть: «Не горюй по мне – я жива. У Господа все живы. Жива и буду с тобою, как прежде, только незримо».
В другой раз к батюшке беда пришла. Донесли на него благочинному, что якобы отпевал он того, кто сам на себя руки наложил. А покойник, хоть и молод был, на деле тронулся рассудком, о чем всем в приходе было ведомо. Через это и с обрыва шагнул. Ежели не ведал он, что творил, как не отпеть его, несчастного? И нету в том батюшкиной вины! Его же грозятся от служения отстранить, а на место его ох как много охотников! Что такое поп без прихода? Невесть кто, невесть зачем существующий, невесть где принужденный искать средства на пропитание. Батюшка ничем не выказывал страха перед решением своей участи, но дочь его явственно ощущала, как терзается у отца душа. И ноги сами привели ее на песчаный косогор, под которым злосчастный Емельян, батюшкой отпетый, смерть принял. Встала там Василиса, сама не понимая, зачем пришла, глянула вниз на быстро летящую, обмелевшую к осени реку (зрелище это затягивало) и перестала вдруг чувствовать песок под ногами. Померк полуденный свет, а когда перед глазами все вновь прояснилось, и душе пришло облегчение – поселилась в ней уверенность, что зла отцу не причинят. И после, желая ободрить его, девушка сказала, улучив минуту: «Вы, батюшка, не пужайтесь, ничего не будет – помогут вам». Батюшка взглянул на нее так, как не глядел никогда, но вышло точно по ее словам – помогли. Помещица их, камергерша Белозерова, отписала отцу благочинному письмо с твердым пожеланием не тревожить более отца Филарета, присовокупив пожертвование на нужды организуемой в Калуге семинарии. После чего батюшку действительно никто не тревожил. Но на дочь он с тех пор частенько посматривал не то с испугом, не то с сомнением.
А Василиса скорее радостно дивилась необычному своему дару, чем боялась его или сомневалась. Редко когда приоткрывалось перед ней грядущее, но каждый раз в те минуты, когда особенно сильно билось из-за чего-то сердце. Так было и во время ее сватовства. Тетка Лукерья с помощью сродников подыскала шестнадцатилетней племяннице жениха и ходила гордая, как индюшка. Ну, всем взял будущий Васенькин суженый! Семья самая что ни на есть уважаемая: батюшка в Калуге – настоятель Троицкого собора, а дядя и вовсе епископ. Обучался же Никон в самой Киевской духовной академии; красноречив, рассудителен, степенен, голосом зычен – лучше попа не сыскать! «Да и собой хорош, была б я девкой, загляделась бы!» – добавляла она в ответ на пытливые взгляды племянницы.
Отец Филарет знавал и отца жениха, и дядю, и был чрезвычайно доволен тем, что те не погнушались породниться с его неприметным семейством. Назначили день смотрин, и Василиса в новой рубахе и подновленном кобеднишном[2] сарафане поджидала, когда ее позовут на смотрины. Было ей до невозможности тревожно, сердце било как в колокол. За дверью журчала частая речь свахи, и чем чаще и слаще сыпались слова, тем большая тревога овладевала девушкой. Неожиданно звуки иссякли, все покрылось мраком, и свет, прежде лившийся из окна, стал исходить неведомо откуда. Василиса не разумела, сидит ли она по-прежнему, парит ли в пространстве, или вовсе на время перестала существовать, и очнулась лишь оттого, что услышала свое громко произносимое имя.
Поднялась он, как неживая, и, выйдя к сватам, лишь поклонилась, а улыбнуться приветственно не смогла. Потому как открылось девушке: не будет ей жизни с этим видным и ученым, но донельзя самоуверенным и скорым на расправу парнем. Жизни не будет, одно горькое терпение, да мучение.
Отец Филарет не стал укорять дочь, но отказ ее принял с большим расстройством. Тетка рвала и метала. Аглая же крепко задумалась: всего полутора годами младше она сестры – этой дуры блаженной – не удастся ли ей самой заполучить такого завидного жениха?
А Василиса на рассвете, когда все хозяйки по деревне доили коров, выскальзывала из дома. По глинисто-песчаным откосам спускалась она к реке, скинув исподнюю рубашку, окуналась с головой и, захлебываясь от холода и восторга, плыла. Из студеной июньской воды выходила как заново рожденная и, снесенная быстрым течением, возвращалась к своей одежде. По дороге с улыбкой наблюдала, как ласточки мельтешат в воздухе и, садясь на края своих вырытых в косогоре нор, кормят птенцов. Будь ее воля, сама бы летала, как ласточка, плескалась бы, как волна, тянулась ветвями по ветру, как ива на берегу. Свободы и радости искала душа и, покамест, беспрепятственно их находила.
V
«…С тех пор и по сей день ненавистно мне было лицедейство, и порога театра более я не переступала…»
Селом их, Соколовкой, владела вдова камергера Белозерова, Елизавета Сергеевна. Ей же принадлежало еще несколько окрестных деревень, весьма доходных, потому как стояли они на суглинистых землях, и мужиков было выгодно отпускать на оброк. Отца Филарета она почитала как своего духовника и человека редкого благочестия, любила приглашать в усадьбу после престольных праздников, а то и вовсе безо всякого повода и вести с ним душеполезные беседы. Большое утешение находила она в отце Филарете, оттого и вызвалась быть восприемницей его дочери.
Василису она ласкала при каждой возможности, своих деток не имея и уж не надеясь стать матерью; и всегда желала видеть в усадьбе вместе с батюшкой. Щедро одаривала гостинцами, сажала к себе на колени, спрашивала о чем-нибудь, с улыбкою заглядывая в лицо. А девочка глаз не могла оторвать от воздушных кружев на барынином капоте. Что за диво: точно паука выучили цветы плести! И хохотала же барыня, про ученого паука услышав! И тут же одарила крестницу, коей и пяти лет тогда не исполнилось, кружевами на подвенечное платье.
Была у барыни Белозеровой новомодная причуда – театр. Сын ее соседей по имению, Иван Антонович Благово, обучавшийся в Москве, в Хирургическом госпитале, заезжал к ней как-то с родителями во время вакаций и все уши прожужжал про театральные представления, до коих студенты были большими охотниками. Сами ставили, исполняли, а порой и пиесы сами сочиняли. Одну из них, по просьбе соседки, Иван Антонович затем привез, специально для нее переписанной, и столь она барыне по сердцу пришлась, что повелела та немедля набрать в своих деревнях парней и девок, к лицедейству способных, и принялась обучать их. Много в том театральном деле было премудростей, ну да помещицы в Калужской губернии чай не глупей, чем студенты в Москве! До всего своим умом дошла: и куафёра выписала – актеркам волосы чесать, и художника-богомаза наняла – декорации расписывать, и мужиков рукастых сыскала в своих деревнях – внутренность сцены обустраивать. И, в гордости и радости за свое детище, пригласила отца Филарета помещение театра освятить.
Не радостно было батюшке: не лежала у него душа кропить святой водой помещение для лицедеев, но не откажешь ведь своей помещице! Чувствуя это, Елизавета Сергеевна увлекла его в гостиную, где предложила отведать домашней настойки, и повела разговор о том, что «полно, батюшка, театры и при семинариях открывают, да не токмо в Киевской духовной академии, но и в Новгороде, Астрахани, Твери…». Василиса тем временем не удержалась от расспросов:
– Что за пиесу вам, барыня, привезли?
– «Комедию о графе Фарсоне».
– Чаю, занимательная?
– Чрезвычайно занимательная! Французский граф Фарсон отправляется в Португалию – изучать науки…
– Что же понесла его туда нелегкая? Нешто во Франции выучиться нельзя?
Елизавета Сергеевна не могла не улыбнуться:
– Он пожелал узнать чужеземные обычаи. К тому же батюшка его умер, а наследства он оказался лишен через злую мачеху. Живя в Португалии, граф случаем, попадает в фавор к королеве. Та, зная о плачевном его положении, предлагает поступить к ней в солдаты и обещает платить по сто червонцев в месяц. Но Фарсон отказывается: он не хочет, как это сказано в пиесе, «при девице быти и самому девицею слыти».
– Вишь, какой гордый! – задумчиво промолвила Василиса. – На что же он жить-то будет?
– Между ним и королевой начинается амур, и, благодаря этому…
Елизавета Сергеевна принялась пересказывать ей содержание пиесы. Тем временем отец Филарет закончил возлияния, и все трое вместе направились во флигель барского дома, отведенный под театр. Василиса была разочарована: она ожидала увидеть невесть что, а оказались во флигеле всего-навсего ряды стульев, да дощатый помост. Правда, на помосте стояло несколько актеров, наряженных по-иноземному в несусветно высоких париках. Из них одна была женщиной, по видимости, той самой португальской королевой. Лицо ее скрывала хитроумно украшенная маска, которую другой актер порывался с нее снять. Королева же обращалась к нему жалостливым голосом:
Друг мой прелюбезный, Ты бо еси кавалер честный, — Не желай видети лица моего красоту И зрака моего доброту. Аще лице мое узриши, То вскоре живот свой сгубиши.– Она и взаправду его сгубила? – шепотом спросила Василиса у барыни-крестной.
– Да. Хоть и сама того не желала.
Лицо королевы, наконец, открылось, повернулся к зрителям и торжествующий граф Фарсон с маской в руке. Несказанно удивил Василису их вид: вроде бы, такие же люди, как и все, ан нет, не назовешь их обычными! Лица – точно вода: волнами ходят по ним чувства, хоть и видно, что не свои. А собственная душа, как дно реки, столь глубоко под этой внешней подвижностью лежит, что и не увидишь.
И, зачарованно глядя на сцену, ощутила вдруг Василиса знакомое: голоса перестали звучать для нее, а тело подхватили невидимые волны. Когда же очнулась, то – странное дело! – испытала неизъяснимый страх. Голова ее сама собой повернулась в сторону батюшки, доставшего уже святую воду и готовившегося кропить.
– Батюшка, – прошептала она не своим голосом, как если бы кто-то другой шептал за нее, – не освящайте театр, не надо!
Отец Филарет, уже слегка разомлевший от настойки, лишь качнул головой:
– О чем говоришь? Пустое! Как барыню не уважить?
– Не надо, заради Христа! – молила Василиса, но вместе с тем, со все нарастающим ужасом чувствовала: не умолит. Чему быть, того не миновать.
Батюшка поднялся на помост, благословил склонившихся к нему актеров и с молитвою начал кропить. Его черная ряса сливалась с тяжелой черной тканью, подвешенной у задника сцены и скрывавшей деревянную грубость сооружения. Сверху возились мужики, прилаживая балки, на которых будут держаться декорации. Прервав работу, они ждали, чтобы брызги святой воды долетели и до них.
Словно треклятой пиесой был предусмотрен такой финал! Тяжелый топор, которым только что орудовал один из мужиков наверху, и который затем был отложен в сторону, сорвался от неосторожного движения. Батюшка рухнул на оструганные доски как-то по-детски, точно мальчишка, ненароком сбитый в игре. Тут же бросились к нему все, кто был вокруг: разряженные лицедеи и Елизавета Сергеевна с обезумевшими глазами. Одна Василиса не тронулась с места, цепенея и леденея, и зная наверняка, что бежать уже ни к чему.
VI
«…Так и решилась моя судьба без моего участия…»
Помещица Белозерова приняла в своей крестнице участие, поелику могла. Выпоров, сдала в солдаты того мужика, что без умысла погубил батюшку, и снеслась с епископом, дабы определить судьбу поповской сироты. Потому как не была Василиса просватана, требовалось сей же час подыскать ей жениха, обвенчать с ним, рукоположить его в священники и определить в ту церковь, где служил Василисин батюшка. Однако жениху надлежало быть «с умом», то бишь, иметь образование, богословское либо философское. Посему епископ наказал отправить девушку к нему в Калугу, а там уж он сам устроит ее судьбу. Того ради предоставила Елизавета Сергеевна Василисе свой возок с кучером.
Тетка Лукерья, сопровождавшая племянницу, нарадоваться не могла: сидишь себе, как барыня в избушке на полозьях, укрываешься меховым пологом, и не дубеет лицо от студеного ветра, как на санях. А правит-то кучер, не сама вожжами руки уродуешь! От удовольствия тараторила она без умолку, наперед увещевая племянницу:
– Ты, Васёна, как жениха тебе сыщут, нос не вороти да не кобенься! Кто первый взять захочет, тот и хорош. Второго-то, может, и не будет вовсе.
Василиса молчала. Почти не раскрывала она рта все сорок дней после батюшкиной кончины, как морозом, прихваченная горем, да и нынче говорить ей было тошно. Завернулась в пуховой платок, накинутый поверх тулупа, и глядела перед собою на санный путь, уводящий ее невесть куда.
И в палатах у епископа осталась безучастна, не заметила ни пышности, ни убранства, подошла под благословение и встала, опустив глаза, точно не ее судьбу владыка намеревался решить, а какой-то другой девицы.
– Что ж, Василиса, – сказал епископ деловито, хоть и с участием, – царствие небесное твоему батюшке, а церковь без попа надолго оставлять нельзя. Мясоед-то на исходе; кто Великим постом служить будет? Да и самой тебе замуж пора – сколько лет уже сравнялось?
– Осьмнадцать. Девятнадцать в апреле будет.
Епископ покачал головой.
– Засиделась ты, матушка, в девках! Ну да ничего, пристроим! Дам я тебе провожатого – пойдешь с ним в духовную семинарию. Там женихов пруд пруди, а невеста ты с местом – должно твое дело сладиться.
Крепко обхватив себя руками и пригнув голову под порывами сырого февральского ветра, шла Василиса вслед за грузным и важным дьяком, ведущим ее к ее новой судьбе, и не несла в голове ни единой мысли. Вершилось над ней что-то помимо ее воли, как вершится на земле зима или весна, никого о дозволении не спрашивая и ни о чьих желаниях не беспокоясь. В пустом семинарском коридоре какое-то время ждала, сидя на лавке, а затем отворилась дверь класса, и тот самый дьяк, что вел ее, поманил внутрь. Василиса заробела войти и встала у дверного косяка.
Во всей последующей жизни ни разу не было ей так страшно, горько и неприкаянно, как в те минуты. Разом повернулись к ней семинаристы, и каждый вцепился в нее взглядом, точно пес. Каждый оценил про себя, будто курицу на базаре. Каждый либо ухмыльнулся, либо покривился, либо поднял брови. Залили ее стыдом, как помоями, а она и убежать не смела – стояла, точно в землю вросшая от удара.
Вдруг изо всех любопытствующих физиономий выделилась одна. Крепкая была и наливная, точно яблоко. Еще бросалось в глаза то, что кожа на лице красновата, а румянец, как утюгом к щекам приложили. И, при русых волосах – вызывающе рыжая бородка. Краснело это лицо промеж остальных – ни дать ни взять, первое спелое яблоко на ветке.
– А что? Почему бы и не взять! – донеслось до Василисы.
* * *
Если современной невесте задать вопрос, чего она ждет от будущего мужа, то список обещает быть длинным. Любви и внимания, защиты и опоры, доверия и уважения. Не в последнюю очередь будут упомянуты материальная поддержка, помощь по хозяйству и участие в воспитании детей. Супружеская верность вряд ли будет озвучена, поскольку она просто подразумевается, равно как и отсутствие рукоприкладства.
Но если бы тот же самый вопрос был задан невесте во второй половине восемнадцатого столетия, когда под венец шла Василиса, то девушка просто не поняла бы, о чем идет речь. И действительно, чего можно ждать от мужа помимо самого факта его существования? Куда податься женщине, как не замуж? В перестарках куковать – приживалкой при родне? Незавидная доля! Что да монашества, то это удел немногих, а с тех пор, как Екатерина II разорила монастыри, конфисковав их земли и переведя иноков на казенное жалование (разумеется, нищенское), о постриге думать уже не приходилось. Да и монастырей уцелело – раз, два и обчелся: сделали обители приходскими церквями.
И оставалась, по сути дела, единственно возможная дорога – с женихом к алтарю, чтобы муж обеспечивал тебя так, как это подразумевает твое сословие: пахал, торговал, владел мужиками или служил обедню. Не у одной Василисы судьба решилась без ее участия, а едва ли не у каждой. Удивительно еще, что девушка вообще над этим задумалась – над возможным участием в своей судьбе.
Но когда человек неожиданно задумывается над тем, о чем размышлять не принято, это может иметь далеко идущие последствия. Особенно если раздумьям предается тот, чья воля сильнее естественного человеческого желания плыть по течению. Именно таким людям свойственно сжигать за собой мосты, разрубать Гордиевы узлы и переходить Рубиконы. Или «всего лишь» пускать свою жизнь по новому руслу.
VII
«…Уж перестала я быть девицею, но мужнею женою так и не стала…»
Лишь во время свадебной гульбы вспомнила Василиса, что, скованная страхом перед будущим, не помолилась она усопшим родителям и не испросила у них благословения на брак. А одному Богу известно, благословил бы ее батюшка с тем, кто не только не люб его любимой дочери, но и отвращает ее от себя. «Едва ли», – подумалось ей.
И не верилось девушке после венчания, что сидит она на собственной свадьбе. Гости все были (не считая тетки) семинарские дружки жениха, свои промеж ними гуляли шутки, свои велись разговоры; о невесте вспоминали лишь тогда, когда приходило время кричать «горько», и, каждый раз, принимая лобызания того, кто назван был ее мужем, Василиса содрогалась: запах! И не то чтобы шел от него смрад, нет, зубы у раба Божьего Артемия были крепкие, не червивые, лицом и, по видимости, телом, был он чист, платьем опрятен, и странно было бы ему вовсе не иметь запаха, всему живому на свете присущего, но только, приближаясь к нему лицом, Василиса готова была сей же час отпрянуть. И поцелуи терпела в окамененном бесчувствии.
– Не кручинься уж так-то, у всех на виду! – раздраженно шептала ей в ухо тетка. – Стерпится – слюбится! Мужик он, по всему видать, не злой – вот те крест!
Слюбится? Тяжко ей было открывать глаза в первое утро. А открыла… За окном – тоскливая февральская серость, метель, снежинки стаями подлетают к стеклу, повисают на мгновение и уносятся прочь, точно увидев что-то запретное. И Василиса знала, что – брачное ложе, не освященное любовью, к которому она, как цепями, была прикована долгом, да обычаем.
Едва нашла в себе силы взглянуть на мир, как ввалились в горницу дружки жениха, выслушали его самодовольное: «Как в добрых людях, так и у нас!» – и принялись с улюлюканьем бить горшки, с собой принесенные. Василиса вздрагивала и вжималась лицом в подушку: сызмальства пугалась она резких и громких звуков, и во время грозы пряталась в сундук, где копилось ее приданое, пока тот не перестал ее вмещать. Если б окутала ее сейчас благодатная тишина! Но нет, не было спасения. Лоснящаяся от удовольствия тетка («Слава Богу, пристроила девку!») быстро укручивала племяннице волосы и прятала их под бабью кику. Вот и отгуляла свое поповна – кончилось привольное девичество в любви да спокойствии, грядет многотрудная, с привычными колеями скорбей да ухабами немощей, бабья доля.
Затравленно обводя взглядом горницу и надеясь остановить его хоть на чем-то, от чего перестанет ей быть так тошно, приметила вдруг Василиса на комоде что-то круглое и блестящее, как полная луна. Вспомнила: когда разувала ввечеру молодого мужа, из сапога выпал ей в руку серебряный рубль. Вот уж, право, достойная награда за ночные муки! Однако, не весть почему, не могла Василиса оторвать от него взгляд. Будто бы уже тогда мерещилось ей в этом рубле желанное избавление.
VIII
«…С тем, кого почитали моим супругом, связана была я не перед Богом, а единственно перед людьми и их обычаем, посему устремилась я в те края, где никто про сию связь не проведал бы…»
И дней-то прошло с венчания всего ничего, а уж чудилось Василисе, что клонится жизнь ее к закату и обдает ее смертным холодом. Жили они с Артемием Демидовичем еще в Калуге, на квартире, что снимал он на паях с товарищем близ семинарии, и до того все было вокруг чужим и немилым, что хоть волком вой. Артемий Демидович, готовясь к рукоположению, был занят по целым дням, а когда возвращался, и приходило время почивать, то готова была Василиса в одной исподней рубашке выпрыгнуть в окно и мчаться, сломя голову, по снегу с разметанными метелью волосами, куда угодно, хоть на тот свет, лишь бы подальше от своего благоверного. То, в чем находил он на ложе такую сладость, переворачивало все ее существо; сочилась душа стыдом, как рана – гноем. А Артемий Демидович, знамо дело, не заботился о том, чтобы и молодой жене постель была в утеху. Лишь серчал, видя застланные страхом Василисины глаза. Уговаривал ее нетерпеливым шепотом, повторяя, что «нет в том греха, мы с тобой – плоть едина», но где ж едина, когда одна половинка этой плоти изо всех сил рвется от другой? И терпела Василиса их телесное соединение, как терпят пытку, из последних сил надеясь, что палач отступится или дрогнет душой.
А после, лежа без сна и чувствуя, как слезы мочат у висков подушку, лицезрела она одну и ту же мысленную картину: июньский луг, утопающий в разнотравье, щедро сбрызнутый белыми, желтыми, розовыми, фиолетовыми цветами, вдруг начинают распахивать, взрезая его упругое тело и поднимая черное нутро, втаптывают цветы в черноту и разбрасывают по бороздам навоз. Да так и остается черным этот разоренный луг, не цветя и не плодонося. Засыпала Василиса с чернотою в глазах, и во сне шевелила губами, будто звала кого-то на помощь.
На масленой неделе вдруг разъяснило и пригрело, кусты защебетали воробьями, появились первые лужи. До того приветливо сиял за окном день, что впервые решила девушка отправиться на прогулку, а не на рынок и обратно, как ходила до сих пор. И зачем-то сунула в карман не токмо мелочь, оставленную мужем на хозяйство, но и тот самый рубль, что достался ей в брачную ночь.
Шла и радовалась, тихо, измученно, но радовалась. Оттаивала земля, и душа оттаивала, и надежда пускала робкие ростки. Авось бродит где-то на белом свете лучшая доля для нее, да только никак не может с нею, Василисой, встретиться.
Так, окутанная неясной радостью, миновала она городскую заставу, и легли перед ней ковром до горизонта радующие своим привольем поля. Еще не смеющие скинуть снежный покров, но уже обласканные дарящим надежду солнцем. И что забыла Василиса в тех полях? Но двинулась она по дороге так смело и решительно, как если бы спешила за чем-то неизъяснимо важным.
Дорога шла вверх, на пологий пригорок, а, казалось, к самому небу. Едва взойдя на него, залюбовалась Василиса колокольней и куполами стоявшего близ берега Оки монастыря. Впрочем, когда приблизилась, сердце у девушки опустилось: нежилыми окнами таращились на нее монастырские постройки; вряд ли оставалось еще за нищенскими, растерявшими штукатурку стенами, хоть сколько-нибудь насельников. Уж почти десять лет минуло с тех пор, как прибрала себе матушка-императрица монастырские земли, а крестьян в принадлежавших обителям деревнях отписала государству. Вот и расстроилось в монастырях налаженное безбедное житье, разбежались из них чернецы да черницы, не имея возможности прокормиться.
Поодаль от обители темнели деревенские избы да заборы – бывшая собственность монахов, ныне – императрицы. И, вроде бы, уж вовсе нечего было девушке делать в той деревеньке, да горло у нее пересохло от долгого пути – напиться бы колодезной воды!
От студеного питья у девушки заломило зубы, но отчего-то стало ей весело, словно нехитрым этим питьем залечила душа свои горящие раны. Поклониться бы хозяйке да пойти восвояси, да только ноги не несли Василису к Артемию Демидовичу, как не понесли бы они беглого каторжника вновь в острог. Медленно, как если бы шла она по реке против течения, добрела девушка до калитки, и того медленнее двинулась по улице. А там и вовсе остановилась, недоуменно округлив глаза: мимо нее громыхала по деревенской улице подвода с солдатами и унтер-офицером.
И какое было девушке до того дело? Но не сходила она с места, провожая подводу взглядом, глядя, как спешит к солдатам деревенский староста и божится, что рекрутов из их деревни забрали еще в осенний мясоед. «Не за тем приехали», – коротко отвечал офицер, и тут уж Василиса не смогла обороть любопытства – как привязанная двинулась вслед за подводой.
Та остановилась посреди деревни, и офицер, развернув казенную бумагу, зачитал старосте приказ: доставить в его распоряжение двух соломенных вдов – солдатских жен – Устинью Щеглову и Варвару Федосееву. Отправили их мужей раньше срока в отставку, но не домой отпустили, а определили на поселение в некой Таврической области, что недавно отвоевана была у Турции. Требуется заселять тот край русскими людьми, тесня исконных жителей, татар, бывших подданных турецкого султана, всегда готовых к нему переметнуться; да те и сами бегут в Турцию от власти неверных, бросая свои земли. Вот и отправляют в отставку солдат, вот и свозят солдаток со всей России, чтобы не пустела Таврида, чтобы, соединившись с мужьями, обросли женщины хозяйством и детьми и прочно укрепились на Таврической земле. А через них укрепилась и власть императрицы.
Солдатки появились едва ли не последними из деревенских, обступивших подводу плотным кольцом. За одной бежало несколько детишек, коих воспрещено было брать с собой (не выдержат дороги), и собирать пожитки та отправилась, рыдая и причитая. Другая имела более бодрый вид, и будто бы даже была довольна таким поворотом в судьбе – решительным шагом пошла увязывать свой узел. За ними разошлись и односельчане, но не по домам, а встав немного поодаль, чтобы поглазеть, как Устинью с Варварой увозить будут.
У подводы теперь вилось лишь несколько мальчишек, норовивших потрогать у солдат ружья, и Василиса, которая прежде сливалась с толпой. Офицер подмигнул ей, подкручивая ус («А недурна, ей-богу!») и та с колотящимся сердцем решилась подойти к нему вплотную.
– А меня с собой не возьмете, ваше благородие? – в миг высохшими от волнения губами спросила она.
– Ты кто такая будешь?
– Василиса я, Покровская, – пробормотала Василиса, не зная, чего еще о себе сказать, кроме имени. (Фамилию с умыслом назвала она девичью, а не ту, что получила в замужестве.)
– Тоже солдатка?
Василиса не умела врать, и, отвечая «да», в ужасе чувствовала, что истина крупными буквами написана у нее на лице.
Офицер усмехнулся:
– Рад бы взять, да о том приказа нет.
– Не откажите, ваше благородие! – чувствуя, как внутри у нее все обрывается от волнения, шептала Василиса. – Я не здешняя, по случаю тут, обо мне никто не спохватится.
И незаметно (как ей казалось) для солдат, она сунула ему в руку рубль.
Офицер молчал, размышляя.
– Ну, так и быть, – решился он, наконец.
– Мне бы до города добежать – собраться, – прошептала Василиса, – вы уж дождитесь меня, не оставьте!
Офицер молча кивнул, скользя взглядом по стройной ее фигурке.
Прежде чем помчаться, сломя голову, домой, Василиса несколько шагов отступала от офицера спиной вперед, держа руку на горле. Словно бы сдерживала она ликующий вопль, который ни за что на свете не должен был вырваться наружу.
IX
«…И не чаяла я там приискать себе иного мужа, а имела лишь твердое намерение избавиться от мучений …»
Примчавшись домой, сдернула Василиса с кровати покрывало и, распахнув сундук, принялась швырять на пеструю ткань все вещи без разбора. Много ли было у нее добра? Два небольших образа – Спасителя и Владимирской Божьей Матери (их она бережно завернула в тряпье, чтоб не повредились), трое рубах, несколько пар чулок, одна пара сапог, один узорный платок, немного холста для разных нужд, гребень да иголки с нитками. Все остальное было на ней.
Алый сарафан, в котором венчалась, оставила девушка на дне сундука. Присмотревшись, заметила в углу сиротливо притулившиеся там кружева, коими некогда одарила ее крестная. Тетка настояла взять их в Калугу, чтоб, если сладится дело, обшить сарафан перед венчанием, да все было недосуг. Подумав, прихватила Василиса и их – вдруг на что сгодятся, хоть продать.
Распрямилась и на несколько мгновений замерла, молясь. Господу – о том, чтобы простил ей этот грех, а Богородице о том, чтобы была ей заступницей и предстательницей перед своим Божественным Сыном. Напряженно ждала Василиса того, что вот-вот окутает ее провидческая тишина, истекали драгоценные мгновения, но ничего не происходило.
Тогда затянула узлом концы покрывала и тронулась в путь. Некому было ее остановить: тетка уж несколько дней как отбыла обратно в деревню. Стараясь не бежать и не привлекать к себе внимания, Василиса торопливо шагала к назначенному месту, огибая лужи. Неужто попустит Господь? Неужто дарует ей избавление?
И вдруг она покачнулась: тишина. Застыла поповна прямо посреди улицы, разжались руки, упал на мокрый снег ее пестрый узел. Чуть колыхалось ее тело в море безмолвия, и образы, коих никогда потом не могла вспомнить, проносились перед глазами. Затем отпустило. Тронуться бы Василисе снова в путь, но не смела она сделать ни шагу, ощущая невероятное смятение в душе.
– Как же я теперь? – потерянно прошептала она.
Некому было ответить.
Но вместе со смятением ощущала Василиса и другое. Как в ледоход с шипением, скрипом и треском наползают одна на другую льдины, освобождая течение реки, так ломалось и сдвигалось что-то и в ней самой, и не было такого мороза, чтобы вновь сковать ее льдом. Прижав левую руку к груди, как если б можно было унять летящее вскачь сердце, правой подняла она свой узел.
И продолжила путь.
* * *
Еще не были одержаны в Крыму решающие победы над Оттоманской Портой, открывающие России путь к Черному морю, но, будучи уверенной в исходе военного противостояния, императрица Екатерина уже мыслила на несколько шагов вперед. Станет российским Причерноморье, а населять его нешто одним татарам, чуть что готовым переметнуться под султанские знамена? Нет, негоже сие. Российским станет край – и по земле его ступать россиянам!
Императрица пожелала, привыкший исполнять ее желания князь Потемкин приказал – и вот «всех, назначенных за разными неспособностями в отставку» солдат, служивших в Тавриде, начали в принудительном порядке оставлять там на поселение. А в деревнях, где жили их давным-давно оставленные жены, стали появляться казенные команды с приказом препровождать женщин к мужьям. Брали и тех, что по доброй воле решили попытать счастья в чужих краях, если были они из государственных крестьян, а не из помещичьих.
Всего переселенных в Тавриду женщин набралось тысяча четыреста девяносто семь душ. Большая часть их соединилась со своими мужьями, двести восемнадцать были выданы замуж за русских поселенцев, живших в разных местах Таврической области, восемьдесят смелых и самостоятельных было поселено «на холостом положении» в Бахчисарае, а двадцать три несчастливицы умерли в госпиталях от болезней.
Документы тщательно фиксируют, сколько женщин осело в том или ином населенном пункте, но ни одна бумага не в состоянии передать, что нашли они для себя за тридевять земель от дома. Радость встречи с мужьями? Едва ли. За те десять, пятнадцать, а то и двадцать лет, что провели они в разлуке, супруги стали чужими людьми. И если во время рекрутского набора молодок разлучили с полными сил мужиками у своих ворот, то вновь соединили с инвалидами или стариками на чужой стороне. Сладко ли было им доживать остаток дней в таком союзе?
Те же, что были выданы замуж в самой Тавриде, вряд ли шли под венец с сердечной радостью. Выбирать женихов им не пришлось: кого назначили в мужья местные власти, того и любить изволь. Лишь восемьдесят своенравных особ, возможно, получили шанс на счастье. Восемьдесят из полутора тысяч.
Василисы не было в их числе. Ее имя вообще не фигурирует ни в одном документе, касающемся женщин, переселенных в Тавриду. Сознавала поповна или нет, но жизнь ее была неподвластна никому, кроме ее самой. И Господа Бога.
X
«…Долг свой христианский видела я в том, чтобы других утешать, особливо же тех, кому нигде в целом свете утешения не было…»
Охохонюшки! Далече ли еще? И где она затерялась, эта Таврическая область? Почитай весь Великий пост они в пути, а конца дороге не видать. Слезть с подводы, что ли – размять затекшие ноги? Да нет – увязнешь тут же; дорога – чисто каша-размазня, и подвода едва одолевает колесами весеннее месиво.
Снег в лесах уже почти сошел, лишь на полянах лежал еще пышно да гордо, но и там кое-где начинал обмякать и темнеть. Вся и забава в пути – примечать, как зима то отступает, то вновь берет свое, но под конец сходит-таки на нет в преддверии Пасхи. Торжествующе пламенели по обочинам дороги кусты краснотала, вылуплялись серые цыплята на вербе, да и скромница-ольха уже потряхивала сережками. Весна!
Завтрашний день был Вербным воскресеньем. Не было батюшки, чтобы объявить о том с амвона, но Василиса высчитывала в уме пасхальный календарь и сообщала о престольных праздниках своим товаркам-спутницам. Прознав, что она поповна, бабы только головой качали: и куда бежит, дура, от сытой жизни?
Василиса помалкивала в ответ, ни с кем не откровенничая о том, как и почему появилась она среди солдаток (коих набралось после объезда деревень в их губернии десятка полтора). Не ровен час высадит ее офицер в чистом поле – и без того который день уже волком на нее глядит. Невдомек было девушке, в чистоте выросшей и в других нечистоту не замечавшей, что берет он ее на подводу не за сиротский рубль, а за ясные очи и гибкий стан – чтобы тешиться ею в долгой дороге. Стоило Василисе тому воспротивиться, как люто осерчал на нее офицер и велел лишить харчей. Через пару дней, правда, смилостивился и вновь велел отпускать ей провизию, глядя, как товарки подкармливают девушку, но с тех пор боялась Василиса при нем и глаз поднять, и рта раскрыть: если б вовсе забыл он про нее – то-то была бы радость! Но нет, не забывал, посматривал то и дело с тягостным нетерпением в глазах, и Василиса в землю готова была зарыться от такого взгляда. Одна надежда – что доберутся они до Таврической области раньше, чем у его благородия терпение лопнет.
Тише воды была Василиса еще и потому, что всей душой ощущала: невыплаканным бабьим горем до краев полна их подвода, будь их воля, иные волком бы выли. Как соседка ее, Устинья. И без того сухая и блеклая, как давно сломанная ветка, и вовсе исхудала за дорогу – начисто съела ее тоска. Трое деток осталось у Устиньи – кому они нужны, кто их пожалеет, кроме нее самой, навек от них оторванной? Всяк, кому не лень, кинет в них бранное слово – «крапивники»[3] – к кому побегут с плачем? Она-то уж привыкла, что хлещут ее словом «гулящая» в глаза и за глаза, а за деток душа болит: нешто нет ни в ком жалости и понимания? Как забрали у нее двадцатилетней мужа в солдаты, провели в кандалах с забритым лбом по деревенской улице, так и похоронила его для себя Устинья. А жить страсть как хочется, в двадцать-то лет кому ж не хочется? Деверь с женою милуются, а ей что же все земные радости до гробовой доски заказаны? Вот и кидало ее к случайным мужикам – хоть второпях глотнуть сладости любовной, что обернется потом горькой тоской. Вот и появлялись на свет детки под проклятия свекрови, ругательства свекра, да насмешки старшей невестки, жены деверя. Крестили их бранью, омывали позором, чуть не втаптывали в землю их мать, и никто не смилостивился, не смирил обидчиков, не утешил ободряющим словом.
– Разве ж так было Господом заведено, чтоб никто не жалел? – рыдающим шепотом допытывалась у Василисы Устинья. – Он блудницу и то от казни избавил, а я-то не такая! Я почитай, вдова, за что ж меня корить?
У Василисы сердце сжималось от этих слов. Истекала Устиньина душа кровью – чем залечишь раны? Вот батюшка знал бы чем! Вдруг вспомнилось ей что-то из батюшкиных наставлений, и она тихо промолвила:
– Батюшка сказывал: у одних людей в сердце елей копится, а у других деготь. А, случись что, каждый выплеснет то, что у него накоплено. Ежели елея не скопил, где ж его возьмешь?
– Да неужто у всех один деготь в душе? – пробормотала Устинья, ужасаясь, но и утешаясь.
Соседка ее, Варвара, поглядывала на Устинью с усмешкой: вот уж кого Бог умом обнес! Выставила себя на позор – еще и жалости ждет. Не могла она, что ли, перед родинами уехать к сроднице в другую деревню, чтобы разрешиться там? А младенчика либо подкинуть ко двору, где другой новорожденный, либо свезти в Москву, в Воспитательный дом. Еще и два рубля получила бы милостью государыни императрицы. Сама она, Варвара, так четверых пристроила. До Воспитательного дома всех живыми довезла – греха на ней нет – ну а дальше уж как Бог рассудит. Все честь по чести, и ворот ей дегтем никто не мазал, и свекор ни разу вожжами не отходил, а теперича едет себе преспокойно к мужу, не зная за собой никакой вины. По уму жить надо – вот и весь сказ!
У Устиньи дрожали губы.
– Ты живешь-то по уму, а Господь, он на душу взглянет на Страшном суде, – не удержавшись, упрекнула Василиса.
Варвара метнула в нее взгляд, точно камень:
– Тебя еще не слышали, приблудная! Гляньте, бабы, поп среди нас нашелся! Проповедовать она будет! Да чего ты в жизни знаешь, чего ты видела, чтобы судить?! На тебя, хворостину тощую, ясно дело, ни один мужик не позарился, через это с нами и тащишься, чтоб хоть у черта на куличиках кого-то подцепить. Тьфу, паскуда!
Обомлевшая Василиса задохнулась от оскорбления. Возбужденные бабы переговаривались вполголоса, но вступаться за девушку никто не спешил. Язык у Варвары, что когти у кошки! Боялись.
– Вот он деготь полез, – вдруг отчетливо и горько проговорила Устинья.
И все замолчали.
XI
«…Никогда не почитала я себя праведницей, а, обратно, по делом моим последней грешницей…»
Едва миновали Перекоп, Устинья слегла. И не сказать, что болезнь ее подточила, нет, но лежала и не вставала, и не хотела жить. Лишь время от времени шептала что-нибудь Василисе, вспоминая отходящую от нее жизнь, из одних только горестей и состоявшую.
– Как вышла я за порог – детки кричат, надрываются, а свекруха не нарадуется: «Ну, наконец-то привел Господь! Вывелась срамота с нашего двора! Чтоб тебе и вовсе пропасть дорогой, курва!» Видать, сглазила она меня, пропадаю, Васёна.
– Офицер сулит, днями до города доберемся, – ободряюще шептала Василиса, с дрожью в руках приглаживая Устиньины волосы. – Там гарнизон большой стоит – найдем попа, соборует он тебя, оклемаешься. Батюшка мой ежели кого соборовал, тот и со смертного одра вставал.
Устинья слабо мотала головой по рогоже, застилающей сено в телеге. Сидеть уж не могла, лежала, устремив взгляд в безоблачное, неистово синеющее небо. Яростное солнце жгло ее беспрепятственно, и когда Устинью положили на белые простыни в бахчисарайском госпитале, Василису ужаснуло черное, как головешка, лицо подруги. Припала она губами к ее лбу и долго покрывала его поцелуями.
– За деток моих молись, – неожиданно твердо и внятно произнесла Устинья. – За рабов Божьих Трифона, Филиппа, Ефимью. Свекрови их смерть одно облегчение, на нее надежды нет, а ты отмолишь, в тебя верю.
– В меня? – у Василисы дрожь прошла по телу.
– В тебя. Молитву праведницы Господь услышит.
– Да какая ж я праведница?! – пораженно воскликнула Василиса. – Да я паче других…
Устинья сжала ей руку, заставляя замолчать.
– Ты меня пожалела, – проговорила она, глядя девушке в глаза. И вдруг с остановившимся взглядом, откинулась на подушку.
Сквозь слезы не разбирая дороги, выбралась Василиса на воздух. Снаружи ярко сияла жизнь. Огромный цветущий куст при входе в госпиталь искупал ее в своем аромате. Целые водопады роз выплескивались на улицу из глухих двориков татарских домов. Виноград подобострастно вился под резными деревянными решетками балконов на домах побогаче. Солнечное золото было словно растворено в воздухе, и становилось совершенно не понятно, откуда берется смерть в этом жарко благоухающем раю.
Присев на какой-то камень, Василиса отняла руки от мокрого лица. Чуть поодаль похорошевшая в дороге от безделья Варвара, хохоча, заигрывала с солдатами. И впервые с болью задумалась девушка о том, почему так стремительно покидают земную юдоль самые чистые, нежные, светлые, в то время как истлевшие душою, точно сорная трава, впиваются в жизнь своими злыми корнями и прочно держатся в ней, пусть даже и губя других.
Подошел к ней офицер, тот самый, что возглавлял их казенную команду и имел на девушку виды, и встал, заслоняя солнце и недобро на нее глядя.
– Давай, поторапливайся! – приказал он. – Едем в селение Ахтиар, это почитай что день пути.
– А там что? – отважилась спросить поповна.
– Там дороге конец, – усмехнулся офицер, и непонятно было, так оно на самом деле, или нет.
XII
«…И помыслить я не могла, что когда-нибудь совершу нечто подобное…»
Едва взобравшись на слежавшееся сено, чтобы тронуться в путь, ощутила Василиса, как вошел в ее душу страх, потеснив горе. После Бахчисарая женщин на подводе осталось всего ничего: местное начальство отрядило остальных в те или иные села, где жили русские поселенцы. Лишь двоим, помимо нее, припало ехать в Ахтиар, и мог бы их сопровождать всего один солдат, но нет, и офицер с ними отправился. Уж не затем ли, чтобы хоть в конце пути, но все же взять свое, ради чего он увез ее, беглянку, из Калуги? И ведь ничто ему уже не помешает, улучит момент, и пропала она… Все холоднее и холоднее становилось у Василисы внутри, все уверенней и наглее взглядывал на нее офицер, все жарче и жарче палило солнце, и, казалось, не будет тому конца.
Дорогой почти не разговаривали – каждый был погружен в свое. Василиса пыталась вообразить себе, что ее ждет, доберись она благополучно до Ахтиара, и вообразить никак не могла. Сызнова замуж идти за кого прикажут? Нет уж, увольте нарушать закон божий и человеческий! Под венец ей дороги нет. А кроме как под венец куда податься?
И вдруг, обрывая душу, пришло к ней осознание того, что путь к людям, в их беспрестанную суету, радости и горести, ей покамест заказан. Не сыскалось еще для нее, Василисы Покровской должного места в этом мире. Не девкой же солдатской становиться, право слово, хоть ее принудить к этому и хотят!
Даже вздрогнула Василиса от такой мысли и села прямее, оглядываясь по сторонам. С обеих сторон дороги тянулись белые от ромашек поля, обрамленные на отдалении горами. Но до гор поди доберись, не бежать же в чистое поле! Размышляла поповна, прикидывала, выжидала. И дождалась: под вечер жара начала спадать, горы с одной стороны подошли вплотную к дороге, и покатилась их подвода вдоль невысокого обрыва. Василиса, вся напрягшись, приглядывалась к нему, и сердце замирало от предчувствия: пора! Обрыв пологий, оползневой, если и скатишься, не убьешься. Девушка взялась за свой узел, незаметно передвинула его к самому краю телеги, цепенея, выждала момент, когда подвода начнет поворачивать за выступ горы…
– Куда? Стой! – заорал офицер где-то наверху.
А Василиса и вскрикнуть не могла – пыль душила ее, забивая и нос, и горло, и глаза. Щебень, сухая глина и обломки горной породы, колотя и царапая девушку, мчали ее к подножью, крутили и переворачивали вверх ногами. Домчали, и встать не смогла – от страха ослабели ноги. Так и побежала она вдоль склона, потешно приседая, и непременно догнал бы ее офицер, если б вознамерился спрыгнуть следом. Но, то ли духу не хватило, то ли, решил уже плюнуть на несговорчивую девицу, погони не было. Однако Василиса о том не знала, от страха не слыша и не видя ничего вокруг, и сама не разумея, куда ее ноги несут.
Вдруг точно зеленая стена выросла перед ней. Сгоряча ткнулась девушка, но тут же отпрянула с воплем вся в глубоких царапинах: заросли ежевики резали, как пилой. Но, сквозь боль просияло в голове: уж там-то не доберутся до нее! Всхлипывая, нашла-таки место, где ежевичные кусты расступались, и, пригнувшись, кое-как протиснулась в заросли.
Господи! Что ж за лес такой дьявольский вырос! И не продерешься сквозь него: как ни повернись, всюду колет, режет, рвет. Что не ветка, то сухой крюк, что ни куст, в кровь раздирает ноги. И рукава у рубашки уже лохмотья, и чулки – лохмотья; лицо, щиколотки, руки – все в кровавых ссадинах. Уж и не всхлипывала девушка, а лишь беззвучно стонала всякий раз, когда острый шип вспарывал ей кожу. Но, как ни мучалась плоть, а душа радостно дрожала: ушла! От греха ушла, и от злой судьбы, и от всего того мучительства, что ожидали бы ее с еще одним постылым супругом.
Тем временем навалилась на землю тьма – ночь в этих краях наступала стремительно – и Василиса в изнеможении прилегла, найдя просвет меж шипов и колючек. Вместе с тьмой потянуло прохладой, и девушка выпростала из узла свой тулуп, завернулась в него и подложила остальное тряпье себе под голову. Сон настиг ее в одночасье, как смерть, и черной своей волной затопил в голове все земные печали.
* * *
Кто только ни находил себе приюта в Крымских горах! Не слишком высокие, с ровными зелеными плато наверху, изобилующие сухими, пригодными для жилья и хозяйственных нужд пещерами, они как будто специально поднялись над землей, чтобы давать убежище тем, кто гоним. Мирным земледельцам, укрывавшимся от воинственных кочевников; христианам, бежавшим из захваченной турками Византии; и, наконец, монахам.
Екатерина II была далеко не первой кого посетила донельзя христианская мысль разорить церковь, дабы пополнить свою казну. За десять веков до нее церковные владения стал прибирать к рукам византийский император Лев III. Однако, он, в отличие от бесцеремонной немки на российском престоле, не решился действовать напрямик, а нашел для своих гонений идеологическую подоплеку. Почитание икон объявили язычеством. По приказу властей разрушались храмы с росписями, уничтожались намоленные изображения святых, закрывались монастыри. Ища спасения от этого святотатства, священники, монахи, да и некоторые миряне бежали за море, на север – в Крым, где со вздохом облегчения находили райский климат и уютные пещеры-кельи на склонах гор, оставшиеся еще со времен первых христиан на крымской земле.
Так возникли в Тавриде пещерные монастыри. Один из них, монастырь святого Климента, ставший впоследствии самым крупным, располагался неподалеку от селения Ахтиар на берегу Черной реки, впадающей в Черное море. После захвата Крыма турками в 1475 году монастырь обезлюдел, и к тому моменту, как обессилевшая Василиса рухнула на землю в зеленых зарослях (и, сама о том не подозревая, в нескольких сотнях метров от обители) там не осталось ни единого насельника.
Зато остался полуразрушенный храм и пустые кельи на склоне горы. Живи себе, молись, да залечивай раны, душевные и телесные. А что, собственно, еще ей оставалось делать?
XIII
«…Благодарю тебя, Господи за то, что сподобил меня еси прожить день сей…»
Такими словами предваряла Василиса отныне каждый вечер свое молитвенное правило. Пылала в душе благодарность, как свеча, зажженная у образа, благодарность, никогда доселе ее не озарявшая. День миновал, и никто не вторгся бесцеремонно в ее уединение, не схватил, не увел силком. Призрел Господь и на телесные ее нужды и послал ровно столько пищи, сколько должно быть потребно, а ежели мнится, что надо бы хоть чуточку больше, так то от недостатка смирения. Не райский ли сад ее окружает, где земля в изобилии родит плоды, и вовсе никакого труда не нужно, чтобы ими насладиться? Вон сколько сладкой ежевики созрело вокруг, сколько диких слив, абрикосов да шелковицы! Попасешься у кустов да под деревьями, собирая паданцы – вот живот на время и полон. А как опустеет – напиться следует поболе, благо речка в двух шагах. А ежели и после голод скрутит, как бывало уж не раз, делать нечего: доберись до татарской деревушки поодаль, дождись, чтобы какая-нибудь женщина одна осталась в саду, и с низким поклоном протяни руку. Добры к ней были татарки, до того добры, что порой у Василисы слезы на глазах выступали от благодарности. То лепешку подадут, то мешочек орехов – то-то праздник! Да буде и просто с грядки сорвут незнакомый исчерна-синий овощ с бело-зеленой мякотью, и то слава Богу! Василиса приспособилась разламывать его, класть на раскаленные камни в самый разгар дневного пекла и держать так, пока не спадет жара. После этого овощ мягчал изнутри, и есть его становилось способнее. А как-то раз вынесли ей рыбки сушеной, и, обглодав каждую косточку, обсосав каждый хрящик так, что и муравьям нечем было на рыбьем скелете разговляться, ощутила Василиса, что все ее утерянные силы разом к ней вернулись. Взыграла душа, и сердце в пляс пустилось.
Платья же и вовсе было у нее в достатке. Правда, сарафан так истерзан шипами, да колючками, что носить его – чистый срам! Но на что он ей в здешнем жарком мареве? Одной рубахи подпоясанной достанет. Правда, у рубахи все рукава в клочья изорваны, ну да рваное оторвать легко; оно и легче в жару без долгих рукавов. Сапожки вот только развалились совсем, ну да ноги можно и холстом обмотать, благо холст у нее в узелке припрятан. Здесь обмотать, там подвязать – вот и обувка. Одета, обута, накормлена – живи да радуйся! В келье-пещерке чисто да сухо, ночью камень тепло отдает, холодает лишь под утро, но на то у нее тулуп имеется. На одну полу ляжешь, другой накроешься – и спи себе спокойно. Благодать!
А из каменного киота наверху, невесть когда в этой пещерке высеченного, на спящую иконы смотрят. С тревогой – Спаситель, с болью – Богоматерь. Сколько уж дней прошло со времени ее побега, а никого, кроме них так и нету подле Василисы.
XIV
«…У тех, кто ко мне прибегал, старалась уврачевать я душевные язвы и облегчить бремя скорбей…
– Здравствуй, матушка! Извини, что потревожила.
Что за диво! Стояла перед ней настоящая барыня в кружевном капоре, затянутая в шелка и пунцово-красная, что ее платье. Часто дышала, облизывая губы – трудно дался ей подъем в гору! Виднелась внизу ее коляска, запряженная двумя лошадьми, и лошади были – вот потеха! – в самых настоящих шляпках от солнца с прорехами для ушей.
– Здравствуйте, барыня! – Василиса взволнованно поклонилась в ответ.
И смущенно добавила:
– Уж не обессудьте: и усадить мне вас некуда, и воды поднести не в чем – всякий раз напиться к реке хожу.
Барыня милостиво махнула рукой:
– Я уж приучена сама спасаться в этой жаре, – сказала она, доставая из атласного мешочка флягу и делая долгий глоток. Оглядевшись, присела на камень, и тут заметила Василиса, что барыня, должно быть, на сносях, а не толста, как показалось ей вначале.
– Давно ли здесь обретаешься? – спросила барыня.
– Да, почитай, с Троицы.
– А сама откуда?
– Из-под Калуги.
Барыня покачала головой:
– И как тебя благословили подвизаться тут одной за тридевять земель?
– Да ведь в наших краях чернецам теперь не житье, сами, небось, знаете, – объясняла Василиса, со смущением сознавая, что принимают ее не за ту, кто она есть: за инокиню, а не за беглянку.
Барыня покивала в ответ:
– Да уж, слышала, хоть который год за мужем по гарнизонам таскаюсь…
Порасспрашивала Василису еще немного: о ее имени (и сама назвалась – Софья Романовна), о житье-бытье, но явственно ощущалось, что приехала она не из одного праздного любопытства – поглядеть на юную пустынницу, о которой, видимо от татар, подававших ей милостыню, молва дошла до русского гарнизона. Веяло от нее горестью, и Василиса решилась спросить:
– А вы, барыня, с какой бедой ко мне пожаловали?
Барыня вздрогнула:
– Ишь ты, прозорливая, угадала! Беды-то у меня особой нет, расстройство только… Да я не за советом к тебе, а так, поглядеть, как и что. Узнать, может, нужду в чем имеешь…
Василиса молча ждала, чувствуя, что боль, переполняющая барыню, вот-вот прорвет запруду нерешительности. Так и случилось. Сперва неловко и косноязычно, а затем все более и более распаляясь от жалости к себе, принялась Софья Романовна повествовать о горькой своей доле.
Жребий ей выпал такой же, как и большинству верных офицерских жен: позабыть про свои желания, привычки да чаянья и прожить не свою жизнь, а жизнь супруга как если бы и вправду были они единым целым. Странствовать вместе с ним по тем дорогам, на какие сама ногой бы не ступила, заботиться, утешать, врачевать раны, ободрять и вдыхать надежду. Все это выполнила она с честью, не в чем себя упрекнуть. Да между делом двух деток подняла, а третий вон в животе поворачивается. О себе и не думала никогда, себя не жалела, а к чему пришла? Опостылела супругу, и не ищет он в ней больше утешения, а одну лишь докуку видит. И лицо ее не мило, и сама не мила, да и, по правде сказать, вся миловидность с нее сошла от дорожных лишений, от скудного гарнизонного бытья, да от того, что и сына, и дочь сама вынянчила, без мамок, да без кормилиц.
– И что я теперь, и куда? Всю жизнь на него положила, а выходит, что зря. Нужна ему, как ломоть заплесневелый! Чем Бога прогневала?
Текли слезы, рвалась душа. Молчала Василиса, приискивая нужные слова. Тяжко ей было от того, что принимают ее за старицу, за советом вот пришли, а какой совет она, юная и неискушенная в житейских перипетиях, может дать? Ей самой бы кто присоветовал, как дальше судьбу свою устроить!
И вдруг точно костяшкой по лбу стукнула мысль: да какое ты право имеешь отпустить эту нуждающуюся в тебе женщину без утешения, какого бы то ни было?! Что твой батюшка сказал бы ей в ободрение, то и ты скажи! И медленно, будто слыша откуда-то издалека батюшкины слова и повторяя их, проговорила Василиса:
– Так ведь и Иов-праведник Бога ничем не прогневал, а сколько ему испытать довелось! Только в скорбях и встречаемся мы с Богом, а в радости забыть о нем готовы.
Отерев глаза, барыня изумленно слушала.
– Пока Господь нам счастье дает, разве мы к нему прибегаем? Счастливы и хорошо! Нет чтобы вспомнить, кому тем самым счастьем обязаны. Мы как те девять прокаженных, коих Иисус исцелил, а они и «благодарствую» сказать не удосужились. Только десятый о Боге вспомнил и вернулся, неужели ему не воздастся? Вот и вам Господь попускает пострадать, чтобы вы к нему обратились. Обратитесь – воздастся и вам. Господь вам руку протянул – вот что вы получили за свои труды, а не мужнину холодность, как сами думаете.
– И то правда! – пробормотала Софья Романовна. – Раньше обедню выстаивала, а сама гадала, где бы в этой дыре швею достать – обносилась ведь вся. А теперь детей уложу и начинаю плакать, да молиться, чтобы с мужем у нас было все по-прежнему. А исполнит Господь мою молитву, как ты думаешь?
Барыня жадно вглядывалась в ее лицо, но Василиса покачала головой:
– Господь вам не холоп, чтобы исполнять немедля, что ни скажут. Вы благодарите его лучше почаще.
– За что же? – изумилась Софья Романовна.
– А за все. За то, что живы и здоровы, равно как и детки ваши. За то, что есть у вас и кров, и пища, за то, что на такую красоту смотрите каждый день, – Василиса повела рукой вокруг себя.
– А о муже молиться можно? – робко спросила Софья Романовна.
– Можно, – поплыли в улыбке Василисины губы. – О том, чтобы его в бою не сразили.
Барыня опустила голову.
Прощаясь, она расцеловалась с Василисой и, обнимая, крепко прижала к себе.
– Тяжко тебе, поди, одной-то? – спросила она.
Василиса покачала головой:
– С людьми тяжельше. А когда с тобой один лишь Господь, какие труды?
Барыня глянула на нее столь уважительно, что Василисе даже забавно стало. После, провожая ее коляску взглядом, ощущала девушка и неловкость, и радость одновременно. Негоже, конечно, ее за старицу почитать, но ведь утешила, помогла! И слова нужные на язык пришли, даром, что молода. Словно бы батюшка через нее Софью Романовну увещевал… Да, кто знает, может, так оно и было?
К вящему смущению Василисы, Софья Романовна была лишь первой из тех, кто прибегнул к ее духовному совету. Потянулись за ней и другие офицерские жены из стоявшего в Ахтиаре гарнизона. У всех у них были мужья, почти у всех – дети, а, значит, и печалей и сомнений имелось предостаточно. Почитай раз в неделю наведывались к «старице» гости, и через какое-то время девушка стала чувствовать, что тяготит их, еще до того, как высказывали они это словами. Попросили бы объяснить это чувство – не смогла бы. От каждой женщины словно тянулась нить, нащупав которую сердцем, Василиса разматывала клубок и добиралась до самой сути. Бывало, девушка сама рассказывала очередной офицерше, что ту к ней привело, вызывая смятение и восхищение. А, чем больше восхищения, тем больше доверия к ее совету. Однако уверена была Василиса: не внутри нее возникают те глубокие мысли, что она высказывает, а приходят к ней свыше. Не считала она произносимые наставления своими, и каждое утро, и каждый вечер молилась о том, чтоб не овладел ею дух гордыни.
Так счастлива она была, служа людям в их скорбях, что боялась за свою душу. А за тело бояться уже не приходилось: на следующий день после своего посещения прислала ей Софья Романовна кучера с гостинцами. Круг сыра, буханка хлеба, полдюжины вареных яиц. По словам кучера, прислала бы и масла, да боялась, что растает дорогой. А еще передала жестяную кружку, памятуя о том, что девушка за каждым глотком воды ходит к реке.
Едва кучер скрылся из виду, как впилась Василиса в сыр зубами (ножа-то у нее тоже не было!) и испытала ни с чем не сравнимое блаженство. Затем отломила кусок душистого, пористого хлеба и чуть не заплакала от счастья: ничего вкуснее ей едать еще не доводилось!
А позже, с тех пор как вошло у офицерш в обычай к ней наезжать, стали они сразу прихватывать с собой харчей. Кто поскупее, кто пощедрее, но каждая поднималась по тропинке не с пустыми руками. Несли и вещи, нужные по хозяйству; так обзавелась Василиса солью, котелком, ножом, ложкой, огнивом. Чем не райская жизнь?
Только вот подмывает иногда невесть откуда взявшаяся тоска, как река в половодье, и тянет, тянет к чему-то… К чему-то такому, в чем и признаться себе боишься. Но устремляешься к этому всем сердцем, и нет тебе удержу. И страшно это, и желанно, и, чем страшнее, тем желаннее. Господи! Почему же ты не спасаешь нас от наших дерзких желаний?!
XV
«…Едва завидела его, идущего ко мне, взволновалась я, как никогда доселе. И ныне, вспоминая то мгновение, вся трепещу и душою вновь обращаюсь в робкую девицу…»
В тот день с самого утра грыз и грыз Василису голод. Уж не менее двух недель прошло с тех пор, как наведалась к ней последняя офицерша (не из самых щедрых!), и давно съедены были все ее гостинцы. А плоды да ягоды не могли, как прежде, насытить исхудавшую девушку. Голодной Василиса ложилась спать, голод будил ее на рассвете, выкручивая желудок, как белье после стирки, и в то утро показался девушке особенно нестерпим.
Тут пришла к ней спасительная мысль: а что если поискать в здешних лесах грибов? Склоны гор уже по-осеннему золотятся, жара спала, и после страшного летнего сухостоя то и дело проливаются дожди. Впору пойти груздям да маслятам! Оглядывая окрестности, уже прикидывала Василиса, куда направиться, как вдруг заприметила: кто-то поднимается к ней по тропинке. А кто, пока не разобрать из-за высоких зарослей на склоне.
Глянув вниз, туда, где офицерши обыкновенно оставляли свои коляски, девушка с удивлением увидела одного оседланного коня. Что это за гостья удалая к ней пожаловала, что ездит в одиночестве да верхом? Но долго рассуждать ей не пришлось: увидела незнакомца и замерла, как завороженная. Был то офицер, да, судя по золотым кистям шарфа, коим он был подпоясан, довольно высокого чина.
Сильные, темные волосы нежданного гостя колыхались под ветром, как некошеный луг. Причудливым образом сливалось в его лице мужская суть и женские черты: дивные оленьи глаза, мягкие губы в полуулыбке, изящный нос и столь совершенный овал лица, словно бы примерялся Творец вдохнуть в сего человека женскую душу. Но нет, за девицу он не сойдет, хоть в сарафан его ряди! Каменный, округло-твердый подбородок, высокий смелый лоб и до того уверенный в себе взгляд, каким ни одна женщина на свете не взглянет. Что-то дрогнуло в душе Василисы и пригрезилось ей на миг, что, подойдя, сей человек, не спросив на то дозволения, обнимет ее молча и крепко, раскроет ей губы поцелуем и увлечет в пещеру на каменное ложе. Поднесла она руку ко лбу и с силой отерла лицо, точно снимая наваждение.
Офицер тем временем приблизился и склонился в красивом поклоне. Росту был он среднего, а сложения – плотного, однако двигался чрезвычайно грациозно и тем напоминал лицедеев, что Василиса первый и последний раз в жизни видела в день батюшкиной кончины.
– Здравствуй… пустынница! – произнес он с улыбкой.
– Здравствуйте, ваше благородие! – еле выговорила Василиса сухими, как песок, губами.
Жгучий стыд объял ее, впервые за все это время. Донельзя устыдилась того, чего не стыдилась прежде: черных от пыли обмоток у себя на ногах, изношенной рубахи с оторванными выше локтя рукавами и еще того, что с самой масленицы не гляделась она в зеркало.
– Вижу, правду говорили наши гарнизонные дамы, – продолжал офицер. Ласковый был у него взгляд и веселый.
– Что же они говорили?
– Что объявилась в горах отшельница самой праведной и строгой жизни.
Внешне был офицер почтителен, но мягкие, упругие губы его так и готовы были дрогнуть в улыбке, будто не верил он ни единому слову, которое произносил.
– Да я не то чтобы отшельница… – пробормотала Василиса.
– Кто же ты?
– Вот живу тут по милости Божьей, – уклонилась девушка от ответа.
Офицер промолчал, но можно было биться об заклад, что про себя он подумал: «Любопытно!»
– И каково тебе тут живется? – спросил он чуть погодя. – Чем питаешься? Поди, акридами и диким медом[4]?
– Если б медом! – с горечью вырвалось у Василисы. Голод, на время притихший, вновь дал о себе знать.
Офицер посерьезнел. Окинул внимательным взглядом убогую пещеру, истонченное долгим постом Василисино лицо и руки, на которых видна была каждая жилка.
– Жаль, припасов никаких я с собой не взял! – сказал он. – Ну да ничего: поедешь со мной. Наш полк стоит в Ахтиарской бухте, отсюда не далеко. Там тебя накормим, приют дадим.
Василиса покачала головой.
– Что так? – удивленно поднял брови офицер, не привыкший, по-видимому, встречать отказ.
– Здесь у меня приют, – тихо ответила Василиса.
– Здесь еды никакой не сыскать.
– Не хлебом единым, – уважительно, но твердо ответила Василиса.
– Но ты же совсем одна, без защиты.
– Не одна я: ангел мой хранитель здесь незримо предстоит. До сих пор он от меня беду отводил.
Офицер пожал плечами:
– Не пойму я тебя что-то! Говоришь, не отшельница, а к людям не идешь. Или ты меня боишься?
Василиса покачала головой:
– Не вас я боюсь, греха боюсь.
Озадаченно молчал офицер, сохраняя для видимости на губах усмешку. Молчала и Василиса, хоть душа у нее в те мгновения и дрожала, точно земля, по которой марширует полк солдат.
– Откуда же ты взялась такая? – вновь заговорил офицер, глядя на нее с пристальным интересом.
– Да вон с той дороги, – Василиса махнула в ее сторону рукой.
– А на дороге как очутилась?
Привычка повелевать явственно читалась в том тоне, каким он задавал вопросы, и Василиса на время тревожно замкнула душу.
– По случаю, – невиннейшим голосом объявила она.
Офицер покачал головой:
– С тобой говорить – что крепость штурмовать.
Василиса опустила глаза, кровь бросилась ей в лицо.
– Какая ж я крепость супротив вас, – произнесла она тихо.
Выжидательная тишина разлилась между ними, как река в половодье, и ни один не решался начать к другому переправу.
– А правду ли говорят, – спросил вдруг офицер, внимательно изучая Василису взглядом, – что ты наставления мудрые даешь?
– О чем меня спросят, о том скажу, что знаю, – вновь ускользнула от прямого ответа девушка.
– Много ли ты знаешь в твои-то годы?
– Много не много, а ответить хватает.
– Дай тогда и я спрошу, – улыбнулся офицер на вид безмятежно, но (сие очевидно было для Василисы) с внутренним напряжением. – Чего мне, по-твоему, остерегаться следует? Только не говори, что вражеской пули! – насмешливо добавил он.
– Ну, от пули на войне не уберечься, – медленно проговорила Василиса, не нащупывая ни единой незримой нити, что тянулась бы от него и за которую можно было бы ухватиться. Но тут вдруг опять кольнуло ее воспоминание: ни дать ни взять, актер перед ней стоит! Та же приятственная маска на лице и тщательно скрываемая под этой маской душа. И, против воли, вырвалось у нее:
– От лицедейства одна беда, ваше благородие! Оно невесть до чего довести может!
Каменно-неживым стало на миг лицо офицера, как если бы девушка предрекла ему скорую смерть. Но тут же он вновь овладел собой и улыбнулся «пустыннице» с дружелюбным высокомерием:
– До чего же оно довести может?
– Да вот… до Таврической области, – печально ответила Василиса, вспоминая свой путь.
На сей раз офицер ничем себя не выдал, и лицо его продолжало сохранять прежнее выражение. Но, судя по тому, как медленно произносил он следующие слова, потрясение его было велико:
– Не пойму я, о чем ты толкуешь! Разве ж я актер?
Василиса отвела взгляд. Слово «нет» по каким-то неведомым ей причинам застревало в горле.
– Что ж, и на том спасибо! – сказал офицер с напряженной улыбкой. – Буду знать, что на театре мне не место!
Неожиданно резко повернувшись, зашагал он вниз по тропе. Василиса подалась было за ним, но, смирив себя, замерла, дыша глубоко и мучительно.
Через несколько шагов офицер, принудив себя к вежливости, остановился и обернулся:
– Ну, бывай здорова, пустынница! Молись за раба Божьего Михаила! – попрощался он с ней без малейшего тепла в голосе.
Василиса молча кивнула, не сводя с него взгляда и с ужасом и восторгом ощущая, как рвет свои путы стреноженная ее душа и устремляется в неведомое доселе чувство, как в чистое поле.
* * *
Неистребимо человеческое желание заглянуть в собственное будущее, что бы оно ни сулило! Всячески осуждая гадание и ворожбу, Церковь, тем не менее, признает, что люди особой духовной прозорливости, именуемые старцами, способны не только дать человеку, пусть и впервые представшему перед ними, верное наставление, но и предсказать его судьбу. Посему поток желающих получить совет и предсказание из достойных уст не иссякает с древнейших времен и по сей день.
Старцы – практически всегда монахи либо отшельники, как правило, люди не молодые, хотя последнее не является обязательным условием. Как знать, в каком возрасте человек стяжает духовные дары? Так что молодость Василисы не отпугивала тех, кто поднимался к ее пещере, а сомнений в ее исключительности у гостей не возникало. Вдумайтесь: в том мире, где каждый стоит на строго определенном месте сообразно сословию и полу, девушка, ведущая монашеский образ жизни в одиночку, практически в чужой стране, не могла не восприниматься как уникальное явление.
Уникальность ее была очевидна не только для женщин, но и для того единственного мужчины, что посетил Василису в ее уединении. И вот почему.
В жизни раба Божьего Михаила лицедейство сыграло, по своему, не менее роковую роль, чем в жизни Василисы. Баловень судьбы, отпрыск древнего дворянского рода и наследник немалого состояния, он если на что-то и мог пожаловаться, так это на свою природную склонность к артистизму, что незадолго до встречи с Василисой подвела его под монастырь.
В раннем детстве потеряв мать, Михаил (точнее, Михайла, как тогда произносилось это имя), однако, не чувствовал себя обделенным родительской любовью. Его отец, военный инженер, чьи работы до сих пор можно увидеть в Санкт-Петербурге, внимательно и трепетно руководил воспитанием и образованием сына. Вместо того чтобы с ранних лет сдать мальчика на казенный кошт в какой-нибудь пансион и не знать проблем, связанных с отцовством (не так ли поступало множество других дворян?), Ларион Матвеевич до двенадцати лет обучал сына дома, а затем устроил его в артиллерийско-инженерную школу, которую мальчик посещал как современные ученики – живя при этом дома. Это было редкостью в те времена, но еще большей редкостью было то, что Ларион Матвеевич сам работал в вышеупомянутой школе в качестве преподавателя, не желая разлучаться с сыном.
Мальчик учился так успешно, что ему специальным приказом разрешили заниматься по особому расписанию, а в конце учебы доверили преподавать математику другим воспитанникам. Любовь умного родителя и раннее признание твоих заслуг – что еще нужно, чтобы высоко взлететь в жизни? Добавьте к этому живой, общительный характер, популярность среди друзей и обаятельную внешность, и вам останется лишь завистливо вздохнуть.
Чины и должности одна лучше другой сыпались на Михайлу золотым дождем. Немало способствовал тому его отец, но таланты самого юноши были бесспорны. Под чьим бы началом он ни служил, командиры давали о нем самые блестящие отзывы, особенно отмечая служебное рвение и беспримерную храбрость. Адъютант генерал-губернатора в четырнадцать лет, капитан – в пятнадцать, подполковник – в двадцать четыре… Непрекращающиеся войны с Турцией за выход к Черному морю весьма способствовали продвижению молодого человека по службе.
И тут… Михайла увлекался театром еще со школы, но посвятить себя игре на сцене, разумеется, не мог. Возможно, в наши дни он и стал бы неподражаемым комиком, потеснив в популярности и гонорарах Джима Керри, но во второй половине восемнадцатого века профессиональные актеры находились на задворках общества. В то время как наш одаренный и родовитый красавец собирался взирать на социум с самой вершины социальной лестницы. Однако, делая карьеру на полях сражений, он не мог подавить в себе склонности к лицедейству и постоянно ее обнаруживал. За два года до описываемых событий, служа на юге под командованием Петра Румянцева (талантливого генерала и, по слухам, внебрачного сына Петра Первого), Михайла позволил себе дерзкую забаву. Умея блестяще имитировать походку, манеры и голос своих сослуживцев, он однажды в дружеском кругу передразнил самого главнокомандующего. Передразнил не со зла (он искренне уважал своего командира и впоследствии отзывался о нем, как о достойнейшем полководце), а желая лишь блеснуть перед товарищами. Однако взбешенный Румянцев тут же перевел наглеца из штаба в строй, во 2-ю Крымскую армию.
Это был тяжелый удар по самолюбию молодого офицера. До сих пор судьба лишь ласково гладила его по голове да преданно заглядывала в глаза. Поэтому Василиса, сама о том не подозревая, задела в его душе больную струну. И результат встречи со столь проницательной «пустынницей» оказался непредсказуемым для двадцатишестилетнего подполковника.
XVI
«…Со страстию, что он во мне возбудил, и не надеялась я бороться. Чаяла лишь одного: увидеть его вновь, столь желанного, подле себя, припасть к его груди и забыться в его объятиях…»
Едва улеглась на дороге пыль, поднятая буланым офицерским конем, как принялась Василиса ждать. Ждать возвращения взволновавшего ее гостя. И откуда взялась в ней столь твердая вера в то, что видятся они не в последний раз? Но ведь верила, и ждала, как если бы, уезжая, дал он ей обещание появиться вновь.
Боялась лишь одного: что застанет он ее в момент возвращения в неуборе. Ревностно принялась чинить изодранный свой сарафан, благо иголка с ниткой у нее имелись, и зашила прорехи так, что углядеть их стало невозможно. На сем не успокоилась: обшила сарафан кружевом, подарком крестной, и до того наряден он стал – загляденье! Еще достала из узелка последние свои сапожки, чулки и почти не ношеную рубаху и сложила отдельно на видном месте, чтобы, едва завидев его благородие, можно было скорехонько все натянуть. И продолжала ждать.
А житье у нее тем временем становилось все труднее. От сильного голода, правда, спасали грибы, что действительно водились в здешних лесах, и то, что (спасибо офицершам!) можно было сварить из них супчик в котелке. Но грибы попадались отнюдь не так часто, как в родных ее краях, и приходилось растягивать супчик на целый день, а то и на два. Сушить же про запас и вовсе ничего не удавалось. А ведь, судя по тому, каким роскошно-ярким стал пурпурно-ало-золотой лесной наряд, осень находилась на самом пике, и тепло должно было вскоре сойти на нет. Да оно уже и сходило: горы не прогревались за день, как раньше, камень остывал сразу после заката, и холодная сырость тут же дерзко вползала в пещерку. На рассвете же становилось и вовсе невмоготу – леденели руки и ступни ног – и девушка просыпалась, дрожа, и не зная, как ей закутаться в тулуп, чтобы никакая часть тела из него не высовывалась. Но не было такого способа. За ночь, измученная холодом, не успевала выспаться Василиса, и укладывалась прикорнуть еще и днем; чем облегчала себе, к тому же муки голода, отпускавшие во сне.
Но какие бы лишения не терпело тело, душа ее светилась предчувствием. Радостно ей было и просыпаться, и засыпать, веря, что офицер непременно придет. Не сегодня, так завтра.
XVII
«…Он пробудил меня от сна, и не могла я более стяжать мир в душе и покой в мыслях…»
В тот день, прикорнув, как обычно, после полудня, увидела Василиса сон. Во сне покойный ее батюшка указывал ей на что-то у нее за спиной, а она, как ни оборачивалась, никак не могла уразуметь, на что ей смотреть надобно. Но так настойчиво протягивал он руку с указующим перстом, и столь тревожным было у него лицо, что проснулась девушка от беспокойства.
Проснулась и обмерла. Сидел офицер, ею так ожидаемый, у нее в ногах и, должно, уже некоторое время смотрел на нее спящую. В единый миг слетели с девушки остатки сонливости, и Василиса рывком села на постели.
– Здорово ночевала, красавица? – с извечной своей улыбкой приветствовал ее офицер.
– Слава Богу! – растерянно отвечала Василиса, тихо ужасаясь тому, что вся ее заботливо приготовленная нарядная одежда так и останется ненадетой.
– А я уж думал, ты, как медведь, в спячку впала до лучших времен.
– Ближе к зиме, может, и впаду, – смущенно рассмеялась девушка.
– Зима тут не долгая, но и не легкая, – поведал офицер. – Снег выпадает редко, но сыро так, что до костей пробирает. До Рождества еще ничего – море тепло отдает, а в генваре уже спасу нет – не согреешься. Без провизии, да дров, да должного обмундирования… – он покачал головой, испытующе глядя на нее.
Василиса понимала, к чему он клонит, но молчала, приглаживая спутанные волосы.
– Ну, раз ты по-медвежьи жить надумала, – перевел офицер беседу в другое русло, – отведай, вот еды медвежьей!
Он протянул ей деревянный туесок, наполненный медом. Да не просто медом – залиты им были орехи. Доставая ложку и торопливо пробуя угощение, Василиса вдруг подумала: а ведь и глаза у офицера точно такие же, что и привезенное им лакомство – цвета гречишного меда, каре-золотые. И такая же сладость глядеть в них, что и пробовать мед на вкус.
Пересилив желание съесть весь туесок в один присест, Василиса отставила подарок в сторону, с достоинством поблагодарила. Офицер пристально смотрел на нее, и взглядом ласкал, точно солнце, но и жег, как оно.
– Глаза у тебя, как агат на срезе, – произнес он вдруг.
Василиса вздрогнула: в одночасье подумали они об одном и том же – о глазах друг друга.
– Камень есть такой, дымчато-серый, – пояснил офицер. – Не была б ты отшельницей, – добавил он лукаво, – можно было бы серьги тебе подобрать из него – сразу глаза бы заиграли.
Василиса и вовсе смутилась: никогда доселе не говорил ей никто и ничего о том, какова она с виду. У отца это было не в характере, тетка к старшей племяннице относилась равнодушно – не ругала, но и не нахваливала. С сестрой не была она близка, равно как и с другими деревенскими девками, а парни ее не жаловали. Муж, понятное дело, ничего к ней не питал, какие тут ласковые слова!
– Может, вернешься к людям-то? – продолжал офицер. – С ними, конечно, хлопотнее, чем одной, зато занимательней.
– Да хлопот я не боюсь, – пробормотала девушка.
– Так за чем же дело стало?
– Кем я буду-то среди людей, ваше благородие? – спросила Василиса скорее у самой себя, чем у офицера.
– Ну… при мне жить будешь.
– А вам я зачем?
Офицер явно забавлялся их разговором.
– А совета у тебя буду спрашивать… духовного. Опять же, о прошлом моем или будущем что-нибудь расскажешь.
– Так для того и цыганку можно позвать.
– Вот не поверишь – на всю Тавриду ни единой цыганки! Хоть в Валахию возвращайся – там табор на таборе. Да и потом: одно дело цыганке ручку золотить, а другое – со старицей беседовать.
– В прошлый раз вы нашей беседой недовольны остались, – тихо напомнила Василиса.
Но офицер как будто не хотел вспоминать своего недовольства:
– Ты в прошлый раз про пулю что-то говорила, – сказал он, – от нее, мол, не уберечься. Растолкуй, что в виду-то имела? Что сразят меня в бою?
На вид офицер был по-прежнему насмешлив и невозмутим, но Василиса поняла, что именно за этим он и приехал вновь: узнать, останется ли жив. Прежде, чем ответить, поглядела она ему прямо в глаза (он не отвел взгляда) и ощутила столь мощную, сокрушительную жизненную силу, от него исходящую, что преисполнилась уважения и восхищения. И, готовясь говорить, ответ уже знала твердо:
– Вы изо всех своих сражений победителем выйдете, ваше благородие, – сказала она. – И смерть от вас отступаться будет, пока вы сами от жизни не устанете, – добавила с невесть откуда взявшейся уверенностью.
У офицера зажглись глаза, едва скрывал он переполнявшее его ликование:
– Вот как? Ну, спасибо, пустынница!
– Бога благодарите, не меня. Одарил он вас превыше других.
Офицер поднялся во весь рост и прошелся взад и вперед. Была б его воля – взлетел бы!
– Нет, теперь я тебя здесь ни за что не оставлю, – объявил он вроде бы шутя, но непреклонная решимость проступала сквозь шутку.
Василиса покачала головой:
– Жить при вас велика мне честь! Другим женщинам сие предложите. Или на всю Тавриду ни одной такой не сыскать?
– Я не то имел в виду, – нахмурился от ее несговорчивости офицер. – Не при мне, а при армии нашей, среди своих, православных, а не одна, как перст на этой горе с магометанами по соседству.
– Я про тех магометан ни единого дурного слова сказать не могу! – взволнованно воскликнула Василиса. – А чего от своих ждать… – не договорив, она отвернулась.
– Так ведь ты под моим присмотром будешь, – настаивал офицер. – Никто тебя не тронет, уж за это ручаюсь!
Василиса молчала, размышляя. Желание вернуться в мир с его страстями и невзгодами налетело на нее, как ветер перед дождем, подхватило душу и закружило. Офицер наверняка почувствовал ее состояние, потому что тут же воодушевленно приказал:
– Собирайся, тут недалече!
Василиса посмотрела на клонящееся к закату солнце:
– Сегодня, небось, не дойду, лучше завтра с утра. Вы мне дорогу укажите, ваше благородие.
Офицер рассмеялся:
– Что это ты придумала – пешком ноги бить! На моего коня сядешь позади меня – вместе и доедем.
– И как же на меня люди после этого посмотрят? – задалась вопросом Василиса. – Скажут: «Привез наш генерал себе зазнобу – ночи коротать».
Она серьезно повысила офицера в чине, и он не стал обрушиваться на нее за все новое и новое сопротивление своим желаниям.
– Ладно, найду какой-нибудь способ с почетом тебя доставить, – сказал он. – Только не передумай, слышишь?
Василиса покачала головой, со счастливым страхом ощущая, как ветер, ворвавшийся в душу, играет ею в свое удовольствие.
И позже, с душевным смятением наблюдая, как все дальше и дальше от горы уносит офицера его буланый конь, чувствовала девушка: не вернется он – и пропала она с тоски. А вернется – тоже пропала. И как теперь дальше жить прикажете?
XVIII
«…В нем одном заключила я свою жизнь, за что, уж тогда сознавала, понесу расплату …»
Объявился офицер не на следующее утро, а лишь через день. И передать нельзя, как истомилась Василиса за этот срок; успела духом пасть и снова воскреснуть. Однако на сей раз, поднявшись в гору, застал ее офицер наряженной, с гладко причесанными волосами и туго заплетенными косами, перевязанными кружевом и переброшенными на грудь. И засмотрелся так, что даже поклониться забыл.
– Так вот ты какая на самом деле! – сказал он, не скрывая, что любуется ее видом.
Василиса опустила глаза.
– Жаль одежду сменить придется! – продолжал офицер. – Верхом поедешь, в сарафане сие затруднительно будет.
Он протянул ей сверток:
– Вот, позаимствовал мундир у барабанщика нашего полкового. Он парнишка щуплый, и ростом будет с тебя.
Через некоторое время Василиса появилась перед ним, конфузясь: неловко ей было в мужском платье. Офицер приветствовал ее улыбкой:
– А тебе к лицу – чисто мальчишка с косами! Может, отрезать их вовсе? Станешь парнем – и тревожиться не о чем.
– Как прикажете, ваше благородие, – с деланным смирением отвечала Василиса.
Тот расхохотался:
– Нет, не прикажу – ты мне женщиной нужна. И не смущайся: «Черна я, но прекрасна… Не смотрите на меня, что я смугла, ибо солнце опалило меня». Слыхала сие? Да, едва ли.
– Как не слыхать! – отвечала Василиса. – «Возлюбленный мой принадлежит мне, а я – ему, он пасет между лилиями».
Офицер удивленно приподнял брови:
– Ого! Откуда же ты знаешь «Песнь песней» Соломонову?
Василиса пожала плечами:
– Я из духовного сословия; странно мне было бы Священного Писания не знать.
– Что ж, батюшка у тебя иерей?
– Был иереем. Помер.
– А мать?
– Еще того раньше.
Офицер смотрел на нее со все возрастающим интересом, но вопросов более не задавал.
Они сошли вниз. Рядом с чудным, золотисто-буланым офицерским жеребцом была привязана невысокая, мышастой масти лошадка. Офицер подбросил девушку в седло, и Василиса впервые со смущением испытала прикосновение его рук. Затем он помог ей разобрать поводья, пропуская их между пальцами, показал, как следует держать ноги при езде, и при этом все время касался ее тела, вызывая в ней трепет.
– Ну, с Богом! – произнес он, наконец, готовясь тронуться в путь.
Василиса оглянулась на пещерку со щемящим чувством, будто бы прощалась с близким другом. Мысленно поблагодарила за приют, пообещала когда-нибудь навестить. Трепетала душа в преддверии разлуки, как свеча во время крестного хода на Пасху, да только душу не заслонишь ладонью от ветра. Веяло на девушку новой жизнью, а задует та или не задует огонек в сердце, одному Богу известно.
Лошадь офицера переступала на месте, чувствуя нетерпение всадника.
– Не горюй, пустынница! – ободряюще сказал он. – Эта гора с места не сойдет, так что вернуться всегда успеешь. Если захочешь, конечно, – добавил он лукаво.
Василиса подняла на него глаза и со смятением осознала, что никуда она от этого человека податься не сможет. И что связана она с ним гораздо сильнее, чем связал бы ее закон и обычай. «О, если бы ты был мне брат, сосавший груди матери моей, тогда я, встретив тебя на улице, целовала бы тебя, и меня не осуждали бы».
Слаженно ступая, их лошади перешли вброд реку, возле которой все это время жила Василиса, поднялись по каменистой тропке, обогнули выступающий склон горы, и, увидев то, что им открылось, Василиса ахнула от неожиданности, непроизвольно натянув поводья.
Справа от них вздымалась волнами беспредельная водная гладь. Доходила она до самого горизонта и, наверняка, переливалась через него. Угрожающе темные, и не синие даже, а едва ли не черные водяные валы в белоснежных коронах с ревом накидывались на прибрежные валуны. До сих пор знакомая лишь со смехотворным супротив увиденного волнением на реке, Василиса в страхе все тянула и тянула на себя поводья, а лошадь ее, приседая, пятилась назад.
– Ты что же, – удивился офицер, – столько у моря прожила, а моря и не видела?
Василиса покачала головой. Ахтиарская бухта извилиста; лишь одной своей оконечностью подбирается она к монастырю Святого Климента, где в нее впадает Черная река, но и там буйная растительность на берегах и изгибы самой бухты не дают возможности увидеть истинного лица моря. Все это время девушка считала, что там, куда спускается на закате солнце, всего лишь сильнее разливается река.
Офицер решительно взялся за повод ее лошади своей рукой.
– Да не бойся ты, дщерь Иерусалимская! В море не упадешь.
Василиса вскинула на него глаза: было у нее такое чувство, словно именно в объятия моря, прекрасные, но сокрушительные, и суждено ей попасть, реши она отправиться дальше. Хотелось что-то сказать, но слова не шли на язык.
Офицер тем временем тронулся вперед, и лошадь Василисы послушно зашагала вслед за его конем. Неловко с непривычки качаясь в седле, Василиса и не пыталась править: ее мышастой кобылке и так было известно, куда нести всадницу.
– Называть-то мне вас как, ваше благородие? – через какое-то время отважилась спросить она.
– Михайла Ларионович. А тебя как: Василиса Прекрасная или Премудрая? Или как старицу – матушка Василиса?
– Какая уж я теперь старица, – опустила девушка глаза, – просто Василиса.
– «Просто Василиса»? – с легкой улыбкой переспросил офицер. – А сама-то не проста! Ну да это и к лучшему – в том, что просто, интереса нет.
– Что ж во мне непростого? – с искренним удивлением осведомилась девушка.
– Что? – расхохотался офицер. – Да все от начала и до конца! Как загадку, тебя разгадывать изволь!
Василиса молчала, продолжая дивиться тому, что Михайла Ларионович нашел в ней загадочного. Разве ж есть в женщинах хоть какая-нибудь загадка? Или тянет их к любимому, или бросает прочь от нелюбимого, вот и вся их «таинственность»! Но оповещать об этом офицера она почему-то не захотела.
Ехали они теперь бок о бок. Набирало силу солнце, исступленно кидалось на камни море, впереди уже вырисовывалось селение Ахтиар, где стоял русский гарнизон. Василиса судорожно сжимала повод, мысленно внушая себе, что: «Ничего, ничего, все образуется!» – и знала наперед, что этого не будет.
«Он ввел меня в дом пира, – вились в голове дерзкие слова, – и знамя его надо мною – любовь».
* * *
И принадлежала России Таврида в ту пору, и не принадлежала.
Еще за два года до описываемых событий, в июне 1771 г. сорокавосьмитысячная русская армия под командованием князя Долгорукова совершила то, о чем будет тщетно мечтать Гитлер в июне 1941 г.: за две недели, устроив самый настоящий блицкриг, разгромила превосходившие турецко-татарские силы и заняла все ключевые крепости на Крымском полуострове. Столицу Бахчисарай – в центре и Арабат – на севере, Гезлев[5], Балаклаву и Ахтиар – на западе, Судак, Ялту, Кафу[6] – на юге, и, главное, порты Еникале и Керчь, преграждавшие доступ в Азовское море, – на востоке. Теряя Крым, само название которого означает «крепостной вал», Турция лишалась огромной зависимой территории (фактически провинции) и отличного плацдарма для набегов на южные области России, откуда и в XVIII веке вывозили чрезвычайно прибыльный товар – славянских рабов. Говоря современным языком, геополитическим интересам Оттоманской Порты был нанесен колоссальный ущерб.
1 ноября 1772 года, за два с небольшим месяца до того, как погиб отец Филарет и начались приключения Василисы, с новым крымским ханом, российским ставленником, Сахиб Гиреем, был подписан договор, по которому Крым объявлялся независимым ханством под покровительством России. В покоренных крымских городах оставили русские гарнизоны, однако, основная часть войск была выведена за пределы Тавриды на запад – к устью Днепра. Этим государыня Екатерина демонстрировала местному населению, что наступили мир и благоденствие под эгидой государства Российского.
Впрочем, демонстрация мира длилась ненадолго. Уже в марте 1773 г., когда Василиса находилась на пути в Тавриду, Екатерина с беспокойством писала князю Долгорукову, заклиная его: «…не допустите до отнятия у вас Крымского полуострова…» Князь снова ввел в Тавриду войска, но решающую роль в удержании Крыма сыграл флот. Эскадра адмирала Сенявина курсировала вдоль всего крымского побережья, препятствуя многочисленным попыткам турок высадить десант. В итоге Россия, хоть и отчаянно балансируя, но удерживалась в Тавриде. И к середине октября 1773 г, когда Василиса вслед за Михайлой Ларионовичем покинула монастырь святого Климента, наступило относительное затишье.
Итак, победа? Императрица предпочитала считать, что да. Но солдаты, оставшиеся охранять завоеванные рубежи, ежечасно чувствовали, что здешняя земля им так и не покорилась и ведет себя как девица, насильно выданная замуж, но покамест отлучающая супруга от положенных ему радостей. Чужие дали открываются взору, чужие смуглолицые люди с прямыми, как стрелы волосами и изогнутыми, точно натянутый лук, губами глядят исподлобья. Чужой воздух да чужая вода несут болезни, и, хоть не ведется уж в Тавриде военных действий, выходят солдаты один за другим из строя и попадают в лазарет, ослабевая могущество стоящей за ними державы.
А в лазарете один-единственный врач сбился с ног, пытаясь обиходить всех, кто нуждается в его помощи, но претерпевая в том неудачу за неудачей. Выделяемые ему в помощь по жребию солдаты кашеварят и выполняют всякие черные работы, но где бы взять постоянного помощника, чтобы передать ему часть своих знаний и тем облегчить себе труд? Медсестры в то время отсутствовали в армии как класс, и несчастному лекарю не приходилось даже мечтать о том, чтобы иметь под своим началом расторопную женщину, которая возьмет на себя часть его обязанностей с тем, чтобы вместе, слаженными усилиями выставили они смерть за дверь лазарета.
А Василиса тем паче представить себе не могла, чтобы судьба привела ее к раненым солдатам и оставила ухаживать за ними. Ехала она за Михайлой Ларионовичем, и мысли ее занимало лишь то, что отныне не будет она с ним разлучаться. Но в итоге девушка оказалась именно там, где должна была оказаться. В бегстве от мужа, при котором жила бы в достатке, но без любви; в изнурительной дороге, где жалела она и поддерживала Устинью; в полуголодной жизни на горе, где приходилось ей, забывая о своих лишениях, утешать других, нащупала девушка тот путь, что и был ей предначертан – путь служения людям. И сейчас, сама о том не подозревая, должна была наконец-то твердо встать на этот путь.
Часть вторая
XIX
«…Так офицер сей извлек меня из пещеры и ввел в новую жизнь, которой жила я впоследствии, ни на что не сетуя, но благодаря Бога за то, что именно таков был мой удел…»
Русский гарнизон в Ахтиаре представлял собой нечто вроде крошечного городка, человек на тысячу, состоящего из длинных срубов, поставленных в два ряда с «улицей» между ними. Светлое сосновое дерево еще не успело потемнеть от непогоды (всего одну зиму простояли казармы) и радовало глаз, располагаясь к тому же на живописном холме с чудесным видом на бухту. В некотором отдалении сгрудились и домики татарской деревушки, но одного взгляда со стороны достало бы, чтобы осознать: хозяева здесь именно русские. На верхней точке возвышенности был уже заложен особняк из сахарно-белого камня – по всему видать, для командующего.
Точно такие же гарнизоны были разбросаны по всей Таврической земле, но в основном, по побережью, куда в любое время мог неожиданно высадиться турецкий десант. В дополнение к тому крымские берега прикрывала пришедшая с Балтийского моря эскадра, отгоняя корабли Оттоманской Порты, все не желавшей смиряться с потерей своих северных земель. Русские суда частенько заходили на ремонт и для пополнения запасов в чрезвычайно удобную Ахтиарскую бухту и приносили с собой вести, послушать которые сбегался к гавани весь гарнизон.
Командовал русскими силами в Ахтиаре генерал-майор Кохиус. Еще совсем недавно его подразделение, в составе которого был и Михайла Ларионович, располагалось гораздо дальше к западу, и не в Тавриде вовсе, а близ устья Днепра, у Кинбурнского мыса. Но весною этого года был им получен приказ – привести подкрепление нашим войскам, стоящим над Ахтиарской бухтой, столь удобной для высадки десанта, и принять на себя командование. Посему генерал-майор со своими людьми покинул райское раздолье Кинбурнской косы ради выжженной травы, белых скал и черных кипарисов западного Крыма.
Здесь несравненно больше, чем в Кинбурне, чувствовалась опасность внезапного вторжения, и Кохиус непрестанно внушал своим офицерам, что солдат на каждом учении должен ощущать себя, как в бою и выполнять поставленную задачу со всей серьезностью. Но добиться этого было непросто: прежде всего, сильно осложняла дело жара, сокращавшая время учений до нескольких часов ранним утром и вечером. Да помимо того, большинство офицеров относились к своим обязанностям без должного усердия, что, несомненно, чувствовали и их подчиненные. Как на служивого не кричи, как не мордуй его, но если нет в командире огня, то и из солдата искры не высечь.
Одним из немногих своих субальтернов, при мысли о ком Кохиус испытывал не усталое раздражение, а радостное спокойствие, был подполковник Голенищев-Кутузов. Сей офицер ярко выделялся среди прочих редким сочетанием острого ума и служебного рвения, к чему счастливо присовокуплялось непревзойденное умение обходиться с людьми. Не было в его батальоне ни батогов, ни мордобоя, а солдаты глядели на удивление живо и смело для подневольных людей, но на учениях не было им равных. «Веселость солдата ручается за его храбрость», – философски замечал их командир, умея передать нижним чинам свой пыл и задор, и обратить ежедневную муштру в подобие игры. Тем самым добивался он гораздо большего, чем иной добивается неуемной строгостью и взысканиями. Посему Кутузов пользовался особой благосклонностью Кохиуса, к которой примешивалась, пожалуй, и белая зависть. Есть ведь люди, один вид которых заставляет других повиноваться и вдохновляет их на свершения! Есть люди с пламенем в душе, а не с тяжелыми кирпичами долга… Задумываясь об этом, Кохиус всегда вздыхал и спешил прервать свои мысли.
Кутузов, как человек проницательный, не мог не чувствовать такое восхищенно-уважительное отношение к себе, но не спешил извлекать из него пользу, приберегая для серьезного случая. Наконец, случай явился, и за два дня до появления Василисы в лагере Михайла Ларионович направился к Кохиусу с просьбой, твердо веря, что ее удовлетворят, потому что любимцам, никогда и ни о чем ранее не просившим, отказывать не принято.
– Ваше превосходительство! – начал он после приветствия, всем своим видом демонстрируя, что озабочен и никак не справится с неурядицей без мудрого наставления своего командира. – Был я давеча в лазарете, навещал того канонира, что спал в тени повозки со снарядами, а та на него и стронулась; так Яков Лукич сетует, что одному ему за всеми больными ходить невмоготу.
Яков Лукич был гарнизонным врачом и, на взгляд Кохиуса, человеком не слишком искусным в своем ремесле.
– Ну, больных сегодня больше, а завтра меньше – вот ему и роздых будет.
– Так-то оно так, только Яков Лукич говорит, что, случись завтра бой, пропадет он один без помощника.
Кохиус пожал плечами:
– Случись бой – отрядим ему пару солдат в помощь.
– Тут заранее обученные люди нужны, – вкрадчиво возразил подполковник.
– Кхм! – Кохиус задумался. – Ну и что же он предлагает? Загодя выделять ему солдат для обучения? Это сколько же они бездельничать будут, пока бой не грянет! Не уж, пусть сам справляется, как знает.
– Для такого дела, я слышал, в некоторых полках баб нанимают, – осторожно заметил Кутузов.
– Баб? Да где их тут найдешь? Не татарок же брать!
– Здесь черница подошла бы, – вслух рассуждал Кутузов.
– Черница?! Вот скажете тоже! Да ближайший монастырь – за несколько сотен верст, если не далее. Да найдется ли еще игуменья, чтоб на такое благословила?
– Тут в горах к западу скит заброшенный, – деловитым тоном сообщил офицер, – так там одна отшельница живет.
В глазах у Кохиуса зажегся интерес:
– Это не та ли, к которой наши полковые дамы зачастили?
– Она самая.
– Я смотрю, господин подполковник, и вы к ней наведались?
Кутузов с виноватой улыбкой развел руками:
– Не утерпел – любопытно стало.
– И что же она (Кохиус совершил некое загадочное движение руками, точно обводя ими женскую фигуру) из себя представляет?
– Женщина она тихая, смирная, – поспешил успокоить его Кутузов, – очень богобоязненная: глаза все время долу, молитвы шепчет беспрестанно, лица и не разберешь. К тому же черная очень – солнце ее начисто сожгло. Одета в лохмотья, от любого удобства намеренно отрешилась. Полагаю, вдова, обеты с горя приняла.
– Кхм! – повторил Кохиус и задумчиво свел брови. – А она-то согласна в миру жить?
– Думаю уговорить, – уже уверенно отвечал подполковник. – Она уж поняла, что зиму ей одной не одолеть.
Кохиус, нахмурившись, постучал пальцами по столу:
– Не было б у нас из-за нее беспорядков… Солдату, сами знаете, – черница, не черница…
– О сем не извольте беспокоиться! – проникновенно заверил его Кутузов. – Уж в этом деле я порядок обеспечу.
Кохиус еще немного в размышлениях постучал пальцами по столу:
– Ну, глядите, под вашу ответственность! Да, господин подполковник, а она и вправду… как бы это… ясновидящая?
Кутузов придал своему лицу неподражаемое выражение, в котором почтение к командиру переплеталось с беззлобной насмешкой над мнением офицерских жен:
– Ваше превосходительство! Если наши полковые дамы кого ясновидящим сочтут, то ему таковым непременно стать придется!
Кохиус рассмеялся и махнул рукой:
– Ладно, везите свою отшельницу! Посмотрим, будет ли от нее толк.
Кутузов отдал ему честь и вышел. И лишь плотно затворив дверь татарского домика, где размещался генерал-майор, позволил себе беззвучно расхохотаться. Затем он направился на свою квартиру, где был встречен денщиком.
– Слушай, Степан, – сказал подполковник, проходя в комнату и усаживаясь на стул, в то время как солдат почтительно застыл перед ним, ожидая указаний, – ты малый ловкий – хочу тебе одно дело деликатное доверить, надеюсь, не подведешь.
– Чего изволите, ваше высокоблагородие? – с готовностью спросил солдат.
Кутузов глядел на денщика так необычно, как если бы и хотел говорить начистоту, и сдерживался, не делая этого.
– Тут на днях в лазарете женщина появится, – начал он, – Якову Лукичу в помощь. Черница она, так что всякие там шашни, да амуры с ней невозможны, понятно?
– Как не понять!
– Ты-то сие понимаешь, да, боюсь, не все такие понятливые, как ты. Подумают еще: молодая девка, что не позаигрывать! А она – вдова, между прочим, и сердце у нее разбито.
Кутузов со значением посмотрел на солдата, и тот вытянулся в струнку:
– Все уяснил, ваше высокоблагородие: черница, сердце разбито.
– Вот-вот. Так что твоей задачей будет за ней присматривать на предмет того, не досаждает ли ей кто-нибудь. А лучше всего загодя, аккуратненько так, разъясни нашим молодцам, что не про их она честь.
– Будет исполнено, ваше высокоблагородие! Знамо дело, не про их честь – Христова невеста.
– Именно так. А буде запамятует кто, чья она невеста, дай мне знать о том немедленно. Сам не встревай, все вмешательство мне оставь.
– Так точно, ваше высокоблагородие!
Пристально глядя в глаза солдату, в которых помимо воли подрагивало веселье, Кутузов поманил его к себе и вложил в руку Степана империал[7]. Денщик ошеломленно отшатнулся:
– Ваше высокоблагородие!..
Кутузов махнул рукой:
– Ступай, ступай, дело того стоит. И помни: я на тебя полагаюсь!
Оставшись один, Кутузов быстро поднялся и вышел из дома. Возбуждение переполняло его, и не было мочи оставаться без движения. Дойдя до берега моря, он двинулся вдоль края невысокого обрыва и, быстро шагая, не сразу осознал, что движется к монастырю святого Климента. Тогда, опомнившись, он замер на месте, а некоторое время спустя заставил себя повернуть назад.
На следующий день он привез Василису в лагерь.
– Ты побудь пока здесь, – велел он девушке, помогая ей сползти с седла. Ноги у той, привыкшие за время пути обнимать конские бока, никак не хотели стоять ровно – по-прежнему растопыривались – и, дабы не смешить солдат своим видом, Василиса поспешно присела возле одного из сосновых срубов. Михайла Ларионович куда-то ушел – видимо, распорядиться о ее устройстве на новом месте – и девушке было неуютно и одиноко.
Так сидела она в полном неведении относительно собственной судьбы, взволнованно оглядываясь вокруг и примечая, как устроена эта незнакомая ей доселе жизнь, как вдруг из барака, в тени которого она коротала время, послышался стон.
От неожиданности и страха Василиса едва не вскочила на ноги. Замерла с колотящимся сердцем, прислушиваясь, и стон вскоре повторился. Затем – еще и еще один, и бормотание какое-то: то горькие сетования, то проклятия, то вопросы, не имеющие ответов: «И доколе же мне мучиться, Господи?!» Но никто не утешал неведомого страдальца, никому до него не было дела; тишина бездушная стояла в ответ на все его призывы.
И, сама не веря в то, что может совершить нечто столь дерзновенное, Василиса поднялась и тихонько толкнула рукой дверь. После слепящего полуденного солнца сперва не удалось ей разглядеть ничего внутри, так что пришлось притворить за собой дверь и войти.
Запах! Это было первое, что она почувствовала. Отталкивающий, тошнотворный запах. Впору выскочить, но, смиряя себя, девушка стояла, приглядываясь. Наконец различила длинное помещение, плотно заставленное деревянными топчанами и людей на них. Один из них и стонал, прочие лежали молча, не то полностью лишенные сил, не то сдерживаясь.
Василиса приблизилась, присела на сенной матрас рядом со стонущим и взяла его за руку, горячую, как натопленная печь. Тихой скороговоркой стала увещевать его не падать духом, убеждала в том, что смерть он превозможет («Вон как ты телом силен!»), и гладила по руке, и отирала пот со лба, и уж прикидывала, как бы ей до воды добраться, чтобы обмыть солдату темное от муки и жары лицо. Служивый тем временем умолк и смотрел на девушку таким пораженным взглядом, как если бы никто и никогда ему до сих пор слова во утешение не молвил. Краем глаза видела Василиса, что и прочие больные смотрят на нее, как на чудо, и стало ей от того неловко.
Мало-помалу тот, кого она утешала, стонать перестал, лицо его не комкала больше боль, разгладились черты, просветлели даже. Подержав его еще за руку для верности и подождав, пока заснет, Василиса поднялась и оказалась лицом к лицу с сутулым, усталым человеком, одетым в военную форму и передник поверх нее, по всей видимости, врачом.
– Ты кто такая? – спросил он, удивленно хмурясь.
Краснея и путаясь, Василиса начала объяснять, но врач не дослушав, махнул рукой.
– А сюда тебя кто отрядил?
– Михайла Ларионович, – неожиданно твердо и уверенно сказала Василиса, – офицер ваш тутошний.
Врач усмехнулся, впрочем, вполне доброжелательно:
– Что ж, лишние руки никогда не помешают. Только гляди: здесь мужское естество частенько на виду, а ты девица.
Обрадованная тем, что ее не гонят, а разрешают быть при деле, Василиса поспешила развеять его сомнения:
– Да я уж замужем была, мне не привыкать.
Пока у них шел такой разговор, дверь вновь отворилась, и в лазарет вошли Кутузов и Кохиус.
– Вот и та самая черница, ваше превосходительство, – представил ее Михайла Ларионович.
Комендант гарнизона оглядел девушку с изумлением и без малейшей радости:
– Молода-то как! – вырвалось у него.
– Да она на этой работе быстро состарится, – поспешил успокоить его Кутузов.
Кохиус продолжал рассматривать Василису, и она в смятении опустила глаза.
– Ну, смотрите мне! – непонятно к кому обращаясь, произнес генерал-майор и быстрым шагом покинул лазарет. Кутузов поспешил вслед за ним.
А Василиса осталась. В лазарете же и поселилась: куском парусины отгородила себе уголок с топчаном и сложила туда свои нехитрые пожитки. Вновь переоделась в сарафан (смех какой нарядный для работы с кровью и гноем!) и стала правой рукой полковому лекарю, Якову Лукичу.
Солдаты отнеслись к ее появлению с изрядным любопытством, но ни на какие вольности и грубость в обращении Василиса пожаловаться не могла. Уважение к ней проявляли, если не сказать почтение, особливо же те, кого она в лазарете выхаживала. Но, что удивительно, при всем добром отношении никто из солдат знаки внимания ей оказать не пытался. Словно незримый круг был очерчен вокруг девушки, и не находилось охотников нарушать его границы. Василиса догадывалась, что причиной тому – Михайла Ларионович, и с трепетом ожидала: что же дальше?
Но, покамест, дни без отличий между собой ложились один к другому, точно бусины в ожерелье. Осваивалась девушка на новом месте, привыкала к своему служению. Перезнакомилась вскоре едва ли не со всем гарнизоном, и на душе теплело от того, как приглашали ее солдаты отужинать со своей артелью[8] (смеясь над тем, что ест она, как птичка) или специально для нее барабанщик отстукивал марш, под который когда-нибудь их полку предстоит выступать. Если была у нее в чем-либо нужда, делились служивые, чем могли из нищенского своего имущества. И до того теплые, но невинные отношения сложились у девушки со всеми, что называть ее вскоре стали «сестрица».
Одно лишь удручало Василису: словно бы забыл про нее Михайла Ларионович. Всего лишь раз наведался, проинспектировал, хорошо ли она устроена и, кивнув, отправился по своим делам. И неделя, и другая, а видятся они лишь мельком, да случайно. Что тому причиной? И, сворачиваясь под вечер на своем сенном матрасе, воскрешала девушка в памяти тот миг, когда впервые увидела офицера на фоне синевы и зелени, и мысленно протягивала к нему руки.
«Скажи мне ты, которого любит душа моя: где пасешь ты? где отдыхаешь в полдень? К чему мне быть скиталицей возле стад товарищей твоих?»
XX
«…А коли не сподоблюсь я в жизни иной изведать райского блаженства, то по крайности буду памятовать о том, что, купаясь в морских волнах, его подобие испытала…»
А море все это время плескалось так близко, что однажды Василиса не утерпела – решила искупаться. На земле уж воцарялась прохлада, но волны еще дышали теплом и манили ее к себе несказанно. Ежечасно наблюдала она, как солдаты, едва получив на то дозволение, плещутся в воде, и не смогла обороть искушения. Изучив за это время бухту, нашла себе укромный уголок, где вряд ли могла бы быть кем-то замечена, скинула одежду и, неловко пройдя по каменистому дну, погрузилась в море.
Ни с чем не сравнимое наслаждение! И волны, хоть и высоки, не пугают, а радуют. А заплывешь подалее, они и вовсе не кажутся уж грозными, качают тебя вверх и вниз – вот забава! А, качая, обнимают, и ласкают, и преисполняешься в их объятиях ощущением своей силы. Хоть и шалит с тобой море, а утонуть не дает! Словно птицей становишься в этой причудливо соленой воде, и руками орудуешь, точно крыльями: то бьешь ими, взлетая на гребень волны, то притормаживаешь, откидываясь назад, а то и вовсе паришь без движения, как чайка над твоей головой, доверившись опасной, но ласковой стихии.
После купания, греясь, как ящерка на камне, Василиса впервые с того момента, как покинула монастырь, всерьез предалась раздумьям. А подумать ей было ох как много о чем! И перво-наперво о Михайле Ларионовиче. Нешто позабыл ее совсем, да так скоро? А ведь душой он к ней тянулся – какая женщина сего не ощутит! А тут канул, как вода в песок. И упрекнуть его не в чем: к людям привел, как обещал, всем, что для жизни надобно, обеспечил… А что ей за жизнь без него самого, небось, и не подумал!
Тут затесалась промеж прочих мыслей одна, как незваный гость. Пусть и назвалась она в лагере вдовой, а на деле-то брачных уз не снимал с нее никто, да и не снимет. И захоти она сызнова судьбу свою устроить, век таиться обречена: с многоженцами разговор короткий – развод и позор[9]. Правда, найти ее здесь, в Тавриде, ох как мудрено, да и захочет ли Артемий Демидович искать-то? Скорее, выждет срок, после которого сочтут его жену без вести пропавшей, и женится вновь. Но в батюшкином храме ему уж, конечно, не служить, как и в любом другом: женатого вторым браком в священники не благословят.
Накатывали мысли и накатывали, как волны на берег. Иметь ли ей все же надежду соединиться с Михайлой Ларионовичем, или запретить себе и думать о нем? Кто она теперь, чтобы задумываться о таком блестящем офицере? Навек лишенная места в обществе, дарованного ей ее сословием, стала поповна не пойми кем. Не крестьянка, не мещанка, не купеческая дочь, не дворянка, да и к духовенству не смеет она более себя причислять – для всей прошлой жизни пропала без вести. Кто не погнушается девицу без рода и племени в жены взять? Разве что солдат. А она о ком размечталась, дура?
Поднялась Василиса и с грустью поглядела на волны. На недолгое время поделились они с нею своей силой, воспарить позволили, а, вышла на берег – вновь бесправна да беззащитна. Добры к ней солдаты в гарнизоне, это так, но, случись что неровен час – в ком поддержку найдет? Женщине должно быть либо при отце, либо при муже, либо при Господе Боге, в монастыре. Это к мужчинам уважение питают за их чины, да мундиры, да ордена, а женщина, сколь она важного и полезного не делай, лишь за мужчину своего уважаема и будет. Если ж нет у тебя покровителя, кто ты в глазах людей? Что пожелают, то над тобой и учинят.
Побрела Василиса обратно, да вспомнила дорогой, что нынче с утра съехались татары из окрестных деревень и устроили близ русского лагеря нечто вроде ярмарки. И фруктов навезли, свежих и сушеных, и баранины, и тканей, и выделанных овечьих шкур. Выставили лакомства свои басурманские из пропитанного медом тонкого теста с орехами… Вздохнула девушка: ни полушки не было у нее, чтобы побаловать себя покупкой. Но затем решила: поглазеть-то ей не возбраняется! И отправилась на ярмарку.
Меж торговцами-магометанами с выложенным перед ними товаром бродили и солдаты, и офицеры, и несколько офицерских жен, знакомых Василисе еще с монастырских времен. Прошлась девушка взад и вперед, раскланялась со своими знакомыми, и, смущаясь, приняла подарок от одного из солдат, что лежал недавно в лазарете – пригоршню вяленых груш.
Уж собралась уходить, как засмотрелась на шелковую ткань, разложенную меж прочими товарами. Лазоревая, как небо, с золотым, как солнце узором, не давала она глаз от себя отвести. Как голодный к куску хлеба, потянулась к ней Василиса, приложила к лицу, а улыбчивый торговец в тюбетейке достал зеркальце.
Девушка смотрела на себя, не моргая. И это она? Как посмуглела кожа – чистый орех! А волосы-то стали светлее лица! Жаль брови да ресницы начисто выгорели на солнце. Но глаза как будто по-новому раскрылись на мир: нет в них более былой доверчивости, зато явственно видны преждевременная мудрость и горький опыт.
Но такой вот, изменившейся, нравилась себе девушка больше, чем прежде. Правда, лицо у нее похудело, что не диво, но линии щек и подбородка по-прежнему нежны. Лоб, как обкатанный морем камень, гладок и чист; не высок и не низок, обрамлен чуть вьющимися от влажного морского воздуха прядями. Тонок и прям, как у святых на образах, нос, а вот губы ничуть не святы – полны и мягки. Надо всем этим – как два светила – широко распахнутые глаза. И лазорево-золотая ткань идет ей бесподобно, так оттеняя свежесть загорелой кожи и придавая голубизны глазам.
Василиса тяжело вздохнула, опуская шелк. Вот и все: полюбовалась – изволь вернуть! Но у торговца в руках вдруг откуда ни возьмись появились деньги, и знаками он принялся объяснять ей, что возвращать узорный шелк не нужно, указывая на что-то за ее спиной. В замешательстве Василиса обернулась и залилась краской.
– Это как же, Михайла Ларионович… мне подарок от вас получается?
– Ну, подарок, не подарок, – наслаждаясь произведенным впечатлением, произнес офицер, – а тебя с этой тканью разлучать нельзя – уж больно вы друг другу подходите.
– Что же люди подумают? – прошептала Василиса, уже ловя на себе любопытные взгляды.
– Да ничего они не подумают! – Михайла Ларионович преспокойно взял у девушки из рук нежно шуршащую ткань и по-хозяйски развернул ее, придирчиво разглядывая. – Сестрице хочу отослать, – произнес он довольно громко, – на машкерадный костюм.
– А ты заберешь ее ввечеру, – добавил он уже вполголоса, намеренно не глядя на нее. – Знаешь, у какого татарина я квартирую?
Василиса кивнула. Сердце билось, как рыба на крючке.
– Вот и приходи, когда солнце в море сползать начнет.
Михайла Ларионович пошел прочь, так и не обернувшись, а по дороге обмолвился с кем-то парой слов о том, что родные давно от него гостинцев не получали. Но теперь сестрица должна быть не в обиде.
Краем глаза Василиса приметила, что торговец-татарин беззвучно смеется. Сама же она была в таком смятении, что даже вдоха глубокого, чтоб успокоиться, сделать не могла. И идти ей одной к мужчине нельзя, и не пойти к своему покровителю невозможно. Вот и стой теперь столбом по его милости!
– Карош! – на ломаном русском пробормотал татарин. – Карош! – и вновь согнулся от смеха.
XXI
«…И мнилось мне в его объятиях, что я – неопалимая купина: и пылаю, как факел, и при сем остаюсь живою …»
Южная ночь, в отличие от долгих светлых сумерек средней полосы, наступает стремительно; и Василиса, смущалась не только того, что навещает Михайлу Ларионовича, но и того, в какой темноте это делает. С замиранием сердца постучалась в его окно, но хозяин встретил ее столь приветливо, что тем самым внушил спокойствие. Жили офицеры, в отличие от солдат, в татарских домах, платя их хозяевам за постой: так и хозяйство их прислуге легче вести, и уюту больше.
Войдя, подивилась она тому, насколько несхожа внутренность татарского дома с тем, что привыкла она видеть в родной деревне: ни стола, ни скамей, взамен кровати – низкий топчан, зато кругом ковры. В середине комнаты на оловянном подносе – темные гроздья винограда, персики, груши, рядом – металлический кувшин с изящным, узким горлышком. Окружено сие место для трапезы было расшитыми подушками. На одну из них, волнуясь, и присела девушка.
Михайла Ларионович расположился напротив нее полулежа, опираясь на локоть. Вид у него был самый домашний: без мундира, шляпы, башмаков – лишь панталоны с чулками и нижняя рубашка, приоткрывавшая грудь. Казался он так и моложе, и привлекательней, хотя возможно ли было быть привлекательнее его?
– Не побрезгуй угощением, Васюша! – сказал он, пододвигая к ней поднос и впервые называя по имени. – Вина вот отведай!
Он плеснул ей вина в широкую чашку без ручки, сужавшуюся книзу. Чашку украшал затейливый рисунок.
– Это пиала басурманская, – пояснил Михайла Ларионович. – А держат ее вот так.
Он придал своим пальцам и ладони некое подобие чаши, и водрузил на них пиалу. Василиса тихо любовалась той ловкостью, с которой удавалось ему каждое движение. Слово «лицедей» снова всплыло в ее памяти.
– Ну, рассказывай о своем житье-бытье! – велел офицер.
Василиса принялась говорить о том, что все у нее хорошо, все к ней добры, а Яков Лукич взялся обучать ее делать перевязки. Михайла Ларионович слушал внимательно и время от времени кивал.
– Я гляжу, обжилась ты здесь, – подвел он итог. – И домой, видать, не тянет.
– Чему ж тянуть-то? – пожала плечами девушка. – Места здесь райские, люди славные.
– Неужто дома у тебя ни одной сердечной привязанности не осталось? – поднял брови Михайла Ларионович.
– Батюшку с матушкой из могилы не подымешь, – отвечала Василиса, – а кроме них никого.
– Вот как? – протянул офицер. – Ни по кому, значит, не сохнешь?
Василиса покачала головой.
– Тогда давай выпьем за то, что нашла ты здесь себе новый дом.
Пригубив вино (хоть и чуточку, а все равно было сие ощутимо), Василиса почувствовала, что в душу ей плеснули весельем. Захотелось смеяться, не пойми от чего, болтать без умолку… До сих пор вино она пробовала лишь во время причащения, и то ударяло оно ей голову, а тут впервые сделала глоток.
Михайла Ларионович наблюдал за ней с удовольствием.
– А выпивать тебе почаще нужно, матушка! Вон как глаза заблестели! А то все скромница скромницей.
– Разве ж это плохо? – смутилась Василиса.
– Смотря для кого. Барышням скромность пристала, а у нас тут житье простое, лучше уж повеселиться лишний раз, тем более что смерть рядом ходит.
Василиса отвела взгляд и отщипнула от грозди несколько ягод винограда, упругого и сочного до хруста. Михайла Ларионович тем временем растянулся еще привольнее, чем прежде, придвинувшись при этом к своей гостье.
– Я с тех пор, как мы встретились, все гадаю: и как ты добралась досюда? – полным глубочайшего интереса голосом осведомился он.
Василиса, почти ничего не скрывая, объяснила, что присоединилась она к солдаткам, отправленным сюда на поселение.
– Что ж тебя погнало в этакую даль?
– Да, как муж помер, все немило стало, вот я и решила податься, куда глаза глядят.
Как и всегда при попытке солгать, бросило ее при этом в жар, но офицер, казалось, принял все за чистую монету.
– Что ж, – сказал он, поднимая пиалу с вином, – царствие небесное твоему мужу!
Василиса ощутила, как горячо плеснул к ее щекам румянец. И пиалу опорожнила до дна, стремясь унять волнение.
Михайла Ларионович надкусил персик, пристально глядя на девушку.
– Вот ведь фрукт, – сказал он, – чуть надавишь посильнее, как с дерева снимать, гнилью пойдет. Обращаться с ним приходится деликатнейшим образом, прямо как с вашим женским полом! – он засмеялся.
Василиса не смогла побороть любопытства:
– Вы, небось, давно женаты, раз так хорошо все про женщин знаете.
Офицер слегка улыбнулся этой наивной хитрости:
– Не женат я. И не был.
– Что ж так? – втихую обрадовалась, но и удивилась девушка. – У нас в деревне женятся смолоду. Батюшка, бывало, и в тринадцать, и в четырнадцать лет парней венчал, буде им невесты находились.
Теперь удивился офицер:
– Зачем же так рано?
– Да ведь у крестьян знаете как, – принялась объяснять Василиса, – ежели в одной семье семеро по лавкам – не прокормишься, а в другой детей раз два и обчелся – работников мало, то девку из большой семьи сбыть поскорее рады. А другая семья лишние руки получит. Только как девку в дом отдать без венца? Вот и венчают. Пусть она и постарше парня будет, но подрастет же он рано или поздно.
Михайла Ларионович покачал головой:
– Как же так: разве девушка – всего лишь рабочие руки?
– Ну а кто же она еще? – простодушно удивилась Василиса. – Свекровь ее на смотринах еще и проверит на излошадность – заставит пол мести, либо чугуны из печи таскать – смотрит, чтоб работать была лютая.
– Ишь ты! – подивился Михайла Ларионович. – Как скотину выбирают. А ведь женщина для наслаждения создана, – он прикоснулся губами к запястью Василисы.
Девушка вздрогнула и замерла, но руку не отняла.
– Так я говорю? – настаивал офицер.
– Это для мужчины в браке наслаждение! – горя от стыда, прошептала Василиса.
– И для женщины не меньше, – уверял Михайла Ларионович.
Девушка молча покачала головой.
– Ты замуж, небось, не по своей воле шла, – вкрадчиво предположил офицер, – вот наслажденья и не испытала, а когда по сердечному согласию, тут совсем другое дело.
Он придвинулся к ней вплотную и сел так, что их плечи соприкасались.
– Я тебе только добра желаю, – услыхала Василиса, не решавшаяся повернуть к нему лицо, – хоть волосы твои потрогать можно?
Не поднимая глаз, девушка кивнула. Михайла Ларионович расплел ей косу и сперва гладил распущенные пряди, а затем зарылся пальцами глубоко в гущу волос, то и дело касаясь кожи на затылке. Ощущенья от этого были столь удивительны, что Василиса сама не поняла, как ее голова подалась вслед за его пальцами, склонилась и соприкоснулась с головой Михайлы Ларионовича, подставляя виски поцелуям.
Теперь он обнимал ее за плечи одной рукой, да без лишней деликатности, властно и крепко, а другой притягивал девичье тело к себе. Когда сквозь ткань их одежды она ощутила грудью напряженные мускулы его груди, то в лоне ее, до сих пор холодном, как земля, что-то словно пустило росток. И столь стремительно тянулся он вверх, взвиваясь к животу, столь глубоко укоренялся, обхватывая корнями самый низ ее лона, что Василисе стало страшно самой себя.
Офицер тем временем целовал ее, уж не стесняясь и не сдерживаясь; запрокидывал ей голову, обхватывал руками лицо, и так жадно раздвигал ей губы, словно бы вознамерился выпить всю ее душу. А девушке было и страшно до ужаса, и радостно до восторга, будто бы летела она на санях с высокой горы вся в снежных вихрях. Прерывалось дыхание, неразборчивы становились слова, что выговаривал еще время от времени Михайла Ларионович, и сами собой закрывались глаза, целиком отдавая тело во власть ощущений.
Она опомнилась, когда уже лежала на ковре, и щеки ее касались гроздья винограда. Словно пробуждаясь от сна, затрясла головой, попыталась отстранить обнимавшего ее мужчину, но не смогла.
– Полно! – задыхаясь, проговорила она. – Пустите меня, Михайла Ларионович – забылись мы с вами.
– Разве ж над нами надзирает кто? – сладким шепотом возразил ей офицер, не размыкая объятий.
– Надзирает, не надзирает, а негоже сие!
– Кому негоже-то? – голос его обволакивал ее сознание, точно мед. – Нам с тобой в самый раз!
– Не могу я так.
– А чего тебе бояться? Ты же не девица.
«А ведь и верно! – запел какой-то предательский голос в ее мыслях. – Ежели б невинность твою пытались растлить, был бы толк сопротивляться, а так что? С постылым ночи проводила, а с милым не желаешь?»
Но Василиса заглушила в себе этот голос.
– Не венчаны мы с вами, – напомнила она.
– Ну, это поправимо, – заверил офицер, скорее изумленный ее сопротивлением, чем раздосадованный. – Обвенчаться всегда можно. Только нынешнюю ночь зачем терять? Ты погляди, благодать-то какая!
Тьма тем временем уже полностью завладела землей, луна же еще не взошла, и лишь мерцание татарского светильника позволяло им различать лица друг друга. Ветерок, задувавший в окно, был свеж и нежно-сладковат, тени на стенах волшебны, а соприкасавшееся с нею тело столь желанно. Василиса чуть не застонала, пытаясь пересилить себя.
– Вы мною натешитесь, а потом и как звать забудете. А я хочу, чтобы все по чести!
– Будет тебе честь, не сомневайся! – шептал ей Михайла Ларионович, и чудные оленьи глаза его были удивительно правдивы. – Как тебе чести не оказать, если ты у нас такая праведница!
– Так значит… – надежда взмыла у девушки в душе, – значит, мы с вами…
От счастья она боялась договорить.
– Нам с тобой разлучаться не след! – подтвердил офицер, вновь принуждая приподнявшуюся Василису прилечь рядом с собой.
Всепоглощающая радость затуманила девушке голову. Не хотелось ей более держать себя в руках. Пусть волосы разметаются по ковру, как давеча стлались они по воде; пусть ее тело, сливаясь с мужским, вновь испытает ласково-грозные объятия стихии; пусть возлюбленный наполнит ее счастливой силой, как наполняло некогда море. К чему ей мысли, когда она блаженно содрогается от поцелуев? Как оставаться непреклонной, когда его губы нежат кожу ее груди, коей никто до сих пор не касался? Что ей честь и гордость, когда счастье – вот оно, стоит лишь обвить его шею руками!
Вдруг что-то словно бы толкнуло ее изнутри, прерывая блаженство.
– Мне идти пора, Михайла Ларионович, – твердо сказала она, – а радости нам предстоят, как мужем и женой станем.
На сей раз офицер почувствовал ее решимость и, хоть и помрачнел, отпустил без уговоров.
– Не пожалеешь ли? – только и спросил он ее на пороге.
– О чем же? – изумилась Василиса. – О том, что нам с вами соединиться предстоит?
Михайла Ларионович промолчал и отвел взгляд. А Василиса всю дорогу до лазарета промчалась в вихре ликования. Неужто улыбнулась ей судьба после всех мытарств? Да возможно ли, чтоб выпало ей такое счастье? И какими же словами ей Бога благодарить, если соединит он ее с Михайлой Ларионовичем? Слов таких, верно, еще не придумано.
* * *
А могла ли Василиса вообще рассчитывать на то, чтобы соединиться со своим избранником? Вопрос этот интересен тем, что на него не существует единственно возможного ответа.
С одной стороны, формально девушка была замужем. Однако скрыть этот факт было проще простого: человек XVIII века не имел стандартного удостоверения личности. Жалованные грамоты дворян подтверждали их право на землю, те же грамоты для духовенства и купцов – право служить и торговать, но не более того. Паспорт можно было получить для поездок за границу или (касалось это исключительно крестьян) для того чтобы с разрешения помещика заняться так называемым отхожим промыслом – работой за пределами поместья. Однако в этих смешных на современный взгляд, от руки выписанных и не унифицированных документах не говорилось ни слова о семейном положении их обладателей. Сведения о заключенных браках вписывались в метрические книги церквей, но женатый человек, оказавшийся вдали от родных мест, где его никто не знал, с легкостью мог стать в глазах окружающих вдовцом или холостым. Пожелай он сызнова вступить в брак, его могла бы удержать разве что собственная совесть. Нет, конечно, перед венчанием священник или дьяк устраивали жениху и невесте так называемый «обыск», иными словами, опрос (под результатами которого подписывались как сами жених с невестой, так и их поручители) с целью выяснить, нет ли канонических[10] препятствий, мешающих заключению брака. Однако никто не мешал при этом обыске солгать, поскольку заявленные сведения никак нельзя было подтвердить документально. И здесь возможность вторично выйти замуж зависела целиком от самой Василисы.
Ведь помимо факта ее замужества, других препятствий к браку между ней и Михайлой Ларионовичем не существовало. Они не приходились друг другу двоюродными братом и сестрой, не являлись крестными родителями одного и того же ребенка, а сестра Василисы не была замужем за братом Михайлы Ларионовича (наиболее абсурдное, на современный взгляд, препятствие, однако же имевшее место: если две семьи уже породнились друг с другом через детей, то другие дети из тех же семей не могли вступать друг с другом в брак). Соответственно, ничто не мешало подполковнику сделать Василисе предложение.
Если бы не одно «но»: насколько допустим с точки зрения семьи и того круга, где вращался Михайла Ларионович, был брак с такой девушкой, как Василиса? Ответ печален и краток: ни насколько. Уж если препятствием к браку дворянина с дворянкой могла стать скудность приданого у девицы или недостаточная ее родовитость, то возможность союза с девушкой неблагородного происхождения не рассматривалась в принципе. Сходились-то не только жених и невеста, сходились два рода: отцы и матери, бабушки и дедушки, да бесчисленные тетки, дядья, двоюродные и троюродные братья и сестры. Попробуй замарай весь длинный шлейф твоей родни позором мезальянса!
Конечно, правила и существуют для того, чтобы время от времени их дерзко нарушали, но отсутствие родительского благословения на брак не влекло за собой ничего хорошего. Конечно, венчали и без него (были б деньги!), но это означало разрыв с семьей, общественное порицание и большие проблемы материального характера.
Быть офицером, что сейчас, что в царское время, отнюдь не означало быть обеспеченным человеком; а те любители кутежей, что сорили деньгами и проматывали тысячи за карточным столом, получали такую возможность благодаря субсидиям от родителей – владельцев крепостных крестьян. Сын-офицер на содержании у папы-землевладельца было нормой, а не исключением. Дворянину должно служить, предпочтительно, в армии – вот сын и служит, а золотых гор за эту службу никто не обещал, разве что выслужится в генералы… И Михайла Ларионович в числе прочих находился на «финансовой игле», держал которую его отец, Ларион Матвеевич. Какой тут брак без благословения, о чем вы?!
Но даже если предположить, что сын уломал бы отца, и тот, скрепя сердце, дал свое благословение, как отнеслись бы к этому союзу сослуживцы Михайлы Ларионовича и его петербургские знакомые? Как минимум, с непониманием: он родовитый дворянин, подполковник на взлете карьеры, и эта, невесть откуда приблудившаяся к армии девица… Чтобы вызвать на себя огонь порицания и насмешек, требовалась обладать большим мужеством, а храбрость в бою, как известно, далеко не всегда сочетается с храбростью в быту. К тому же для Михайлы Ларионовича слово «статус» обладало поистине магической силой.
Однако, однако, однако… Однако женился же граф Шереметьев на бывшей своей крепостной, а сын княгини Дашковой на мещанке, не спросив материнского благословения! Не говоря уже о том, что сам Петр I сочетался браком с прачкой (кстати, бывшей на тот момент замужем за солдатом) и возвел ее на престол. Сильные чувства творят чудеса, при условии, что они действительно сильны. А кто знает, насколько сильны были чувства Михайлы Ларионовича?
Итак, поставленный вопрос остался без ответа. Однако несколько лет спустя на него ответит сама жизнь.
XXII
«…Страждущему сострадать – тяжкий труд, потому как смраден и непригляден занемогший человек подчас бывает, но тем больше очищается душа, коли понуждаешь себя обихаживать его с любовью…»
– Ты ли это, матушка? Вот уж не чаяла тебя в миру увидеть!
Василиса, едва зашедшая в полумрак лазарета и сперва не различившая, кто с ней говорит, залилась краской:
– Здравствуйте, Софья Романовна!
– А мне вчера Марья Афанасьевна сказывала, – возбужденно продолжала та, – что видела, мол, на рынке ту пустынницу, что раньше на горе жила, и к которой мы все наезжали. Я и поверить не могла! А теперь гляжу – правда.
Василиса тонула в собственном смущении, но все же достоинства не роняла:
– Так ведь ближнему служить – все равно, что Христу служить. А здесь я не одну свою душу, но и жизнь чью-нибудь, глядишь, да спасу, – объяснила она.
Софья Романовна глядела на нее с едва уловимой насмешкой:
– Правда твоя! Не все же нас, женщин утешать, и солдату ласковое слово потребно. Ох, ну и запах же тут у вас! Так и родить можно прежде срока.
Она тяжело поднялась с места, вздымая свой живот. На выходе из палатки повернулась:
– Я, как рожу, одна с тремя уж не управлюсь. А девка моя – дура-дурой: разве что пол мести, кашеварить, да стирать умеет. Хотела я татарку в няньки взять, да боязно что-то. Может ты пойдешь?
Василиса вспыхнула. Едва овладев собой, нашла какой-то достойный повод для отказа. Со словами: «Ну, если надумаешь все же, приходи», – Софья Романовна удалилась.
Какое-то время Василиса стояла в темноте, переводя учащенное дыхание. Затем не выдержала – выбежала на свет.
В смятении глядела девушка на море, удивительно безмятежное в тот день, отливавшее здесь – лазурью, там – бирюзой, а в иных местах и вовсе глубоко-фиолетовое. Вот ведь как посмеялась над нею судьба, что отшельницей была она уважаема, даже чтима, а, став подвижницей, словно бы унизилась в людских глазах. За что же, спрашивается?
И встали вдруг разом перед ее внутренним взором те полные трудов дни, что провела она в лазарете. Тошнотворные испарения человеческих тел, ведра с нечистотами, искаженные страданием, землистые, или же охваченные полымем болезни лица, спутанные сальные волосы, чью нечистоту особенно чувствуешь, когда приподнимаешь человеку голову, давая ему напиться… Неужто и в глазах офицерских жен, и Михайлы Ларионовича запятнана она теперь той грязью, что всегда сопутствует болезни? Или не знает никто из них, что чище всего бывает вода, процеженная через кулек с песком и сажей?
Глубоко вздохнула она, подавляя возмущение, и распрямила плечи. И пусть себе думают, кто во что горазд! Она же будет держаться своего – облегчать страдания ближнего. «Может быть, для того я и на свет родилась, – проскользнула у девушки мысль. – А почета за это ждать не след; буде и воздастся, то в жизни иной».
Подошел к ней Яков Лукич, не такой усталый, как обычно, даже несколько распрямивший свою привычную сутулость. Взглянула Василиса в его лицо, всегда озабоченное и как будто серое, несмотря на загар, и улыбнулась тепло, как брату. От ее улыбки у лекаря на время разгладились морщины и посветлели глаза.
– Вот ты где! – приветствовал он свою помощницу. – Последнее солнышко ловишь? И правильно делаешь: пока затишье у нас, надобно отдохнуть, как следует, наперед.
– Разве ж будет как-то иначе? – наивно удивилась Василиса. – Ведь турок нас не тревожит.
– А то ты знаешь, что у турка на уме! – усмехнулся лекарь. – Он, матушка, хитер! Долго может голоса не подавать, а потом как вдарит негаданно.
– Да мы тут с высоты корабли его сразу заприметим, – беспечно сказала девушка.
Лекарь усмехнулся:
– А турок по-твоему дурак у нас на виду на пушки идти? Нет, милая! Он десант высадит там, где меньше всего его ждешь. Думаешь, для чего подполковник твой рекогносцировку проводит?
Перед глазами Василисы тут же возник Михайла Ларионович на коне в сопровождении нескольких других верховых, каждое утро покидающий лагерь. И мысли ее потянулись вслед за ним; слова же Якова Лукича проносились мимо, не задевая сознания. А тот тем временем продолжал говорить:
– Ты настоящего дела еще не видела – все лихорадки да поносы. А как пойдут боевые раны, где кости с кровью перемолоты… Ну да я в тебя верю – ты у нас не из робкого десятка.
Василиса очнулась от своих мечтаний и подняла на него глаза. Рассказать ему или нет, что дома, в деревне не могла она видеть, как курам головы рубят – убегала со двора? А уж перед тем, как свинью заколоть или овцу зарезать, загодя ее куда-нибудь с поручением выпроваживали.
– Да Господь его знает, какая я! – честно призналась она.
О «настоящем деле» она, покамест имела представление лишь по учениям, которым неоднократно была свидетельницей. Если с утра или под вечер выдавались у нее свободные минуты, девушка выходила за пределы лагеря и с интересом наблюдала, как солдаты со всего размаху вонзают штыки в плетни, представляющие собой неприятельский строй. Или как две плотно сомкнутых шеренги с воинственными возгласами устремляются друг на друга, лишь в последний миг перед столкновением поднимая нацеленные на противника штыки. Но и без того свалка выходила изрядная! И забавно было видеть, с каким живым азартом командует ею Михайла Ларионович: глядя на него ни на миг нельзя было усомниться, что бой взаправдашний.
Когда же упражнялись в стрельбе канониры, то командиры приучали солдат, едва завидев, что неприятель подносит к стволу фитиль, пригнувшись бежать по направлению к пушке – так возможностей остаться в живых куда больше (снаряд-то сперва выше голов летит), да и батареей неприятельской можно овладеть. «Чем ближе к пушкам, тем меньше вреда и опасности от них», – объяснял при ней солдатам Михайла Ларионович, добавляя, что произнес сии слова не кто иной, как Петр Великий.
Учили солдат, в основном, штыковым приемам, пули приказывали беречь, стреляя лишь в нападающего на малом расстоянии врага и не выпуская их по бегущему противнику. Учитывая предыдущий опыт столкновения с турками, Михайла Ларионович кричал своим бойцам, чтобы соломенное «тело», в которое вонзился их штык, они тут же сбрасывали на землю, не то янычар и на штыке саблей шею достанет.
Но занимательнее всего были большие маневры, кои ей однажды удалось наблюдать. Дабы оценить боеспособность гарнизона под Ахтиар пришли другие части русской армии, располагавшиеся прежде под Бахчисараем под командованием самого Долгорукова. Василисе врезался в память один их яркий эпизод.
И Долгоруков, и Кохиус решили передать командование своими силами другим офицерам, проверяя их в деле. Кохиус доверил гарнизон своему любимцу Кутузову. В разгар маневров Долгоруков обратил внимание на то, что Кутузов командует, стоя вдалеке от своих войск, окруженный всего несколькими егерями в качестве конвоя.
– Что за черт! – возмутился князь! – Да он напрашивается на то, чтобы его взяли в плен. Слушайте, Зарецкий, – обратился он к тому офицеру, которому передал командование, – дайте мне полбатальона егерей, и я захвачу вам неприятельского главнокомандующего.
Получив под свое начало людей, Долгоруков постарался как можно незаметнее зайти Кутузову в тыл. Это казалось простой задачей: Михайла Ларионович стоял на небольшом пригорке спиной к довольно широко простиравшейся полосе леса. Самым очевидным представлялось тихо пробраться сквозь лес и захватить его, не ожидающего такого нападения. Кутузов с виду был целиком поглощен командованием: к нему беспрестанно подбегали младшие офицеры с сообщениями и уносились обратно с приказами; взгляда он не отрывал от поля боя, где разворачивалась нешуточная рукопашная схватка между его солдатами и «неприятелем». Это уверило Долгорукова в правильности его решения – он тихо отдал приказ своим егерям вступить в лес.
И тут Василисе вспомнилось, как летом, убегая от домогавшегося ее офицера, попыталась она пробраться через такой же лес. А тот истерзал ее и изранил своими шипами! На солдатах, конечно, мундиры поплотнее, чем сарафан, что был тогда на ней, но все же… Нет, не прорваться им! Вскоре убедилась она в том, что догадка ее верна: егеря с Долгоруковым во главе застряли в лесу, как в капкане, безуспешно пытаясь вырваться из цепкой, колючей чащи. Тут и заметил их кто-то из посланных Кутузовым на разведку солдат, и вскоре отряд князя оказался в плену.
Долгоруков был весьма уязвлен, хоть и расточал Кутузову похвалы, а тот на вид невозмутим, как будто предвидел, что подобное может произойти.
– Однако, господин подполковник, спасло вас только то, что лес непроходим! – неестественно смеясь, говорил князь.
– Не знал бы я наперед, что он непроходим – не встал бы к нему спиной, ваше превосходительство, – спокойно отвечал Кутузов.
– Да как же вы знать о том могли?
– А я, ваше превосходительство, ко всему, что вокруг меня, присматриваться люблю и изучать его свойства.
Долгоруков окончательно помрачнел, потому что крыть ему было нечем. Солдаты втихую потешались над незадачливым князем, при виде командиров мгновенно сгоняя с лица улыбку. А Василиса впервые задумалась о том, каково было Михайле Ларионовичу, так любящему и умеющему побеждать, в ту ночь, когда она не поддалась на его уговоры, лишив офицера уже почти одержанной победы. Должно быть, он был жестоко уязвлен, поскольку встреч между ними с тех пор не было даже случайных, словно Кутузов намеренно избегал ее. Но вместе с тем она чувствовала: не такой он человек, чтобы, разведя костер, бросить его, едва глаза заслезятся от дыма. Нет, стратег во всем, он выжидает, когда ветер переменится и можно будет вновь приблизиться к огню, дабы беспрепятственно насладиться его теплом, приветственным мерцанием и извечной тайной.
Василиса незаметно выбралась из-за куста, откуда наблюдала маневры, и окольным путем направилась в лагерь. Она была исполнена уверенности в том, что их начавшийся в пещерной келье разговор, на время прервавшись, непременно будет возобновлен – дай только срок!
XXIII
«…И раз уж сама Пресвятая Богородица, сошед с архистратигом Михаилом в преисподнюю и узрев мучения людские, возопила с плачем, каково было мне не возопить[11]?..»
Она проснулась от ощущения беды: резкие звуки, возбужденные голоса, мельканье фонарей. Спешно одеваясь, уже разобрала, в чем дело – турки-таки высадили десант; Яков Лукич как в воду глядел. Ночью сошли с кораблей в бухте, расположенной севернее Ахтиарской, спустили пушки и двинулись к Ахтиару по суше, стремясь ударить русскому гарнизону в тыл. Однако были вовремя замечены часовыми и встречены русскими отрядами на полпути. Сейчас, на рассвете, там уже кипел бой.
В сопровождении присланного за ними солдата врач со своей помощницей побежали к лошадям. Взбираясь в седло, Василиса на мгновение ужаснулась тому, что задравшиеся полы сарафана обнажают ей ногу выше колена, но лишь на мгновенье. В бою не до стыда; ни о чем, кроме жизни, думать недосуг.
И о том, удержится ли она в седле на скаку, поразмыслить ей тоже не пришлось. В ужасе от того, что ходит ходуном под нею конская спина, изо всех сил стиснула лошадиные бока ногами, а туго натянутый повод несколько помогал ей удерживать равновесие. Так, с широко распахнутыми от страха глазами и одной-единственной мыслью – не скатиться под ноги коню – и проделала она весь путь до поля боя, где солдаты ухватили ее готового нестись и дальше скакуна за узду и помогли ей чуть живой сползти на землю.
Впоследствии Василиса сумела вспомнить лишь несколько кошмарно-ярких картин того первого своего сражения со смертью: все воспоминания, как пороховым дымом, были застланы ощущением невероятного страха. Едва она распрямилась, соскочив с коня, как прямо над ухом ее что-то коротко просвистело. Затем – то же самое с другой стороны лица. И вновь этот свист – поверх головы. Девушка принялась недоуменно озираться, однако мгновение спустя на нее налетел Яков Лукич, с ругательством заставил согнуться в три погибели и потащил за собой; другой рукой волоча сумку с полотном для перевязки ран. В воздухе продолжал раздавался свист; временами его дополнял рокот и тяжелое уханье. Совсем неподалеку от них что-то, ударившись о землю, разлетелось на черепки, и в этот миг врач попросту сбил Василису с ног, еще и навалившись на нее сверху своим телом. Еще мгновенье – и он снова тащил ее, совершенно ополоумевшую к тому времени, за собой.
– Граната! – крикнул он девушке на бегу, объясняя случившееся. – Как увидишь – сразу падай!
Василиса едва не завопила в ответ, что готова упасть прямо сейчас, не дожидаясь пока что-нибудь еще взорвется у нее под ногами, как вдруг обмерла. Прямо перед ними на пригорке лежали два солдата, сраженные одним пушечным ядром. У первого из них была снесена практически вся верхняя половина туловища; лишь несколько торчащих обломков ребер шли от пояса вверх страшным мостом в никуда. У другого, бежавшего чуть позади, то же ядро проделало чудовищную дыру в нижней части тела, вырвав кишки, да вместе с ними и уткнувшись в землю. Василисе показалось, что она захлебывается своим же собственным дыханием; одной рукой она схватилась за горло, другой нелепо взмахивала в воздухе.
– Еще не то увидишь! – мрачно пророчествовал Яков Лукич, вновь заставляя ее пригнуться.
Да куда уж больше, если и так перед глазами ад?! Отважившись приподнять голову, Василиса обежала взглядом поле боя. Турок, видимо, оттеснили к морю, поскольку темная масса сражающихся солдат колыхалась уже на отдалении, а свист над головой раздаваться почти перестал. И все то пространство, где с самого рассвета сокрушали друг друга люди, вызвало у нее мгновенное воспоминание: улов, только что вываленный рыбаками из сетей. Кое-какие рыбины еще бьются, но прочие лежат без движения. Так и здесь: иные пытаются приподняться, а те, что ранены легко, даже ползут, но все это на фоне множества недвижных тел. Боже милосердный! Где ж силы взять, чтобы такое увидеть и не сойти с ума?
До сих пор они обходили место сражения с краю, но внезапно Яков Лукич увлек девушку за собой в гущу убитых и раненых. Содрогаясь каждый раз, когда ей приходилось задевать мертвое тело, девушка следовала за ним. Солдат, к которому они направлялись, сам пытался двигаться им навстречу на четвереньках, однако правая нога его при этом волочилась. Вся штанина была темной и липкой от крови – пуля засела в мышцах бедра.
У другого страдальца, запомнившегося в тот день Василисе, были так иссечены осколками гранаты и мундир, и тело, словно его исполосовал когтями в предсмертной ярости медведь. У третьего пуля срезала половину уха, но, хоть рана его и была относительно легкой, выглядел он, как искупавшийся в крови – наиболее ужасающим образом.
Раны, раны, раны… Пулевые, штыковые, сабельные, осколочные, рваные, резаные, колотые… Кошмарно развороченная плоть или отверстие в теле, прикрытое обрывками кожи, рассеченные до кости мышцы или раздробленные конечности. И все, что ты можешь сделать для этих, изнемогающих от муки людей – наложить повязку, чтобы унять кровь. Нигде поблизости нет источника с водой, чтобы хотя бы промыть рану, а подвезти воды никто не позаботился. Как не позаботился и о том, чтобы как можно скорее доставить раненых в лагерь.
В краткие минуты передышки, распрямляя затекшую спину и отирая лицо, Василиса успевала увидеть, как отдаляются от берега турецкие корабли, увозя оставшихся в живых янычар. Она сознавала, что русские войска одержали победу, и Михайла Ларионович наверняка ликует в этот миг, как и другие офицеры, но вид лежащих вокруг нее истерзанных тел не позволял ей испытать и тени радости, одну пронзительную боль за еще недавно полных сил и здоровья людей, в одночасье изувеченных войной.
«За что? – думалось ей. – Ради чего? Им-то с этой победы ни прибыли, ни славы. Если в живых останутся – и то слава Богу».
И она со все нарастающей горечью в сердце созерцала беспомощно лежащих в ноябрьской грязи солдат, до которых никому не стало дела, едва они отдали свою кровь во славу императрицы.
Совсем другое настроение царило среди офицеров, собиравших после боя свои отряды и с облегчением убеждавшихся, что потери отнюдь не велики. А ввечеру генерал-майор Кохиус торжественно провозгласил тост за «блестящее отражение натиска превосходящих сил противника».
– Это у янычар любимая тактика – воевать числом, – заметил, пригубив вино, Кутузов. – Налететь, как муравьи – на гусеницу и давить. Не получится сходу – еще солдат подбавить. Падишаху людей не жалко – он свою армию по всем Балканам из подвластных христианских земель набирает.
– А в Бессарабии-то[12] никаким числом нашу армию не одолел!
– Это верно: при Кагуле мы, помнится, семнадцатитысячным отрядом сто пятьдесят тысяч турок разгромили. На таких гусениц они не чаяли нарваться!
Офицеры смеялись, возбужденно переговаривались, вспоминали подробности боя. Кутузов тем временем вновь заговорил с улыбкой на губах, но полной серьезностью во взгляде:
– Хоть и радость у нас сегодня, господа, а все же повод задуматься: меж Ахтиаром и Гезлевом – на таком пространстве – ни единого русского гарнизона. Нынешний десант мы заметить вовремя успели, а случись иной? Ночью? При полной поддержке местных татар?
Ответили ему не сразу – никому не хотелось омрачать торжество.
– Что же вы предлагаете, господин подполковник? – вяло осведомился Кохиус.
Он продолжал потягивать вино, небрежной позой демонстрируя нежелание заботить себя сколько-нибудь серьезным разговором.
Но у Кутузова был неожиданно готов ответ:
– Я полагаю, – вкрадчиво начал он, – что здесь нам помощь могут оказать сами татары. Если только суметь расположить их к нам.
– Расположить их?! – фыркнул Кохиус. – Чем же, любопытно, если они спят и видят, как бы избавиться от наших войск? Подают, конечно, вид, что смирились, а на деле…
– Вот-вот! – поддержал его Кутузов. – На деле мы для них кто? Враги, захватчики. Сидим по крепостям, как бородавки на их земле – то-то и хочется нас вырезать. А что если повернуться к ним другим лицом – не вражьим, а человеческим. Интерес проявить к их языку, вере, обычаям. Тогда, глядишь, и резать нас не сильно захочется.
Офицеры разом примолкли и переглянулись.
– Если б, скажем, – продолжал Кутузов, – нам поближе сойтись с их старейшинами в селеньях на западном берегу? С беками, мирзами. Да и духовенство здесь в почете и влиянием пользуется немалым: имамы вместе с князьями присяжный лист об утверждении дружбы с Россией подписывали. Случись волнения, они первыми народ на нас натравят… или остановят. Опять же: буде турки высадят новый десант, союзники среди татар могут тайком нам отправить гонца.
– Ишь, как далеко вы метите, господин подполковник! – с изрядной долей иронии в голосе, заметил секунд-майор Шипилов.
– Я для того артиллерийскую школу кончал, – с легкой улыбкой отвечал Кутузов, – чтобы в цель попадать наверняка.
– И как же вы предполагаете их к нам расположить? – осведомился Кохиус.
– Для начала следует им подношения сделать, – уверенно сказал Кутузов. – Но этого мало: подарками прав не приобретешь. А вот внимание они должны оценить, особенно если навещать их регулярно, поздравлять с праздниками, разговоры вести…
– На каком же, позвольте узнать, языке?
– На турецком, – уверенно отвечал Кутузов. – Местные образованные люди им обязательно владеют, и я во время службы в 1-ой армии достаточно бегло выучился на нем говорить.
Горницу татарского дома, где происходило собрание, окутало молчание. До сих пор ни у кого и мысли не возникало завязать дружбу с неприятелем!
– О чем нам с ними вести разговоры? – неприязненно задал вопрос Шипилов. – Не о планах же наших по удержанию Тавриды!
– Вовсе нет! – живо откликнулся Кутузов. – Следует убедить их в том, что новая власть в нашем лице желает им только добра и готова оказывать посильную помощь. Кто поумнее должен понять, что полезнее быть с нами в ладу – ведь полуостров все равно останется за Россией.
– Что ж… – неуверенно произнес Кохиус, – что ж… Если вы, господин подполковник, сами возьметесь за это дело, то почему бы, право, не попробовать? Уж хуже-то всяко не будет!
– Буду счастлив исполнить это поручение, ваше превосходительство! – поклонился Кутузов.
XXIV
«…Не я его спасла, но Господь, меня направивший и открывший мне то, что для других сокрыто было …»
Ночи не было. Как в преисподней, полыхало вокруг Василисы море страдания, выплескивались из него крики и стоны, и ужас брал ее от того, что кричат не женщины, готовые взвыть от любой малости, а мужчины, коим само естество велит держать свою боль за крепко стиснутыми зубами.
Яков Лукич, бесчувственный от усталости, спал мертвым сном в отведенном для него отделении лазарета, а Василиса, хоть и тоже с ног валилась, чувствовала: сна ей не видать. Как смежить веки, когда скалится смерть и справа от себя, и слева, вцепляется нагло в свою добычу и начинает пожирать ее заживо, а ты и отпора ей дать не можешь, как солдат в бою без ружья! Все немногое, что было в их силах, они с Яковом Лукичом сделали честно, а дальше у каждого своя судьба: у кого-то по жилам пойдет антонов огонь[13] и в считанные дни спалит страдальца, кто-то станет медленно выкарабкиваться к жизни, а кто-то, бинтуй его, не бинтуй, изнутри кровью истечет. И остается лишь наблюдать с сердечной болью, кто возвращается в мир, а кто отходит в вечность.
Тому пехотинцу, коему осколком гранаты срезало кисть руки, считай, повезло: рана чистая, хоть калекой, да выживет малый. Кровь из него, как сняли наложенный на поле боя жгут, полилась, точно квас из бочонка. И Василиса, крепко сжимая дергающуюся культю, еле сдерживалась, чтоб не отпрянуть с визгом, пока Яков Лукич раскалял обломок сабли и прикладывал к ране. От запаха горелого мяса на девушку накатила дурнота, но кровь унялась, а раненый, бившийся и стонавший, побелел и затих. Повезло и егерю с плечом, простреленным навылет: и ковыряться в ране нечего; промой ее водой, прижги спиртом и оставь его, сомлевшего от такого прижигания, приходить в себя. С тем же гренадером, у которого пуля в животе застряла, чисто мучение вышло: дали ему глотнуть и спирта, разбавленного водой, и махорки накуриться до бесчувствия, и попытались зондом, а затем, как сознание от боли потерял, и пальцами нашарить сплющенный свинец в его внутренностях. Да без толку, лишь истерзали понапрасну.
– Меньше, чем через неделю отойдет, – еле слышно сказал Василисе врач, отходя от его постели.
– Нешто ничего поделать нельзя? – горестно спросила Василиса.
– Можно! – усмехнулся Яков Лукич. – Настоем сонных трав его напоить, чтобы заснул и больше в себя не приходил.
Возле этого солдата и замерла сейчас девушка, проходя по лазарету. Было ей невыносимо видеть, что обреченный на смерть так могуч и силен, и так мужественно хорош собой, не обезображенный даже страданием, с волнистыми русыми волосами, хоть и взмокшими от пота, но красиво обрамляющими твердое, как из дерева вырезанное лицо. Как древесный же ствол, крепкая шея, плиты мускулов на просторной, часто вздымающейся от дыхания груди… И все это телесное совершенство в считанные дни пожрет смерть, а останки ее пиршества лягут в землю.
Раненый точно почувствовал ее мысли. Тяжело приподняв веки, посмотрел на девушку нездорово блестящими, готовыми сей же час закатиться от слабости глазами:
– Что, сестрица, не жилец я?
Василиса опустила взгляд: не было в ней ни капли сил, чтоб обнадеживающе солгать.
– Помолись тогда за меня, – попросил солдат, – чтобы помирал я без лишних мук.
Василиса кивнула, изнемогая от жалости.
– Как поминать-то тебя в молитвах? – тихо спросила она.
– Федором.
Василиса присела на край его постели. Донельзя хотелось ей сказать ему хоть что-то во утешение, но была она вымучена настолько, что никаких верных слов не шло на язык. Федор же, видя ее неподдельное сочувствие, пробормотал:
– Что за судьба у меня такая нескладная! Сперва жену схоронил – разродиться не смогла, а теперь и самому прежде срока помирать, что ли? Я и в солдаты-то не должен был идти – в прошлый набор брата взяли.
– Что ж забрили тебя? – печально удивилась Василиса. – Или смутьяном был?
– Да какой там смутьяном! Пропал ни за грош. Все из-за попа одного окаянного…
Василиса застыла с напряженной спиной.
– Помещице нашей припала охота театр себе соорудить, ровно как в столицах. Я там и плотничал, сидел на верхотуре. А топор иной раз рядом на стропила клал, чтоб передохнуть мне, значит. Тут поп явился кропить. А я повернулся неловко, топорище задел. Топор – вниз. Ну, попа и пришибло насмерть. Вот и вся моя вина.
Василиса сидела, окаменев, бессмысленно глядя в темноту лазарета. Оставалась у нее лишь одна последняя лазейка для надежды:
– А родом ты откуда будешь? – еле выговорила она.
– Из-под Калуги.
Словно только что жарко натопленный дом, в котором разом вышибли все окна и двери, выстудив его в одночасье, оледенело все у девушки внутри. Батюшка, как живой, явился перед ней, и полетели, сменяя друг друга мысленные картины, на которых он тихо подсказывал ей во время чтения вечернего правила слова молитвы, зычно восклицал в озаренном свечами полумраке: «Миром Господу помолимся!» и озабоченно склонялся над ее разбитой коленкой, на которую тетка равнодушно махнула рукой: до свадьбы, мол, заживет. Подступившее рыдание не давало ей вздохнуть, и справиться с ним не было никакой мочи.
А Федор тем временем продолжал бормотать:
– Сдохну тут, как собака, из-за этого попа, будь он трижды неладен!
Едва не брызнувшие слезы Василисы тут же пересохли. Яростный штормовой ветер ревел теперь в ее душе, ненависть трясла ее, заставляя дергаться лицо, дрожали губы, едва не извергая злобные слова обвинения. Рывком поднялась она с постели умирающего, еле сдерживаясь, чтоб не прокричать ему в лицо все, что так и вскипало на языке.
– Сестрица, ты куда?
Василиса остановилась, обернулась. Федор смотрел на нее умоляюще, взглядом заклиная не оставлять его наедине с приближающейся смертью. И захотелось вдруг девушке закричать во весь голос, чтоб хоть немного дать выход тому, что завывало и бесновалось у нее внутри.
– Прилягу пойду, – заставила она проговорить себя бесстрастно.
– Вот как? Уходишь, стало быть…
Взгляд раненого потух. Еще какое-то время он безнадежно следил за девушкой взглядом, затем прикрыл глаза. Что ж, стало быть, не нужен он более никому, кроме смерти, что не замедлит за ним явиться. Нужен был некогда жене, да жена померла. Нужен был матушке с батюшкой, друзьям и сродникам, да от них оторвала его помещичья воля. Нужен был командирам, чтобы выправкой блистать да по их приказу на врага идти, однако же быстро из строя вышел. А здесь, в последнем своем пристанище, мнилось ему, что нужен он этой девушке, вроде бы к нему расположившейся, да, видать, обманулся – и ей не нужен.
Вновь приоткрыл он глаза, желая все же подтвердить печальную свою догадку, и лицезрел странную картину: Василиса стояла без движения, точно обращенная в соляной столп, неподвижный взгляд же ее был устремлен на нечто незримое. Затем, словно подхваченное невидимыми волнами, заколыхалось девичье тело из стороны в сторону, и до того это было чудно и необъяснимо, что на время перестал Федор изнывать от боли и лишь в изумлении таращился на девушку.
По прошествии недолгого времени неведомое отпустило Василису. Она провела рукой по лицу и потрясла головой, точно стряхивая с себя наваждение. А затем взглянула на Федора каким-то странным взглядом: удивительно спокойным и уверенным без тени чувств, что вечно так и плещут в девичьих глазах. И вновь приблизилась к его постели.
– Мы тебя измучили нынче, как пулю достать хотели, – сказала девушка, наклоняясь к нему, – ты уж не обессудь!
– Да чего там… Разве ж я без понятия!
– А еще потерпеть готов?
– Ты чего это надумала? – с беспокойством спросил Федор, которого пуще боли страшил отстраненный холодок в Василисиных глазах.
– Помочь тебе хочу, – без малейшего тепла в голосе ответила девушка.
Несколько мгновений Федор заворожено смотрел на нее, теряясь все больше и больше, а затем, испытывая необъяснимый страх, кивнул головой.
Василиса выпрямилась и удалилась в полумрак в глубине лазарета. До Федора долетели звуки перебираемых ею медицинских инструментов. Насколько возможно повернув голову, он тревожно следил за ее выбором. Наконец в руках у девушки появился ланцет и пулевые щипцы. С ними она вновь приблизилась к его постели.
– Если пулю не вытащить, конец тебе, – холодно и твердо сказала Василиса. – Попробуем в последний раз.
– А сумеете? – с плохо скрываемым ужасом спросил солдат.
– Бог даст – сумеем.
– Не терзали б вы меня понапрасну!
Василиса не отвечала. Мысленно она восстанавливала картину того, как Яков Лукич приступил к поискам пули. Сперва поглядел, нет ли выходного отверстия на спине, но свинец не прошел навылет. Однако и в животе его тоже не нашлось. А вдруг…
Точно кто-то другой подсказал ей эту мысль, девушка уверенно велела солдату перевернуться на живот, что тот и проделал с мучительным стоном. Тогда, закрыв глаза, дабы придать чуткости пальцам, девушка тщательно ощупала нижнюю часть его спины. Вот она, пуля! Не заметный глазу, и едва различимый на ощупь бугорок располагался под кожей в такой близости от позвоночника, что мог бы сойти за единое целое с ним. Пощадил солдата свинец, распоров ему мышцы, но ничего более не задев. Мгновение спустя Василиса уже бежала и трясла за плечо не желавшего просыпаться Якова Лукича. А по прошествии недолгого времени стояла рядом с ним, делающим разрез, скрученными комочками ветоши промокая ежесекундно выступавшую кровь.
Пулю они извлекли не одну, а с остатками бумажного пыжа, который удерживал ее прежде в стволе ружья. Василиса представила себе, как стала бы гнить и разлагаться эта бумага внутри человеческого тела, и поняла, почему Яков Лукич так уверенно говорил ей недавно о предстоящей смерти Федора, с которой ничего нельзя поделать. Но поделали же! Отогнали смерть, уже вцепившуюся в солдата, и велели ей лязгать зубами поодаль, и не мнить себя всемогущей.
Верно, должна она была ликовать, но отчего-то не пело сердце и даже не взыгрывало в груди. Разливалась в нем опустошающая усталость, а губы складывались в горькую усмешку. Над собой ли, над своей ли судьбой, над причудами ли Провидения – Бог весть.
* * *
Случись больному нашего времени волею писателя-фантаста перенестись в 70-е годы XVIII века и попасть в распоряжение медика тех времен, как летальный исход ему был почти гарантирован. Если не от болезни, то от страха за свою жизнь – наверняка, поскольку пациент очень быстро осознал бы, что никакая медицинская помощь в современном понимании этого слова ему не светит.
Разумеется, лекари на Руси существовали всегда и даже подразделялись на зеленников (этакая смесь фармацевта с терапевтом) и резанников (хирургов), однако возможности их были настолько же ограничены, насколько широки они у их современных коллег, в порядке вещей возвращающих пациентов с того света. Медом с кислым питьем лечили простуды, подорожником вытягивали гной, но воспаление легких оставляло больному очень немного шансов, а аппендицит и вовсе их не оставлял. Настоем ромашки промывали кожные высыпания, чеснок был столь же универсален, как аспирин, но глотошная (скарлатина) становилась смертным приговором для ребенка, а корь – верным шагом к слепоте. После жаркой бани вправляли вывихи и соединяли переломы, но смерть младенца во время родов была настолько привычной, что осташковский мещанин Нечкин, потерявший подобным образом новорожденного сына, спокойно писал об этом в дневнике: «Роды – как и должно быть».
Эпидемии оспы, чумы и холеры вольно гуляли по стране, не сдерживаемые ничем, кроме карантинных кордонов, внутри которых смерть сгребала себе жертвы частыми граблями. За XVIII век холерное поветрие налетало на Россию 9 (!) раз. А в армии сыпной тиф, дизентерия и малярия уносили едва ли не больше солдат, чем военные действия. С малярией боролись рвотными и кровопусканиями. Тифу же и дизентерии больной противостоял в одиночку, зачастую, проигрывая этот неравный бой. Ведь никто, включая врачей, и не догадывался о том, с какими незримыми противниками ведется сражение внутри организма.
Что удивительно, с течением времени медицинских познаний практически не прибавлялось. Еще в XVII веке студентов госпитальных школ учили по травникам и лечебникам (эдаким народным медицинским энциклопедиями), составленным века назад. Лишь при Петре I, который, помимо своего плотницкого хобби, был весьма неравнодушен к медицине, любил сам оказывать раненым первую помощь и во время путешествий по Европе частенько заходил в анатомические театры, наметились сдвиги. При нем медицинское образование наконец-то было поставлено на регулярную основу, и стал перениматься западный опыт, однако, качество подобного образования по-прежнему оставалось под большим вопросом. Если даже в первой четверти XIX века Пирогов покинул медицинский факультет московского университета, не произведя ни единого вскрытия, то что говорить о веке XVIII! Практически никаких единых принципов подхода к лечению болезни не существовало; лекари пользовали больного кто во что горазд. Одни хирурги перевязывали рану по нескольку раз в день, а другие не снимали повязку, наложенную на Бородинском поле, до самого Парижа. Кто применял повязки влажные, кто сухие; одни пропитывали бинты нейтральным составом, другие практиковали раздражающие припарки. И в результате даже самые незначительные раны почти всегда гноились, прежде чем образовать рубец. Кстати, дренажей еще не знали, поэтому гной удаляли из раны с помощью тампонов. Вы можете представить себе запах, царивший в лазаретах! Счастье еще, что он не вызвал преждевременные роды у беременной Софьи Романовны!
Операции при отсутствии анестезии отличались от пытки разве что гуманными мотивами, страданий же причиняли не меньше. Лучшие хирурги того времени гордились своим умением удалять конечность в кратчайшие сроки, пока исходящего криками пациента удерживали помощники. А как обойтись без ампутаций, если альтернатива – заражение крови и смерть? Осколочные ранения и открытые переломы почти неминуемо вели к гангрене, поэтому поврежденную руку или ногу старались отнять как можно раньше, не дожидаясь, пока ткани начнут мертветь. При этом, хотя еще в начале XVII века французский врач Амбруаз Паре стал применять перевязку сосудов для остановки кровотечения, современники Якова Лукича или не знали об этом, или, зная, сохраняли упорную приверженность к тампону и каленому железу, «склеивавшему» края сосудов[14]. Даже в 1812 году перевязка сосудов еще не получила признания, и генеральный хирург прусской армии Теден протестовал против использования торсионного пинцета[15], а главный врач прусской армии Герке не много не мало отдал приказ, чтобы медики не прибегали к «варварскому способу перевязки сосудов». В армии российской дела обстояли не лучше – истечь кровью, на операционном столе, было в порядке вещей.
Словом, «лечение» и «мучение» не только рифмовались друг с другом, но были едва ли не полными синонимами. Печальной иллюстрацией тому, как страшил раненых предстоящий ад в руках врача стала трагедия князя Багратиона, чья малая берцовая кость была раздроблена осколком снаряда во время Бородинской битвы. Решительно заявив врачам, что «лучше провести шесть часов в бою, чем шесть минут на перевязочном пункте», он отказался от ампутации и умер семнадцать дней спустя от заражения крови.
Инфицирование раны вообще было бичом военной медицины того времени, поскольку вплоть до второй половины девятнадцатого века врачи имели примерно такое же представление об асептике, как о полетах в космос. Мне хотелось бы написать, что прежде, чем взять в руки ланцет, Яков Лукич простерилизовал его горячим паром или обработал карболовой кислотой, а сам тщательнейшим образом вымыл руки с помощью специальной щеточки от кончиков пальцев почти до локтей. Что он протер спиртом кожу пациента на месте предполагаемого разреза и обложил операционное поле чистой тканью. Я бы с радостью упомянула хотя бы о том, что перед операцией он надел чистый передник, но, увы, он этого не сделал. И вовсе не потому, что с преступной халатностью относился к своим обязанностям, а потому что даже не подозревал, что медицина вообще и хирургия в особенности должна покоиться на прочном фундаменте чистоты.
Итак, любое оперативное вмешательство в те годы неизбежно инфицировало и без того не стерильную рану, а до изобретения антибиотиков оставалось более полутора столетия. Добавьте к этому невозможность остановить внутреннее кровотечение, неумение зашить стенку внутреннего органа в случае повреждения, и вы перестанете удивляться тому, что врачи не сумели спасти Пушкина, раненого в живот шестьдесят три года спустя.
А был ли шанс остаться в живых у Федора после того, как пулю с пыжом извлекли из его тела? Был, но при условии, что его иммунитет обладал достаточной силой, чтобы побороть занесенную в рану инфекцию.
Только на резистентность организма больного и приходилось рассчитывать врачам, не имевшим в своем распоряжении ударных способов воздействия на организм и обладавшим весьма смутными представлениями об анатомии и физиологии. В громадном большинстве случаев врачебная помощь сводилась к утешительной для больного иллюзии, что для его спасения сделано все возможное. Но с подобной иллюзией – согласитесь! – и умирать легче, и выздоравливать способнее. А уж если видишь неподдельное участие в глазах врачующего тебя человека, то, сколь бы обессилен ты ни был, неминуемо потянешься к жизни, точно растение – к солнцу из-под земли.
XXV
«…Ни на единый миг не поколебалась я в своем решении и после ни разу в нем не раскаялась…»
Всякий раз с волнением приближалась Василиса к постели Федора, чтобы сменить ему повязку, но волнение неизменно сменялось облегчением. Определенно, он выздоравливал! Не наблюдалось у него ни одного из тех зловещих признаков белой рожи, что приводили ее в отчаянье при взгляде на иных других раненых. В первые дни после извлечения пули кожа на животе и на спине не побледнела и не приобрела особого нездорового блеска. А значит, уж не появятся на ней серые пятна, пронизанные пузырьками зловонного воздуха. Как надавишь на такую плоть, чудится, что под пальцами у тебя зернистый мартовский снег, что днями неизбежно растает. Так и есть – превращаются крепкие розовые мышцы на солдатской руке или ноге в черно-серую гниль.
Но Федора чаша сия миновала: недели через две пулевое отверстие покрылось коркой, под которой нарастала молодая розовая кожа. Еще того раньше появился коричневый струп в том месте, где Яков Лукич вырезал пулю, и можно было уже не сомневаться, что солдат встанет на ноги. Болезненная немощь отступала от него, как дождевая сырость от просиявшего солнца. Когда Василиса подносила ему еду и питье, он уже улыбался и даже шутил, что не она его, а он ее потчевать должен. А позже стал всерьез говорить и о том, что хотел бы усадить ее на почетное место в своей горнице и в ноги поклониться за спасение. Василиса бормотала в ответ что-то любезное, но старалась отводить взгляд. Словно бы раздваивалась ее душа: и горькая память об отце не отпускала, и, чисто по-женски, не могла она оставаться безучастной к тому, что сильный, статный и видный мужик, коего и недуг не смог обезобразить, так тянется к ней всем сердцем и ищет ее расположения. Иной раз, когда Федор днем засыпал (слаб еще был и в долгом сне восстанавливал силы) украдкой присматривалась она к нему, и, чем дольше глядела, тем более пригожим и достойным ответной благосклонности он ей казался.
С Михайлой Ларионовичем не виделась она в эти дни, утопая в море забот и почти не покидая лазарета. Лишь вечерами выходила на свежий воздух, веявший на нее, как благовоние, после лазаретного смрада. Оглядывалась по сторонам, словно бы надеясь кого-то увидеть, но не видела, и с опущенной головой возвращалась обратно.
Месяц спустя Федор вернулся в строй, но в лазарете продолжал появляться каждый день. Заходил он якобы проведать не до конца оправившихся от ран товарищей, но почему-то очень скоро оказывался возле Василисы и от нее уже не отходил. Заглядывал в глаза, старался взять ее за руку и едва ли не каждый раз приносил гостинцы: вяленый инжир, пригоршню лесных орехов, а то и какую-нибудь затейливую татарскую сладость. Осмелев, стал приглашать девушку пройтись с ним вдоль берега моря, где вел разговоры о том, как хотел бы остаться на поселение здесь, в Тавриде, как посчастливилось некоторым его товарищам, не пригодным более к строевой службе. Василиса резонно возражала, что уж лучше в строю здоровым оставаться, чем в отставку калекой выходить, на что Федор открывал ей свою заветную мечту: выслужиться в обер-офицеры и, получив, благодаря этому дворянский чин и свободу, уйти из армии и осесть на земле. В единый миг становясь косноязычным, начинал толковать и о будущей своей семье. Солдатам ведь жениться не воспрещено, лишь бы полковое начальство разрешило, а оно препоны вряд ли станет чинить. Жены же солдатские, как и офицерские, право имеют следовать за мужьями. И, будь на то их желание и дозволение командиров, могут даже приторговывать в армии съестным и другими товарами. Чем не жизнь? Не труднее той, что ведет она, Василиса, теперь. А со временем, как выслужится он и в отставку уйдет, осядут они с женой в Тавриде и займутся виноградарством…
Василиса слушала молча, с внутренним трепетом, понимая, куда он клонит, но не зная, что и сказать в ответ. Здравый смысл ее к солдату подталкивал, а сердце на дыбы вставало. Неужто вновь связать свою жизнь не с тем, кто мил, а с тем, кто в жены взять готов? Мысленно спрашивала совета у батюшки и с удивлением ощущала, что благословляет он ее на этот брак, невзирая на то, что жених – его невольный убийца. Ведь кому как не батюшке сознавать, что, выйдя замуж за солдата, дочь наконец-то займет подобающее для женщины место в миру, пусть и скромное, но достойное – место жены и, в будущем, матери. А чего ей еще от жизни желать? Не страстей же любовных, кои никогда добром не кончаются! Не блудного же греха, не приведи Господи!
Так, погруженная в свои мысли, ступала она рядом с Федором, пока нечто, словно бы кольнув ее изнутри, не заставило девушку поднять глаза. А как подняла, так и встала на месте: проходил мимо них Михайла Ларионович, беседуя с другими офицерами, и, хоть не глянул он на девушку, и, неизвестно, заметил ли вообще, но стало ей душно и ноги отнялись. Провожала она его взглядом, как собака, которую хозяин в лесу привязал, а сам и пошел восвояси; только что не скулила, ему вслед глядя. И, вернувшись затем в лазарет, до самого заката ходила, как потерянная, воскрешая в памяти его лицо.
А на следующий день Федор явился свататься. Солдатское платье сидело на нем опрятнее, чем всегда, и хорош он был так, что глаз не оторвать: сильный и ладный, русые волосы волнуются вокруг лица, точно море вокруг скалы. Вывел девушку из лазарета и долго приискивал место, где им наедине никто бы не помешал; наконец, нашел такое – возле моря, на камнях. Чувствуя неловкость, оба присели на покатые валуны друг против друга. Сперва молчали в сильнейшем волнении, затем солдат, откашлявшись и потемнев от румянца, заговорил:
– Я, Васенька, век не забуду, что ты меня от смерти избавила. Сам-то я с жизнью тогда уж распрощался.
– Да я – что? – смущенно отвечала Василиса. – Это Господь чудо явил.
– Стало быть, ты у Господа праведница, раз он через тебя чудеса являет.
Не нашлась девушка, что сказать, и залилась краской. Знал бы Федор, что она за праведница! Беглая жена, лже-монахиня, без пяти минут прелюбодейка! Темным-темно у праведницы в прошлом.
– Ты сама, небось, уж догадалась, почто я пришел, – продолжал Федор.
Девушка кивнула, не в силах говорить. Лихорадило ее от волнения.
– За счастье почту, – пробормотал солдат смятенно, глядя при этом в землю, – с тобой соединиться.
Он с надеждой поднял на нее глаза.
Дорого б дала Василиса за то, чтобы взвиться прямиком в небо и, птицей затерявшись в синеве, не произносить тех слов, что больно обожгут открывшегося ей человека.
– Не взыщи, Федя, – проговорила она через силу, – не могу я.
– Отчего же? – с изумлением спросил Федор, явно не ожидавший отказа.
Василиса отвела взгляд, подбирая слова.
– Всем ты хорош, – заговорила она через некоторое время, – но не про мою честь.
– Да про чью же еще, как не про твою? Мы с тобой уже и сроднились почти! – Федор попытался улыбнуться.
Василиса мучилась вынужденно причиняемой ему болью:
– Не могу я, прости, – повторила она.
– Что, другому обещалась?
Девушка покачала головой.
Через некоторое время осмелившись взглянуть на солдата, Василиса заметила, что лицо его изменилось. Боль и недоумение сменились возмущением и насмешкой.
– Ты гляди, не прогадаешь ли, мной побрезговав, – со значением проговорил он. – Не больно ли высоко метишь? Мы-то с тобой одного поля ягоды, а он? Нужна ему такая, как ты! Сам благородный, на благородной и женится.
Василиса с ужасом осознала, что ее сердечная тайна и не тайна вовсе.
– Или посулил тебе чего? – усмехнулся Федор и, по изменившейся в лице Василисе поняв ответ, презрительно сузил глаза:
– Нешто поверила? Дура ты дурой! Будешь ему жена… на один поход. А я-то хотел, чтоб с кем венчаться, с тем и кончаться…
Резко поднявшись и повернувшись к ней спиной, он зашагал в гору, к лагерю. Василиса, как пригвожденная, осталась сидеть на камне. Вспотев от волнения, не замечала она ледяного дыхания моря. Разум горько корил ее за совершенную ошибку, но на душе разъяснивало, как после грозы.
XXVI
«…Чем пленил он меня, многажды пыталась я уразуметь, но и по сей день не нахожу ответа. Смолоду был он пригож и глаза имел дивные, но разве ж не видела я и других пригожих? Нравом был весел, и с женщинами знал, как обойтись, но и других весельчаков обходительных я знавала, а сердце к ним не легло. В ратном деле мало было ему равных, но в ту пору я по молодости не могла о том судить. И остается мне только уверовать в то, что любовь, как и дух Божий, веет, где хочет и нисходит на кого ей будет угодно…»
История о неудачном сватовстве Федора облетела лагерь в считанные дни, хоть Василиса и держала рот на замке, и сам солдат наверняка предпочитал молчать о случившемся. Но девушка догадывалась о том, что всем все известно, по долетавшим до нее обрывкам разговоров и по взглядам, устремлявшимся к ней с любопытством и недоумением. Чаще же всего глядели на нее с полным непониманием и даже неприязнью, словно не просто отказала она мужику, звавшему ее замуж, но погнушалась иметь дело с простым солдатом. Хоть сама-то кто? Не из благородных же будет! Даже Яков Лукич, успевший привязаться к своей помощнице и проникнуться к ней уважением, отнесся к выбору Василисы неодобрительно, заметив, что «без мужа, ты не пришей кобыле хвост».
Василиса, которая в тот момент как раз заканчивала наводить чистоту в опустевшем лазарете и взмокла от усталости, едва не разрыдалась. С веником в руках и смятением в душе она горячим шепотом принялась защищаться. Дело тут не в гордыне ее и не в заносчивости, она, может быть, и пошла бы за солдата, тем более такого видного, да только… И, не имея возможности открыть истинную причину своего отказа, вынуждена была выложить всю историю о батюшкиной смерти, добавив, что из уважения к его памяти не может выйти за того, кто пусть и невольно, но жизни его лишил.
И опять неизвестно каким образом (Яков Лукич божился, что не сказал никому ни слова), но в скором времени стало об этом известно всем, кроме разве что самых нелюбопытных. И совсем уже другими взглядами встречали девушку солдаты – потрясенными и восхищенными. Виданное ли дело – убийцу отца выхаживать и печься о нем, как о родном! Сам же Федька всем и каждому рассказывал, как Василиса своей прозорливостью к жизни его вернула. Как пулю в теле нашла там, где никому и в голову бы не пришло искать. Как добра с ним была и сострадательна. Видать, ни словом не обмолвилась о том, что знает, кто он. Ну, святая, ни дать ни взять!
Так и осталось за Василисой это прозвище – «святая» – к вящему ее смущению. «Вон святая наша идет», – слышала она теперь постоянно за своей спиной и терялась. Каждый раз хотелось ей возразить, что нет в ней ни капли святости – ведь не стяжала она мира в душе. Клубятся в ней сомнения и захлестывают страсти, а паче всего обуревает неискоренимая жажда любви. Ведь, казалось бы: будь довольна тем, что уважают тебя люди, даже чтут, что пользу приносишь, так нет же! Тянешься и тянешься к чему-то недосягаемому, а оно не то что не приближается, но как будто удаляется от тебя.
В декабре еще по-настоящему не прихватили холода, даже погожие дни то и дело баловали. В один из них Василиса устроилась на пустом ящике из-под снарядов снаружи лазарета щипать корпию. Брались для этого изорванные пулями или осколками снарядов солдатские рубахи, заштопать которые не было никакой возможности, и раздергивались на отдельные нитки. Получалось таким образом что-то вроде шерсти, отлично впитывавшей и кровь, и гной. Прижать ее к ране, а сверху обмотать полотном – лучше не придумаешь! Хоть и однообразной была работа, но не трудной и не мешала предаваться своим мыслям, что Василиса и делала, подставляя лицо неяркому, уже не греющему солнцу.
Погружаясь попеременно то в мечты, то в воспоминания, она не сразу и услышала, что изнутри лазарета доносятся голоса. Одним из них был голос Якова Лукича, который устало сетовал на нехватку всего, что только может быть потребно при лечении – полотна для повязок, спирта, инструментов – другой голос, задававший, видимо, вопросы, звучал приглушенно, и девушка не сразу смогла догадаться, кому он принадлежал. А как догадалась, то руки ее замерли и спина оцепенела. Что же, он, получается, пришел к ним с инспекцией – разузнать, какие у лазарета нужды? Выходит, что так.
– Вот и выкручиваемся, как можем, – продолжал тем временем Яков Лукич, – спирт у солдат выпрашиваем, а корпию сами щипаем, извольте посмотреть!
Судя по звуку шагов, и врач, и Михайла Ларионович, вышли из лазарета и смотрели сейчас на нее, однако, она не решалась бросить в их сторону ни единого взгляда.
– А что, Яков Лукич, доволен ты своей помощницей? – услышала она вопрос, прозвучавший, как ей показалось, слишком уж весело для инспекции в лазарете.
– Как не быть довольным! – услышала она в ответ. – Не девка, а золото: и руки золотые, и такое же сердце.
– Стало быть, рассчитал я верно: этой чернице место в миру.
Василиса заставила себя подняться им навстречу и поклониться Михайле Ларионовичу. Под мышкой у него она приметила какой-то сверток.
– Я гляжу, ты ни полчасу без дела не сидишь! – улыбнулся офицер.
Девушка пожала плечами, пытаясь не обнаруживать перед ним свое волнение:
– Сиди я – не сиди, а дела меня сами найдут.
Михайла Ларионович рассмеялся. Яков Лукич, осознав, что роль его сыграна, предпочел удалиться.
– Ткань ты давеча у меня позабыла, – вкрадчиво напомнил ей офицер, протягивая сверток.
Василиса притворно удивилась:
– Разве сие не для вашей сестрицы подарок? Позабыли, небось? На машкерадный костюм к Рождеству. Самое время его отослать!
Михайла Ларионович посмотрел на нее так пристально, что девушка пришла в смятение.
– Будет! – сказал он коротко. – Насмешек я не люблю.
Василиса неловко приняла у него из рук сверток, не зная, поблагодарить ли, или вернее будет просто промолчать.
– Это дело у тебя ведь не срочное? – уверенно спросил Михайла Ларионович, кивая на корзину с нащипанной корпией.
Девушка покачала головой.
– Тогда пройдемся, составишь мне компанию! – скорее приказал, чем предложил офицер и, к вящему ее смущению, добавил:
– Насладиться хочу… твоей беседой.
Они долго ступали друг подле друга в молчании. Не произнесли ни слова, пока не остался позади русский лагерь, а вслед за ним и татарское селение, близ которого тот был расположен. Наконец, вышли на холмистое пустое пространство, с правой стороны окаймленное морем. По краю его они и пошли. Василиса поплотнее запахнула полы тулупа (ветер гулял тут беспрепятственно), а Михайла Ларионович как будто и не чувствовал его пронизывающих порывов.
– Непривычно здесь без наших-то лесов, – начал он разговор, – зато и неприятелю укрыться негде.
– Укрыться негде, – согласилась Василиса, – но и наступать в степи сподручнее, чем в перелесках.
– Мыслишь, как стратег! – Михайла Ларионович поощрительно глянул на девушку. – Не по-бабьи ты умна, пустынница.
– Сколько дал Бог ума, столько и в дело пускаю, – с легкой улыбкой отвечала девушка.
– Любопытно мне, что ты в дело пустила, когда у Федьки Меркулова пулю в спине нашла? – офицер остановился и взглянул на нее в упор. – Тоже ум? Или что-то еще?
Василиса часто задышала, отводя глаза:
– Велика ли, право, разница, Михайла Ларионович?..
– Велика! – офицер не отрывал от нее взгляда. – По всему выходит, ты насквозь человека видишь. Так это, или нет?
Василиса вскинула опущенную голову. Слезы стояли в ее глазах, заслоняя взгляд словно бы расплывчатым стеклом:
– Не пытайте вы меня, ваше благородие! Что я вам турок пленный? Не по своей воле, бывает, вижу то, что другим не дано. Точно находит на меня что-то. Сызмальства это. Объяснить не умею. И проку мне в том никакого нет, – добавила она горько.
– Зато другим есть, – возразил Кутузов, в то время как Василиса готова была уже разрыдаться от того, что лишь интерес толкнул его к ней, а не чувство, – почитай, с того света Федьку вернула.
Василиса безучастно мотнула головой: что ей тот Федька?
– Что же ты судьбу свою с ним не захотела устроить? – уже более мягко, даже вкрадчиво допытывался офицер.
– А я и так хорошо устроена вашей милостью, – отвечала Василиса неестественно высоким голосом, безуспешно пытаясь подавить бурю в душе.
Михайла Ларионович отвел взгляд, устремив его на море, неспокойное в тот день, все в пенных валах и натурально черного цвета, будто бы решило оно оправдать свое название.
– Развела нас с тобою служба, – произнес он мягко, оборачиваясь к ней и беря ее за обе руки, – ну да нынче затишье. Пора уж сызнова друг о друге вспомнить!
У девушки пламенело лицо, точно зажег он свечу в ее душе.
– Разве ж я вас когда забывала? – еле выговорила она.
Михайла Ларионович смотрел на нее так ласково, как если бы держал перед ней полные медом соты и предлагал его отведать.
– Да и тебя захочешь не забудешь! – произнес он не то в шутку, не то всерьез, и, наклонился к ней, видимо желая поцеловать. Однако Василиса в смятении опустила голову, и ему удалось прикоснуться губами лишь к волосам у нее на макушке.
Оставшись наедине с собой в лазарете и развернув принесенный им сверток, чтобы вновь полюбоваться тканью, обнаружила Василиса поверх лазоревого полотна зеркальце в серебряной оправе с хитроумно украшенной рукояткой. И тут же непроизвольно прижала руку к груди, словно надеясь тем самым утихомирить высоко подпрыгнувшее сердце.
XXVII
«…Чем дольше жила я при нем, тем больше дивилась тому, как умеет он к любому человеку войти в расположение и чью угодно дружбу завоевать…»
Рождество не пришло, а нагрянуло в тот год, добавляя к той радостной надежде, коей до краев была полна Василисина душа, извечный возвышенный трепет, что несет с собой этот великий праздник. А помимо того, еще и сладостное чувство примирения.
Их полковой священник, иеромонах Даниил, поначалу не питал к Василисе теплых чувств. Хоть девушка на исповеди и божилась ему со слезами, что никогда не называла себя монахиней, почитал он ее обманщицей. Еще до появления Василисы в лагере ревновал к ней офицерских жен, что, таясь от своего духовника, наведывались к «старице». А после готов был увидеть в ней солдатскую девку и благословлял при встрече словно бы нехотя, презрительно поджав губы. Но, регулярно посещая лазарет, чтобы причащать умирающих и ободрять борющихся со смертью, и видя самоотверженный труд Василисы, он понемногу сменил гнев на милость. И хоть к прозвищу девушки «святая» отнесся неодобрительно, но исцеление Федора заставило его по-новому взглянуть на необычную обитательницу лагеря. Во время праздника введения Богородицы во храм, услышав, как Василиса подпевает хору на клиросе, он впервые завязал с ней беседу и, узнав, что она поповна, не смог скрыть свой интерес. А на Николу зимнего[16] сам разыскал девушку после службы и милостиво предложил присоединиться к певчим на Рождество. По словам Якова Лукича, с которым Василиса поделилась своей радостью, это было равносильно заключению мирного договора.
По большим праздникам службы в лагере проходили под открытым небом, так как ни одна палатка не смогла бы вместить около тысячи солдат и офицеров гарнизона, офицерских жен и детей, и их прислугу, вывезенную сюда, на край империи, из центральных губерний России, где и генералы, и капитаны, и даже подпоручики владели деревнями с большим или меньшим количеством душ. Не скудное царское жалование кормило и одевало премьер-майоров и прапорщиков по всей империи, а никому не ведомые мужики, пашущие, сеющие и жнущие не с тем, чтобы самим жить в довольстве, а чтобы в сотни, в тысячи раз меньшее число господ могло, не заботясь о хлебе насущном, одерживать победы во славу императрицы, с шиком ухаживать за дамами, вкушать азарт карточной игры, блистать на балах или даже черкать вирши в альбомы уездных барышень. Однако едва ли кому-либо из бравых отцов-командиров, со склоненными головами слушающих сейчас Евангелие, приходилось об этом задумываться. Как не задумывались они и о том, что бабы крестьянские рожают сыновей не себе на радость и в утешение, а для того, чтобы царю-батюшке или государыне-императрице было из кого набрать рекрутов, да положить их затем в чужой земле под чужими небесами во имя того, что именуется в казенных бумагах «интересами Российской империи».
Могли ли размышлять о том в Рождественскую ночь солдаты? Бог весть… В двух тысячах верст к северо-востоку от Ахтиара полыхало восстание Пугачева, всего четыре года назад, как и они, бившего турок под Бендерами, и защитники осажденного Оренбурга уже видели в страшных снах виселицы с качающимися на них дворянами. Но под ясными звездами Тавриды рабы-солдаты мирно стояли бок о бок с господами-командирами, внимая торжественным распевам Рождественского тропаря: «Рождество Твое, Христе Боже наш, воссия мирови свет разума…»
В те минуты, когда хор умолкал, и вместо него раздавался зычный голос отца Даниила, стоявшая на клиросе Василиса позволяла себе скосить глаза на Михайлу Ларионовича. Офицерам с их домашними почтительно выделили место прямо перед импровизированным алтарем, так что находился ее возлюбленный совсем близко от нее и выглядел так величественно и торжественно, словно был одним из волхвов, пришедшим почтить младенца-Христа. Он тепло отвечал девушке взглядом, но делал это чуть свысока, не как равный, а как покровитель.
«Дева днесь Пресущественнаго раждает…» – выводил голос Василисы, но душою она была не в Вифлеемской пещере, где появлялся на свет Спаситель. Ее собственное сердце, так долго вынашивавшее любовь, но никак не дававшее чувству воли, не в силах более терпеть раскрылось в ту ночь. Нежность и восхищение, радость и трепет, восторг и желание струились из него беспрепятственно и разливались, как море, на берега которого привел ее Михайла Ларионович из монастырского уединения.
«Слава в вышних Богу и на земли мир, и в человецех благоволение…»
Переполненный счастьем голос девушки возносился к самому небу, доверяя ему свои чувства, и в ответ нисходили на нее такая радость и покой, точно ангельские крылья, обняв согрели ей душу. И каждый взгляд на Михайлу Ларионовича все больше и больше внушал Василисе, что никто так не заслуживает горячего чувства, как он, своей отвагой и веселостью, умом и добротой, гордой статью и чарующим взором. Едва ли нашелся бы во всем свете человек, могущий противостоять его обаянию!
Она впервые открылась любви, как цветок солнцу, ощущая горячее прикосновение светила и преображаясь в его лучах. Как же сладостно для сердца быть открытым! Не скукоживаться в одиночестве, не сжиматься в страхе, а распахивать лепесток за лепестком навстречу светлой радости. Не гадать с тревогою о том, что будет дальше, не печалиться, сколь многое разделяет тебя с любимым, но жить одним мгновением восторга, превосходящим, может быть, всю последующую жизнь остротою чувства.
Вновь украдкой бросая взгляд на Михайлу Ларионовича, она надеялась увидеть то же, что испытывала сама, в его глазах. Но видела в них другое: покой, силу и горделивую уверенность в себе человека, привыкшего побеждать.
На святках, омраченных для девушки памятью о смерти отца, Михайла Ларионович все время был в разъездах. С его собственных слов Василиса знала, что Кутузов объезжает татарские селения на западном берегу Тавриды, встречаясь с местной знатью и духовенством. Бекам он дарил изящные кинжалы, изготовленные здесь же, в лагере солдатами, бывшими кузнецами в своих деревнях, которым в радость было взяться за привычный труд. Священникам же мусульманским – имамам – преподносились деревянные четки редкой красоты. Изготовил их тоже солдат, бывший столяр, из корня тополя, коий давал необыкновенный узор: темные пятна на светлом фоне. Подарки преподносились по случаю праздника Рождества Христова с уверениями в том, что, милостью императрицы, любая вера может быть свободно исповедуема в пределах государства Российского. Беки кланялись, благодарили, приглашали к себе в дома на угощение, а имамы деликатно замечали, что Коран также чтит Ису сына Марьям как великого пророка. И те, и другие вслух дивились тому, насколько свободно их русский гость владеет турецким языком, а про себя – как у него хватило смелости явиться к ним в одиночку, в сопровождении всего лишь одного слуги.
Разговоры же с татарскими старейшинами велись о том, что Россия желает Таврической земле процветания и свободы, в то время как турецкий султан выкачивает из нее налоги в свою казну и, попирая права татар, сажает на их престол своих ставленников.
– Однако сейчас нашим ханом стал тот, кто угоден России, в чем же разница? – насмешливо осведомлялся бек Фарид.
– Сахиб-Гирей был избран вашими же татарскими старейшинами, – деликатно напоминал Кутузов, – которые сразу осознали, какие выгоды крымскому ханству принесет независимость от Турции. Отныне вы можете сами управлять своей землей.
– Мы могли бы в это поверить, если бы присутствие ваших войск не напоминало нам об обратном, – усмехался мирза Наиль.
– Наши войска противостоят султану, но не татарам и ногайцам, чью землю турки считают своей – мягко возражал Кутузов.
– Турецкий султан – наш верховный калиф, и покровительство Турции нас не тяготило, – настаивал имам Дамир.
– Трудно представить себе, чтобы в крымском ханстве не нашлось своего духовного вождя! – выражал недоумение Кутузов.
Однако первые его поездки не принесли сколько-нибудь ощутимых результатов, кроме одного. Имам ближайшего к Ахтиару селения под названием Учкуй проявил к нежданному гостю большую доброжелательность, чем остальные, и, угостив его горячим, бодрящим напитком из местных трав, осведомился, где русский офицер так хорошо овладел турецким языком.
Кутузов, порядком устав к тому времени от холодной сдержанности прочих татарских старейшин, был рад сменить тему разговора. Он охотно рассказал, что научился турецкой речи, служа в Бессарабии и беря уроки у пленного турка. И с тех пор не упускал ни единой возможности поупражняться в языке. Имам Дениз взглянул на него с уважением:
– Другие на вашем месте погнушались бы и учить язык врага, и пользоваться услугами пленных, – заметил он.
Кутузов махнул рукой, как если бы речь шла о чем-то совершенно не значительном:
– Мы враги лишь по воле наших государей и то до заключения мира. Кстати, – уловив благоприятный момент, добавил он, – я бы с большим удовольствием взялся за изучение татарского языка.
Свое предложение он подкрепил обаятельной улыбкой.
Какому человеку не льстит возможность ощутить себя учителем! Тем более что в ученики просится офицер захватившей твой край могущественной державы, от которой зависит твое будущее благополучие… Имам согласился, и Кутузов стал регулярно наведываться в Учкуй. Меж турецким и татарским языками было большое сходство, и русский офицер показал себя способным учеником. По окончании занятий он со своим учителем подолгу беседовал по-турецки, обсуждая то необычно холодную зиму, грозящую погубить урожай, то очередное морское столкновение русской эскадры с турками, то будущее Тавриды под управлением России, о котором имам, как ни сдерживался, все же проявлял беспокойство. А через некоторое время, приезжая на урок, Кутузов стал с удивлением обнаруживать в доме Дениза и других татарских старейшин, с которыми ему в разных селениях уже доводилось иметь беседу. И все они после вступительных разговоров переходили к одинаково волновавшему всех вопросу: что несет Россия Тавриде?
– Свободу и спокойствие! – внушал им Кутузов.
Он всегда испытывал радостное возбуждение, едва предоставлялась возможность держать речь, доказывать, убеждать. Искусством красноречия владел он не хуже, чем искусством одерживать победы в бою, а наслаждался им, пожалуй, даже больше. Насколько меркнет и пушечный огонь, и штыковая атака перед силой слова, что, никого не убивая и не калеча, добивается должного результата. И какое удовольствие играть тоном голоса, видя, как воздействуешь им на слушателей, заставляя их то возбужденно подаваться вперед, то с облегчением расслаблять напряженное тело.
– Мы слышали, что земледельцы в России – настоящие рабы своих беков, – взволнованно говорил ногайский мирза Эльмас, – но наш народ не стерпит такого обращения!
– Из уважения к ногайскому и татарскому народам императрица не станет менять ваши обычаи, – убеждал в ответ Кутузов.
– Пока ее власть в Крыму не упрочилась – может быть, – упорствовал мирза, – но со временем…
– Я уверяю вас, – мягко подхватывал его незаконченную фразу Кутузов, – императрица будет помнить о том, что Турция с вожделением смотрит на Крым, а потому постарается стать более желанной владычицей, чем султан.
Мирза не мог сдержать улыбки.
А Кутузов краем уха слышал, как имам Дениз говорит по-татарски другим своим гостям:
– Если бы все русские были так же любезны, как этот офицер, их владычество не внушало бы опасений.
В свой следующий приезд Кутузов как бы невзначай поблагодарил Дениза за высокое о нем мнение. Имам оторопел:
– Я не думал, что вы уже так свободно понимаете по-татарски!
– С таким учителем, как вы, легко заговорить на любом языке, – с полной искренностью в голосе признался офицер.
Эти слова окончательно скрепили их дружбу. Встречи же и беседы с другими татарскими старейшинами в доме Дениза стали происходить постоянно и всякий раз заканчивались все более и более тепло. И, вероятно, именно вследствие этого Ахтиарский гарнизон никогда не знал нападений со стороны местных жителей, от чего страдали русские лагеря по всей Тавриде.
Кутузов же в разговорах с имамом, не утерпев, обмолвился однажды о необычной девушке, с которой свела его судьба. Дениз с большим интересом выслушал об удивительных способностях Василисы и выразил желание помочь ей в ее трудах. Вернувшись в лагерь, Кутузов передал Василисе в подарок от имама колючее растение, предусмотрительно завернутое в платок. Нетерпеливо развернув его, девушка увидела округлый толстый стебель и расходящиеся от него, как лучи звезды, сочные узкие листья, унизанные колючками.
– Имам сказал, что его сок заживляет раны и возвращает коже молодость, – с удовольствием видя, что доставил девушке радость, – сообщил Кутузов. – А если смешать его в равных частях с медом и красным вином, то восстанавливает силы.
Василиса с уважением рассматривала чудодейственное растение. Затем с не меньшим уважением перевела взгляд на Михайлу Ларионовича.
– Удается же вам и врага к себе расположить! – восхитилась она.
– А как же без этого? – наслаждался ее восхищением Кутузов. – С кем воюешь, того понимать надобно, а проявишь к человеку интерес – он к тебе дружбу питать начнет. С людьми управляться – отдельная стратегия, – гордясь собой, добавил он.
Василиса промолчала – что-то в его последних словах заставило ее испытать напряжение.
– Ну а ты заводи себе аптекарский огород! – уже другим, веселым и легким тоном, посоветовал Кутузов, заметив ее опущенный взгляд. – Трав лечебных я тебе еще достану.
Василиса задумчиво улыбнулась:
– Живой воды бы где найти!..
– Спрошу о том у имама, авось подскажет! – с полной серьезностью пообещал Кутузов, взглянув ей в глаза на прощание и оставив у лазарета с животворным и колючим подарком в руках.
* * *
Всего несколько месяцев успела провести Василиса в лазарете, а ее служение уже воспринимали так же естественно, как и службу любого другого воина. Хотя на деле медсестра в армии XVIII века, да и любого другого предшествующего столетия была явлением уникальным: на протяжении долгих веков воюющие мужчины обходились без их помощи. Регулярная медсестринская служба возникла лишь в середине XIX столетия в ходе последней русско-турецкой кампании; до того времени раненых поручали, рабам, товарищам-солдатам, монахам или Господу Богу в зависимости от того, на какой исторический период мы бросим взгляд. Этот факт вызывает не меньше удивления, чем пресловутое отсутствие колеса у южноамериканских цивилизаций, но после краткого экскурса в историю удивляться будет, пожалуй, нечему.
Прежде всего, вспомним о том, что до того, как начала широко применяться анестезия (середина XIX века) и антибиотики (середина XX века), раненые умирали быстро. Максимум, что могли сделать для человека – это вынести его с поля боя, промыть рану, перевязать ее (перед глубокими внутренними повреждениями врачи были бессильны), и предоставить страдальца его судьбе – ведь никаких сколько-нибудь эффективных обеззараживающих и болеутоляющих средств попросту не существовало.
Но и на этот необходимый минимум раненый мог рассчитывать далеко не всегда. Как правило, его участь всецело зависела от сострадания товарищей по оружию. И тут древние цивилизации дают огромную фору не только средневековью, но и новому времени.
Согласно древнеиндийскому трактату «Веда», раненые помещались в специальных палатках, снабженных железными кроватями, а врач обязан был иметь при себе не меньше 127 различных инструментов, включая сильный магнит для извлечения глубоколежащих обломков стрел.
Древнегреческие авторы, начиная с Гомера, постоянно упоминают военных лекарей (при осаде Трои их было аж двое на целую армию!), которые извлекали наконечники стрел, отсасывали из раны кровь и посыпали ее успокаивающим зельем. Солон заботился об организации государственной помощи раненым воинам. Аристид упоминал о том, что в Афинах существовали специальные военные больницы. Ксенофонт описывал, как во время одного из походов движение греческих войск было остановлено на 3 дня для ухода за ранеными. Однако присутствие врача в армии все же не считалось чем-то само собой разумеющимся. Например, перед походом Алкивиада в Сицилию в народном собрании всерьез обсуждался вопрос: посылать врача в эту экспедицию, или нет. И Гиппократ, чьим именем клянутся современные медики, предложил отправить с войсками своего сына.
Рим, по сравнению с Грецией, шагнул далеко вперед, благодаря безупречно четкой организации. Каждый легионер обязан был иметь при себе перевязочные средства, а специальные команды носильщиков организованно доставляли солдат с поля боя в лагерь. Позднее им даже стали платить за эту услугу, но, к счастью, раскошеливаться приходилось не самому спасенному, а государству, которое оценивало каждую выжившую человеко-единицу в золотую монету. В лагере раненый тут же попадал в руки врачей (по 4 лекаря на когорту в 1000 человек) и вздыхал с облегчением: система – великое дело! Уход за выздоравливающими поручали рабам (что, вероятно, делали и греки). Даже больных военных лошадей лечили в особых стойлах под названием Veterinaria! Императоры любили посещать лазареты для поднятия воинского духа, а врачам ставили памятники, как тот, например, что был найден в веками позже в Швейцарии. Надпись гласила: «Клавдию Гимносу – врачу 21 легиона».
Византия продолжила славные римские традиции, вменив санитарным отрядам также в обязанность носить при себе бутыли с водой. А вот падение Римской империи привело в упадок и военную медицину. Варвары не склонны перенимать чей-либо культурный опыт, а разномастные феодалы, как клопы, наводнившие Европу в средние века, ни в грош не ставили жизни зависимых крестьян, понуждаемых ими сражаться в своих интересах. Ну, ранен так ранен – не возиться же с ним! И хорошо еще, если междоусобные стычки происходили неподалеку от родной деревни – тогда человека сдавали на попечение близких – а если нет? Как правило, после сражений вся масса раненых крестьян и наемников лежала на поле боя в мучениях безо всякой помощи. А феодал при этом спокойно уезжал в свой замок праздновать победу или оплакивать поражение.
Если поход был достаточно крупным, то за войском вместе с маркитантами следовали также разнообразные знахари и шарлатаны, после каждого сражения слетавшиеся к раненым, как вороны. Пользуясь отчаянным положением солдат, они за определенную мзду врачевали (или делали вид, что врачуют) раны, попутно приторговывая «чудодейственными» снадобьями, ладанками, амулетами. Кто выживал, свято верил, что снадобье помогло.
Поразительно, но даже во время крестовых походов – фантастического для средневековья по размаху предприятия – вопрос регулярной медицинской помощи продуман не был. Врачи в армии (точнее, конгломерате армий), конечно, имелись, но нанимали их вожди крестоносцев для себя любимых, а не для своих солдат. Не исключено, конечно, что те оказывали помощь и простым ратникам, но это был уже вопрос совести каждого из лекарей. В большинстве же случаев совесть молчала, и раненого крестоносца неумело перевязывал его товарищ по оружию, а кружку воды ему подавала обозная девка, и то если у обоих было доброе сердце.
При этом иногда (как чудовищно бы это ни звучало) организованная помощь раненым состояла в том, что им помогали… отправиться на тот свет. Например, при осаде Гройнингена в Нидерландах командир отдал приказ покончить со всеми тяжелоранеными и больными в отряде – уж больно много хлопот они доставляли! А главнокомандующий итальянской армией при Карле V, маркиз де Пескара, отдал приказ по войскам, чтобы все солдаты, которые не могут передвигаться сами, были заживо похоронены. Оправдывал себя он тем, что препятствовал распространению некой болезни. И ведь действительно воспрепятствовал…
Единственным светлым лучом, который мог бы немного озарить эту мрачную картину, были монастыри. При них создавались больницы-приюты, где раненый (если ему еще повезет добраться до подобного приюта!) теоретически мог отлежаться и выздороветь. Но практически благие намерения как всегда привели не туда, куда предполагалось. При полном отсутствии того, что в нашем понимании является гигиеной, смертность в этих заведениях зашкаливала. Если у одного твоего соседа по палате сыпной тиф, у другого – лихорадка неясного генеза, и все это вместе монахи лечат одними молитвами, много ли у тебя шансов?
Отправившись из Европы в родные края, мы тоже вряд ли найдем, чем похвастаться. После поражения Лже-Дмитрия в 1605 г. во время осады города Кромы в войсках Бориса Годунова началась эпидемия дизентерии. Когда весть об этом дошла до царя, тот, по совету своих московских врачей послал в войска нужные лекарства. Подействовали они или нет, неизвестно. Неизвестно также, сколько воинов осталось в живых, пока весть шла до Годунова, а лекарства – обратно.
Впрочем, прогресс неминуем, и в 1615 г. при царе Михаиле Федоровиче в русской армии уже был один лекарь, получавший жалование от государства. К 1670 г. относится указ о «безденежном лечении раненых чиновников и стрельцов», что подразумевает присутствие в армии хотя бы нескольких медиков.
При Петре I армия становится регулярной, и в ней появляются иноземные лекари (своих в достаточном количестве армия становится регулярной, и в ней появляются иноземные лекари (своих выучить еще не успели). екарства. а никаких надежд. колвыучить еще не успели). Правда, некомплект был по-прежнему ужасен: в 1738 г. на целый полк мог приходиться всего один врач. И вряд ли такое положение дел кардинально изменилось к октябрю 1773 года, когда Василиса попала в Ахтиарский гарнизон. О медсестрах же, как уже говорилось, речи вообще не шло. Поэтому идея Михайлы Ларионовича доверить девушке уход за ранеными была смелым новаторством по тем временам.
Впрочем, не в том ли состоит роль личности в истории, чтобы выдвигать нетривиальные идеи? Хотя, История и без того готовила подполковнику неповторимое место…
XXVIII
«…И ныне, на склоне лет, окидывая взглядом свой земной путь, не могу я припомнить более радостных часов, чем те, что выпали мне в ту зиму…»
Вскоре после праздника Крещения Господня, Михайла Ларионович в очередной раз пожаловал в лазарет, да не просто так, а с очередным подарком.
– Вот, – сказал он с деланной скромностью, кивая на свое подношение, – решил приобрести для нужд ваших санитарных. Раненых там перевозить или еще для какой надобности.
Яков Лукич при виде подарка изменился в лице, а у Василисы в смятении приоткрылись губы. Стояла перед ними лошадь, ладная, подобранная, молодая (видно и не искушенным глазом) и мягко прихватывала хлеб с ладони державшего ее в поводу офицера.
– Это на чьем же она довольствии будет? – сглотнув, осведомился Яков Лукич. – Лазарет-то сами знаете, как снабжают – у нас и полушки лишней не водится.
Михайла Ларионович махнул рукой:
– О сем не печальтесь – фураж вам будет выделен, я позабочусь. Ну, принимайте красавицу!
Повинуясь порыву, Василиса подбежала и обняла молодую кобылку за шею, прижавшись к ее шерсти лицом. Лошадка была удивительно красивой, рыже-чалой масти: рыжие волоски в ее шерсти так обильно перемежались белыми, что конская шкура на отдалении казалась розоватой, а вблизи – покрытой частыми стежками белой нитью. Нежно поглаживая лошадиную морду, Василиса обратила внимание на то, что уздечка из выделанной кожи явно не русской работы.
– У татар купил, где же еще! – подтвердил ее догадку и Михайла Ларионович. – Зовут ее Гюль; по-ихнему – цветок.
– Цветочек мой! – шептала Василиса, вороша пальцами конскую гриву.
И хотя после первого знакомства Гюль отправили на выпас с другими гарнизонными лошадьми, Василиса взялась ухаживать за ней сама, выучилась чистить, запаривать ей ячмень, которым подкармливали лошадей в зимние месяцы, и следить за копытами, чтоб не одолела их гниль. Она полюбила свою питомицу сразу и безоговорочно, как любит мать едва появившееся на свет дитя, и Гюль, будучи, как и все лошади, чрезвычайно чувствительна к внутреннему настрою человека, отвечала ей тем же. Через какое-то время, едва заметив приближающуюся Василису, она стала сама выходить из табуна к ней навстречу и касаться теплым храпом ее груди.
А у Михайлы Ларионовича был в подарке свой интерес. Решительно заявив, что, ввиду превратностей их военной жизни, Василиса просто обязана уметь держаться в седле, он принялся обучать ее верховой езде.
Эти-то уроки и вспоминала впоследствии Василиса как время ничем не омраченного счастья. Выезжали они с Михайлой Ларионовичем в степь над морем, и несколько часов кряду принадлежал он только ей, а она ему, и, хоть невинны были их занятия, ничего слаще этого Василиса и вообразить не могла. Не всякая ли девушка мечтает обрести в возлюбленном не только сердечного друга, но и того, кто мудро поведет ее за собой и будет отчасти отцом и наставником? А Михайла Ларионович учителем был превосходным: строго-спокойным, твердым в решении добиться цели и добрым к своей ученице, но без попустительства. Только теперь в полной мере осознала девушка, отчего так любят его солдаты и отчего батальон его по выучке никем не превзойден. Глядя в чудесные его глаза, все время видела она благую, но властную силу, ею управляющую, и помыслить не могла проявить слабость или воспротивиться. Владел Михайла Ларионович ее душой, как травинкой, что вертел в руках в минуты досуга, и доставляло это девушке лишь наслаждение.
Вскоре окрепли против прежнего ее голени, привыкшие едва не ежедневно стискивать конские бока, уже не выматывала душу рысь с брошенными стременами, и не истиралась в кровь о седло нежная кожа с внутренней стороны колен. На галопе не вцеплялась она отчаянно в повод, дабы не терять равновесия, но прямо держала спину; не вихлялось под ногой стремя, как приклеенное теперь к носку сапога, и мастерство ее доходило уже до того, что могла Василиса обернуться на скаку, чтобы послать улыбку своему учителю.
Много прелюбопытного довелось ей узнать за это время. О том, например, что лошадь, впервые видя своего нового всадника, шагов за двадцать уже знает, уверен он в себе или нет. И если нет, то будь человек хоть Ильей Муромцем с виду, конь и с места под ним не стронется, или же выбросит из седла. А если крепость духа в нем почует, то хоть мальчишке пятилетнему повиноваться станет.
– Тебя-то Гюль сразу хозяйкой признала, – добавлял Михайла Ларионович к смущению, но и удовольствию Василисы, – для нее твоя сила, как на ладони.
Девушка тихо удивлялась: никогда не почитала она себя сильной ни телом, ни духом, но не возражать же в ответ на похвалу!
По окончании их занятий, когда утомившихся от скачки, тяжело дышавших лошадей переводили на шаг, между учителем и ученицей непременно завязывался разговор. Василиса уж давно приметила, что ее возлюбленный весьма словоохотлив, в особенности же любит он повествовать о своих победах. Тут и вправду было, чем похвалиться! Еще отроком, в военной школе, в лучших ходил учениках, а в математике таких достиг успехов, что определили его преподавать оную солдатским детям, при той же школе обучавшимся. Там-то впервые испробовал он, еще совсем мальчишкой, сладостный вкус власти, к которой впоследствии тянулся, как влюбленный к предмету своих грез.
А после, приступив к военной службе и получив под свое начало солдат, быстро одержал победу над их сердцами. К ним, вчерашним хлебопашцам и мастеровым, насильно согнанным под знамена императрицы, нашел единственно верный подход: властвуя, быть им другом и во всем блюсти их интерес. Не приведи Бог покуситься на солдатское жалование, что делали иные из его сослуживцев, или наказать кого, не разобравшись. Всех, кто к нему обращался, выслушивал со вниманием, ни на чью беду не махал рукой. Любил хвалить, да прилюдно и мысль о геройстве как можно раньше старался заронить в солдатские души. Ведь чем еще сподвигнуть на усердие в ратном деле, людей, не выбравших его по доброй воле? Одним лишь обещанием того, что каждый может превзойти других выучкой и смелостью, высоко поднявшись в глазах командира и товарищей. Не уставал он повторять во время упражнений, что ведет свой батальон к воинской славе, не грозил солдатам ничем, лишь вслух сожалел о том, что едва ли сможет нерадивый блеснуть на поле боя. А поскольку донельзя уверен он был в своих словах, да в глазах его как будто полыхали предстоящие баталии, солдаты шли за ним, как завороженные.
Опасность же Кутузов любил и искал ее, как иные ищут укрытия от опасности. Когда во время восстания в Польше, гордые паны не захотели видеть на престоле Станислава Понятовского, Екатерина II поддержала своего любовника российскими войсками. А Михайла Ларионович тут же подал рапорт о том, чтобы ему присоединиться к этим войскам. Где еще стяжать себе славу, как не на поле боя! Не в тихом же лагере под Петербургом. И служил он в Польше так, что командиры отмечали его едва ли не в каждом донесении о победе. Равно, как и впоследствии – в Бессарабии и Молдавии – везде, где Оттоманская Порта препятствовала выходу России к Черному морю. Неизменно отличаясь доблестью, на виду у начальства был он всегда.
– Что ж вы потеплее себе местечка не выхлопотали, чем наш гарнизон? – лукаво осведомлялась Василиса.
– Да уж куда теплее! – смеялся Михайла Ларионович. – Летом от жары хоть в море топись! А так… Служил я в штабе у Румянцева квартирмейстером. И размещением войск заведовал, и провиантом, и рекогносцировкой. Да в штабе разве развернешься? Мне простор нужен, чтоб командовать, а в тепленьком местечке и скиснуть недолго.
Василиса преисполнялась к нему уважением.
Один лишь рассказ и поразил ее, и озадачил. Поскольку приоткрыл ту сторону души ее возлюбленного, с коей доселе она знакома не была. Как-то раз, когда ее лошадка, отдыхая от науки, шагала рядом с офицерским жеребцом, девушка, уже давно любовавшаяся этим золотисто-буланым скакуном, осведомилась: откуда он у Михайлы Ларионовича?
Тот охотно рассказал. Когда служил он в Бессарабии, владел там этим жеребцом по кличке Хан один турок из султанского гарнизона. Восхитившись прекрасным животным, Михайла Ларионович загорелся его купить, но не тут-то было – турок запросил за коня пятьсот червонцев[17]. Опечаленный ценой, Кутузов отказался от покупки, но чертов турок нарочно стал как можно чаще появляться у офицера на глазах именно на этом коне. Однако Михайла Ларионович не сдался и не выложил за жеребца бешеные деньги, он выжидал. И дождался-таки своего часа! После штурма и захвата важнейшей на том участке военных действий турецкой крепости, когда стало очевидно, что Турция теряет здесь свои права, хозяин жеребца сам явился к нему с предложением уступить коня за двести рублей. В итоге сошлись на ста шестидесяти.
– Да неужто вам после боя до торгов было? – изумилась Василиса. – Вон вы только что рассказывали, сколько товарищей в том деле потеряли, как слезами заливались, по трупам ступая… О коне ли тут думать?
Михайла Ларионович непонимающе пожал плечами:
– Что ж, товарищей уже не вернешь, а выгоду свою соблюсти никогда не помешает.
Василиса отвела взгляд.
В тот вечер ощутила она с грустной очевидностью: а ведь и сейчас выжидает Михайла Ларионович, выгоду свою соблюдая! Предвкушает тот миг, когда ее доверие к нему не станет полным, и тогда вновь поведет свое наступление. Ведь осталась она как не захваченная крепость у него в тылу, а сего допустить нельзя! Крепости должно покорять и разорять; впрочем, иногда и милуют их жителей, но не горше ли от этого твое поражение?
Со вздохом запахнула девушка одежду, как от студеного ветра. Тянет к ней ее избранника, спору нет, но тянет не душою, а разумом и телом. Ум его покорен необычным ее свойством, и, хоть не допытывался он более о том, откуда у Василисы ее дар, да насколько тот простирается, чувствовалось: ждет Михайла Ларионович новых откровений. А тело его, крепкое и ладное, всем строем их военной жизни подготовленное к сражениям, тело жаждет одержать победу. Что же за победою последует – разгром или милость – Бог весть!
XXIX
«…И подумалось мне тогда: едва ли есть в лекарском деле то, что здравому смыслу противоречит. От него и отталкиваться след…»
А тем временем дела сердечные переплетались с делами повседневными, точно нити в одном полотне, и негаданно накатило на Василису множество хлопот. Прежде всего обнаружилось как-то вдруг, что одежда ее прежняя полностью изношена и от холода спасает не лучше, чем рыбацкая сеть от ветра. Пришлось выкручиваться.
От тех солдат, что скончались осенью в лазарете, осталось порядком одежды: исподнего белья, мундиров, сапог. Они-то и пошли в дело. Надрываясь от натуги, девушка прокипятила вещи мертвецов в медном чане с мылом, высушила и принялась перекраивать на себя. Ушивала порты и рубахи, из мундиров нарезала теплые полосы ткани, обмотав которыми ноги, весьма способно было ходить в солдатских сапогах, что без обмоток болтались на ней, как ведра. Из плотного мундирного сукна справная вышла и юбка, и душегрейка, и платок на голову, почти совсем не пропускавший холода. А перешитая по ее фигуре, изрядно приталенная шинель шла Василисе, по ее мнению, гораздо больше, чем тулуп. Доходя девушке едва ли не до щиколоток, она скрывала все несовершенство нижней ее одежды.
За этими хлопотами пришла Василиса к одной любопытной мысли:
– А не странно ли, Яков Лукич, – задалась она вопросом как-то раз, – что я, здоровая, прежде чем одежду с покойника надеть, чищу ее, как могу, а для раненых мы рубахи мертвецов, не стирая, на корпию разрываем?
– И что с того? – не уразумел врач.
– Как что?! Грязными повязки у нас получаются.
Якову Лукичу явно не приходило это раньше в голову.
– Ну, – неуверенно проговорил он, – выстирай их, коли хочешь, хуже не будет.
Но Василиса не унималась:
– А разве вам в медицинской школе ничего о сем не говорили?
Яков Лукич только рукой махнул:
– Да какая там медицинская школа! Сам я из мещан, наукам никогда не обучался. Как в армию забрали, лет десять простым мушкетером[18] служил. А потом в денщики попал к немцу-врачу. Тот лекарем был справным, да вот по-русски ни бельмеса не разумел. За три года, что я при нем обретался, он материться только и выучился; правда, складно. Ну а я за ним приглядывал помаленьку – там что-нибудь подам, здесь – подержу, вот командир и решил, что я врачебное дело освоил. А потом, когда здесь, в Тавриде война к концу подошла, немца в Бессарабию перевели – там турок еще не добили – а меня где потише оставили. Сказали, мол, активных боевых действий сейчас нет, справишься и ты. Врачей-то знающих по всей армии – раз два и обчелся; вот и берут тех, что вроде меня.
Василиса не нашлась, что ответить.
Но, осознав, что Якову Лукичу самому еще впору учиться вещам очевидным, принялась потихоньку-полегоньку наводить в лазарете то, что, по ее мнению, было порядком. Как могла тщательно отмыла от копоти и пыли стены, печку и все лежаки для больных; прокипятила всю корпию и бинты, и, когда высох перевязочный материал, завернула его в чистый холст так, чтобы и пылинка сверху не осела. Старательно перемыла все инструменты, которыми пользовался Яков Лукич, и решительно сказала, что перед тем, как вновь пускать их в ход, следует протереть и ланцеты, и щипцы.
– И что ты об этой чистоте печешься? – пожимал плечами Яков Лукич. – Как снова раненые пойдут, так ей конец настанет.
Василиса, отмывая его кожаный передник с застарелой, въевшейся грязью, отвечала уклончиво, и сама толком не умея обосновать свое стремление к тому, чтобы раненых окружали чистые вещи. Но перед глазами у нее стояла миниатюра из летописи, повествующей о моровой язве; некогда она ее разглядывала вместе с отцом. Там интуитивно почувствовавший природу заражения художник, изобразил полчища неких чудищ, переходивших от дома к дому с затаившимися там испуганными людьми. Передвигались эти чудища по воздуху от заболевших к еще здоровым, они-то и натолкнули девушку на мысль о том, что воздух вокруг больных и все, что с ними соприкасается, должно быть очищено от чудищ.
В довершение задумалась Василиса вот о чем: воду для лазаретных нужд, в том числе и промывания ран, берут они из родника, но, хоть кажется она чистой на вид, раны часто гноятся. Меж тем подле них море с водой соленой, а кому не известно, что там, где соль, никакая гниль вовек не заведется! Притащив в лазарет несколько ведер морской воды, Василиса тщательно процедила ее через мелкий песок, смешанный с золой и, укупорив ведра полотном, так и оставила сохраняться на всякий случай.
Яков Лукич относился к ее нововведениям с беззлобной насмешкой, пока не пришел черед разводить в недоумении руками. За несколько дней до праздника Иверской иконы Божьей Матери случилась беда: во время учений разорвало пушку, куда засыпали слишком много пороха. Чудом никому не снесло головы, но человек шесть артиллеристов оказались изрядно посечены разлетевшимися осколками. И врач, и его помощница знали по опыту, что осколочные ранения самые скверные: всегда загнаиваются раны, а то и переходят в гангрену.
Но на сей раз все обошлось настолько чудесным образом, что Яков Лукич стал подозревать: а не новшества ли Василисины тому причиной? Специально заготовленной водой были промыты раны, а перевязаны чистейшими бинтами. И зажила развороченная осколками плоть у всех солдат без нагноений.
После этого случая стал посматривать Яков Лукич на свою помощницу с некоторой опаской: вдруг почувствует она свое превосходство и верх над ним возьмет? Но Василиса, как и всегда, вела себя со смирением, выполняла самую черную работу и, если и гордилась втайне чем, не выставляла сей гордости напоказ.
С Яковом Лукичем держалась она, как прежде, почтительно, с солдатами – приветливо и дружелюбно. И лишь с одним человеком в лагере никогда не знала наверняка, как себя вести. Но время от времени втайне от всех доставая подаренное им зеркальце и вглядываясь в него, смеяла надеяться, что и Михайле Ларионовичу смотреть на нее так же приятственно, как и ей на саму себя.
XXX
«…Были мы с ним, как волна и берег: завсегда рядом и тщимся слиться воедино, ан нет, не выходит. Но и не оторваться нам друг от друга; верно Провидением назначено сие мучение…»
Пасху в тот год высчитали позднюю, и великий пост начался лишь на второй неделе марта. Тяжкое это было время – лагерь буквально оцепенел от холода! Вспоминая летнее пекло Тавриды, Василиса надеялась, что холода отступят здесь раньше, чем в родных ее краях, но нет: страшная промозглая сырость, коей не бывает в далеких от моря землях, к тому же усиленная морским ветром, заставляла леденеть в начале весны не хуже, чем в самый трескучий мороз.
Солдаты выбирались из казарм разве что для учений, в остальное же время сбивались к беспрерывно топившимся печам, точно цыплята – к наседке. Караульные несли службу в одеялах поверх мундиров, на что командиры закрывали глаза – иначе недолго солдат продержится. Вся лагерная жизнь, что могла позволить себе замереть, замерла в эти дни, прекратились и верховые прогулки Василисы с Михайлой Ларионовичем. Однако едва миновала неделя Торжества православия, как подполковник вновь объявился в лазарете. По его мнению, лошади чересчур застоялись, да и ветер поутих – пора возобновлять уроки!
Ни единого робкого намека на весну не ощущалось в природе, когда их лошади, то и дело возбужденно переходя на рысь, шагали вдоль круто обрывающихся к морю меловых скал. Иссушенная за лето и сопревшая мокрой зимой трава была неприглядна, ни единого цветка еще не выбилось из-под земли, не набухло ни одной почки. И когда всадники, размяв лошадей, пустили их вскачь, любоваться им пришлось лишь неприветливо холодным небом.
В тот день не свернули они, как обычно, к живописным сосновым лесам в окрестностях Ахтиара, не укрылись в защищенной от ветров Балаклавской балке, а держались вдоль самого края моря. И вскоре Василиса с изумлением приметила впереди словно бы крепостные стены, сложенные из пористого желтоватого ракушечника. Заслоняли они собой уютную гавань и тянулись вдоль холма, на который вскоре и взлетели лошади. Там-то Василиса и придержала Гюль, не поверив собственным глазам.
Прямо над морем, на самом краю обрыва, гордо и одиноко высились мраморные колонны. Не было меж ними стен, как не было и крыши над ними, и словно бы не развалины древнего храма увидела девушка, а стайку чистых и гордых девиц, что стойко выносят и ветра, и холода, и людское забвение, стоя здесь смиренно и безропотно дабы выполнить им одним известный долг.
– Что это? – изумленно выдохнула девушка.
– Должно, капище эллинское. Давно хотел тебе показать.
Их кони спустились с холма к самым колоннам. Склон был неровным; то там, то здесь из-под пожухшей травы проступали крупные обтесанные камни. Василиса гадала: не стены ли это эллинских домов, от времени ушедших в землю?
Колонны вблизи оказались блестящими от покрывавшей их влаги. Сойдя на землю, девушка прошлась меж ними, дотрагиваясь до мрамора рукой, как если бы желала поприветствовать и ободрить.
– И почему вас люди бросили? – обратилась она к колоннам с вопросом. – Почто из города ушли?
– Завоевали его, небось, – ответил за безгласный мрамор Михайла Ларионович, – как разграбили, так и стал никому не нужен.
Василиса молча вслушивалась в его слова.
Прислонившись к одной из колонн, она обратила взгляд к морю. Штормовые валы взлетали необычайно высоко в тот день; их брызги взвивались над скалами, едва не захлестывая площадку, где располагалось капище. Ветер дул немилосердно, однако Василиса, как не леденела, почему-то не сходила с места. Вскоре она ощутила, как Михайла Ларионович, подойдя к ней сзади, встал за ее спиной.
– «Земля же была безвидна и пуста, – красиво произнес он нараспев, – и тьма над бездною; и Дух Божий носился над водой». Прямо как нынче… Не зябко тебе?
Его руки сомкнулись поверх ее одежды, преграждая путь ветру.
Василиса чувствовала его дыхание совсем близко от своего виска, с ужасом и стыдом сознавая, что ей совсем не хочется освобождаться из этих согревающих и умиротворяющих объятий. Непроизвольно она подалась назад, и он немедленно прижал ее к себе еще крепче.
– «Нехорошо человеку быть одному», – услыхала она его насмешливо-нежный шепот, одновременно ощутив, как пальцы его без перчаток скользят по ее щеке.
– Вам бы, Михайла Ларионович, богословом быть, – почти без сил прошептала Василиса, – все-то Писание вы наизусть знаете!
– Ну, все – не все, а что мне надо, то знаю!
«Что надо, знаю; что вижу, то беру; как хочу, так и верчу!» – отозвались у Василисы в голове его невысказанные мысли. Она в смятении повернулась к нему лицом и вновь ослабела от медового взгляда его темно-золотых глаз.
– Чего ж ты опасаешься, Васюша? – ласково укорил ее офицер. – Я тебя от холода спасаю, а ты рвешься куда-то.
И до того был спокоен его тон, до того невинно выражение лица, что захотелось вдруг Василисе ему поверить. Вновь прильнула она к нему, уже не понимая, по своей ли воле или потому что офицер вновь привлек ее к себе.
– Хороша ты – слов нет! – прошептал он через некоторое время самозабвенно, вновь касаясь пальцами ее лица и лаская нежный изгиб ее подбородка. – А живешь, как и прежде монахиней. Думаешь, зря тебя Господь такой прелестью наделил?
Все Василисины чувства, поднятые его словами со дна души – смущенье, сомнение, гордость, надежда – завихрились гибельным водоворотом, лишая ее способности мыслить хоть сколько-нибудь здраво. Перестала она ощущать и ледяной натиск ветра: видно кровь ее в тот миг была горяча, как во время болезни.
Погладив ее по голове, Михайла Ларионович заставил девушку приподнять лицо, и едва она сделала это, решительно припал к ее губам. Сама не ведая, как осмелилась, Василиса ответила на его поцелуй. И, чем дольше не размыкались их губы, тем большую слабость и нежность она ощущала.
Наконец оторвались они друг от друга, но встретились их глаза. Василиса беспомощно сознавала, что офицер читает в ее взгляде счастливую покорность его воле. На его же лице было написано горделивое самодовольство.
– Ну, чай вдвоем-то лучше, чем одной! – проговорил он с ласковой усмешкой и по-хозяйски обхватил ее за плечи. – По крайности, теплее, а?
Тут Василиса нашла в себе силы вернуть сердце под командование разума:
– Что же, холода мы с вами вместе проведем, – полюбопытствовала она, – а как солнышко пригреет, разойдемся?
– Зачем же расходиться? – пробормотал Михайла Ларионович, захваченный врасплох ее вопросом. – Вовсе незачем.
– Так ведь греться будет уже ни к чему! – мягким голосом, но, обретая привычную твердость духа, напомнила Василиса.
Михайла Ларионович молчал, нахмурившись. Похоже, к той крепости, что он уже считал выбросившей белый флаг, прибыли на подмогу свежие войска. И пренебречь своей победой он не желал, и сражаться больше было невмоготу.
– Холода еще с месяц продержатся, – произнес он с некоторым стеснением в голосе.
– Стало быть, до Пасхи еще вместе пробудем? – горько улыбнулась Василиса в ответ.
У Михайлы Ларионовича как-то вдруг изменилось лицо: строже стало его выражение, глубже взгляд:
– А от Пасхи и до Красной горки[19] недалеко, – со значением сказал он.
Василиса замерла, и надеясь поверить, и не веря услышанному:
– Вот как, стало быть? – прошептала она.
– А ты как думала! – явно гордясь собой, подтвердил офицер и вновь склонился к ее губам и лаская, и вливая ей в душу надежду, и заставляя рассеиваться сомнения, вечно стоявшие в голове, как солдаты в карауле. Бешено взлетали над эллинским капищем обрывки пенных валов, дрожали от беспощадного ветра кони, а Василиса не ощущала ни земли под собой, ни неба над собой, один лишь живительный и властный дух любви, заполнявший ее целиком и заслонявший все ее существо.
* * *
Судьбы городов бывают не менее драматичны, достойны восхищения или даже невероятны, чем судьбы людей. Есть города, рожденные для величия, словно наследные принцы; первым в их ряду уже несколько тысяч лет подряд выступает Иерусалим. Есть – ловкие выскочки; таким нельзя не назвать Мадрид, невесть за какие заслуги вдруг назначенный в XIX веке столицей вместо древнего Толедо. Есть города подобные красавицам, блиставшим в юности, но давно уже хранящим лишь воспоминания о былом блеске – взять, например, Афины. А есть и те, что, как Венеция, вечно будут отблеском райской красоты на земле.
Но есть один город, умерщвленный и снова воскресший, чья судьба особенно поражает воображение. Ни Михайла Ларионович, ни Василиса, стоя на его руинах, не подозревали о том, что «эллинское капище» и есть та самая Корсунь древнерусских летописей, где крестился князь Владимир и откуда христианство распространилось на Русь.
Неизвестно когда первые тавры, населявшие полуостров, решили осесть здесь у моря, на краю степи, но в конце V века до н. э. уютную полукруглую гавань, близ которой располагалось поселение, заприметили греки-колонисты, переселявшиеся из Эллады в поисках свободных земель. Причалили, огляделись, да и остались здесь на долгие века.
Херсонес[20] – так назвали переселенцы этот город – был классическим греческим городом-государством. Он бурно рос, активно торговал с кочевниками-скифами и со своей метрополией и состоял в военном союзе с другими греческими поселениями в Тавриде. В нем рождались и умирали (редкие горожане доживали до 60 лет), лепили амфоры и солили рыбу, приносили жертвы богам, хохотали над комедиями в театре, и даже чеканили свою монету.
Но шли века, и к концу I тысячелетия н. э. в Причерноморье стали все активнее хозяйничать так называемые русы или росы, пришедшие с Днепра. В 945 г. н. э. киевский князь Игорь осмелел настолько, что дерзнул совершить поход на Константинополь. Поход был неудачен, но византийские императоры занервничали. Продолжали они нервничать и при сыне Игоря, Святославе, а внук Игоря, Владимир и вовсе лишил их спокойного сна. Шутка ли! Нарушив договор, заключенный с его отцом о том, чтобы не претендовать «на власть Корсуньскую, и елико есть городов их»[21], Владимир взял в осаду крупнейший форпост Византии в Крыму – Херсонес, или, как искаженно называли его русские язычники – Корсунь.
Византийцам было невдомек, что именно в это время Владимир всерьез задумался о том, чтобы максимально упрочить княжескую власть посредством единой для всего народа веры. Попробовав сперва насадить по всей Руси культ громовержца Перуна и потерпев неудачу, он счел христианство более подходящим для своих целей. Могущество Византии не могло оставить князя равнодушным (не на мелких же европейский князьков было ему равняться!), и Владимир решил убить двух зайцев: позаимствовать у Византии государственную религию и закрепить за собой владения в Причерноморье. Для того и понадобилась осада Корсуни – чтобы византийцы запросили мира на выгодных для князя условиях.
Но вот незадача – Херсонес никак не сдавался! Уж девять месяцев как держится осада, но морем, которое князю неподвластно, византийцы доставляют в город пропитание, и гонца, просящего пощады все нет. Держится город из последних сил, хоть и умирают новорожденные у материнской груди, в которой нет молока, и дети постарше ослабли, как стебельки без солнца, и старики уже не надеются встретить следующую весну. Вконец обозленный Владимир, ничего не добившись ни осадой, ни приступами, приказал сделать земляную насыпь у городской стены, чтобы по ней, как по склону холма ворваться в город. Однако греки подкапывали стену со своей стороны, и за ночь уносили изрядную часть земли в город, так что насыпь не нарастала.
Жаль, что в городе не нашлось летописца, во всех подробностях описавшего бы стойкость его защитников! И пославшего бессильное проклятие предателю. Некто по имени Анастас пустил в лагерь Владимира стрелу с письмом, где указал, откуда в Херсонес поступает вода. Русичи мгновенно перекрыли этот источник, и имевшееся в городе водохранилище перестало наполняться. Город сдался в считанные дни, а византийские императоры со вздохом отправили Владимиру условие перемирия – их сестру Анну и подписали договор, по которому за князем закреплялись его новые владения, а Русь получала выход к Черному морю[22]. Единственное их требование состояло в том, чтобы князь крестился перед свадьбой, но именно это ему и было нужно. Войдя в купель в одном из храмов Херсонеса, Владимир положил начало крещению Руси.
С точки зрения сухих фактов, город потерпел поражение в столкновении с князем, но с иной точки зрения, христианский Херсонес одержал победу над язычником-Владимиром и всей его языческой державой. Покоренный город покорил его душу, ибо, какие бы мотивы не преследовал князь своим крещением, именно в Херсонесе Владимир, а вслед за ним и вся Русь встретились с Богом и верой в его любовь и милосердие.
Благодаря этой встрече, Корсунь-Херсонес вошел в историю, и удивительным образом вся его последующая судьба стала цепью поражений обернувшихся победами. В 1299 г. город был разгромлен ордами хана Ногая, однако, победители не могли не оценить чрезвычайно удобное место расположения Сары-Кермен[23] (так стали называть Херсонес после завоевания), и к западу от стен греческого города возникло татарское поселение – жизнь продолжалась. А пять веков спустя Сары-Кермен, к тому времени изменивший название на Ахтиар[24], вновь был завоеван, вновь русскими, и вновь покорил победителей. На месте рыбацкого поселка возвели величественные белокаменные здания, которым сама Екатерина Великая пожаловала название «Величественный город» – Севастополь. Отныне громкая слава была ему просто гарантирована.
И вновь она сложилась из победных поражений. В 1856 г. после трех лет войны с объединенными турко-англо-французскими силами город был вынужден сдаться неприятелю. Но какой это оставило резонанс! «Мы ожидали легких побед, – с горечью признавала английская газета «Таймс», – а нашли сопротивление, превосходящее все доселе известное в истории». «Долиной смерти» назвали союзники Балаклавскую долину в окрестностях Севастополя, где во время печально известной атаки легкой кавалерии погиб цвет английской аристократии, включая предка Уинстона Черчилля. А одна из главных транспортных артерий Парижа носит почтительное название Севастопольского бульвара. В какой еще столице центральная улица названа в честь покоренного города?
Но истинная победа состояла не в том шоке или почтении, что побежденные внушили победителям. Во время 349-дневной осады Севастополя, когда британская армия потеряла три четверти своего состава из-за несоответствующего зиме обмундирования, голода и антисанитарных условий жизни солдат, появились на свет военная журналистика и военная медицина. Уильям Хауэрд Рассел, корреспондент лондонской «Таймс», пригвоздил британское правительство к позорному столбу своими статьями об истинном положении дел в армии, а дочь аристократической семьи Флоренс Найтингейл возглавила общину медсестер, впервые в истории организовав уход за больными и ранеными так, как это принято в наши дни. Россияне тоже не теряли время даром. Николай Иванович Пирогов произвел настоящую революцию в военно-полевой хирургии, введя сортировку раненых и начав применять хлороформ при операциях, а солдатская дочь Дарья Александрова (прозванная Дашей Севастопольской) создала русскую медсестринскую службу. Не говоря уже о том, что именно над бастионами осажденного Севастополя взошла литературная звезда Льва Толстого. Вот это были истинные победы в войне, не имевшей практически никаких геополитических последствий[25].
Страшный июль 1942 г., когда остатки советской армии на мысе Херсонес прекратили сопротивление гитлеровским войскам, добавили новых лавров к славе города. Героизм защитников Севастополя был признан родной страной, что, согласитесь, нечастое явление! Что особенно нетривиально, изо всех «официальных» городов-героев Советского Союза Севастополь – единственный, получивший это звание после сдачи неприятелю. Впрочем, после того как 80 тысяч солдат были брошены эвакуировавшимся командованием на произвол судьбы, а трупы плавали у берега так густо, что их приходилось расталкивать, чтобы зачерпнуть воды; после того, как колонна пленных растянулась от Инкермана до Бахчисарая, и озверевшие немцы расстреливали в ней каждого, на ком была матросская тельняшка, а заодно и десять человек вокруг него, после этого помпезное звание «города-героя» кажется ничтожным воздаянием за человеческие муки.
Василиса не могла знать ни прошлого, ни будущего того города, с которым так непредсказуемо связала ее судьба, но удивительным образом события ее собственной жизни оказались созвучны участи Херсонеса-Корсуни-Сары-Кермена-Ахтиара-Севастополя. Поражение в браке обернулось для нее победой духовной – обнаружением своего истинного призвания. А следующее поражение… Впрочем, не будем забегать вперед: пока что окрыленная девушка полна надежд. И будущее представляется ей светлой рекой, что, уверенно подхватив, понесет ее к счастью.
XXXI
«…Сей непредвиденный случай глубоко потряс меня, открыв мне то, сколь благородны могут быть движения его души…»
Крестопоклонная неделя наконец-то принесла с собой весну. Теплело день ото дня, все ярче зеленела степь и вовсю распускались почки на плодовых деревьях во двориках татарских домов. Солдаты наслаждались этим лучшим для них временем года, когда уже не терзает холод, но еще не гнетет жара, а безмятежно-ласковое небо обещает лучшую долю.
В один из таких расчудесных дней, на рассвете, караул задержал человека, пытавшегося пробраться в лагерь. Тот при поимке не оказал сопротивления и всеми силами пытался объяснить, что чрезвычайно рад оказаться среди русских. Человек был необычен: несмотря на татарскую одежду, внешность выдавала в нем славянина, а говорил он на двух языках одновременно: то по-татарски, то вдруг, волнуясь, переходил на другой, совсем непохожий говор, который словно бы пшикал на собеседника звуками «п» и «ш».
В качестве переводчика вызвали Кутузова, который не только понял татарскую речь пленного, но и мгновенно узнал второй его язык. Слышать такое «пшиканье» ему доводилось в Польше, где он в юности сражался с мятежными конфедератами. Пленный согласно закивал: да, он поляк! И по-татарски рассказал свою историю, от которой все его слушатели помрачнели и преисполнились сострадания.
Кароль был родом из городка Каменец на юге Польши. Испокон веков эти земли, как и приграничные с Крымским ханством области на юге России подвергались набегам татар, поощряемых султаном, во владения которого затем переправляли славянских рабов. За несколько веков регулярных нападений с угоном людей юг Польши и России почти опустел. Однако после того, как в 1736 году полководец Анны Иоанновны, Миних, впервые нанес по Крыму ответный удар, татары присмирели и как будто отказались от разбоя. Люди стали возвращаться в опустошенные края и мирно жили там вплоть до 1758 года, когда на ханский престол взошел Крым Гирей. Прозванный «Дели» – «Шальным» за страсть к увеселениям, он находил особую забаву в разбойничьих набегах. Пользуясь тем, что Россия к тому времени увязла в Семилетней войне с Пруссией, «Дели хан» смерчем пронесся по едва успевшим зализать свои раны русским и польским землям, угоняя тысячи пленных. Каролю в то время было семнадцать лет…
Что было дальше? Пятнадцать лет рабства. Этими тремя словами сказано все, нечего и добавить. Вроде бы и прожил он эти годы, а словно и не жил. И не сказать, что обращались с ним бесчеловечно – под конец даже дали клочок земли и позволили ее возделывать, отдавая хозяину-беку часть урожая – но лучших лет юности и зрелости жестоко лишили. Неволя каменной плитой ложится на сердце, и, пока она не сдвинута, ни дышать полной грудью, ни чувствовать всей душой, рабу не суждено. Прозябает человек, точно бледный росток под камнем, коему не дают ни подняться, ни налиться силой. Так и стелется он, и жив и не жив, до самой смерти, если камень кто-нибудь не свернет.
Но Кароль дождался – свалили валун, под которым ему так ужасающе долго пришлось томиться. Нет больше власти хана в Крыму, хоть и сидит в Бахчисарае марионетка по имени Сахиб Гирей. Ведь едва овладев Тавридой три года назад, князь Долгоруков освободил всех русских пленников, захваченных шальным Крым Гиреем[26]. Стало быть, и он, Кароль, вправе наконец-то обрести свободу.
– О чем речь! Христианскую душу мы в неволе не оставим, – произнес Кохиус, однако, не слишком уверенным голосом.
Ах, если бы этот беглый был русским! Тогда и волноваться не о чем: согласно мирному трактату, подписанному с Сахиб Гиреем год назад[27] в Карасубазаре, «подданные Ея императорского Величества, которые найтись могут в Крыме и у Татарских народов в плену и в неволе, да будут, вследствие союза и дружбы, без всякого выкупа возвращены и впредь возвращаемы». Но Польша, увы, еще не принадлежала России. Лишь несколько ее северо-восточных областей под названием Белоруссия были два года назад присоединены к Российской империи. Стало быть, невозможно заступиться за этого Кароля с полным на то основанием. И если владевший им бек захочет вернуть принадлежавшего ему раба…
Кохиус решил не обременять себя заранее тревожными мыслями. Он распорядился о том, чтобы поляка поставили на довольствие и определили ему место в одной из казарм. А там будь что будет!
Ровно два дня Кароль наслаждался своей свободой, бродя по лагерю с глуповато-счастливой улыбкой на лице и пытаясь быть чем-нибудь полезным. А на третий бек Фарид вместе с несколькими местными старейшинами, выступавшими в качестве свидетелей, приехал в лагерь, заявив о том, что принадлежащий ему раб-славянин сбежал два дня назад и есть все основания полагать, что он скрывается в русском гарнизоне.
Отпираться было и бессмысленно, и неловко: пронизывающий взгляд бека обличал русских в том, что они укрывают его раба.
– Вы так часто повторяли, что являетесь не завоевателями, а освободителями, – со слащавой ненавистью добавил бек, – что мы поверили в справедливость новой власти. Докажите же ее на деле и верните мне мою собственность.
Кутузов, вынужденный переводить Кохиусу эти слова, понимал, что они обращены лично к нему, а не к командующему гарнизоном. Понимал это и Кохиус, и лицо его темнело на глазах.
– Передайте ему, – мрачно обратился он к Кутузову, – что поляка мы не выдадим. А уж как вашему беку пилюлю подсластить, решайте сами – это вы с татарами дружить надумали.
Несколько секунд перед ответом Кутузов собирался с духом:
– Мирный договор вашего хана с нашей императрицей, – вкрадчиво начал он, – предписывает безвозмездно возвращать России всех пленников, захваченных во время разбойничьих набегов. Речь Посполитая[28], откуда родом ваш раб, уже частично отошла под власть Российской Империи, а затем отойдет и вовсе; вы – умный человек и понимаете, что это всего лишь вопрос времени, причем, недолгого.
Бек слушал его с непроницаемым лицом.
– Помимо этого, Кароль изъявил желание вступить в нашу армию, и мы не можем ему в этом отказать. В последнем столкновении с войсками султана наш гарнизон понес потери. Этого не случилось бы, если бы кто-то из местных жителей, завидев приближение турецких кораблей, предупредил нас. Но, увы, погибло немало русских солдат. Нам сейчас дорог каждый человек, и мы не вправе пренебрегать даже одним добровольцем.
По мере того, как он говорил, глаза бека яростно суживались; очевидно, внутри он кипел от гнева.
– Однако, – продолжал Кутузов, – вам непременно возместят ущерб за то, что вы подарили нашей армии солдата. Идемте!
И, к удивлению всех присутствующих, он поднялся с места.
Бек Фарид, его свита и Кохиус недоуменно последовали за ним. Кутузов привел их к тому месту, где паслись гарнизонные лошади. Золотисто-буланый Хан, почуяв и увидев хозяина, немедленно вышел к нему из табуна и коснулся своим бархатистым храпом груди офицера.
– В свое время я заплатил за него пятьсот червонцев, – сказал Кутузов. – Вряд ли ваш раб стоил вам больше?
Он пристально взглянул на бека, и тот медленно покачал головой. Крайнее изумление и уважение читались в его еще недавно ненавидящем взгляде.
– Я распоряжусь о том, чтобы его передали вам, – с явным усилием говорить ровно произнес Кутузов. – Думаю, мне нет необходимости при этом присутствовать?
Бек понимающе кивнул. Огладив напоследок коня, Кутузов быстро пошел прочь.
Вскоре татары удалились из лагеря. Фарид гордо восседал на прекрасном жеребце, а его собственный лопоухий мул был пренебрежительно привязан сзади. Татары оживленно переговаривались меж собой.
Кохиус подошел к Кутузову, который, плотно обхватив себя руками, стоял спиной к лагерю и неотрывно глядел в море.
– Вольно же вам разбрасываться лошадьми! – смятенно проговорил он.
– Это окупится, – глухо сказал Кутузов.
– Неужели вы надеетесь на благородство этих людей?
– Нет – на то, что они сочтут сотрудничество с нами выгодным.
Не зная, что и сказать, Кохиус тоже замолчал, глядя на бухту, взъерошенную волнами в тот день.
А у Василисы, на отдалении наблюдавшей за всем, что произошло, сердце исходило состраданием. Теперь, сама владея лошадью, она понимала, что это значит для всадника – расстаться с любимым скакуном. С другом разлучиться и то бывает легче. Если бы могла она сейчас хоть чем-то утешить Михайлу Ларионовича! Но знала: он не потерпит, чтобы она выражала свои чувства на виду у других. А потому вынуждена была оставить его в одиночестве наедине с утратой.
XXXII
«…И смех и грех! Но одержал Михайла Ларионович победу, ни одного русского солдата за нее не положив…»
В тот вечер Кароль явился на квартиру к Кутузову, самым горячим образом выражая свою благодарность. Он просил разрешения вступить в его батальон и клялся, что будет достоин принесенной жертвы. Так во 2-ой Крымской армии появился новый солдат, а впоследствии – офицер, Карл Адамович Кохановский, прошедший бок о бок со своим спасителем едва ли не все кампании, где тому довелось сражаться.
А бек Фарид вновь объявился в лагере пару недель спустя. Его появление было встречено с тревогой, поскольку приехал он с наступлением темноты, никем не сопровождаемый и поставил условие, чтобы при его разговоре с командиром гарнизона не присутствовал никто, кроме Кутузова. Кохиус проклял ту минуту, когда разрешил своему субальтерну завязать дружбу с татарами, и с напускным спокойствием на лице велел впустить ночного гостя.
Для начала посокрушавшись о том, как трудно ехать в темноте, когда луна еще не взошла, бек отведал предложенное ему угощение и скорбно произнес:
– Боюсь, что в нынешнем году нас ждет неурожай. Зима была суровой, весной случились заморозки… Одному Аллаху известно, что взойдет на наших полях и сколько плодов будет на деревьях.
Кохиус терпеливо слушал его сетования, слегка поддакивая для приличия.
– К тому же эта ваша распря с турками… Уж чересчур она затянулась! Который год нашей земле нет покоя. Мы были бы рады мирно жить под покровительством России, но султан все шлет и шлет корабли с янычарами…
Кутузов почувствовал, что бек приближается к истинной цели своего визита.
– Вам нужно много людей и много оружия, чтобы противостоять натиску султана, – продолжал Фарид. – Одного солдата (он ухмыльнулся) мы вам уже продали, а теперь можем продать еще и пушки.
Кутузов и Кохиус быстро переглянулись.
– Я не видал в ваших селах завода, где отливали бы пушки, – осторожно сказал Кутузов, переводя на русский для Кохиуса свои слова.
– Такого завода нет, – согласился Фарид, оглаживая бороду. Черные четки, обвитые вокруг его руки, казались в этот миг крошечными пушечными ядрами.
– Откуда же пушки? – не выдержал Кохиус.
– Они появляются ночью на морском берегу, – спокойно ответил бек. – Янычары переправляют их в шлюпках с кораблей. Но затем, еще затемно корабли отходят так далеко, чтобы вы не различали их даже на горизонте.
– Господин подполковник, вы едва ли не каждый день проводите разведку и ни разу ничего не заметили?! – воскликнул Кохиус.
– Заметить их было невозможно, – очевидно, и без перевода поняв смысл восклицания, пояснил бек. Если подтянуть пушки к самому основанию скал – а вы ведь знаете, что там всегда есть ниши и даже пещеры, образованные волнами – то, проезжая по берегу, ничего не увидишь. К тому же, они были прикрыты рыбацкими сетями.
Русские потрясенно молчали. Вдоволь насладившись произведенным эффектом, Фарид продолжал:
– Сейчас уже нет смысла искать пушки на берегу – они переправлены в другое место.
– Полагаю, в леса за нашим лагерем, – сказал Кутузов, – чтобы при высадке нового десанта, ударить нам в тыл.
– Вы очень проницательны! – с улыбкой наклонил голову бек, – но этого еще не случилось. Сперва я приехал узнать, не сойдемся ли мы в цене.
– Вы не боитесь идти против султана? – усмехнулся Кохиус.
Бек сделал неуловимое движение бровями:
– В последнее время мы убедились, что султан уже не хозяин на крымской земле и вряд ли будет им. К тому же, вы, русские могли ведь и сами обнаружить пушки верно? И перебить янычар, которые к ним приставлены…
Из дальнейших расспросов выяснилось, что пушек семь штук под охраной десятка янычар-артиллеристов, а место их нахождения бек, до поры до времени, разумеется, не откроет. Сумма же, назначенная за них Фаридом, заставила офицеров тяжело вздохнуть.
– Разве это деньги для вашей огромной державы? – удивлялся в свою очередь бек. – Я мог бы запросить и больше, поскольку для вас это вопрос жизни и смерти, но подготовка нового десанта причиняет слишком много неудобств нашим людям. Сейчас, когда они должны возделывать свои сады и пашни, люди султана заставляют их ночами перетаскивать пушки, ничего за это не платя. А затем разразится новый бой, и мир, наконец-то установленный между нами (он слегка поклонился в сторону Кутузова) вновь будет нарушен.
Кохиус попросил три дня на раздумья, и бек уверил его в том, что за этот срок текущее положение дел никак не изменится. Провожая Фарида к выходу из лагеря, Кутузов увидел, что там привязан все тот же лопоухий мул, на котором бек приезжал в первый раз с требованием выдать раба.
– Я надеюсь, мой конь здоров? – не выдержав, спросил он.
– Ваш конь был слишком норовист, – объяснил Фарид, садясь в седло. – Я продал его в Бахчисарае, взял хорошую цену. Все имеет свою цену: лошади, люди, победы. Хорошо, когда за победу можно заплатить всего лишь деньгами, разве нет?
– Несомненно, – согласился Кутузов, стараясь, чтобы голос его звучал невозмутимо.
Остаток ночи и все следующее утро в лагере шло лихорадочное совещание. Обсуждали, не ловушка ли задумана татарами, пытались предположить, где именно спрятаны пушки, задавались вопросом: все ли их отдадут в обмен на деньги или лишь часть для отвода глаз. И, наконец, еще до полудня отправили гонца в штаб князя Долгорукова с тем, чтобы окончательное решение о сделке с татарами было принято им.
Днем позже гонец прискакал обратно. Однако не один, а в сопровождении еще нескольких верховых. На лошадей были навьючены тяжелые переметные сумы, которые всадники, едва соскочив на землю, немедленно унесли туда, где хранилась полковая казна.
Василиса же, не улавливая сути происходящего, чувствовала ясно: Михайла Ларионович готовится одержать победу. Никем не посвященная в переговоры с турками, видела она, как в глазах его мерцает опасное веселье и, ни сном ни духом не ведая о предстоящей операции, голову готова была дать на отсечение: вскоре он отправится навстречу славе.
Так и случилось: с наступлением темноты к Фариду был послан гонец с посланием. Один из солдат в батальоне Кутузова в прошлом был охотником, и, зная, что тот сумеет приблизиться к дому бека и передать послание незаметно, командир выбрал для этой цели именно его. В привезенном глубокой ночью ответе указывалось место, где Фарид встретит русский отряд, чтобы провести его к пушкам и охраняющим их янычарам. Выступать следовало завтра с восходом луны.
А днем перед этим выступлением Василиса, проходя по лагерю, встретила Кутузова и, улыбнувшись, сказала ему:
– Бог вам в помощь в вашей затее, Михайла Ларионович! Удача вам будет, не сомневайтесь!
– Откуда ты знаешь?! – поразился тот.
– Отсюда, – ответила Василиса, приложив руку к сердцу и, как ни в чем не бывало, пошла дальше, оставив его в замешательстве.
Ночную операцию русские провели, как и было задумано – корыстолюбивый бек не обманул их. Застигнутые врасплох янычары почти не оказали сопротивления, и ни один русский солдат даже ранен серьезно не был. У захваченных пушек выставили караул с тем, чтобы утром начать их переправку в лагерь, а Фариду назначили время и место для передачи обещанных денег.
Когда к утру отряд вернулся в лагерь, и Кутузов доложил Кохиусу о благополучном исходе операции. Генерал-майор покачал головой с восхищением, к которому примешивалась зависть:
– А что, господин подполковник, может, отправить вас послом в Турцию? Глядишь, вы с султаном о мире сторгуетесь!
– Предпочитаю начать наш торг на поле боя – это существенно собьет цену! – не скрывая довольства собой, рассмеялся Кутузов.
XXXIII
«…С ликованием и трепетом уверилась я в том, что Господь к нему благоволит…»
Офицеры с любопытством исследовали турецкие пушки, привезенные в лагерь, и нашли, что они в подметки не годятся русским «единорогам». Изобретение русских оружейников было куда более легким и компактным, стреляя при этом и дальше, и точнее традиционных громоздких чугунных стволов. И транспортировать «единороги» было относительно легко, в то время как, перетаскивая в лагерь турецкие орудия, и люди, и лошади выбились из сил.
Кутузов торжествовал и в мыслях наверняка превозносил свою прозорливость, подсказавшую ему свести с татарами тесное знакомство, но вел себя при этом столь деликатно, что не вызывал ничьей зависти. В разговорах о проведенной ловкой операции не выгораживал он себя никак: мол, подвернулся случай – вот им и воспользовались. Однако же не было в лагере человека, который не понимал бы, чья именно это заслуга.
И триумф его был бы полным, если бы (Василиса знала об этом наверняка) сердце у офицера не болело за потерянного коня. Ей одной изо всех Михайла Ларионович признавался, что готов был даже съездить в Бахчисарай, чтобы там попытаться отыскать Хана, но в итоге отказался от этой затеи. Денег на выкуп коня все равно не достало бы.
Девушка с горечью думала о том, что ничем не может облегчить возлюбленному его терзания. Имей она хоть что-нибудь за душой, тут же выложила бы все в помощь Михайле Ларионовичу, любое украшение с себя сняла бы на продажу, не колеблясь ни мгновения, но, увы! Никаким сокровищем, кроме самой души, похвастаться она не могла.
А потому решила помочь ему тем единственным способом, который был ей доступен. Как-то раз, когда остались они наедине, Василиса уверенно проговорила:
– Такое чувство у меня, Михайла Ларионович, что конь к вам еще вернется.
– Это как же? – спросил он со вспыхнувшей во взгляде надеждой. – Каким образом?
– Уж не знаю, каким, – уклонилась девушка, – но обретете вы его.
– А ты наверняка это знаешь? – взволнованно допытывался Кутузов.
– Я знаю, что Бог вас без награды не оставит, – чуть помедлив, обнадежила его Василиса.
– За что? – улыбнулся Кутузов. – За верную стратегию?
– Нет, – возразила Василиса, – за то что через вашу хитрость ни один солдат не полег. А то было бы вновь побоище!
– Верно ты говоришь, – задумчиво произнес Кутузов, – война без хитрости побоище и есть. Я смолоду в Польше сам напрашивался на опасные случаи, рад был врага пересилить, подмять, а теперь уж иначе сражение понимаю: в нем ловкостью больше возьмешь, чем нахрапом. И о людях своих думал раньше: убиты – ну, что ж: война есть война. Нынче же хвалю себя тем больше, чем больше мне их сохранить удалось.
– Счастье вашим людям, что вы над ними! – с нежностью сказала Василиса.
– А мое счастье было в умных учителях, – отозвался Кутузов. Как начинал я служить, старшим командиром надо мной был Суворов, ты о нем, может быть, и слышала, сейчас он генерал прославленный. Так вот, помню, наставлял он: как побежит от вас враг, вы его преследуйте, но не колите штыком и не стреляйте – не губите понапрасну живые души. Мне в мои пятнадцать лет того не понять было. А сейчас вижу – его правда. Переиграл врага – оставь, не добивай, ну а своих и подавно должно беречь.
– Вы их и бережете!
– Берегу, – согласился Кутузов.
И с улыбкой взглянув на нее, добавил:
– С твоей помощью.
Какое-то время они сидели рядом молча, и Василиса была счастливо погружена в ощущение общности между ними. Ни с кем доселе не была она так открыта и так близка, даже с отцом, поскольку между родителями и детьми нет равенства в любви. Как армия принадлежит царствующей особе, так дети принадлежат отцу и матери: любя, их не ставят на одну доску с собой. Мужчина же с женщиной сходятся как равные – словно два войска на поле боя; их чувства смешиваются, точно ряды солдат в рукопашной, и на какой-то срок оба становятся единым целым. А там уж – чья возьмет! Но всегда существует срок, когда еще не очевидно, кем одержана победа, его-то и принято называть любовью, наслаждаться им, а после – воспевать. Но бой идет своим чередом, и всегда один противник теснит другого.
К счастью, Василисе покуда не приходило в голову соотносить это правило со своей жизнью. Упивалась она горячим чувством, как воин упивается схваткой, и в мыслях не имея, что рано или поздно самому жаркому бою приходит конец.
А в праздник Благовещания случилось чудо. Еще затемно примчался к дому, где квартировал Михайла Ларионович, один из караульных. Поднял его с постели и, ничего не объясняя, умолил следовать за собой. Опоясавшись перевязью со шпагой, Кутузов помчался за солдатом, перебирая в голове все мыслимые и немыслимые беды, коим ему предстояло стать свидетелем. А примчавшись, куда его вели, остолбенел: отощавший, неухоженный, со спутанной гривой и репьями в хвосте среди гарнизонных лошадей стоял Хан. Завидев хозяина, он тут же рысью тронулся к нему и положил голову на плечо человека. Глубокая кровавая ссадина на боку говорила о том, чего стоило коню вырваться из своей неволи.
– И про него ты знала наперед? – спросил Кутузов у Василисы поутру, когда и она прибежала посмотреть на беглеца. – Открылось тебе, что он вернется?
Девушка покачала головой:
– Наверняка не знала, надеялась только. Да и вас от уныния хотела избавить.
Она ласково потрепала жеребца по круто выгнутой шее. Хан к тому времени уже наелся ячменя и был заботливо вычищен самим хозяином.
– А если б обманулась? – допытывался Кутузов.
– Значит, обманулась бы! – девушка с улыбкой посмотрела ему в глаза. – Но с надеждой все жить легче!
Кутузов на это ничего не сказал, но его ответный взгляд был для нее слаще любых красноречивых благодарностей.
* * *
Жизнь Михайлы Ларионовича была богата на возвращение одних и тех же событий в иных декорациях. О самом невероятном из них, речь еще впереди, но история со сбежавшим рабом, за свободу которого пришлось расплачиваться именно Кутузову, также удивительным образом повторилась в его судьбе.
К тому времени, как это произошло, Кутузов был военным губернатором[29] Петербурга, а российский престол уже некоторое время занимал Александр I. Внук Екатерины, он стал истинным продолжателем дел своей бабушки и пошел даже дальше нее. Если Екатерина руками гвардейцев расправилась с неугодным мужем, то Александр дал «добро» на убийство родного отца. Впрочем, эта сладкая парочка венценосных убийц всего лишь следовала примеру Петра I, заточившего в монастырь жену и пытками сведшего в могилу сына. Что интересно, и Петра, и Екатерину впоследствии окрестили «Великими», а Александра – и вовсе «Благословенным»; менее бессердечные цари подобных титулов не удостоились.
С таким вот контингентом царствующих особ Кутузову приходилось иметь дело. Однако, верный своей привычке в первую очередь исполнять служебные обязанности, а уж во вторую – оценивать моральный облик начальства, Михайла Ларионович честно управлял вверенной ему столицей. До тех пор, пока не вступился за беглого раба.
Едва ли где-нибудь, кроме России, могла произойти такая душераздирающая история! В бытность Александра I еще не венчанным на царство цесаревичем, он, как и положено, имел воспитателей. Одним из них был швейцарец, Фредерик Лагарп, другим, менее известным, русский, Николай Салтыков. А у Салтыкова была жена[30], к своему стыду и отчаянью довольно рано начавшая терять волосы на голове. К счастью, мода тех времен на парики и умелый парикмахер из салтыковских крепостных помогали ей скрыть сей недостаток на людях, чем можно было бы и утешиться, но госпожа Салтыкова трепетала от страха, что парикмахер может проговориться, ославив ее на весь Петербург. И, как бы молодой человек не клялся барыне, что умеет держать язык за зубами, его хозяйка решила вопрос кардинально. Она установила у себя в доме… железную клетку и заперла в ней парикмахера, выпуская лишь для того, чтобы он соорудил ей очередную прическу.
При переездах из Петербурга в деревню и обратно Салтыкова так и возила несчастного за собой, как животное, лишив его, молодого и талантливого, всякого права на жизнь. И счастье ее, что она не была мужчиной и не требовала от узника бритья, иначе не известно, как долго бы тот удерживался от соблазна полоснуть бритвой по ненавистной шее.
Восемь лет продолжалось это издевательство над крепостным рабом. Но в итоге, улучив момент, мученик сбежал. Госпожа Салтыкова в ярости бросилась за помощью к мужу. А муж – к Александру с надеждой на то, что царь не забыл своего воспитателя. Выслушав сбивчиво изложенную историю, император милостиво кивнул и обещал принять все меры к тому, чтобы собственность Салтыковых была поймана и возвращена в клетку. И, в свою очередь, вызвал Кутузова, поручив ему взять это дело под личный контроль.
Неизвестно, как именно поступил Михайла Ларионович, когда его посвятили в суть событий: открыто ли выразил свое возмущение, или, что более вероятно, спустил дело на тормозах, в дальнейшем скорбно извещая императора, что поиски беглеца зашли в тупик, но Александр справедливо заподозрил, что у военного губернатора есть свое мнение относительно поимки раба и что это мнение не совпадает с царским. Результат был куда более плачевен для полководца, чем некогда в Ахтиаре: Александр объявил Кутузову, что более не нуждается в его услугах.
Удар был пострашнее, чем потеря любимого коня: находясь в том золотом возрасте, когда огромный опыт счастливо подкреплен еще не начавшим таять здоровьем, человек с умом и возможностями Кутузова оказался не у дел. Его лишили всех занимаемых должностей. Не зная, где еще приложить свои силы, он поехал инспектировать свои имения, куда не имел возможности наведываться годами. А там, осознав, насколько его обкрадывал управляющий, с горя заболел.
Эта черная полоса тянулась в жизни Кутузова около трех лет, пока Александр не был вынужден вновь прибегнуть к услугам опального полководца. Три года… не так-то много на первый взгляд, но кто способен оценить, насколько разрушительно для души пережитое унижение? Тем более что поводом к нему явилось столь редкое во все времена милосердие.
А парикмахера, к слову сказать, так и не нашли.
XXXIV
«…Так, будучи живою и здоровою, ощутила я себя погребенной заживо и придавленной могильной плитой…»
Вот и раздался под апрельскими звездами долгожданный возглас отца Даниила: «Христос воскресе!», и более тысячи голосов, ликуя, подтвердили: «Воистину воскресе!», а Василиса со стыдом осознала, что счастлива сейчас не от того, что Спаситель восстал из мертвых, «смертию смерть поправ», а от того, что пришел конец Великому посту, и обвенчаться им с Михайлой Ларионовичем теперь ничто не помешает.
К Пасхе весна окончательно утвердилась на земле Тавриды: обрушилась ливнем свежей зелени, хлынула сиянием цветов, заиграла чистотою небесных красок, проявилась в благоухании воздуха. Едва ли не каждая верховая прогулка теперь, начавшись буйной скачкой, продолжалась тихой беседой в тесном соприкосновении, а увенчивалась ласками, от которых Василиса ощущала себя свечой, тающей перед образами – и таинство, и жар, и растворение в том, что сильнее тебя.
Сброшена была неуклюжая зимняя одежда, и в новом своем одеянии девушка чувствовала себя тонкой и легкой, как лиана. Михайла Ларионович, уже совсем по-жениховски, не стесняясь, делал ей подарок за подарком, одевая с ног до головы. У татар были куплены легкие сафьяновые сапожки и серые с мелким розовым рисунком шальвары, а в пару к ним – и вольно разлетающееся женское одеяние, розовое с серым. Василису забавляло созерцать себя в зеркале русскую лицом и татарку по одежде; по-татарски – узлом под волосами – стала повязывать она теперь и платок. Нет, не платок – прозрачный розовый шарф, соседство которого делало ее лицо и смуглее, и свежее.
Она сознавала, насколько сейчас, овеянная любовью, хороша собой по тому, какие притягивала взгляды. Не было в них ни капли похоти или желания, одно лишь восхищение и умиление. Засматривались на нее и офицеры, и однажды дошло до Василисы, что кто-то из них завистливо сказал ее возлюбленному: «И повезло ж тебе, брат!»
Разве что по воздуху не летала девушка от счастья той весной! Все ей благоприятствовало, любое дело было утешно, каждый занимавшийся день благословлял ее, а закат обещал новые радости после мирного сна. И лишь одно ее немного озадачивало: уже давно должен был бы Михайла Ларионович отписать своему батюшке, прося благословения на брак, а он ни разу об этом не обмолвился. Хочет сделать ей приятную неожиданность? Должно, так и есть.
Жара тем временем наступала, как неприятель; задолго до Троицы море уже порядком прогрелось, и сперва Василисе было нетрудно заглушать свои сомнения, погружаясь в его объятья. Теперь, разведав покинутый эллинский город, она частенько наведывалась туда в послеполуденные часы, когда жизнь в лагере замирала: приезжала верхом на Гюль и привязывала ее в тени посаженной столетия назад оливы. В удобном месте под скалой, где, буде и пройдет кто поверху, а ее не заметит, проворно скидывала одежду и с наслаждением предавалась волнам. Солнце искрило разбивавшийся о камни прибой, радостно взмывали брызги, и тело, невесомое в воде, казалось способным взлететь вслед за ними. Невероятно яркий полдневный свет, сияющий над морем и пронизывающий его пучину, проникал и в душу девушки и внушал ей мысль о том, что нету в мире ни зла, ни горя, один лишь безудержный восторг и бескрайняя нежность.
И позже, вернувшись в лазарет и уединившись там за своей перегородкой, Василиса продолжала пребывать в том же счастливо-безмятежном настроении. Тихонько, чтобы никто из больных не догадался, чем она занята, водружала на высоте своей головы и плеч гладкое медное блюдо, в которое способнее было глядеться, чем в маленькое зеркальце. Еще до Рождества его пожаловала лазарету Софья Романовна, у которой они с Яковом Лукичом принимали роды. Врач не представлял себе, как это блюдо употребить в дело, и решил, как будет нужда, обменять его на что-нибудь у татар, а покамест отдал Василисе. Та же сделала блюдо подобием зеркала, и с наступлением тепла стала сперва стыдливо, а затем все более радостно и уверенно разворачивать лазорево-золотую ткань и прикладывать к лицу. Удивительные вещи отражал металл! Смотрели на девушку из самодельного зеркала теплые от счастья, вдохновленные будущим глаза, столь прекрасные, что никак не решалась Василиса считать их своими. Сгоревшие до белизны волосы чуть вились от растворенной в воздухе морской влаги и были точь-в-точь как нежная шерсть молоденькой козочки – так и хотелось ласково провести по ним рукой! А потемневшее под солнцем лицо напоминало ей лик неведомой святой со старой иконы. Только вот оклад у этого образа был причудливый – небесно-голубой с солнечным, золотистым узором, ложащийся вокруг шеи мягкими волнами.
В такой счастливой дымке и проживала Василиса день за днем, но тем временем отполыхал пурпурными маками май, и забелел ромашками июнь (целые поля их радовали глаз под пронзительно ярким небом), а о свадьбе все не было речи. Более того, стал Михайла Ларионович избегать девушку, оправдываясь множеством дел по службе, кои прежде почему-то ему не мешали. Верховые прогулки их прекратились, а при встрече он ласково кивал Василисе, но, не затевая разговора, проходил мимо.
Поначалу была девушка сбита с толку, перебирала тревожные мысли, доискиваясь до причины такого охлаждения, но никак не могла поверить в то, что подсказывал ей здравый смысл. И ближе к Иванову дню[31], когда цветы давно исчезли с полей Тавриды, а зной стал поистине нестерпим, решилась поговорить о том, чем терзалась, напрямик.
Далось ей это нелегко; милостыню у татар и то было легче просить! Но все же улучила момент, когда, вернувшись с учений, отпустил Михайла Ларионович солдат и направился к морю – освежиться. Купание он любил чрезвычайно и плавал отлично, словно вырос не на севере с его беспросветной зимой, а где-то на ласковых солнечных берегах, где предаваться морским волнам так же естественно, как ступать по земле. Вот и на этот раз чаял он поскорее освободиться от одежды и погрузиться в манящую свежестью воду, как вдруг увидел Василису, безо всякой видимой цели сидящую на прибрежном камне.
– А, Васюша, и ты освежиться пришла! – произнес он не слишком-то радостным голосом, хоть и изобразив на лице улыбку.
– В этакое пекло только у воды и спасение! – ровным голосом согласилась девушка.
– Это верно! – не в силах терпеть, офицер нагнулся и принялся плескать в лицо водой. Василиса молча смотрела на него, и он не мог не почувствовать ее взгляда:
– Ты милая, прости, что мы с тобой в разлуке все время, – сказал он, выпрямляясь, и Василиса невольно отметила, сколь красит Михайлу Ларионовича тот беспечный мальчишеский вид, что придавали ему взъерошенные, мокрые волосы, – сама видишь…
– Вижу, – только и сказала Василиса.
Офицер был явно раздосадован. Рывками снял он мундир, не стесняясь ее присутствия, стянул сапоги и чулки и, по колено зайдя в море, стал пригоршнями лить воду прямо на рубаху.
– И что ты видишь, позволь узнать? – вновь обернулся он к ней. – Только свое, бабье… А знаешь ты, что мир с Турцией вот-вот будет объявлен? Время тревожное – не до свадеб сейчас.
Василиса пожала плечами в искреннем недоумении:
– Что-то я в толк не возьму: о чем тревожиться, если мир? Радоваться должно!
– Радоваться… – Михайла Ларионович вновь окатил себя водой, и мокрой, не скрывающей тела стала вся его одежда, так что стоял он перед девушкой почти что обнаженным. – Радости в этом мало! Турки-то мир лишь для вида заключают: чтобы внимание наше усыпить и напасть врасплох.
– Откуда вам знать? – изумилась Василиса.
Михайла Ларионович усмехнулся:
– У нас с тобой, Васюша, у обоих чутье, только разное: ты видишь то, что в сердце скрыто, а я – что у противника в голове. Вот помяни мое слово: поступит с нами турок, как жена, что против воли под венец идет, а сразу после брачной ночи поминай как звали… Что это тебе сделалось? – спросил он уже другим встревоженным голосом.
Василиса провела рукой по лицу: от этого невольного упоминания о ее злополучном браке у нее перехватило дыхание.
– Так, голова кругом пошла, – пробормотала она, пытаясь ничем себя не выдать, – жара все окаянная…
Некоторое время Михайла Ларионович смотрел на нее пристально, а затем его взгляд переменился, словно узнал он по ее глазам все, что хотел узнать.
– Верно, жара, – чуть насмешливо подтвердил он, – а я давно уже искупаться мечтаю!
Василиса с достоинством поднялась с камня и, отведя взгляд, сказала в пространство:
– Спасибо вам за все, Михайла Ларионович! Я вас не сужу – вам и вправду другая жена нужна, из благородных.
И, найдя в себе силы посмотреть ему в глаза, добавила:
– А все жаль, что так вышло!
Не оборачиваясь более, пошла она вверх по осыпающейся под ногами тропке. Спиною ощущала его взгляд, мучительно ждала, что позовет, но не дождалась. И лишь поднявшись, с высоты, осмелилась оглянуться назад. Михайла Ларионович быстро плыл прочь от берега, погрузив лицо в воду, и так стремительно резки были его движения, точно он пытался спастись неизвестно от чего.
XXXV
«…Сие возмутительное коварство турок предвидено им было точно, жаль предотвратить он не смог того, чему свершиться предстояло…»
Мир с Турцией действительно был заключен очень скоро, хотя его заключение и казалось странным: турки отнюдь не были настроены на мирный лад. Всего через несколько дней после разговора Василисы с Кутузовым султан в очередной раз попытался высадить десант в Керченском проливе, но флот из 5 линейных кораблей, 9 фрегатов и 26 галер был разгромлен 2 российскими фрегатами. А еще через несколько недель 30 турецких кораблей были отогнаны от крымского побережья 9-ю российскими. Обо всем этом обитатели гарнизона узнали от моряков тех самых кораблей, что зашли для отдыха и пополнения запасов в Ахтиарскую бухту.
И когда 4 июля 1774 года к командующему 1-ой армией Петру Румянцеву (которого в свое время так неудачно передразнил Михайла Ларионович) прибыл султанский посол с предложением мира, в это почти невозможно было поверить. Но в итоге 15 июля[32] в деревне Кучук-Кайнардже[33] был заключен мирный договор, по которому к России отходили земли, дававшие ей выход к Черному и Азовскому морям. Об этом несколько дней спустя, когда гонец доскакал до Ахтиара, официально известил солдат и офицеров генерал-майор Кохиус. Кроме того, российские суда получали право проходить через Босфор и Дарданеллы наряду с английскими и французскими, а значит, Россия получала доступ еще и к Средиземному морю. И, на закуску, Турция выплачивала России контрибуцию в 4 с половиной миллиона рублей. «На строительство флота, не иначе», – остроумно предположил вслух Кутузов, что было встречено всеобщим смехом.
Радостное настроение царило в лагере. По случаю мира в тот день были отменены все военные упражнения и солдаты наслаждались купанием в море, что сегодня не вздымалось волнами с обычным своим упорством, а стлалось к ногам едва ощутимым прибоем. Беспечность и нега, казалось, были развеяны в воздухе, но Василиса, и сама предававшаяся праздности за отсутствием в лазарете больных, все время держала в голове слова Михайлы Ларионовича о возможном коварстве турков. Не выходили они у нее из мыслей и не зря: уже назавтра прискакал в лагерь новый гонец и, задыхаясь, сообщил: высадился-таки турецкий десант при местечке Алуште и продвигается внутрь полуострова. Князь Долгоруков уже спешит навстречу туркам из Бахчисарая, и ахтиарскому гарнизону приказано идти на соединение с ним. «Вот ведь как угадал!» – только и воскликнула мысленно Василиса, вспомнив о словах Михайлы Ларионовича.
Спешно собрала она и навьючила на Гюль сколько было перевязочного материала и спирта, а футляр с хирургическими инструментами Яков Лукич положил в сумку, надетую через плечо. Солдаты метались, запрягая лошадей, что должны были перевозить пушки, а командиры выстраивали для марша свои батальоны. Мельком Василиса углядела, как Михайла Ларионович обращается с речью к стоящим перед ним рослым молодцам в островерхих гренадерских шапках, и, не слыша его слов, догадалась, о чем идет речь. Наверняка внушает им сейчас командир, что в предстоящем столкновении с турками каждый может явить себя героем, если не дрогнет. А от героев само Провидение верную гибель отводит, чтобы и дальше прославляли они свою веру и отечество. Так – некогда рассказывал ей Кутузов – вдохновлял он перед боем солдат. Девушка отвела от него взгляд, чтобы не бередить рану.
Наконец гарнизон тронулся в путь. И один батальон, и другой, и третий; за ними потянулись лошади, влекущие за собой пушки или же ящики с бомбами, картечью, гранатами, вновь батальоны, и где-то среди них, как и офицеры, ехали верхом Яков Лукич и Василиса.
Глядя иногда вперед, туда, где на своем золотисто-буланом жеребце покачивался Михайла Ларионович, Василиса задавалась вопросом: думает ли он о ней хоть сколько-нибудь сейчас, или же она вовсе изгнана из его мыслей?
Марш продолжался три дня. Едучи верхом, Василиса старалась не глядеть на солдат, до того истомленными они ей казались, до того опухши и багровы были их лица. «Ежели меня в легком платье лошадь везет, а я уже измучилась вся, то каково им на таком-то пекле в мундирах с ружьями, с котомками?» – с болью задумывалась она.
Миновали за это время и участки открытой степи, и спасительные своей прохладой горные леса, и ущелья, где приходилось растягиваться в цепь по одному, так что когда первые солдаты выходили из теснины, последние только входили в нее. Едва показывалась речка, бросались к воде так жадно, что грозили опустошить и без того жалкий в разгар лета ручеек; спать валились на землю как попало, сраженные усталостью. И к вечеру третьего дня соединились с армией Долгорукова, поступив под его начало.
Наутро войско разделилось. Два батальона пехоты и два конных полка остались прикрывать тыл, остальные же семь пехотных батальонов под командованием генерал-поручика Мусина-Пушкина были отосланы на поиски восьмитысячного отряда неприятеля, что, по уверению пленных, верстах в четырех от моря занял близ деревни Шумлы весьма выгодные высоты и на них укрепился. Василиса и Яков Лукич вкупе с еще одним отыскавшимся в войске Долгорукова врачом были, разумеется, в числе тех, кто отправлялся на поиски турок. Садясь на заре на лошадь и трогаясь в путь, Василиса заметила проезжающего мимо нее Михайлу Ларионовича. Он коротко кивнул ей и выслал коня вперед, понуждая перейти на рысь. И вновь, как и тогда, когда плыл он в море после их разговора, показалось девушке, что офицер бежит от нее. На том расстались они в это утро, оба не предполагая, как скоро им вновь придется очутиться друг подле друга.
XXXVI
«…“Надейся на Господа, мужайся, и да укрепится сердце твое” – так говорила я себе многократно, и смертный страх отступал на время, но после вновь овладевал моей душой…»
Василиса плеснула в лицо ледяной воды и немного пришла в себя. Тело ее под одеждой купалось в поту, а руки чуть не до локтей – в крови. Вновь, как посреди ходящего волнами моря стояла она меж изгибающихся и извивающихся от боли человеческих тел, что сносили им сюда, к источнику, а избавить их от страданий почти не могла.
На турок наткнулись они весьма скоро после выступления в путь – те встретили их огнем с высот, будучи сами прикрыты деревьями и валунами. На глазах у Василисы рухнул с коня один из молодых офицеров, что ехал подле Михайлы Ларионовича, и у нее зашлось сердце. В тот же миг завязался бой, а врачи (о чем сговорились еще дорогой) поскакали к недосягаемой для пуль купе деревьев поодаль. По счастью близ нее обнаружилась речушка, где было чрезвычайно сподручно промывать раны.
Над речкой возвышалась огромная старая шелковица. Ее созревшие плоды, как медленный дождь осыпались на землю и очень скоро, если не подобрать их, превращались в неприглядную черную гниль. Как солдаты в бою – с тоской казалось Василисе по временам. Еще поутру, еще несколько мгновений назад были здоровы и сильны, и вдруг очутились на земле с оторванными конечностями, развороченными внутренностями, разбитыми костями, растерзанными мышцами. Счастьем было для девушки остановить страдальцу кровотечение. Но когда ей приказывали удерживать раненого, чтобы врач мог отсечь еще живую, принадлежащую телу плоть, Василиса с ужасом и отчаяньем глядела в небо, чтобы не видеть, как исходящий криками человек, на которого она навалилась, чтобы обездвижить, становится калекой. А небо, точно в насмешку, было блестяще-ярким, поистине сияющим в тот день, словно и не знало, что смерть беспрепятственно гуляет под его покровом.
В редкие свободные мгновения Василиса обращалась взглядом к склону горы Демерджи, близ которой и разворачивалась сражение. Ее причудливые отроги напоминали солдат, штурмующих вражескую крепость, и казалось, само это место было избрано Провидением для того, чтобы здесь развернуться кровопролитной схватке.
Бой тем временем оборачивался в пользу русских. Турок уже выбили с занятых ими высот и гнали сейчас к морю. Меньше стало потерь, все реже подтаскивали к ним раненых, и на какое-то время врачи получили возможность перевести дух. Яков Лукич жадно собирал и ел сочно-приторные плоды шелковицы, а врач из армии Долгорукова набрал ведро воды и облил себя с ног до головы. Оба едва ли не с самого начала боя скинули и мундиры, и рубахи, и сейчас вид их, голых до пояса, но при этом в кожаных передниках, был весьма комичен. Василиса и улыбнулась бы, глядя на них, если бы с передников не стекала кровь.
– Похоже, наша взяла! – с неуверенной радостью пробормотал Яков Лукич, приглядываясь ко все удаляющимся от них солдатам, и это было последнее, что услышала Василиса. Тишина, мертвящая тишина овладела пространством, и в глаза ей полыхнул нестерпимо яркий свет. Тело же заколыхалось, безвольно, как подхваченное сильной волной. Что видела она в эти мгновения? Того не смогла бы потом объяснить и сама.
Неожиданно отхлынуло необъяснимое, и перед девушкой вновь предстали горы, речушка, поляна, усеянная ранеными и два врача, взирающие на нее с недоумением. Василиса прерывисто дышала и дико оглядывалась по сторонам. Вдруг, не сказав никому ни полслова, она сорвалась с места и бросилась в сторону отступающих турок и преследующих их русских войск.
– Куда, куда?! С ума спятила! – неслись ей вслед крики, но Василиса, не пригибаясь, мчалась со всех ног. Едва поравнявшись с последними русскими солдатами, она схватила за рукав первых двух попавшихся.
– За мной, скорее! Офицера ранили! Унести нужно на перевязочный пункт! – задыхаясь, кричала она.
Солдаты, не долго думая, повернули за Василисой.
На бегу девушка командовала ими как своими подчиненными. Велела им тут же скинуть короткие егерские мундиры, вновь застегнуть их на пуговицы, а рукава вывернуть внутрь. Затем показала, как расстелить мундиры друг за другом на земле и пропустить ружья в вывернутые рукава. Получились носилки. С ними и помчались солдаты вновь за своей командиршей туда, куда неслась она с такой уверенностью, словно кто-то звал ее и молил поспешить. Добежали, наконец, и увидели кольцо солдат, обступивших лежащее на земле тело в офицерском мундире. Взгляд человека был неподвижен, как у покойника; и левый и правый висок его представляли собой месиво из начинающей запекаться крови и обломков черепных костей.
– Кончается он, не трогай! – строго сказал Василисе кто-то, когда она, растолкав солдат, велела опустить рядом с раненым носилки. – Голова – на вылет, не видишь?
Сколь могла глубоко вдохнув воздуха, девушка приказала своим сопровождающим уложить человека на носилки. Голову его при этом держала сама, и руки ее не дрожали, хоть и думала на бегу, что не вынесет такого зрелища. Ноги раненого не вмещались на полотно, и Василиса поддерживала их, когда солдаты оторвали свою ношу от земли, и держала всю дорогу до перевязочного пункта. Позади она слышала удаляющийся голос:
– Пусть земля ему будет пухом – добрый был офицер!
И обращенный к кому-то вопрос:
– Ваше благородие, под чье нам начало теперь поступать? Мы – подполковника Кутузова батальон, а его убили.
Он стоял посреди выжженной солнцем степи и страшно досадовал на то, что нет на нем шляпы – поди пойми, куда подевалась! А июльское солнце пекло так страшно, что ничем не прикрытые волосы занялись огнем, а за ними – и вся голова. Особенно сильно пламя палило виски и то пространство внутри черепа, что позади глаз. Вот напасть! Сжать бы сейчас голову руками и подавить огонь, но руки почему-то не слушаются – висят вдоль тела, как не свои. Что же делать, куда бежать?! Заживо голова сгорает, а пламя ничем не унять!
И вдруг он понял: море! Да, море! Окунуться в него – и пожар утихнет. С надеждой на облегчение и двинулся вперед; сам не понимал, переставляет ли ноги, но картина степи менялась перед глазами, впереди обрывалась выжженная трава, а за ней в летней дымке проступала смутная синева. Вот, наконец, замаячили и белые колонны эллинского капища, и он уже чувствовал, что спасен, и прибавил шагу. Объятая пламенем голова гнала его нестерпимой болью и грозила вот-вот рассыпаться углями прямо на плечах, но море ждало впереди и обещало избавление от мук.
Вдруг из-за сияющей белизной колонны вышла дочерна загорелая девушка в длинной холщевой рубахе с оборванными рукавами и направилась прямо к нему. Он узнал ее – это была та самая… пустынница. Он хотел пройти мимо и поскорее спуститься к воде (Прохлада! Прохлада!), но пустынница встала прямо у него на пути, и он был вынужден остановиться.
…Призри, Господи, на наше смирение и не помяни беззаконий наших, но веры ради болящего раба Твоего Михаила исцели, да твое, Христе, славится имя!
Господи, к кому еще прибегну, кого еще дерзну молить о чуде? Суди раба Твоего Михаила не по грехам его, но по Твоему неизреченному милосердию. Никто не благ, кроме Тебя, Ты, единый Человеколюбче. Так смилуйся, Господи, над ним, не забирай его сейчас, да, восстав, послужит Тебе, исповедуя Твою благость!..
Он сделал шаг в сторону (пламя в голове бушевало, не унимаясь), но женщина вдруг упала на колени и обняла его ноги. Он попытался выпростать их, но был скован ее объятьями. А от моря уже доносился свежий ветерок, обещавший облегчение, и он застонал с ненавистью к этой вцепившейся в него девице. Ярость и боль переполняли его и, невесть каким образом освободившись, он поспешно зашагал к обрыву. Пустынница – он это чувствовал – бежала сзади, но не поспевала за ним.
Он замер на краю невысокой скалы, отыскивая взглядом место, откуда удобнее было бы спуститься к морю. Ага, вот оно! Обрыв снижается слева, переходя в крупные валуны, меж которыми плещется хрустальная вода, не скрывая ни бурых водорослей, ни мелких рыбешек, ни радостно-ярких камушков на дне. Эта вода оборвет его мучения! Да, непременно оборвет: зальет она пламя внутри головы, зальет и боль – все зальет и подарит ему прохладный, ничем не нарушаемый покой.
Со взлетевшим от радости сердцем он тронулся в сторону спуска, но проклятая пустынница, успев догнать его, вновь упала ему в ноги. Он не видел ее лица – лбом она прижималась к его сапогам, и ее распущенные волосы струились по ним, как вода, обтекающая черные камни. Ему отчаянно хотелось отшвырнуть ее пинком, но вновь он не смог пошевельнуться. Пустынница подняла на него глаза – в них стояла собачья покорная преданность – и ему стало тошно на нее глядеть.
…Царица Небесная! Не отступи от меня, рабы Твоей, Владычица, но буди мне Мать и Заступница. Ты мне упование и прибежище, покров и заступление, и помощь! Тебе ведомо время и час, когда умолить Сына Твоего и Бога нашего подать болящему здравие и прощение всех согрешений.
Пресвятая Богородица, к твоим стопам припадаю! Умоли Господа оставить его в живых, да прославится этим чудом имя Господне! Пречистая Божья Матерь! Со всеми святыми призываю Тебя, с ангелами и архангелами, с пророками и патриархами, с апостолами и святыми, с преподобными и праведными! Молись Христу Богу нашему за раба Божьего Михаила – да величаем Тебя, Заступницу!..
И вновь, не шевельнув ни рукой, ни ногой, ему удалось высвободиться, и, заметив, как отброшенная непонятной силой пустынница отрывается от него и катится в сторону, он продолжил спуск. Море стлалось к нему, как собака – к хозяину, готовое лизнуть ноги. А голова была раскалена уже не докрасна – добела. Огонь бушевал в ней, как во время лесного пожара, когда обезумевшие сполохи, яростно взмывая, грозят самому небу. Но пытка кончается – он нашел свое избавление! И, не чувствуя ничего, кроме полыхающей в голове боли, он сделал последний шаг к воде.
Что?! Вновь она?! Видать, подкралась со спины, и ее невидимые руки прочно держат его, не давая коснуться спасительной водной глади. И тут он впервые застонал, с ненавистью, с яростью, с отчаяньем. Вот оно, море – руку протяни! А пожар в голове не унять, и конца ему нет, и нет облегчения. Доколе же терпеть?! Доколе?!
…Святой и великий Архангел Божий, Михаил, первый в ангелах, сокрушивший с воинством своим дьявола на небесах и посрамляющий злобу его и коварство на земле! К тебе прибегаю с верою и тебе молюсь с любовью: не оставь же помощью и заступлением нас, прославляющих днесь имя твое! Сколь бы ни были мы многогрешны, но не хотим в беззакониях наших погибнуть, но обратиться к Господу, чтобы он оживил нас на дела благие.
Знаю, что всем нам умереть предстоит, но на малое время, о святой Архангел Божий, хранитель и покровитель души и тела раба Божьего Михаила, умоли Господа исцелить его, да прославлено в нем будет имя Господне!..
Он стоял у края воды не то мгновение, не то вечность, и голова все полыхала и полыхала, а море все звало и звало к себе – волны подбегали к самым его ногам в недоумении, что он так медлит. А ненавистная его страданиям сила все держала и держала ноги, не давая тронуться вперед и с облегчением исчезнуть в волнах.
…Господи! Услышь молитву мою, призри на немощь мою – не лишай меня счастья быть рядом с ним, не разлучай нас! Не призывай его к себе сейчас, пока не свершил он всего того, что мог бы свершить во славу Твою и во благо людям Твоим. Верую, Спасе, в милосердие Твое и на Тебя уповаю. Но да будет воля Твоя, а не моя…
И вдруг, прямо на глазах, море стало пересыхать, оставляя неприглядный буро-зеленый налет на обнажившихся камнях и бьющихся в предсмертных муках рыб. А затем пропали и камни, и рыбы, и вместо спасительной лазоревой глади вновь перед ним растянулась иссохшая степь под раскаленным небом. Ни тени, ни деревца. Отчаянье и безнадежность заставили его оцепенеть, и пока стоял он так, пригвожденный к месту, вновь увидел подле себя треклятую пустынницу. Она протягивала ему оловянную кружку с водой. Что за радость была бы выплеснуть воду ей в лицо за то, что лишила его холодного покоя и забвения! Но он был недвижим, и ей удалось влить ему в рот несколько глотков. Это принесло немного облегчения, и ему удалось заговорить:
– Отпусти меня! – униженно попросил он ее не то криком, не то шепотом.
Пустынница покачала головой и направилась куда-то в глубь степи. Он же против воли тронулся за ней, точно связан с ней был незримой нитью. И так, ненавидя, проклиная и восставая против нее всей душой, тянулся и тянулся вслед за своей провожатой, неся в голове не утихающую боль, но не оглядываясь более туда, где так недавно видел столь желанное, ласковое море.
* * *
Годы спустя Кутузов поведал своему сподвижнику, графу Ланжерону (французу на русской службе) прелюбопытную историю. Согласно ей, во время своего путешествия по Голландии в 1776 г. Михайла Ларионович узнал, что некий знаменитый профессор хирургии и анатомии защищает диссертацию о ранах. В ней, в числе прочего, утверждалось, что рана, якобы полученная русским офицером Кутузовым – миф, поскольку после нее практически невозможно остаться в живых, не говоря уже о том, чтобы сохранить зрение. Кутузов, разумеется, не мог пропустить подобное событие. После того, как профессор закончил доклад и раскланивался под аплодисменты, Михайла Ларионович поднялся и сказал ему перед всей аудиторией: «Господин профессор, вот я здесь и я вас вижу».
Поскольку сей примечательный эпизод известен исключительно со слов самого Кутузова, никто, кроме светлейшего князя Смоленского не может поручиться за его полную достоверность. Однако, если Михайла Ларионович и слукавил в мелочах, он не солгал в главном: рана его лишь чудом не стала смертельной. А правый глаз перестал видеть лишь тогда, когда возраст Кутузова подобрался годам к шестидесяти, вместо того, чтобы сделать полководца наполовину слепым в двадцать семь.
Истинно и то, что исцелению Кутузова поражались современники, а в особенности очевидцы его ранения. Вскоре после боя под Алуштой князь Долгоруков в своем отчете государыне-императрице писал следующее: «Ранены: Московского легиона подполковник Голенищев-Кутузов, приведший гренадерский свой баталион, из новых и молодых людей состоящий, до такого совершенства, что в деле с неприятелем превосходил оный старых солдат. Сей штаб-офицер получил рану пулею, которая, ударивши его между глазу и виска, вышла на пролет в том же месте на другой стороне лица». Донесение датировано 28-ым июля, когда Долгоруков еще не подозревал, что Михайла Ларионович останется в живых, а потому так восхвалял его заслуги, так как если бы произносил надгробную речь.
И действительно, почти невозможно поверить в то, что человек с головой, простреленной навылет, способен вернуться к жизни. Турецкая пуля ударила Кутузова в левый висок за скуловой костью, проломив клиновидную и сокрушив на своем пути внутри черепа решетчатую кость, но вряд ли задев слезную. Проложив себе кровавую дорогу в том весьма узком пространстве, что отделяет заднюю часть глазного яблока от головного мозга, пуля вылетела за правой скуловой костью, вновь разнеся в осколки клиновидную. Каким чудом не был задет зрительный нерв, лежавший прямо у нее на пути, прошла ли пуля чуть выше или (скорее всего) чуть ниже него, остается загадкой. Ведь на портретах Кутузова, даже на первом из них, написанном всего через год с небольшим после ранения, мы не увидим шрамов на висках – живописцы благоразумно изображали полководца таким, каким он сам предпочел бы себя увидеть.
Трудно судить о том, каким был калибр поразившей Кутузова пули, но явно он был куда крупнее, чем у пуль современных. Если же предположить, что калибр турецких пуль едва ли сильно отличался от тех, что вылетали из ружей русских солдат в 70-е годы XVIII века, то голову офицера пробурил раскаленный свинцовый шарик диаметром от 16 до 18 мм[34]. Расстояние же между задней частью глазного яблока и головным мозгом взрослого человека в височной области равняется примерно 25 мм. Следовательно, стоило турецкой пуле отклониться хоть на волосок от пройденного ею пути, последствия были бы фатальны. Отклонись пуля вправо и порази она мозг, Кутузова неминуемо ждала бы смерть. Отклонись она влево и задень глаз – слепота. Однако, презрев все законы вероятности, выстрел турецкого янычара оставил русского офицера живым и зрячим.
Чудо? Да, несомненно, чудо! Но чудеса не так редки в жизни, как принято считать. И главное из них – чудо любви – совершается ежедневно и ежечасно в миллионах человеческих сердец по всей земле. Вершилось оно в момент выстрела и в сердце Василисы. И одному Богу известно, что именно избавило Михайлу Ларионовича от смерти – редчайшее стечение благоприятных обстоятельств или идущая из глубины сердца молитва к его Творцу.
XXXVII
«…Увидев, что душа его вернулась в тело, испытала я то же чувство, что и годы спустя, когда, после долгого и мучительного разрешения от бремени положили мне на руки живое дитя…»
Он открыл глаза и оказался в темноте. Тьма облепляла его, пугающая, непроницаемая, не позволяющая поверить в то, что солнце и луна поочередно проливают свой свет над миром. Но мало-помалу из мрака проступило лицо – знакомый нежный овал, обрамленный светлыми косами. Глаза у девушки были сомкнуты как у спящей или мертвой. Он узнал ее и с надеждой позвал:
– Пустынница!
Никаких других имен не приходило на ум.
Глаза распахнулись, как по команде. В них тут же зажглось столько огней – изумления, восторга, любви – что он не выдержал и смежил веки.
– Мы с тобой на том или на этом свете? – прошептал он, не имея сил говорить в полный голос.
Ответом был странный звук, похожий не то на всхлип, не то на хохот.
– Все же где? – настаивал он, чувствуя, что стремительно слабеет от мгновенно разгоревшейся боли в голове и вот-вот вновь провалится в беспамятство.
– Для меня один свет – там, где вы! – успело зацепиться за край его мутнеющего сознания, так и оставляя непроясненным, жив он все-таки или нет.
А Василиса смотрела на него, неподвижного, обессиленного, но уже перешагнувшего тот рубеж, где смерть могла бы до него дотянуться, и до боли хотелось ей обвить его голову руками и склониться над ней, заслоняя от всего мира, как заслоняют от ветра едва занявшийся огонек. Она прилегла рядом с ним на потертый татарский ковер и изогнула руку так, что та почти касалась его бинтов. На руку опустила голову и, чувствуя, как наполняются слезами глаза, долго нежила взглядом его лицо, обескровленное и высушенное долгим бесчувствием и воздержанием от пищи. И не было на свете женщины счастливее ее в те минуты.
До сих пор никаких признаков того, что сознание к нему вернулось, Михайла Ларионович не подавал. Лежал недвижно и беззвучно, и лишь дыханием напоминал о том, что жив. В ту воду, которой Василиса поила его беспрестанно, она несколько раз в день подмешивала мед, чтобы хоть как-то поддержать его силы (как поступала и со всеми другими ранеными, что не могли принимать пищу), но не знала наверняка, принесут ли ее усилия какие-нибудь плоды. Тем более, что ежедневно с отчаяньем наблюдала, как умирает то один, то другой из вверенных ее попечению солдат.
Когда закончился бой (а закончился он полным разгромом десанта и бегством турок на корабли), стало очевидно, что некоторые из солдат и офицеров ранены столь тяжело, что везти их обратно, в расположение своей части нет никакой возможности. Не сегодня-завтра Богу душу отдадут – что ж мучить их понапрасну страшной тряской на жаре? (Кутузова и вовсе уже причисляли к покойникам и готовились сообщать родным о его кончине.) А потому всех, кого сочли безнадежным, решено было оставить в деревне Шумлы, в доме одного из зажиточных татар, где нашлось достаточно места, чтобы разместить дюжину человек. Татарину вменили в обязанность обеспечивать всех едой, питьем и прочим, что потребуется, и припугнули, что, вернувшись через две недели, спросят с него со всей строгостью. А с ранеными оставили Василису по ее собственной просьбе и потому, что так представлялось разумнее всего: никакого врачебного искусства умирающим уже не требовалось, одно добросердечие и терпеливый уход до их последнего вздоха.
За ту неделю с лишним, что Кутузов блуждал между жизнью и смертью, умерло семеро солдат. Еще трое скончались в те несколько дней, что он провел в тяжелом сне, лишь ненадолго обретая ясность сознания. И в итоге на исходе второй недели после боя они с Василисой остались вдвоем в опустевшей горнице, и веря и не веря в то, что судьба рассудила именно так: ему – воскреснуть, а ей – быть с ним денно и нощно наедине словно бы она уже сподобилась стать его супругой.
Первое, о чем спросил он, открыв глаза на следующий день, – об исходе боя. Василиса рассказала, что, едва была одержана победа, к Долгорукову явились турецкие военачальники, клятвенно убеждая его в том, что они, дескать, еще не знали о заключении мира, и только-только получили фирманы[35] о прекращении военных действий. Князю пришлось сделать вид, что он верит их лицемерным заверениям – не нарушать же вновь мирный договор теперь уже с русской стороны!
– Ловко было рассчитано, – с горечью произнес Кутузов.
Василиса с состраданием вглядывалась в его лицо. Своим нездорово-бледным, несмотря на загар, цветом и испариной, постоянно выступавшей из-за жары, напоминало оно девушке промасленную бумагу, вместо стекла закрывавшую окна в гарнизонных казармах. Пытаясь сменить ему повязку, она поначалу не смогла этого сделать из-за того, что запекшаяся кровь слепила волосы и бинты точно клеем. Пришлось остричь офицера и обрить ему голову, так что сейчас она представляла собой весьма жалкое зрелище. Глаза Кутузова постоянно были закрыты, и в те моменты, когда он говорил, казалось, что разговаривает покойник. Печальное это сходство усугублялось тем, что лежал он почти все время неподвижно и в одном исподнем белье, точно приготовленный к погребению.
Одолев-таки смерть, долго не мог он ощутить сладостный вкус жизни. Почти все дни проводил во сне, лишь изредка открывая глаза и обмениваясь с девушкой несколькими с трудом произносимыми словами. Постепенно стал он все больше и больше времени бодрствовать, но сие не укрепило его, а лишь добавило мучений: боль в голове терзала раненого, не ослабляя хватки. Стоило ему проснуться, как Василиса со сжимающимся сердцем замечала перемены в его лице: еще недавно расслабленное во время сна, оно мучительно напрягалось, и Кутузов вновь закрывал глаза, уходя в себя и отчаянно борясь с атакующим его полымем в голове.
По прошествии двух недель прискакал гонец из Ахтиарского гарнизона и, приметив на татарском кладбище близ белых столбиков с письменами целую рощу наспех сколоченных крестов, приготовился сопровождать назад одну Василису. Увидев же Кутузова, не поверил своим глазам и перекрестился. Девушка расхохоталась, а раненый с едва заметной улыбкой проговорил:
– Передай генерал-майору Кохиусу, что желание служить под его началом удержало меня от переселения в лучший мир.
И Василиса вновь залилась смехом.
Однако назад, в русский лагерь они отправились лишь по прошествии еще двух недель – после третьего Спаса. К тому времени Михайла Ларионович, несмотря на слабость и беспрерывную головную боль, мог уже худо-бедно держаться в седле. Вместе с новым гонцом из гарнизона пустились они с Василисой в обратный путь. Их застоявшиеся лошади горячились, торопливо ступая по камням, и Василисе представлялось, что, будь сама она на месте Гюль, то не послушалась бы всадницы и пустилась вскачь, празднуя возвращение от смерти к жизни. Вся прелесть Тавриды, чья природа так сдержанна в западной ее части, открывалась им, точно райский сад, а морские дали с высоты, казались перетекающими прямо в небо (горизонт был поглощен сияющей дымкой). Великолепные скалы со сбегающей по их склонам зеленью, что, чем ближе к морю, тем становилась пышнее, восхищали взгляд вдоль всего побережья. Василиса не могла не сравнивать их с невысокими меловыми обрывами Ахтиара и окружавшей его степью да сосновыми лесами, и дивилась тому, сколь различны эти не далеко отстоящие друг от друга области Тавриды. Впрочем, невзирая на яркую пышность южных Таврических берегов, Ахтиар был ей не менее мил, и сейчас после более чем месячной разлуки, она нетерпеливо ждала встречи с приютившей ее, беглянку, землей, подарившей девушке и должное место в жизни, и любовь, и всеобщее уважение.
Кутузов же всю дорогу молчал, ограничиваясь лишь теми редкими словами, без которых не обойтись в дороге, и Василиса понимала, почему. Хоть и складывалось впечатление, что он более или менее оправился от раны – вон, даже на лошади сидит! – но боль в пробитой выстрелом голове терзала его, не отпуская. Лицо Михайлы Ларионовича было каменным все время пути, точно возвел он бастион, не давая одолеть себя мучениям, и беспрерывно отбивая их натиск. На привалах же он тотчас ложился и закрывал глаза; мало-помалу черты его становились несколько мягче. Но едва приходило время трогаться в путь, как скулы Кутузова вновь каменно застывали.
Василиса изнемогала от сострадания, стоило ей бросить на него взгляд, но и подбодрить ничем не могла – она не знала дороги и не представляла, сколько еще осталось пути. Лишь когда принялись они огибать знакомую ей Балаклавскую балку, девушка, ликуя, воскликнула:
– Ну, вот мы и дома, Михайла Ларионович! Еще немного – и Ахтиар!
Кутузов повернул к ней лицо, и таким страдающим, не скрывающим мучений было оно в тот момент, точно рухнули все возведенные им укрепления и боль, торжествуя, завладела офицером.
– Скорей бы! – еле слышно выговорил он.
Василиса отвела взгляд, прерывисто дыша и подрагивая губами. Была б ее воля, понесла бы она его сейчас на руках, да не в Ахтиар, где вновь Михайле Ларионовичу служба предстоит, а в ту пещерку близ Черной реки, где некогда встретились они с ним. А там укрыла бы на веки вечные от всех на свете войн, врагов и опасностей. И счастье ее было бы беспредельным.
XXXVIII
«…Верил ли он в те мгновения в то, о чем говорил? Или, по своему обыкновению лицедействовал? Сдается мне, что всего лишь хотел верить и страстно убеждал прежде всего себя самого, а меня уж во вторую очередь …»
По возвращении в Ахтиар Михайла Ларионович еще долго не мог вернуться к жизни во всей ее полноте. Днями лежал у себя на квартире почти недвижим, с превеликим трудом отражая натиск боли, и Василиса, во всякую свободную минуту прибегавшая его навестить, дивилась тому, как стойко переносит он мучения. Ни разу и не обмолвился о них!
Осень уже разворачивала огненные свои знамена, и подоспел праздник чуда архангела Михаила в Хонех – именины Кутузова – в который Василиса, уйдя на берег моря подальше от чужих глаз, горячо молилась, славя предводителя небесного воинства за чудесное исцеление Михайлы Ларионовича. В этот же день явился поздравить командира весь его батальон, и неподдельная привязанность солдат не могла глубоко не тронуть тех, кто наблюдал за их встречей с командиром. Беседуя, засиделись они далеко за полночь; все вспоминали роковой бой под Шумлами и сетовали на то, что хоть и неплох командующий ими нынче офицер, а все не то!
– В огонь и в воду за ним не пойдешь, разве что на плац – маршировать! – ко всеобщему смеху подвел итог один из гренадеров.
Раз в день непременно наведывался к раненому кто-нибудь из офицеров, и даже имам Дениз время от времени присылал справляться о здоровье своего ученика. С посыльным передавал лекарственные травы, настои которых способствовали возвращению сил, а однажды прислал мешочек незнакомых злаковых растений. По словам татарина-гонца, прежде их имели право собирать одни только люди султана, увозя прямиком в стамбульский дворец Топкапы.
– Чем же так чудодейственна эта трава? – полюбопытствовал Кутузов.
Татарин широко ухмыльнулся:
– Она помогала султану как можно чаще навещать свой гарем. Имам уверен, что скоро вы окончательно вернетесь к жизни.
– Теперь придется, – пообещал Кутузов.
Василиса проводила подле своего возлюбленного все осенние вечера, лишь время от времени уступая место навещавшим его товарищам. Развлекала его разговорами, а поскольку сам Кутузов говорить мог по-прежнему мало и через силу, беседу вела все время сама. О чем только не ей случалось рассказать ему в эти дни! Почитай, всю свою жизнь и поведала – а о чем еще могла она поведать, кроме своей жизни? И про батюшку, про то, как через театр он смерть принял, про замужество свое и про путешествие в Тавриду. Все выложила, как на духу, и единственное, где слукавила – это про мужа поминая. На словах, сбежала она в Тавриду, его схоронив.
Кутузов с интересом кивал или приподнимал брови, вслушиваясь в ее слова, и, к большой радости Василисы, не обнаруживал ни малейшего недоверия к истории. Один лишь единственный раз совершенно некстати, когда повествовала она совсем о другом, вдруг спросил:
– А муж-то твой отчего помер?
– Помер? – растерянно переспросила Василиса, которую перебили посреди рассказа о побеге от домогавшегося ее офицера. – Как помер? Ах, да, лихоманка его одолела – вот он и сгорел в считанные дни.
– А лихоманку как подхватил? – продолжал зачем-то допытываться Кутузов.
– А Господь его знает! – делая свой голос как можно более невинным, отвечала Василиса. – Я и сама дивлюсь: не простывал он вроде…
Ее последние слова предательски повисли в полной тишине.
– Ну да Бог с ним, – прервал неловкость Кутузов. – Так ты говоришь, прямо с обрыва и прыгнула?
И Василиса с облегчением продолжила рассказ.
К празднику Покрова[36] стрекот цикад еще стоял в воздухе, хоть и раздавался куда слабее, чем летом. Но тепло и не думало покидать пределов Тавриды: солдаты по-прежнему расхаживали по лагерю без мундиров, в одних рубахах. Михайле Ларионовичу было еще далеко до возвращения в строй, но он уже проводил некоторое время на ногах и даже спускался к морю – посидеть на камнях. Впрочем, усталость довольно скоро вынуждала его вернуться к дому татарина, у которого он был на постое. Туда, во двор, под кизиловое дерево, денщик выносил днем постель офицера, чтобы тот мог вволю дышать нежным, душистым ветерком, набираясь сил.
Как и водится по осени, темнеть стало рано, а сумерек в Тавриде почти что и вовсе не было – ночь без предупреждения ложилась на землю – и мало-помалу, в одно и то же время приходя навещать Михайлу Ларионовича, Василиса вдруг обнаружила, что встречаются они, как ни крути, по ночам. Впрочем, осознав сие, она тут же и махнула на это обстоятельство рукой: не от кого было уж ей таиться и нечего стыдиться! Встречал ее Кутузов под тем же кизиловым деревом, под которым проводил целый день, и порой во время беседы то на одного, то на другого из них падал кроваво-красный переспелый плод. Он с готовностью таял на языке, наполняя рот и кислотой и сладостью одновременно.
Как-то раз во время разговора, когда они, над чем-то посмеявшись, примолкли, Василиса ощутила, как Кутузов взял ее за руку. Девушка замерла: с того момента, как на июльской жаре объяснились они друг с другом возле моря, не прикасался он к ней кроме как по необходимости во время выздоровления. А в последнее время не было и того – ухаживал за ним денщик. Взяв за руку, стал он словно бы в раздумье перебирать ее пальцы, а затем, вдруг решившись, поднес к губам и поцеловал.
Василиса сидела сама не своя – впервые в жизни вели себя с ней, точно с благородной; что сказать и что сделать в ответ, она не знала. А Михайла Ларионович тем временем заговорил:
– Вот ведь как странно выходит, что и хотел я по малодушию с тобой расстаться, а не смог.
– Ежели я вам в тягость, то могу сей же час уйти! – прошептала Василиса.
– Что ты! – как будто испугавшись, Кутузов сжал ее руку. – Как же я без тебя воевать буду? Если, не приведи Бог, опять убьют, кто меня с того света вернет?
Василиса улыбнулась, хоть и было ей не весело:
– Найдется лекарь искусный, он и вернет.
– Полно! – прервал ее Кутузов. – Ты своих заслуг не умаляй. Видел я тебя там, когда без памяти лежал; это ты меня к жизни вывела.
Василиса отвела взгляд, устремив его в глубину ночи. Не того ждала она услышать! Грезились ей произносимые Михайлой Ларионовичем слова любви и нежности. И тот как будто ощутил эту страстную жажду в ее душе.
– Ты для меня одна женщина во всем свете! – тихо произнес Кутузов, проникновенно глядя на нее. Лишь с тобой и хочу судьбу свою связать.
Василиса в смятении вскочила на ноги. От души ли он говорит? Неужто раскаялся?
Кутузов тем временем не отпускал ее руки и проникновенным, как у иерея во время проповеди, голосом продолжал:
– Ты прости меня за все! Мало ли мы в жизни осечек даем? Не выбрасывать же ружье после осечки, должно снова пытаться выстрелить! – он виновато рассмеялся.
Василиса прерывисто дышала, так и не решаясь на него взглянуть, чтобы не увязнуть в медовом его, обволакивающем взгляде. Тревожное предчувствие било крыльями, точно пойманная птица, и не давало счастью заполнить душу до краев.
Кутузов потянул ее за руку и заставил повернуться к нему лицом:
– Ты поверь мне, Васюша, – продолжал он. – Как жить-то нам дальше, если верить друг другу не будем, а во всем подвох искать? Разве я когда тебе врагом был? Смалодушничал, каюсь, но зла не желал.
Разумом Василиса сознавала правоту его слов, разумом же принуждала себя ему поверить. Но словно раздваивалась она в тот миг: сердце продолжало колотиться в тревоге и не желало сладостно замирать от примирения с любимым.
– А сомнения оставь, слышишь! – уже знакомым, не терпящим возражений, голосом приказал Михайла Ларионович. – Я тогда, в Шумлах, почитай, сызнова родился, за что ж на новорожденного зло-то держать? Такой, как нынче есть, я перед тобой согрешить не успел.
Наконец Василиса решилась поднять на него глаза. И поразилась тому, насколько нежен и глубок его взгляд, как взволнованно подался он вперед на постели, и вдруг ощутила, до чего сильно он стискивает ей руку, не сознавая, что причиняет боль. Она хотела что-нибудь ответить, но голос не шел из гортани. Михайла Ларионович напряженно смотрел на нее с волнением и надеждой, и Василиса вдруг ясно ощутила, что не сможет больше терзать себя недоверием и тревогой. Она прощала, выметала из души сомнения и открывала простор для любви.
Кутузов не мог не почувствовать перемену в ее взгляде. Окрыленный, он уверенно притянул ее к себе, и Василиса порывисто обняла его. Тут же обнял ее в ответ и Кутузов, прижав к своей груди так сильно, что его нательный крест впился ей в кожу, заставив девушку вскрикнуть. Чуть изменив позу, чтобы ничто не мешало ему наслаждаться их примирением, Михайла Ларионович целовал ее счастливое лицо в губы, и в щеки, и в лоб, и в безмятежно прикрытые от блаженства глаза.
– Нам с тобой более разлучаться нельзя! – шептал он ей. – Нельзя ни за какие блага!
– Да разве ж нам за разлуку могут что-то посулить! – смеялась девушка, от души радуясь тому, что может быть так беспечна и так свободна душою для нежности и надежды.
XXXIX
«…Он оторвался от меня, как отрывается от дерева позолотевший лист – в тот срок, что был предусмотрен Провидением…»
Долго ли, коротко, миновала осень, за нею – сырой крымский декабрь, и наступило второе Рождество, что Василиса встречала в Тавриде. А вот встретить Пасху 1775 года на столь полюбившихся ей Таврических берегах девушке уже не довелось. Еще в середине генваря князь Долгоруков по приказу императрицы передал командование 2-ой Крымской армией генерал-поручику Прозоровскому и отбыл в Москву. Там наградили его орденом святого Андрея Первозванного и шпагой с алмазами, а к фамилии торжественно присоединили титул «Крымский». С тем князь и отбыл на покой в свои имения. А войскам его, согласно условиям Кучук-Кайнарджийского мира, предписано было покинуть Крымский полуостров.
Генерал-майор Кохиус уводил свои полки на север, в причерноморские степи, с тяжелым чувством. Турецкие корабли стояли у Кафы, в любой момент готовые высадить новый десант, а выбивать его с полуострова было некому: лишь в Керчи и Еникале оставалось теперь по пехотному полку. Но императрица, которой последние пару лет приходилось вести войну на два фронта – как против турок, так и против собственного народа, ведомого Пугачевым, – видимо, пожелала устроить себе передышку. И, не смирив Тавриды окончательно, оставила ее до поры до времени под управлением послушного хана Сахиб-Гирея.
А русским войскам предстояло, бросив обжитые казармы и совершив многодневный изнурительный переход, встать на постой в казацкой станице Вольной на берегу Днепра. С приходом же весны, стремительно преобразившей безжизненную степь, разбить неподалеку от этой станицы палатки и перейти на жительство в них.
К тому времени стало очевидно, что Кутузов окончательно вернулся к жизни. Несмотря на шрамы, ярко розовевшие на висках в напоминание о ране, взгляд его был так же зорок, как и прежде, и не менее чарующ, стоило Михайле Ларионовичу того пожелать. Отступили от него, а затем и вовсе сошли на нет головные боли, обрел он свой обычный, здоровый цвет лица, ловкость в движениях и былую властность в голосе. Более того, стал он, по мнению Василисы, куда уверенней в себе, поскольку товарищи-офицеры относились теперь к нему с особым уважением, а солдаты и вовсе глядели, как на избранника Божьего: шутка ли – саму смерть победил! В разговорах с Василисой Кутузов хвалился тем, что вовсе никаких трудов не стоит ему теперь командовать: солдаты повинуются необыкновенному командиру с такой благоговейной готовностью, как если бы он являлся им в огненном столпе[37]. Словом, прошел Михайла Ларионович по краю смерти с большой пользой для себя!
А для девушки наступила пора горького мучения. Спешил ее возлюбленный хлебнуть живой воды после того, как едва не хлебнул мертвой, и пил ее жадными глотками. За предыдущие четыре года, проведенные в Тавриде и ее окрестностях, среди магометан, совсем позабыли солдаты, что это за радость – общаться с женским полом. Строжайшим образом карает за прелюбодеяние шариат, и среди татарок не находилось охотниц рисковать жизнью ради минутного удовольствия. Оказавшись же на своей земле, среди своих единоверцев, с которыми они, к тому же, успели тесно познакомиться за время постоя, служивые вздохнули с облегчением. С наступлением тепла, что ни ночь, то скрипела, подъезжая к палаткам телега, после чего раздавался возбужденный смех и перешептывания, а ближе к утру телега скрипела вновь, отправляя сонных женщин в обратный путь.
И Михайла Ларионович, в числе прочих, спешил утолить телесную жажду, щедро даря своим вниманием казачек, куда менее стойких к искушениям, чем Василиса. А те были чертовски хороши! Как бы возмущенно ни билось у Василисы сердце при взгляде на уступчивых красавиц (навещавших солдат и на страстной неделе!), не признать их прелести она не могла. Статные, полногрудые, ладно-округлые, казались они душистыми и сладкими, как сдобные хлеба, в то время как сама Василиса могла бы сойти разве что за подсушенную корочку. Их мягкие губы были налиты соком, как переспелая малина на ярком солнце. (Василиса ощупывала свои собственные, обветренные, в чешуйках и трещинах губы и преисполнялась печали.) Смуглые щеки казачек темнели жаром как закатное небо, а в глазах при взгляде на мужчин вспыхивали зарницы. (Василиса оглядывала в зеркале свое лицо и скорбно убеждалась, как побледнела и сникла она сперва от всех переживаний и тревоги за Михайлу Ларионовича, а затем – от долгого, многотрудного пути.) На казачках облачно белели вышитые рубахи и играли красками бусы, от пояса же к земле струились нарядные поневы. (В то время как сама Василиса не имела иной одежды, кроме татарской, уже порядком потрепанной, да к тому же несуразной на христианской земле.) Словом, выступали казачки пышными лебедками, заставляя девушку чувствовать себя невзрачной лесной птичкой, что хороша была ровно до тех пор, пока некому было с нею сравниться.
К чести Михайлы Ларионовича, он то и дело развеивал ее опасения, с утешительными поцелуями убеждая девушку в том, что душа его по-прежнему с ней, но тело, как известно, своего требует, и после всякого поста разговляться надобно. В подтверждение своей благосклонности к Василисе вновь накупил он ей подарков – ярко-синего, как небо в летний зной, тонко расчерченного красной клеткой полотна на юбку и белого холста на рубаху. А вдобавок – красных и синих лент в косы и кожаные черки[38] на ноги. Изрядно поработав ножницами и иглой, Василиса вскоре стала неотличима от казачек по одежде. Вернулся к ней душевный покой, а вслед за тем и лицо похорошело и посвежело. Решила она махнуть рукой на развлечения своего возлюбленного, утешаясь тем, что мыслями своими и чаяниями делится он по-прежнему только с ней, а стало быть, она господствует в его сердце.
Время от времени Михайла Ларионович нанимал лодку, и они отправлялись кататься по Днепру, который в этой части своего течения разливался чрезвычайно широко, а потому двигал воды неспешно. Удивительно теплой и радостной близостью было наполнено это время, как будто оба переносились в тот мир, где ничто не могло разделить их: ни положение в обществе, ни разлад, пережитый в прошлом. С блаженной улыбкой Василиса наблюдала за облаками, жемчужным ожерельем растянувшимися над рекой, и приходили к ней в голову тщеславные и суетные мысли, о том, как будет она, став супругой Михайлы Ларионовича, носить подобные жемчуга, красоваться в подобающих дворянке платьях и пользоваться всеобщим почтением как жена важного полководца (в том, что Кутузову предстоит таковым стать, девушка не сомневалась ни мгновения).
Михайла Ларионович также бывал чрезвычайно доволен их прогулками, поскольку, по его словам, во время них он отдыхал душою. Есть особая прелесть в том, чтобы разделять компанию человека, с которым о чем угодно можно поговорить, всем, что лежит на сердце, поделиться, и быть уверенным в том, что слова твои всегда примут со вниманием, а тебя самого с – любовью. К худу ли, к добру, но Василиса своих чувств скрывать не умела: если даже и серчала она за что на Михайлу Ларионовича, восхищение им и нежность проступали в ее глазах, как свет луны за тучей. А уж если ничто не омрачало ее любви, взгляд девушки был столь же ярок, как сияние ночного светила в полнолунье.
Разговоры они вели обо всем на свете. Видимо, стосковавшись по своим родным и близким в Петербурге, Михайла Ларионович вспоминал о них все чаще. Помимо отца, он оживленно повествовал о своем двоюродном дяде, Иване Логиновиче. Насколько уразумела девушка, дядя был для Михайлы Ларионовича тем блестящим образцом, которому он всеми силами стремился подражать. Безупречная военная карьера, государственная деятельность и выгодные связи в верхах благодаря родственникам жены, урожденной Бибиковой – все это возносило дядю на пьедестал в глазах племянника[39]. Да помимо прочего, должность генерал-интенданта[40] флота обеспечивала ему такой доход, о котором едва ли не каждый в государстве Российском мог только мечтать.
– А что он за человек? – спрашивала Василиса, опустив руку в воду и наслаждаясь тем, как река омывает прохладой пальцы.
– Как, что за человек? – недоумевая, переспрашивал Кутузов. – Сильный человек! Могущественный. И ко мне чрезвычайно расположен.
– Это от того, что знает, как вы им восхищаетесь, – с улыбкой замечала девушка.
– А как им не восхищаться, – пожимал плечами Кутузов, – если он так высоко взлетел! От дяди все без ума. Свояченица его, жены младшая сестра, Катенька, вскоре, как в доме у них поселилась, батюшкой его начала называть.
– Понятное дело – он сироте отца заменил.
– Да нет, отец у нее жив-здоров.
– Зачем же дочь на воспитание отдал? – изумилась Василиса. – Не бедняк же он!
– Обычай такой, – объяснил Кутузов. – Если мать умирает, а в семье дочери есть, то отец или сызнова жениться должен или девочек отдать родне, чтобы они у взрослой женщины под присмотром были. Иначе смотреть станут косо.
Василиса молча дивилась диковинным правилам дворянской жизни.
В том месте, где они проплывали, река омывала несколько небольших островков. К одному из них Кутузов и направил лодку. Причалив, он некоторое время молчал, словно бы собираясь с духом, а затем с некоторым стеснением в голосе произнес:
– Посмотри, Васюша, что мне у местных умельцев достать удалось. Помнишь, я как-то говорил, что глаза у тебя в цвет агата? Вот он этот камень!
Он протянул девушке кольцо, в котором изящные завитушки из ярко сияющего серебра обнимали дымчато-серый камень. Выпуклостью и удлиненной своею формой агат также напоминал человеческий глаз.
Василиса с изумлением и радостью рассматривала необычный камень, глядя сквозь него на свет и любуясь его нежно-серой прозрачностью, когда Кутузов мягко взял кольцо у нее с ладони и надел на палец. Девушка вскинула на него вопросительный взгляд.
– Мы с тобой почитай два года как вместе воюем, – проговорил Михайла Ларионович с еще большим стеснением, чем прежде. – И пора бы уж нам наконец…
Василиса замерла: она чувствовала подлинную искренность в его голосе.
– Ваше высокоблагородие! Ваше высокоблагородие!
С того берега реки, где стояли русские войска, Кутузова звал верховой гонец, размахивая каким-то пакетом. Очевидно, дело было срочным, и Михайла Ларионович немедленно развернул лодку и, с силой выгребая поперек течения, направил ее к берегу. Василиса вся сжалась в комок: ею овладевало тревожное предчувствие.
Волны взволнованно бились в корму за ее спиной, пока Кутузов, разорвав пакет, читал донесение. Дочитав же, он обернулся к ней, вышедшей из лодки навстречу вестям, с таким сияющим лицом, с каким она никогда его не видела доселе:
– Вот радость-то, Васюша! Орденом меня награждают – Святого Георгия IV степени. Приказано ехать в Петербург – там сама императрица вручать его будет!
Девушка стояла, как в землю вросшая от удара.
– Да скажи ты хоть что-нибудь! – потребовал Кутузов.
– Счастье ваше! – еле слышно выговорила Василиса. – Надолго ль расстаемся?
– На сколько бы ни расстались, все одно – свидимся! – сам не свой от радости, заверил ее Кутузов, и гонец широко осклабился за его спиной. – Ну, теперь скорее в лагерь – пировать!
Опустив голову, девушка тронулась вслед за ним. Она сама не понимала, отчего так нелегко у нее на сердце в столь радостный для Михайлы Ларионовича час, но ощущала, как с каждым мгновением ей становится все тяжелее.
Этим вечером Кутузов поистине купался во всеобщем внимании. Генерал-майор Кохиус официально поздравил его в присутствии всех офицеров, пожелав в будущем стать полным Георгиевским кавалером, к чему нынче сделан первый из четырех шагов. Друзья наперебой выражали ему свой восторг и рассказывали, как императрица, запросив у князя Долгорукова реляцию о подполковнике Голенищеве-Кутузове, получила следующий ответ: «…несравненно большую похвалу заслужил он мужеством своим и храбростью». Недоброжелатели же переговаривались вполголоса о влиятельной Кутузовской родне при дворе, включая дядю-адмирала, коему, наверняка, не составило труда замолвить за племянника словечко. Впрочем, даже они признавали, что награда вполне заслужена.
Отправив денщика в станицу – за вином, Кутузов угощал в своей палатке всех без исключения: друзей – потому что друзья, а недоброжелателей – чтобы помнили его незлобивость. Одна лишь Василиса потерянно бродила по берегу реки, и слезы стояли у нее в глазах. Там и нашел ее Кутузов ближе к ночи, послав справиться о ней.
– Что ж ты все горюешь, когда у меня праздник?! – спросил он в сердцах, тряхнув ее за плечи. – Да, расстаемся, но, самое большее – до Рождества
Василиса подняла на него глаза и вдруг увидела возлюбленного совсем другим, не тем, каким знала все это время. Захмелел он немного, да не в том дело… До сих пор, сходились они, или расходились, чувствовала она, что он принадлежит ей. Сейчас же Михайла Ларионович принадлежал другой – Екатерине. И, Бог весть, отпустит ли она его от себя.
Впрочем, выразить всего этого Василиса не могла и сказала только:
– Не затянулась бы наша с вами разлука!
Кутузов лишь махнул рукой в ответ на ее опасения:
– Кто ждать умеет, к тому все вовремя придет. И мы с тобой соединимся в свой час.
– Дай-то Бог! – прошептала девушка.
– Да скажи ты мне что-нибудь в ободрение! – вновь сжал и потряс ее хрупкие плечи офицер. – Благослови меня, что ли, святая ты наша!
– Не кощунствуйте, Михайла Ларионович, – одернула его Василиса, – я не святее вас. А что сказать вам на прощание…
Она едва не рыдала, и мутная стена заслоняла возлюбленного от ее глаз. Но все же, собравшись с силами, девушка прояснила свой взгляд.
– Я уж говорила вам однажды – прошептала она, – что вы с победою всю жизнь не разлучитесь. Вы ее так любите, что она вас вовек не оставит. Ну а я… я вас не оставлю в трудный час.
И, вслепую от слез, она протянула к Михайле Ларионовичу руки. Он обнял ее, и две их фигуры слились в одну, а затем и вовсе пропали, укутанные тьмой безлунной ночи.
Ускакал Кутузов на рассвете. Больше никаких существенных слов между ними сказано не было. Офицер предупредил, что писать едва ли сможет, и девушка не стала допытываться, почему, и без того зная ответ: не мог он обнаружить перед всеми так явно свои к ней чувства. Напоследок приласкала она его красавца-коня и прижалась к нему щекой: обнять самого Михайлу Ларионовича мешало ей присутствие его денщика и караульных солдат.
Кутузов легко вскочил в седло и посмотрел на нее, разбирая поводья. Василисе вдруг вспомнилось, как учил он ее управляться с лошадью, увозя из пещерной кельи.
«Вот ведь какой поворот судьба дала!» – пронзила ее горькая мысль.
– Молись за меня, пустынница! – улыбнулся Кутузов, разворачивая коня.
Василиса лишь кивнула, не в силах говорить. Она явственно ощущала, как, удаляясь от нее в этот утренний час, он разрывает надвое ее душу.
* * *
Императрица Екатерина II родилась за два века до того, как Сталин произнес свою историческую фразу: «Кадры решают все»[41], а потому не могла осознанно взять ее на вооружение в многолетней игре с государством российским. Однако всю жизнь хитроумная немка жила и царствовала так, как если бы сталинский лозунг был крупными буквами начертан на стенах ее кабинета.
В кадровой своей политике Екатерина придерживалась очень простого и действенного правила: те, в ком она чувствовала хоть малейшую угрозу своему месту на троне – ее муж Петр III, оба сына – цесаревич Павел и Алексей Бобринский[42], та загадочная особа, что осталась в истории под именем княжны Таракановой, не говоря уже о бунтовщике Пугачеве – либо уничтожались физически, либо всю жизнь находились под пристальнейшим надзором, не имея возможности сделать ни шагу с отведенного им скромного шестка. Те же, в ком императрица угадывала талант государственного деятеля и честолюбие, однако без притязаний на престол, возносились ею высоко и доверием пользовались изрядным. Ах, как посмеялась бы Екатерина, доживи она до воцарения Наполеона и узнай о том, что он создал специальную тайную полицию, чтобы следить за … министром полиции Фуше! Нет, своим доверенным людям она действительно доверяла, прилагая немало сил к тому, чтобы окружить себя таковыми.
Нам не известно достоверно, когда императрица впервые обратила внимание на будущего фельдмаршала; но, скорее всего еще в 1765 году, когда Кутузов, вернувшись из польского похода и служа под Петербургом, периодически нес почетный караул в Зимнем дворце. Не случайно же немногим позже он, восемнадцатилетний, будучи всего лишь в чине штабс-капитана вдруг оказался в составе Уложенной комиссии, составлявшей свод законов Российского государства. Неожиданный виток в карьере, не правда ли? И весьма почетный! Однако почет почетом, но три года спустя комиссия прекратила свою работу (кстати, так и не доведя ее до конца), а Кутузов надолго исчез из поля зрения Екатерины, вернувшись на поля сражений.
Императрица могла бы больше и не вспомнить об умном и обаятельном офицере, на котором когда-то остановила свой взгляд, но… поистине, турецкий янычар, простреливший Кутузову голову, оказал ему неоценимую услугу! Реляция Долгорукова – смутное воспоминание – решение о награде – и, в итоге офицер вновь предстает перед своей государыней. Она пристально всматривается в него, склонившегося в почтительном поклоне, и видит, что Кутузов – один из тех редких людей, которым годы идут только на пользу. Это, несомненно, признак ума, и Екатерина удостаивает подполковника беседой. Прогуливаясь с ним по дворцовой оранжерее и слушая повествование о событиях в Тавриде, она неоднократно ловит себя на мысли о том, что находится в театре, и внимает монологу талантливого актера. Как он умеет приковать к себе внимание! До чего красноречив! А это непринужденное, живое обхождение с собеседником! Его отнюдь не сковывает ее высочайший в империи статус, но все подобающее императрице почтение Кутузов выказывает ей безупречно. И весьма грациозно при том.
Улыбка Екатерины, обращенная к офицеру, сперва любезно-официальная, становится все более и более естественной и теплой. Да, мало кто так умеет обращаться с людьми! Братья Орловы чересчур грубы и напористы, Никита Панин – вольнодумен и мягкосердечен (скверные для человека, облеченного властью, черты!), а Суворову место либо под огнем неприятеля, либо в монастыре со строгим уставом, во дворцы же его лучше не допускать. Что до Потемкина, ее правой руки, то он хорош всем, но не следует укреплять его в мысли, что он единственный государственный муж в ее державе. Ведь тот офицер, которого она видит перед собой, просто создан для того, чтобы располагать к себе людей и внушать им желательные для себя мысли, что сулит ему скорый и яркий взлет. «Ах, как он был бы хорош на дипломатической службе! – вдруг осеняет императрицу. – Но не сейчас, чуть позже. Пусть наберется опыта, расширит кругозор…»
– Вы бывали в Европе, подполковник? – милостиво глядя на Кутузова, спрашивает она. – Нет? Поезжайте! Вам будет предоставлен годичный отпуск и выделены средства из казны. Полагаю, ваше здоровье окончательно восстановится, когда вы получите представление об устройстве военного дела в различных странах. Вам назовут людей, могущих просветить вас на сей счет, и скажут, от чьего имени к ним обратиться.
О, как сверкнули у него глаза! Нет, она не ошиблась в своем выборе. Но неожиданно Екатерина задумывается:
– Können Sie sich mit dem preußischen Feldmarschall auch frei unterhalten, wie sich mit mir unterhielten?[43] – переходя на родной немецкий, спрашивает она.
И Кутузов вновь не обманывает ее ожиданий:
– Ich behersche Deutsch genauso frei wie auch Französisch und Türkisch, Ihre Majstät,[44] – отвечает он.
Екатерина полна благожелательства – этот человек нравится ей все больше и больше. И ее как женщину тянет спросить его о чем-то личном:
– Вы женаты, подполковник?
– Нет, государыня, но обручен.
Императрица улыбается чуть лукаво:
– Что ж, будем надеяться, ваша невеста дождется вашего возвращения!
Кутузов тоже позволяет себе улыбку:
– Непременно дождется, государыня!
Екатерина задумчиво раскрывает и захлопывает веер, возможно вспоминая свое не так давно состоявшееся тайное венчание с Потемкиным:
– И на ком же, – спрашивает она, – вы остановили свой выбор?
XL
«…Поутру выходила я в степь, смотрела на буйные травы, на табуны лошадей, на вьющихся в поднебесье птиц; видела то там, то здесь проезжающих казаков и упражняющихся в военном искусстве солдат, но земля представлялась мне такой же пустынной, какою, верно, была в первый день творения…»
С отъездом Михайлы Ларионовича мир поблек и опустел для Василисы. Продолжала она прилежно выполнять свои обязанности в лазарете, принуждала себя с еще большим тщанием ухаживать за больными и внимательней, чем прежде (если было сие возможно) относиться к их нуждам, но сердце ее уподобилось чаше, из которой разом выплеснули хмельное вино, а влили взамен стоячую воду.
Множество мужчин окружало ее всякую минуту, но ей не виделось вокруг ни одного. Красота привольно раскинувшейся степи, где стоял их лагерь, радовала всякую душу, кроме одной – ее собственной. Могли бы утешить ее в разлуке и доброе отношение солдат, и спокойствие нынешней жизни, не сравнимое с тревогами Тавриды, но не утешало ни то, ни другое. Лишь когда на рассвете или ближе к закату выезжала она в степь верхом на Гюль и гнала ее бешеным галопом так, чтобы в сердце не осталось ничего, кроме опасно-радостного чувства полета, случалось девушке немного забыться, но очень вскоре тоска облепляла ее вновь, как паутина.
А осенью приключилась еще одна напасть – вот уж верно, беда не приходит одна! – Якову Лукичу пришлось покинуть лазарет. Еще в генваре князь Долгоруков передал командование 2-ой Крымской армией генерал-поручику Прозоровскому (дабы удалиться на покой в свои имения), а тот, будучи наслышан о смертельной ране Кутузова и его поистине волшебном исцелении, приписал сие искусству полкового врача. И, едва представилась благоприятная возможность, затребовал его к себе, пообещав Кохиусу как можно скорее отправить на место Якова Лукича нового лекаря.
Василиса, и без того удрученная отсутствием Михайлы Ларионовича, узнав о том, что вскоре лишится и своего учителя, разрыдалась так, как не рыдала с похорон отца. Она по-дочернему привязалась к пожилому врачу, пережив бок о бок с ним столько печалей и тревог, стольких людей поставив на ноги, и столькому научившись. Да и сам Яков Лукич уезжал с тяжелым сердцем: кому, как не ему, было знать, что выздоровление Кутузова – не его заслуга, но не признаешься же в том открыто! Он с горечью сознавал, что в штабе у Прозоровского смотреть на него будут как на чудотворца, но рано ли поздно ли неминуемо убедятся, что лекарь он средней руки. Вот позор-то будет! А куда денешься?
– А за тебя душа у меня спокойна, – говорил он девушке на прощание, троекратно целуя в щеки. – По врачебной нашей части знаешь ты уже не меньше меня, а, пожалуй, и больше. Чутье у тебя, Васёна, не хуже, чем у борзой собаки, а в лекарском деле все на чутье стоит. Тут тебе и карты в руки.
Вскоре после его отъезда солдат поставили на зимние квартиры – расселили по казацким куреням. Под лазарет же Кохиус приказал поставить отдельный сруб, чтоб не иметь недовольства от казаков по поводу больных у них в домах. И Василиса волей-неволей стала в нем настоящей хозяйкой, распоряжаясь всем – от желудочных расстройств и переломов до провизии и дров. Однако не в радость была ей власть – вернуть бы любовь! Но любовь судьба не возвращала.
И ни на единую весточку не расщедрился Михайла Ларионович! До Покрова Василиса держалась стойко, но к празднику Николы зимнего пала духом. Видно, уж не сдержит он свое обещание и не вернется к Рождеству. Знать, решил отпраздновать с родными… На людях девушка ничем не обнаруживала своего уныния, но ночами давала волю слезам.
Тут, усугубляя ее тоску, судьба решила больно уколоть Василису. Федор, спасенный ею некогда солдат, искавший впоследствии ее руки, взял да и женился. Пошла за него без долгих раздумий молодая, вдовая казачка, одна поднимавшая двоих детей, и была она рада-радешенька найти себе опору, а детям – нового отца. К тому времени Федор получил серьезное увечье: во время долгого пути из Ахтиара в Новороссию по расхлябанной грязи угораздило его угодить под колесо пушечного лафета, что тянула ступавшая рядом лошадь. Левая нога переломилась, да так неудачно, что, когда срослась, оказалась короче правой. Ни маршировать, ни бежать в атаку Федор уже не мог, выполняя в лагере лишь подсобные работы, и командиры были б рады отправить его в отставку, да жалели: куда человек денется за тридевять земель от родной деревни? Чем заработает на пропитание? А с женитьбой его все донельзя удачно выходило: становился Федор хозяином в доме и мог не только себя прокормить, но еще и жить безбедно. И сеять, и жать, и косить, и молотить, и любые крестьянские работы выполнять нога его худо-бедно позволяла. Разве что за плугом ходить тяжело, ну да как-нибудь управится. Казакам житье привольное – ни помещиков над ними, ни государственных управляющих, сами себе хозяева. За то, что живут на окраинах империи: на уральской реке Яик, на Кубани, в низовьях Дона и Днепра, препятствуя захвату российской земли другими народами, с давних времен ни один самодержец не покушается на их свободу.
На свадьбе, восседая за столом в солдатским мундире, Федор выглядел красавцем. А уж гордость за новое свое положение его прямо-таки распирала. Вот ведь как судьбу объегорил! И вольным стал, и землю обрел, вновь у него и семья и хозяйство взамен тех, что отняты безвозвратно. А ходить вперевалку он уж так приспособился, что и не чувствует своего увечья. И на Василису, сидевшую промеж остальных гостей, Федор поглядывал с явным превосходством, едва ли не с сочувствием: «Погляди, мол, дура, что упустила!» Девушка отвечала ему спокойным, дружелюбным взглядом, но на душе у нее было темно.
В ночь после Федоровой свадьбы Василиса, чувствуя, что не сможет отойти ко сну, вышла на берег Днепра. Полная в ту ночь луна еще не успела подняться высоко, и была столь огромна, что невольно навевала мысль о ничтожестве человека и тщетности его стремлений перед лицом высшего начала. Повинуясь порыву, Василиса опустилась на колени, но ни одна молитва, сколь бы ни были они привычны девушке, не шла на язык. И без того знал Господь, что у нее на сердце, ведал каждое движение ее души, видел настоящее ее и будущее, но не спешил возвращать ей Михайлу Ларионовича. Знать, были у Него на то причины. Только вот постичь их изнывающей от неизвестности девушке было не суждено.
Кутузов жил в Петербурге уже третью неделю. Холодный город-дворец над стальной водой угнетал его своей промозглой сыростью и неприветливо затянутым небом. С какой тоской вспоминалось тут ласковое море и благоухающе-горячий воздух Ахтиара! Однако судьба империи вершилась именно здесь – во влажной серой мгле под набрякшими облаками – а, значит, должно смириться с неуютным петербургским климатом и твердой рукой взять у столицы свою долю удачи.
Награждение орденом должно было состояться в осенний праздник Георгия Победоносца, в самом конце ноября[45], а пока что Кутузов жил у отца и наносил визиты всем петербургским родственникам и знакомым. Появляясь то в одной, то в другой гостиной, он тут же оказывался в центре внимания (герой, красноречив, хорош собой) и производил наилучшее, надолго запоминавшееся впечатление. Однако в душе у него была почти такая же беспросветность, как в небе над Петербургом. Тому имелось несколько причин.
Во-первых, разговор с императрицей. Прекрасно начавшись и многообещающе продолжившись, закончился он отнюдь не лучшим образом. Екатерина задала ему вопрос о невесте, и Кутузов ответил, что выбор его пал на девицу духовного сословия, дочь покойного иерея Филарета Покровского. Екатерина захлопнула веер и посмотрела на него так странно, как если бы он объявил ей, что намерен венчаться со своей крепостной.
– Где же служил сей добрый пастырь? – с явно ощутимой в голосе иронией спросила она. – В селе под Калугой? Браво, подполковник! Вот уж, право, достойная для вас партия!
– Эта девица заслуживает всяческого уважения, государыня, – попытался, как мог, защитить ее Кутузов.
– Несомненно, – холодно согласилась Екатерина. – Но, видимо, в Тавриде сильная жара, раз от нее даже светлые головы перестают мыслить здраво.
Вскоре после этого их беседа иссякла, и в результате Кутузов не мог быть полностью уверен, что императрица поступит, как обещала – отправит его за границу постигать военное искусство других стран. Уж больно снисходительно она с ним распрощалась.
Дела семейные тоже не радовали, напротив, навевали уныние. Ларион Матвеевич, хоть и встретил сына сердечно, но, проводя в доверительных беседах с ним долгие вечера, не мог скрыть, как тяжело у него на сердце. Младший сын его, Семен, еще смолоду производил впечатление несколько странного человека и впоследствии оказался не способен даже полностью пройти курс школьных наук. Освоив «часть геометрии и артиллерии» он был досрочно выпущен флигель-адьютантом в штаб своего отца. Но и служа под отцовским крылом, продолжал обнаруживать странности. Врачи уж не раз намекали Лариону Матвеевичу, что сын его едва ли находится в душевном здравии. По-видимости, в самом скором времени Семен будет вынужден выйти в отставку и, находясь в расцвете лет, не жить, а доживать свой век с помраченным рассудком.
Одной такой беды было б достаточно, чтобы вогнать в тоску любого родителя, а тут еще тяжкие мысли о младшей дочери не давали покоя. Старшая, Анна Ларионовна, была выдана замуж за отставного лейб-гвардии капитана и вела обычную жизнь небогатой сельской помещицы. Для младшей же, Дарьи, миновали уже все сроки, когда приличествует сочетаться браком, но жениха не сыскалось, и все идет к тому, что останется младшая дочь Лариона Матвеевича старой девой и пустоцветом.
– Ты – моя надежда и утешение, – говорил надломленный печалями отец старшему сыну. – Всем ты взял: и Господь к тебе милостив, и государыня благоволит, и у командиров ты на лучшем счету. Не будь же беспечен, употреби все это во благо, так чтобы род наш в тебе просиял! Утверди себя в обществе, женись, через жену связей добавится, легче будет к должностям пробиться. К тому же с женой из хорошего рода уважения больше приобретешь. Не присмотрел еще никого?
Памятуя горький опыт беседы с императрицей, Кутузов взвешивал каждое слово, повествуя отцу о Василисе, и так живо обрисовывал ее достоинства, что ни один слушатель не остался бы к девушке равнодушным. Ларион Матвеевич, казалось, внимал рассказу сына вполне благосклонно, но под конец не сказал ничего определенного, кроме того, что «прелюбопытная вышла у тебя история».
Несколько успокоенный этими словами, Кутузов и не подумал встревожиться, когда, пару дней спустя, его пригласил к себе двоюродный дядя, Иван Логинович. Племянник уже навещал его в первые же дни после приезда, но рад был снова заглянуть к тому, кого искренне почитал и, не смущаясь родного отца, порой называл «батюшкой».
Дядя принял его донельзя любезно. По его выразительному, но одновременно очень твердому лицу, разлилась дружелюбнейшая улыбка при виде племянника.
– Хочу успеть наговориться с тобой вволю! – приветствовал он Кутузова. – А то зашлют тебя на год в Европу, потом опять в какую-нибудь даль, – только и останется нам, что письма писать.
Польщенный вниманием и уважением, Кутузов пришел в отличное расположение духа, в котором не был уже давно. Он проследовал за дядей в библиотеку. Огромные стеллажи поднимались от пола до потолка и навевали воспоминания о том, как подростком он проводил здесь долгие часы, упиваясь занимательными повествованиями из дядиных книжных сокровищниц.
– Спешу тебя обрадовать! – бодро объявил Иван Логинович, едва за ними закрылась дверь. – Давеча имел я беседу с государыней, при которой присутствовал и Потемкин, и она отозвалась о тебе так: «Вашего племянника надобно беречь: он у меня будет великим генералом».
Потрясенный, Кутузов не мог сдержать своего ликования. А он-то все это время не находил себе места, опасаясь, что императрица в нем разочарована.
– Только что это у тебя за амуры с иерейской дочкой? – посмеиваясь, продолжал дядя. – Расскажи, позабавь меня, как позабавил ее величество!
В третий раз, еще более осторожно, чем прежде, повествуя про Василису, Кутузов уже проклинал себя за то, что заикнулся о своей помолвке. Нет бы держать все в тайне до поры до времени!
– Занятная история! – покачал головой дядя, выслушав все до конца. – Ну да у кого в юности не было занятных историй! А кончаются они всегда одним и тем же: браком с благородной девицей из хорошего рода. Верно? – со значением глядя на племянника, спросил он.
– У разных историй и конец разный, – уклончиво ответил Кутузов.
– Да ну? – пристально посмотрел на него дядя. – А я-то полагал, что женитьба человека с такими видами на будущее, как у тебя, не должна быть поводом для насмешек.
– Кто же надо мной, по-вашему, насмехаться будет? – вспыхнув, спросил Кутузов.
– Да, разве сие объяснять надобно? – изумился дядя. – От чего, по-твоему, государыня тебя беречь наказала? От тебя же самого – чтобы глупостей не наделал. Иначе столько трудов – и все прахом пойдет! Ты сражался, чуть голову не сложил; мы с батюшкой твоим тоже без дела не сидели: вовремя напомнили государыне, как ты за нее кровь проливаешь. Вот тебе и орден, вот тебе и миссия за границу, а дальше чины пойдут, назначения… Такой путь перед тобой открывается! А ты по нему в скоморошьих портах пройти хочешь? Нет, милый, не выйдет! Жена, она, как мундир, соответствовать чину должна.
Кутузов молчал. Ему вдруг стало смертельно холодно.
– Или, думаешь, отец твой благословить вас готов? – продолжал дядя. – Отнюдь. Просто он так удручен болезнью Семена, что ни спорить, ни убеждать не в силах. И мне поручил с тобой переговорить. Так и сказал: «Иван, объясни ты ему на своем примере, что женитьба – дело служебное, а разные таврические девицы…»
– Да не было у меня в Тавриде никаких девиц! – вскричал вдруг Кутузов, вскакивая на ноги. – Не было никого, кроме нее! Она одна была и есть, понимаете?!
Повисло молчание. Пока оно длилось, на лице Ивана Логиновича проявлялось странное выражение, похожее и на презрение, и на сострадание одновременно.
– Ты, помнится, писал, что от пробитой головы вреда тебе не сделалось, – заговорил он, наконец. – Ошибаешься – сделалось. И со стороны сие заметно, хоть самому тебе и нет.
– В чем же вред? – горько усмехнулся Кутузов.
– В том, что думать начинаешь сердцем, – спокойно ответил дядя. – А ведь сколько я тебя знал, столько радовался тому, как разумно ты свою жизнь устраиваешь. Каждое лыко у тебя было в строку, служба шла без сучка, без задоринки. Теперь же, когда государыня тебя заприметила, ты ох как высоко взлететь бы мог! Если б сам себе крылья не рубил.
Его тираду прервал негромкий стук в дверь. В библиотеку несмело заглянула хрупкая темноволосая девушка в непритязательном домашнем платье:
– Батюшка, Михайла Ларионович, сестрица отобедать зовет, стол уж накрыт.
– Скажи ей, что скоро будем, – смягчая голос, отозвался Иван Логинович.
Девушка немедля удалилась. Она походила скорее на служанку, знающую свое место, чем на члена семьи.
– Вот, кстати, – заговорил Иван Логинович таким тоном, как если бы ему на ум пришла отличная идея, – Катенька наша из рода Бибиковых, а они у государыни на хорошем счету. Иначе б я сам на сестре ее не женился! – сухо рассмеялся он.
Кутузов мрачно глянул на захлопнувшуюся дверь. Образ девушки не удержался у него в памяти. Запомнилось лишь выражение глаз, беззащитных, как у ребенка.
– Да, Катенька! – все более оживляясь, продолжал дядя. – Ты сейчас за столом ее рассмотришь, она собой недурна. И характер самый подходящий: мила, покладиста, рта лишний раз не раскроет. Будет тебя из походов ждать да наследников рожать – чем плохо? И на забавы твои в Тавриде… ну или где-нибудь еще, наверняка сквозь пальцы посмотрит, если догадается, конечно. Она девчонка еще, а ты у нас герой – благоговеть перед тобой будет.
– Все вы, дядюшка, за меня решили, или и я своей жизнью распоряжаться могу? – холодно осведомился Кутузов.
– Ну, конечно, можешь! – без тени насмешки ответил дядя, поднимаясь, чтобы идти в столовую. – Только распорядись ею как человек здравомыслящий, а не как несчастный твой брат, коему разум уже не служит.
Кутузов поднялся вслед за ним:
– Холодно тут у вас! – сказал он вдруг, непроизвольно вздрагивая.
– В Тавриде-то жарче было, небось! – усмехнулся дядя. – Ну да ничего: климат сменить полезно бывает… для душевного здоровья.
XLI
«…При виде лица ее, гордого и властного, мне само собой пришло на ум: “Вот истинная пара для Михайлы Ларионовича…”»
Она соскользнула с высокого камня, на котором ждала его у кромки воды, и оказалась в его объятиях. Он чувствовал себя донельзя разгоряченным – только что вернулся с учений, да и солнце пекло нещадно – и быстро сорвал с себя мундир и рубаху. Глаза Василисы тепло манили его и, в одночасье избавившись от прочей одежды, он крепко прижал к себе ее тело, умиляясь его гибкой тонкостью.
Однако что-то мешало ему полностью отдаться наслаждению. Он почувствовал, откуда исходит помеха и, обернувшись, увидел на берегу дядю, Ивана Логиновича. Тот смотрел на племянника и прильнувшую к нему девушку с грустной усмешкой. Стремясь как можно скорее скрыться от надзирающего дядюшкиного взгляда, Кутузов увлек Василису в море, и она, не отстраняясь, как если бы они представляли собой единой целое, последовала за ним. Но – вот незадача! – вновь он ощутил пристальный взгляд с берега и, против воли оглядываясь назад, увидел, что подле дядюшки стоят теперь и отец, и несчастный его больной брат и смотрят на него, как на неразумное дитя, что, стоило няньке отвернуться, без спроса полезло в воду.
Надеясь улизнуть от раздражающих его наблюдателей, он тянул Василису все дальше и дальше на глубину, и вскоре они оказались по горло в воде. Вскоре он вновь почувствовал преследующий взгляд, но оборачиваться не стал.
– Мы уплывем! – прошептал он обнимавшей его девушке, чье нежное тело так явственно ощущали руки, словно и не было все происходящее сном. – Уплывем от них, поверь мне!
– Куда плыть-то, Михайла Ларионович? – печально звучал в ответ голос Василисы. – Море – видите? – без берегов.
И точно: исчезли берега, простиравшиеся на север и на юг от Ахтиара, и морская вода переливалась через горизонт. В отчаянии, он обернулся туда, откуда увел Василису в море. Там на краю невысокой меловой скалы стояла Катенька Бибикова и протягивала ему орден Святого Георгия. Тут он почувствовал, как разжались сцепленные вокруг его шеи руки Василисы и волны оторвали их друг от друга. Однако, не пытаясь удержать девушку, он, как завороженный, побрел, оступаясь на скользких камнях навстречу ордену. Но тут Катенька исчезла, а место ее на скале заняла Екатерина. В руках императрицы не было ничего, а взгляд ее был холоден и насмешлив.
– Вот поступок, достойный героя! – провозгласила императрица.
В тоске и отчаянии Кутузов рывком сел на постели. Безысходность – вот единственное, что он чувствовал в этот миг. И, не зная, как еще противостоять загнавшей его в угол судьбе, он в ярости ударил кулаком подушку. Затем – еще и еще. И с таким остервенением и силой наносил он удары, что, если бы на месте пуха и перьев, была сейчас султанская армия, то исход русско-турецкого противостояния решился в ту же ночь.
Несколькими днями позже, в праздник святого Георгия Победоносца, Кутузов стоял в одной из парадных зал Зимнего дворца в числе прочих офицеров, ожидавших награждения. «Вот тебе, бабушка, и Юрьев день!» – вертелась в голове неотвязная фраза. Прикрепляя орден к его мундиру, Екатерина одарила подполковника весьма милостивым взглядом и пожелала, чтобы на последующем торжественном обеде Кутузов сидел по левую руку от нее (по правую привычно восседал Потемкин). Когда пиршество было в самом разгаре, и оживление присутствующих, а вместе с ним и шум достигли апогея, императрица тихо произнесла, обращаясь к Кутузову:
– Приглядитесь к нашим петербургским прелестницам, подполковник: они весьма жадно приглядываются к вам.
– Ваше императорское величество замечает то, что не заметно мне, – тщательно подбирая слова, ответил Кутузов.
По губам Екатерины проплыла загадочная улыбка:
– Вам, подполковник сие не заметно лишь оттого, что мысли заняты другим. Вы – человек с горячим сердцем. Это, конечно, не грех, но большое неудобство.
– Ваше наблюдение для меня весьма ценно, государыня.
Во взгляде Екатерины, как и при первом их разговоре, чувствовалось расположение:
– Я желаю вам только добра, подполковник. А потому хочу, чтобы вы знали: сердцем можно управлять, как рукой или ногой. Доступно это, правда, не всем, но избранным людям. А уж причисляете вы себя к ним, или нет, решать вам!
Теперь императрица и ее подданный смотрели друг другу прямо в глаза.
– Вы не будете разочарованы моим решением, ваше величество! – заставляя себя говорить ровно, произнес Кутузов.
Екатерина улыбнулась, полная самодовольства.
Вернувшись с торжества и уединившись в своей комнате, Кутузов не стал глядеться на себя в зеркало с орденом на груди. Было ему до того тоскливо и тошно, что хотелось хоть как-то облегчить душу. Резкими движеньями достал он из секретера перо, чернильницу, бумагу и сел за стол. Строки письма сложились мгновенно сами собой:
«Любезный друг мой, Василиса!
Прости, что долго не получала ты от меня вестей: ежечасно хотел я тебе написать, да все было недосуг: нет конца приемам да церемониям, паче того все знакомые петербургские зазывают меня к себе, а отказаться – смертная обида. Вот и мечусь между ними всеми, в то время как лишь с одним человеком на свете хотел бы рядом быть и отдыхать душою. Ну да ты понимаешь, о ком я.
Есть у меня для тебя одна новость, от которой ты, наверняка, опечалишься, хотя, надеюсь, в то же время и порадуешься за меня. Дают мне отпуск на целый год и отправляют в Европу. Давно мечтал я там побывать и оценить, как поставлено военное дело в других странах по сравнению с Россией. Такая возможность, к тому же за казенный счет, едва ли мне больше представится, потому спешу ею воспользоваться, хоть и несказанно грущу о том, что целый год мы с тобой в разлуке будем.
Надеюсь и верю, что мой отъезд не лишит тебя душевного покоя. Сердце мое только с тобой, и никогда ни с кем иным его быть не заставят. В подтверждение того хочу позабавить тебя признанием: отец мой и дядя в мое отсутствие подыскали мне в невесты некую родовитую девицу, к тому же молодую, недурную собой и способную принести весьма изрядное приданое. Каково же было их удивление, когда я решительно заявил, что свой будущий брак предполагаю устраивать исключительно сам без вмешательства кого бы то ни было…»
Кутузов оборвал письмо на полуслове. Затем, с горько исказившимся лицом, перечитал написанное. Отшвырнул бумагу в сторону и ударил кулаком по столу. Несколько мгновений просидел он неподвижно. Затем с необъяснимой яростью скомкал письмо и, шагнув к печи, швырнул его в пламя. Не затворяя печной заслонки, глядел он, как огонь жадно пожирает бумагу, оставляя на углях прах. И одному Богу известно, что он чувствовал в этот миг.
Незадолго до Рождества генерал-майор Кохиус получил извещение о том, что офицеру его полка Михайле Ларионовичу Голенищеву-Кутузову предоставлен годичный отпуск для излечения на теплых водах раны, полученной при отражении турецкого десанта. К официальной бумаге прилагалась записка от самого Кутузова с личной просьбой. Выполняя оную, Кохиус велел позвать к себе Василису.
– Что тебе сказать? – неловко начал он, когда девушка появилась перед ним с тревожным ожиданием в глазах. – Отправляют его на воды лечиться на целый год. Так-то вот.
– А потом? – нашла в себе силы спросить Василиса.
– Да Бог его знает, что будет потом! – с раздражением от того, что принужден исполнять такую миссию, ответил Кохиус. – Должно, обратно вернется служить, хотя…
Помертвевшее лицо девушки заставило его заговорить по-другому:
– Но ты не бойся – он о тебе не забывает.
В подтверждение этого Кохиус передал Василисе то, что прилагалось к записке Кутузова. В руках у девушки оказалась сторублевая ассигнация с портретом императрицы[46]. Остолбенев, она вглядывалась в лицо той, что отняла у нее Михайлу Ларионовича, и видела весьма довольную собой и любезную на вид особу. Но человек проницательный читал в ее лице и железную волю, и непоколебимую твердость.
– Можешь идти, – с непривычным для себя сочувствием в голосе произнес Кохиус.
XLII
«…Взгляд его не заставлял меня трепетать, а сердце не играло при виде того, как он приближается ко мне…»
Незадолго до Сретенья[47] Василису поставили в известность о том, что в полк приезжает новый врач.
– Он только-только из медицинской школы, не поднаторел еще в вашем ремесле, – рассказывал девушке секунд-майор Шипилов, – так что, придется тебе поначалу им руководить.
– Вот-вот – обучишь его, как варить приворотное зелье! – подмигнул Василисе поручик Брагин, вгоняя ее в краску.
– Или как из мертвых воскрешать, – уважительно добавил штабс-капитан Черных.
Держа в уме предстоящую встречу, Василиса, тем не менее, не испытывала волнения. Генварь выдался спокойным, лазарет почти пустовал, и девушка дни напролет занималась рукоделием. Из того отреза лазорево-золотой ткани, что некогда подарил ей Михайла Ларионович, задумала она сшить к его возвращению платье, чтобы предстать перед ним не в простонародной поневе, а в уборе, достойном будущей дворянской жены. У одной из офицерш, Надежды Николаевны, что была весьма схожа с девушкой тонким, изящным телосложением, смущаясь, выпросила выкройки и принялась за дело.
В праздник Сретенья, как обычно, пела она на клиросе, а, возвращаясь со службы, предвкушала, как примется вновь за столь желанную ей работу, едва сядет солнце и закончится церковный день[48], когда один из встреченных по дороге солдат сказал ей, что новый врач уже прибыл и ждет знакомства с нею.
С трепетом, неожиданно поднявшимся в душе, как ветер перед дождем, толкнула Василиса дверь в лазарет. Навстречу ей из полумрака выступил совсем молодой еще человек в форме военного медика, по виду, ее ровесник.
– Здравствуйте, барышня! – волнуясь, видимо, не меньше, чем девушка, произнес он.
Василису весьма позабавило это обращение, равно как и то, что ей впервые в жизни говорили «вы».
– Здравствуйте, ваше… – приветливо начала она, но, договаривая привычное «благородие» уже едва сдерживала смех. Ну, чисто козлик с виду сей офицер! Разве что бороды и рогов не хватает. Над круглыми глазами – белесые ресницы, лицо нежное, узкое, смирное, кожей чист и светел. Сам из себя – худощавый, даже поджарый. Волосы белые, вьются слегка. И не сказать, что собой дурен, но потешен донельзя!
Устыдившись, она прочла на лице молодого врача обиду и поспешила поприветствовать его с приездом. Однако, водя его вслед за тем по госпиталю и показывая, что к чему, то и дело опускала взгляд на пряжки его башмаков – улыбка против воли всплывала на губах.
Чаевничая вместе с ним тем вечером, Василиса потрясенно узнала, что новый лекарь родом из тех же мест, что и она сама: поместье его родителей стояло совсем неподалеку от Соколовки – и двадцати верст не будет вниз по Оке в сторону Москвы. Тут повеяло на беглянку родными краями, и задумчиво потеплел ее взгляд: словно само Провидение послало ей того, кто скрашивал бы ей тоску о Михайле Ларионовиче в ожидании его возвращения.
Иван Антонович Благово, как звали нового лекаря, вскоре проявил себя человеком положительным и неглупым. Недостаток опыта восполнял он прилежанием и всегда внимательно прислушивался к советам своей помощницы. В отношении же чистоты твердо следовал установленным ею курсом, что значительно сократило число больных и сроки их выздоровления.
Василиса весьма расположилась к нему, и было отчего: она, принужденная держать свое прошлое за семью печатями, каждый раз при взгляде на «козлика» точно оказывалась в родной Соколовке. Как же все было радостно и мирно, пока беда в одночасье не вышибла ее из теплого домашнего гнезда! Так Иван Антонович, сам того не ведая, оказался для девушки мостом, переброшенным в благие дни ее девичества, но при сем его близость не несла для Василисы угрозы: знать о ее злополучном браке он ничего не мог.
О себе девушка поведала новому врачу лишь то, что знали про нее и прочие обитатели лагеря. Дескать, вдова, с горя решила уйти от мира и жила отшельницей в скиту здесь неподалеку. Затем же, узнав, что больные солдаты терпят нужду в усердном уходе, решила послужить им с любовью, да так и осталась в лазарете.
Иван Антонович отнесся к ее рассказу с большим уважением и первое время смотрел на девушку так, как, верно, смотрят лишь на образа. Однако вскоре его, очевидно, просветили на счет того, что, помимо христианской любви к ближним, Василиса способна и на вполне мирские чувства. Какое-то время он постоянно глядел на нее так, будто хотел о чем-то спросить, но все же не решился сего сделать.
Работалось им вместе легко. Подле Ивана Антоновича Василиса была исполнена того дружеского спокойствия, коего никогда не ощущала в присутствии своего возлюбленного. Младший лекарь 2 класса[49] Благово был начисто лишен яркого обаяния Кутузова, однако проявлял себя человеком честным и незлобивым – с такими дело иметь не трудно. Не обладая силой личности Михайлы Ларионовича, имел он твердые принципы, которым следовал по жизни, и были эти принципы весьма недурны. А взамен честолюбия мог похвастаться трудолюбием.
Когда их руки ненароком соприкасались во время работы, Василису не кидало в жар, а во время долгих разговоров по вечерам душа ее оставалась так же безмятежна, как река, которую не рябит даже легкий ветерок. «Славный. Спокойный. Серьезный», – вот, что, положа руку на сердце, могла бы сказать она об Иване Антоновиче. Но не более того.
Василиса не раз задумывалась о том, насколько меньшим опытом обладает двадцатидвухлетний лекарь, едва приступивший к службе, по сравнению с Михайлой Ларионовичем, успевшим к этому возрасту порядком повоевать и находившимся в чине капитана. Да и сама она, ровесница свежеиспеченного врача, уже два года как ложится и встает с молитвой к святому Пантелеймону-целителю, чего только не навидавшись и не испытав. Иван Антонович же, не знавший еще боевых тревог, не видевший ран и не вступавший в поединок со смертью, вызывал у нее порой даже не сестринские, а материнские чувства – хотелось наставлять его и просвещать.
Того ради Василиса частенько рассказывала «козлику», как шутливо прозвала его за глаза еще при первой встрече, какие раны ей доводилось лечить и к чему она для этого прибегала. В числе прочих не могла она не помянуть и Федора, не хвастаясь, но лишь описывая, с какими случаями иной раз приходится иметь дело.
Иван Антонович выслушал эту историю внимательно, как слушал все, что исходило из уст Василисы, а затем спросил:
– А правда ли, что вы одного офицера, в голову раненого, из мертвых воскресили?
Василиса наигранно рассмеялась:
– Вот скажете тоже! Господь его воскресил, кто же еще! Я-то лишь рядом была.
Иван Антонович посмотрел на нее так, как будто собирался расспросить о чем-то еще, но не посмел, и Василиса облегченно перевела дух.
Она начинала чувствовать, что молодой врач потянулся к ней душою, но радости от этого не испытала, скорее неловкость. Впрочем, ей не трудно было притворяться, будто нет в их отношениях никаких перемен, вплоть до одного случая.
На яблочный Спас[50] пришлись очередные роды у Софьи Романовны. Впервые увидев, через какие муки и труды появляется на свет человеческое существо, Иван Антонович приходил в себя после рождения ребенка гораздо дольше, чем родильница. А та, сердечно поблагодарив и врача, и Василису (принявшую роды фактически в одиночку, пока Иван Антонович изо всех сил заставлял себя не броситься вон из комнаты) пригласила обоих стать восприемниками новорожденной девочки.
Василиса с готовностью согласилась: всякий знак уважения со стороны окружавших ее людей был для девушки, явившейся в полк из ниоткуда, неизменно отраден. А вот Иван Антонович в ответ на предложение стать крестным отцом малютке пробормотал нечто невразумительное, и внятного «да» от него так и не добились. Софья Романовна на это лишь понимающе ухмыльнулась, а Василиса опустила глаза: обеим стало ясно, как день, что не хочет он связывать себя с девушкой духовным родством, чтобы впоследствии иметь надежду на брак.
Все чаще и чаще видела девушка знаки внимания со стороны врача: не допускал он ее до тяжелой и грязной работы, советовался с нею во всем касательно лечения солдат, а после службы в престольные праздники неизменно говорил ей, что слышал ее голос в общем хоре и тот поразил его чистотой и звучностью. Но вместо того, чтобы испытывать все большее расположение к Ивану Антоновичу, ощущала Василиса все большее сочувствие.
А тем временем истек тот год, который Кутузов числился в отпуске, но по-прежнему не было от него вестей. И ближе к весне, когда природа набрала уж силы для цветения и роста, объяла девушку такая тоска, что не было спасу. Бешеные скачки верхом на Гюль уже не приносили ей облегчения: едва тяжело дышавшая лошадь, переходила на шаг, как незримо рядом возникал Михайла Ларионович на золотисто-буланом Хане, и глядел на Василису так, что ей хотелось кинуться ему навстречу неведомо куда и бежать, пока достанет сил, но только не истязать себя больше неизвестностью.
«Неужто не суждено нам больше свидеться?» – горестно вопрошала себя Василиса, но, изнемогая от муки ожидания, все же ощущала, что суждено. И в этой вере душа ее находила опору, как виноградная лоза.
Иван Антонович же все чаще искал случая побыть с нею наедине. И когда незадолго до Пасхи освобожденная от снега степь всколыхнулась травой и цветами, не было ни вечера, чтобы не пригласил он ее на прогулку. Дружелюбно ведя с ним беседу, Василиса невольно вспоминала те часы, когда оставалась наедине с Михайлой Ларионовичем, и задумчиво улыбалась: с одним время проводить – что мчаться на коне во весь опор, а с другим – что ехать на телеге.
На Светлой седмице[51] Иван Антонович, очевидно, едва дождавшийся конца Великого поста, неловко завел разговор о том, что на днях собирается писать к маменьке (отец его скончался) и просить у нее благословения на брак.
– С кем же вы ее попросите вас благословить? – невинно осведомилась Василиса, как если бы и вправду ни о чем не догадывалась.
– С вами, – покраснев, сказал врач.
– Что ж вы прежде меня не спросили? – улыбнулась девушка.
– Полагал я, и так все между нами ясно, – стушевавшись, пробормотал Иван Антонович.
Василиса вздохнула: вот уж не думала она, что предложение руки и сердца может вызвать у нее такое сострадание!
– Что же вы маменьке напишете? – задалась она вопросом. – Что отыскали вы себе монахиню-расстригу, что при армии живет и за больными солдатами ходит? То-то радость вашей родительнице будет! Она-то вам, небось, благородную девицу в жены прочит, чтобы ровней была. А я кто? Нет, Иван Антонович, на благословение нам с вами надеяться нечего!
Она умышленно не касалась своих чувств, стремясь укрепить его в мысли, что препятствие к их возможному браку в другом, но врач неожиданно проявил упорство.
– Уж в какие слова сие облечь, я поразмыслю, – сказал он твердо, – и смею полагать, что отказа мне не будет.
Василиса искренне надеялась, что затея Ивана Антоновича провалится с треском, но на четвертой седмице по Пасхе от матушки его пришел благоприятный ответ. Видимо, искренне любя своего отпрыска и уважая его выбор, дворянка Ольга Андреевна Благово давала благословение на брак сына-дворянина с девицей духовного сословия и бесприданницей. Более того, она от всей души желала встречи с будущей невесткой. «Дабы и мне оценить по достоинству ее высокие душевные качества, о которых ты пишешь, мой свет», – добавляла она.
Когда воодушевленный Иван Антонович предложил Василисе сделать оглашение о предстоящей свадьбе, она почувствовала себя в ловушке.
– Видит Бог, Иван Антонович, – мягко начала она, – я б хоть завтра с вами обвенчалась, если бы… – ей вдруг стало тяжело говорить, и слова без опоры повисли в воздухе.
– Если б другого не ждали? – глухо закончил за нее врач.
Василиса вскинула голову:
– Правда ваша, жду, чтоб, наконец, судьба моя решилась. Он в отпуске, перед отъездом надежду мне подал, но вестей от него уж больше года нет. Если вернется – не взыщите: буду ему принадлежать.
– И долго ли вы ждать намерены? – все тем же, глухим и безликим голосом спросил Иван Антонович.
– До праздника честных древ Животворящего креста[52], – с твердой уверенностью отвечала Василиса. Она хорошо помнила, что именно в этот день Михайла Ларионович вернулся к жизни.
– А если и тогда не объявится?
– Тогда… – Василиса глубоко вдохнула воздух, как если бы готовилась нырнуть на глубину. – Тогда буду счастлива принять ваше предложение.
Вскоре после Троицы в полк пришло уведомление, что бывший его офицер, Михайла Ларионович Голенищев-Кутузов, ныне полковник, вернувшись из отпуска, направлен в расположение Луганского пикинерного полка, коим ему отныне надлежит командовать. Но не успел свет померкнуть для Василисы, как сообщили ей и о том, что Кутузов прежде заедет на старое место службы дабы навестить товарищей по оружию. Девушка поняла, что это означает: он едет за ней.
Не давая своей радости прилюдно бить через край, она дотошно расспросила всех кого могла, через сколько, примерно, дней следует ожидать Михайлу Ларионовича. Затем собрала и пересчитала те деньги, что остались от присланной им некогда катеринки. Выходило не так уж мало – вполне достаточно для того, чтобы каждый день давать по алтыну караульным с просьбой немедля послать за ней, едва они завидят Кутузова на дороге. Как и некогда в пещерной келье намеревалась она встретить его красиво одетой и с убранными волосами.
Свой восторг она прятала, опуская долу глаза и чаще, чем обычно, уходя из лагеря в степь или на берег Днепра, где бродила вдоль реки, счастливо смеясь и вслух благодаря Творца, за то, что сподобил он ее вновь насладиться счастьем любви. Больше поделиться ей радостью было не с кем: имея в лагере множество друзей, не имела она ни единого наперсника. Прежде таковым можно было считать Ивана Антоновича, но теперь избегала Василиса и взглянуть на него лишний раз, дабы не причинять мучений.
Первая неделя ожидания миновала, оставив девушку все в то же восторженном расположении духа – едва ли Михайла Ларионович смог бы добраться из Петербурга на самый юг Российской империи так скоро. Но вторая истекшая неделя подточила душевный покой Василисы: сколько можно томить ее, и без того ждущую полтора с лишним года! Не в Сибирь же он едет в самом-то деле!
На третьей неделе девушка уже не находила себе места. С утра до ночи занимала себя делами, но облегчения это не приносило. И вдруг однажды, накануне Ивана Купалы[53], когда поливала она свой аптекарский огород, состоявший из одного-единственного, чрезвычайно разросшегося колючего растения – подарка имама Дениза – к ней примчался посланный караульным солдат и, часто дыша, сообщил:
– Ну, кажись, едет!
Василиса распрямилась так стремительно, что вода из оловянной чашки плеснула ей на передник.
– Точно он? – прошептала она.
– Далеко еще – лица не разобрать – он в кибитке сидит. Но лошадь сзади привязана – как пить дать его!
Девушка кинулась в лазарет, в свою каморку. Лихорадочно скинула передник, рубаху, поневу и облачилась в дожидавшееся своего часа «благородное» платье. На шею же холодными от волнения руками повязала платок цвета червонного золота, купленный у одной из казачек за такие бешеные деньги, что отдавала их Василиса, зажмурившись. Быстрыми движеньями переплела косы, перекинув их на грудь. И выбежала из лазарета.
К тому времени стало очевидно, что подъезжающий офицер именно Кутузов. У въезда в лагерь столпился весь его бывший батальон, и солдаты палили в воздух из ружей, не боясь, что им достанется за впустую растраченный порох. Здесь же, возбужденно переговариваясь, собрались и офицеры.
Василиса вскарабкалась на основание пушечного лафета, где как раз хватало места для пары узких ног. Так голова ее была вровень с головами мужчин, хоть и приходилось удерживать равновесие. Она жадно следила за выходящим из кибитки Михайлой Ларионовичем, но, едва тот сошел на землю, как полковника тут же обступили товарищи, обнимая, хлопая по плечу, пожимая руку.
Продолжая пылать от радости, девушка ждала минуты своего торжества. Вот сейчас офицеры расступятся, и он увидит ее… И точно: Михайла Ларионович словно бы что-то искал взглядом. Василиса подалась вперед, рискуя свалиться с лафета, и он, наконец-то, заметил ее присутствие.
Что-то странное проявилось в его глазах, чего никак не ожидала увидеть девушка: недовольство и одновременно боль, удивительная в эти праздничные мгновения. Кутузов быстро отвел от нее взгляд. И пока ошеломленная Василиса пыталась нашарить в мыслях хоть какое-то объяснение происходящему, поприветствовать бывшего подчиненного вышел генерал-майор Кохиус.
Прочие офицеры почтительно расступились перед ним, шагавшим вперед с широкой улыбкой. Кутузов поднял правую руку, отдавая ему честь. Указательный и средний его пальцы касались края треуголки, в то время как безымянный (это ясно видела девушка со своего наблюдательного пункта) был закован в обручальное кольцо. Один миг оно бесцеремонно золотилось в солнечных лучах, но этого было достаточно, чтобы обратить Василису в соляной столп – печальный памятник женщине, не пожелавшей поверить, что к прежней жизни возврата нет.
* * *
«Я лишусь его – и сердце, как покинутый хозяином дом, тоскливо опустеет. В одночасье выветрится из него обжитое тепло, и распахнутая дверь, как разверстая могила будет горестно напоминать мне об утрате.
Я лишусь его – и душа, словно яблоня, вдруг сбросившая по весне жемчуга цветов и нефрит листьев, останется торчать посреди вселенной уродливым серо-коричневым стволом, бесчувственным к солнцу и теплу, пока садовник не устанет лицезреть ее и не прикажет срубить под корень.
Я лишусь его и перестану понимать, зачем переворачиваю страницы в этой унылой книге жизни с заранее известным концом, если любовь не прозвучит с них больше ни вдохновенной молитвой, ни волнующим призывом, ни даже предсмертным криком.
Заклинаю вас, дщери Иерусалимские, сернами и полевыми ланями, не лишайте себя любви, пока судьбе не будет угодно самой отнять ее у вас! Но даже и тогда благодарите своих возлюбленных за каждый день, каждый час и каждое мгновение, что они подарили вам. Потому что лишь в эти, полные любви, дни, часы и мгновения вам при жизни открывались райские врата, и веяло на вас вечным блаженством».
«Я лишусь ее – и с нею уйдет часть моей силы и веры в самого себя. Сколько бы блистательных сражений не выиграл мужчина, какое бы богатство он не стяжал и как бы высоко не вознесся над всеми, с кем мог соперничать, жизнь не будет полна для него без самой восхитительной и желанной победы – победы над женщиной, к которой его влечет.
Я лишусь ее – и угрюмо померкну: меня не будет больше озарять ее горящий от восхищения взгляд. Что мне оружие и доспехи, если на них никогда не заиграет солнце? Что мне мои силы и стремления, если восторг в глазах любимой не воспламенит меня и не заставит душу просиять?
Я лишусь ее – и потеряю надежду на то единственное место на земле, где всегда буду принят и любим – ее объятия. Мне нечего мечтать о надежном убежище, за дверями которого остались бы мои тревоги. Пара любящих рук, скользящих по твоему телу, и устремленные на тебя любящие глаза врачуют все болезни, но кто теперь исцелит меня любовью? Мне суждено в одиночку выступать против всех жизненных невзгод и самому перевязывать свои раны.
Было у царя Соломона шестьдесят цариц и восемьдесят наложниц, и девиц без числа. Но единственной была она, та, подле которой он чувствовал себя царем. Та, чья близость снимала с него бремя власти. Та, чьи ласки превращали в песню его слова.
Встань, возлюбленная моя, прекрасная моя, выйди! Еще не истек наш срок, и покамест мы не оторваны друг от друга. Так поспешим насладиться нашим последним мгновением!»
XLIII
«…Любящий человек открывает душу свою подобно вратам крепости, и лишь от доброй воли предмета любви зависит теперь его будущность…»
Он послал за ней лишь тогда, когда солнце низко склонилось к западу, готовясь вот-вот сгореть в полыме заката. К тому времени, верно, все офицеры в лагере успели выслушать красочное повествование о том, как, путешествуя по Европе, Кутузов посетил лекцию о собственной ране. Должно, и других историй за полтора с лишним года его отсутствия приключилось немало, раз развлекал он ими старых товарищей несколько часов кряду. Василиса же словно и не являлась истинной целью его визита. По крайней мере, в людских глазах это должно было выглядеть именно так.
К тому времени, как посланный за девушкой денщик передал ей приглашение Михайлы Ларионовича, Василиса, как это ни смешно, по-прежнему была облачена в лазоревое платье с золотой шалью на плечах. За весь день, как обычно заполненный работой, она так и не сменила наряда – с раздавленной душою не до того. Молча поднявшись, девушка проследовала к той палатке, на которую ей указали. Очевидно, Кутузов договорился с ее обитателями о том, чтобы этим вечером и ночью их жилье находилось целиком в его распоряжении.
Войдя, Василиса вздрогнула: словно и не минуло четырех лет с того вечера, когда она впервые отважилась навестить Михайлу Ларионовича у него на квартире. Все было так же, как и тогда: блюдо с фруктами и бутылка вина посредине палатки, одна-единственная свеча, разгонявшая полумрак, в углу, а на покрывале поверх сенного матраса, служившего постелью, в привольной, непринужденной позе встречал ее сам хозяин. Как и некогда в Ахтиаре, не было на нем ни мундира, ни башмаков, одна рубаха и панталоны с чулками.
Чувствуя полную опустошенность, в которой не было место ни боли, ни отчаянью, Василиса встретилась с ним взглядом. Внешне Михайла Ларионович почти не изменился, лишь побледнели шрамы на висках, но исходила от него еще большая, чем прежде, сила и уверенность в себе.
– Ну, здравствуй! – сказал он неопределенно, испытующе глядя на нее.
– Здравствуйте, ваше высокоблагородие! – ровным голосом приветствовала его Василиса. Не дожидаясь приглашения, она опустилась на покрывало другой постели напротив него.
Кутузов нахмурился:
– Ты, что, забыла, как меня зовут? – спросил он.
– Никак нет, – отвечала Василиса, дивясь тому, насколько бесстрастно ей удается держаться, – только раньше я дерзала вас по имени называть, а теперь – нет.
– Напрасно! – убедительным тоном произнес Кутузов. – Пусть все останется по-прежнему.
– По-прежнему, – с леденящей душу улыбкой возразила Василиса, – не будет уже никогда.
Голос девушки не взвивался и не дрожал – в душе у нее был мертвенный покой, как у матери, только что лишившейся ребенка и оттого не чувствующей жизни в себе самой.
– Денег тебе хватило? – ничем не обнаруживая смущения или неловкости, перевел разговор на другое Кутузов.
– Хватило, благодарю покорно, – чуть поклонилась ему Василиса. – Если б вы еще год или два не появлялись, и тогда хватило бы.
– Что, поделаешь, Васюша! – вздохнул офицер. – Вышел мне не отпуск, а миссия в Европу по заданию императрицы. О том рассказывать долго, да и нужды нет. Я человек военный, себе не принадлежу, сама понимаешь, а писем из Европы в наш лагерь не отправить.
Никак не откликаясь на его слова, Василиса смотрела на свечу в углу палатки. Что-то роднило и мужчину, и женщину в этот момент с вражескими армиями, выжидательно стоящими друг против друга, но никак не решающимися начать наступление.
– Я подарок тебе привез, – продолжал Кутузов, вглядываясь в ее лицо, но не видя, чтобы оно хоть сколько-нибудь дрогнуло. – Вот, к цвету твоих глаз подобрал.
Он протянул ей длинные, изящно обрамленные серебром серьги из дымчато-серого камня с прожилками. Василиса взглянула на них, и губы ее против воли начали кривиться, а в горле встала удушающая боль.
– Супруге их своей подарите! – с трудом выговорила она. – Мне теперь от вас подарки принимать негоже.
– Супруге? – усмехнулся Кутузов. – Ты мне здесь о ней не напоминай, здесь я человек свободный.
– Кто ж вас жениться неволил?
– Да служба, кто же еще! Человеку с моим положением должно жену иметь родовитую – на то сама императрица намекнула при вручении ордена. Вот и пришлось… Думаешь, я рад? Двух месяцев с венчания не прошло – уже в армию сбежал. А куда мне было деваться? Это человек маленький, незаметный волен в жены брать кого заблагорассудится, а наша семья в столице на виду и при государственных делах. Разве мог я против семьи пойти? И никто бы не пошел на моем месте. Ну да полно! Выпьем лучше давай за встречу!
Он потянулся за вином, но Василиса покачала головой, отказываясь от угощения:
– Мне и без вина весело, – объявила она.
– Да не бери ты в голову! – уже несколько горячась, настаивал Кутузов. – Эта моя женитьба нам с тобой ничем не помешает. Завтра же вместе отправимся к месту моей службы. Там я всему хозяином буду – полк под мое командование отдали – а стало быть, и тебе уважение оказывать станут.
– Хорошо же вы обо мне думаете, – воскликнула Василиса, – если такое бесчестие предлагаете!
– Я тебе предлагаю не разлучаться, – сказал Кутузов, беря ее за руку и настойчиво глядя в глаза, – а иного способа у нас нет.
Видя, что девушка молчит, он счел это за колебание и добавил:
– Супруга, она у меня по служебной необходимости, а ты – потому что душа просит. Она как жила в Петербурге, так там и останется, а ты за мной всюду следовать будешь.
Василиса горько расхохоталась:
– Вам, Михайла Ларионович, впору веру менять на мусульманскую, чтобы было у вас на каждый случай жизни по жене!
– Ты никак меня корить вздумала?
– Что вам мои укоры, – усмехнулась девушка, – раз уж вы Бога не побоялись! Сколько раз мне надежду подавали, а сами…
– А ты-то сильно Его боишься, если замужняя о новом браке думала?
Удар был нанесен так неожиданно, что Василиса на миг перестала дышать, с ужасом глядя на человека, которого так любила. А он спокойно продолжал:
– Думала, я не догадаюсь? А я еще тогда, когда ты первый раз ко мне приходила, понял: никакая ты не вдова, просто муж тебе чем-то так насолил, что ты от него на край света сбежала.
Василиса убито молчала: отпираться было бессмысленно, оправдываться и объяснять причину бегства – тоже.
– Я тебя не сужу, – говорил тем временем Михайла Ларионович, – поглаживая ее холодную, как колодезная вода, руку, – да я бы, верно, и глаза на это закрыл, если б сама государыня к моему браку интерес не проявила. Вдруг бы всплыла потом когда-нибудь эта твоя история? Сраму не оберешься!
– Никто не дознался бы, – глухо проговорила Василиса.
– Нарочно – нет, а случайно могло бы что-то открыться. Мир-то теснее, чем кажется.
Видя, что девушка совершенно подавлена, Кутузов почувствовал, что перевес на его стороне. Тоном учителя, вразумляющего строптивого ученика, он принялся увещевать ее:
– Так что под венец тебе дорога заказана. Вот и рассуди получше, что я предлагаю: бесчестие или выход из положения. Венчаны, не венчаны, а любить друг друга нам с тобой никто не запретит!
Он решительно придвинулся к ней, и, чувствуя его тело в такой близости от своего собственного, Василиса задрожала. Слишком большим испытанием для нее было не броситься к нему сейчас, не слиться с ним воедино, не утопить свой здравый смысл в безрассудном счастье их новой встречи. Девушка с отчаяньем ощущала, что – еще мгновение – и она не выдержит всего, что довелось испытать ей в этот день, и поддастся своему порыву. Она представила себе, как он, утешая, прижимает ее голову к своей груди, целует орошенные слезами глаза, запрокидывает ее лицо для поцелуя… Пусть берет свое – он победил. У нее нет больше сил выдерживать разлуку с любовью.
Словно спасаясь от наваждения, она вскочила на ноги:
– А вот еще посмотрим, куда мне дорога заказана, а куда – нет! Найдется добрый человек и не побоится жизнь со мной связать, хоть вы и погнушались.
– Может, нашелся уже? – спросил Кутузов, вставая вслед за ней и пристально на нее глядя.
– Может, и нашелся! – запальчиво ответила Василиса.
– Вот как? – Кутузов с легкой улыбкой приподнял брови. – Ну и кто же он?
– А вам на что?
– Да любопытно, только и всего.
Мгновение девушка колебалась: непонятное предчувствие удерживало ее от ответа, но уязвленная гордость заставила, наконец, объявить:
– Тот новый врач, которого заместо Якова Лукича прислали.
Кутузов смотрел на нее со странной улыбкой:
– Так у вас все слажено уже?
– Он хоть завтра венчаться готов, – подстрекаемая гордостью, выпалила Василиса. – Моего ответа ждет.
– И что же ты ему ответишь?
Василиса старалась не смотреть в глаза Михайлы Ларионовича, которые и сейчас, когда он обрушил все то, чем она жила, были прекрасны.
– Разве ж вы мне выбор оставили? – выдохнула она, наконец.
И, боясь, что следующие ее слова превратятся в неудержимый плач, она выскочила вон из палатки.
XLIV
«…Те, кто прочтет мои записки, знайте, что я имела сказать вам лишь одно: ни блага мирские, ни праведность, ни даже честь вовек не заменят любви и не сравнятся с даруемым ею блаженством…»
Поутру Василиса не вставала с постели куда дольше обычного: не хотелось ей приступать к жизни. Когда же, наконец, заставила себя подняться и ополоснуть лицо водой, услышала разговор Ивана Антоновича с присланным в лазарет денщиком Кутузова. По словам солдата, «у его высокоблагородия темно в глазах и в голове шумит», а потому он просит врача пустить ему кровь.
У Василисы захолонуло сердце: неужели их вчерашний разговор так тяжело дался Михайле Ларионовичу? Тем временем Иван Антонович собрал инструменты и ушел, а она приступила к своим повседневным обязанностям. Но, проделывая все, что от нее требовалось, мысленно отслеживала то время, что отсутствовал врач, и находила, что нет его чрезвычайно долго. Столько крови за это время можно выпустить из человека, что он и жив не останется. Что-то здесь не так! А потому девушка напряженно вслушивалась, не возвращается ли Иван Антонович, исполнив свой врачебный долг.
Наконец, молодой врач вновь появился в лазарете. При виде него Василиса, обтиравшая водой лицо и руки солдату, лежавшему в жару, выпрямилась и вытянулась в струну. Она пытливо вглядывалась в лицо Ивана Антоновича, но тот почему-то отводил взгляд. И щеки, и лоб его были чрезвычайно красны, словно врача охватила сильная лихорадка. Не поднимая глаз на Василису, он принялся осматривать больных.
У девушки ноги ослабели от страха. Что можно было сказать о ней такого, что несчастный ее жених и взглянуть на нее боится? О том, какое место Михайла Ларионович занимал в ее жизни, он и без того знал. Неужто, встретившись с соперником лицом к лицу, Иван Антонович принял сие так близко к сердцу?
Василиса постаралась навязать самой себе именно такое объяснение, и мало-помалу ей стало легче. Ничего, скоро Иван Антонович успокоится, и можно будет клятвенно заверить его в том, что отныне она свободна от обязательств перед другим и ничто не помешает их браку.
Благово же тем временем с бессильным отчаяньем вспоминал тот разговор, что у него только что вышел с приезжим полковником. Никаких признаков нездоровья у этого любезного и самоуверенного человека он не обнаружил, однако, уступая его просьбам, отворил кровь. А затем, перевязывая ранку от ланцета, услышал вопрос, не позволивший ему спокойно покинуть палатку:
– Стало быть, это у вас Василиса – правая рука?
– Так точно, – в некотором смущении ответил врач. – Она моя помощница.
Дружелюбно улыбаясь, Кутузов опустил на повязку закатанный для процедуры рукав:
– Повезло вам, господин лекарь, – сказал он. – Я уезжаю, а вы остаетесь.
Иван Антонович покраснел. Неловко ему было еще и от того, что человек, лишь несколько минут назад бывший его пациентом, вновь превратился в старшего по званию и не предлагал ему присесть для разговора, но заставлял стоять перед собой.
– Вы уж о ней позаботьтесь вместо меня, – продолжал Кутузов, набрасывая на плечи мундир. – Я и дальше был бы рад ее опекать, но, увы, имею назначение в другой полк. А жаль с ней расставаться, право слов! Руки у девки просто золотые: когда меня в голову навылет ранили в Тавриде, – он указал на свои шрамы, – она почитай месяц от моей постели не отходила – выхаживала.
Благово молча мучился, чувствуя, как горячи от прилива крови его щеки и даже лоб.
– Да она не только меня от верной смерти спасла, – живописал подвиги Василисы Кутузов, – но и одного солдата в полку. Он к ней даже сватался потом. Вот ведь беда, что венчаться она не может! Давно уже при муже была бы.
– Как не может?! – вырвалось у Ивана Антоновича.
Кутузов поглядел на него с удивлением:
– А вы, господин лекарь, ничего о ней не знаете? Ну, коли вам любопытно станет, сами ее расспросите. Благодарю вас, мне уже гораздо лучше!
Благово отправился обратно в лазарет в таком смятении, что едва нашел туда дорогу. Эти откровения о том, как Василиса сидела у его постели… Словно плевок в лицо! И ответить нечего. Но самое страшное: неужто она и вправду несвободна для замужества? Что он, собственно, знает о ней, помимо того, что сама она однажды рассказала?
– Василиса Филаретовна, скажите мне, пожалуйста, правду! – взволнованно попросил он, вернувшись и улучив момент для разговора. – Вы действительно вдова, или… или же нет?
Должно быть, именно так чувствует себя солдат, когда его насмерть поражает пуля: Василиса перестала ощущать в себе жизнь. Она не ответила: молча повернулась и быстрым шагом двинулась прочь от лазарета.
– Василиса Филаретовна! – приглушенно позвал Иван Антонович у нее за спиной.
В ответ Василиса побежала.
Когда лагерь остался далеко позади, и степь окружила ее со всех сторон, Василиса наконец-то позволила себе зайтись в рыданиях. Так вот зачем ему понадобился врач! Не мог Михайла Ларионович оставить победу за кем-либо, кроме себя. Что ж, пусть торжествует – она погибла.
Плача в голос, Василиса упорно шагала вперед, как если бы степь была морем и она стремилась зайти поглубже, чтобы в нем утонуть. Она оплакивала все: свою любовь и его расчетливость, свою верность и его предательство, свои надежды и полное их крушение. От яростного полуденного солнца у нее кругом шла голова, а смертная тоска накрывала ее непроницаемым черным пологом. Девушка переставала понимать, жива она или мертва.
От рыданий, перемежаемых громкими стонами, Василиса не слышала ничего вокруг, и осознала, что кто-то ее нагоняет, лишь когда его быстрые шаги раздались совсем рядом. Оборачиваясь, она ожидала увидеть Ивана Антоновича, но увидела Кутузова.
– За что?! – прошептала она, полуслепая от слез. – Что я вам сделала?! Как вы могли?!
И, не находя больше слов, но желая дать выход своей боли, она пошла на то, что прежде не могло бы ей привидеться и в ночном кошмаре – занесла руку для пощечины. Однако Кутузов успел поймать ее запястье и решительно завел его девушке за спину, а затем поступил так и со второй рукой, будто бы намеревался связать их. Василиса задохнулась от возмущения, но, не давая ей опомниться, мужчина припал к ее губам так яростно и страстно, как если бы она была его врагом и требовалось умертвить ее поцелуем.
Высокая трава, куда она упала, не в силах удержаться на ногах, пахла одурманивающее сладко. Он продолжал стискивать ее запястья, прижимая их к земле близ ее головы, и Василиса убеждала себя в том, что ею овладевают помимо воли, в глубине души сознавая, что это не так. Едва ли сможет мужчина, не будь он закоренелым злодеем, насильно подчинить себе женщину, если сошлись они один на один, и она достаточно смела и полна решимости отстаивать свою честь. Стоит дать ему отпор по-настоящему – и он отступит… Но в истерзанной душе Василисы взмывал белый флаг, и противник не мог не почувствовать этого, преодолевая ее сопротивление.
Что за блаженный страх – осознавать, что ты проигрываешь этот бой, что рушатся стены твоей цитадели, и победитель завладевает тем, что ты считала неприкосновенным. Но руки твои при этом сами собой обвиваются вокруг его шеи, жадно распахнутые губы требуют поцелуев, а тело страстно выгибается ему навстречу и упивается своим поражением. И ты не можешь прийти в себя от взявшего тебя с боем счастья, и, вопреки позору, льнешь и льнешь к захватчику, который присваивает себе твои сокровища и топчет твои святыни.
Василиса в блаженстве закрывала глаза, и представлялось ей, что она не на земле, но в море. Могущественная стихия владеет ею и несет, куда заблагорассудится, но столь нежны и ласковы ее объятия, что было бы выше человеческих сил стремиться их покинуть. А шепот моря в те минуты, когда оно, укротив прибой, тихо припадает к берегу, столь умиротворяющ! Его хочется слушать до бесконечности, забывая о течении жизни вокруг и веря тому, что он повторяет: оставь сомнения, оставь тревоги, отдайся безмятежности и наслаждению.
Солнце уже вышло из зенита, хоть и продолжало испепелять степь своим огнем, когда Василиса наконец отдала себе отчет в том, что меж ними произошло. Вся пропасть ее греха и вся высота ее счастья… Она зажмурилась изо всех сил, как если бы хотела скрыться от самой себя.
Вновь открывая глаза, она встретила взгляд мужчины, разделявшего с ней бескрайнее травяное ложе, и с разрывающимся от боли сердцем осознала, что никто и ничто уже не сможет оторвать ее от него. Буде и вскочит она на ноги и убежит за край горизонта, чтобы не увидеться с ним больше до гробовой доски, а все напрасно! С кем бы не соединило ее будущее, этого человека она будет вечно носить в своей душе, и никакое время не заставит ее изгнать его оттуда.
Вероятно, на свой манер о том же самом думал и Кутузов, поскольку самодовольно произнес, перебирая пальцами ее разметанные по траве волосы:
– Вот видишь, милая, никуда тебе от меня не деться. А то придумала тоже – замуж выходить! Нет, пустынница, моей ты была, моей и останешься. Сегодня же уедем. А там жизнь у тебя пойдет достойная – ни до какого лазарета касаться более не будешь.
– Достойная? – горько улыбнулась Василиса. – И чем же я себя таким достойным с утра до ночи занимать буду?
– Ты любить меня будешь безо всякой помехи, – со всей серьезностью сказал Михайла Ларионович, притягивая девушку к себе.
– Разве ж я тебя раньше не любила никогда?! – со слезами расхохоталась Василиса, впервые называя своего возлюбленного на «ты», поскольку наконец-то ощутила себя вправе это сделать. – Любила, люблю и буду любить, как дура последняя! Но на грех и на позор я даже ради тебя не пойду, нешто ты еще не уяснил?
К тому моменту оба уже не лежали, а сидели друг против друга, и взгляды их сшибались, как рапиры при поединке.
– И как же ты дальше без меня жить намерена? – с виду бесстрастно, но наверняка кипя внутри, спросил Кутузов.
– Сам знаешь, как – замуж пойду.
– И за кого же, позволь узнать? – со смешком осведомился Кутузов. – Лекарь твой хвост поджал, на него надежды нет. Так что полно хорохориться, все одно – смириться придется. Тебе другой дороги нет, как только ко мне.
Он обнял ее за плечи, понуждая припасть к себе и забыть все, что она только что выпалила в порыве отчаянья. Слезы бежали у девушки по щекам, и губы ее тряслись, поскольку именно этого – вновь прижаться к нему и раствориться в даруемом им блаженстве ей и хотелось в этот миг больше всего на свете. Однако она отстранилась и поднялась на ноги. Поднялся и Кутузов следом за нею.
– Помнишь эллинский город, что ты мне показывал под Ахтиаром? – дрожа, спросила Василиса. – Много ли от него осталось? Пока не сдавался, жив был, а сдался – и в землю врос; одно капище стоит, никому не нужное. Вот и со мной то же самое будет, ежели смирюсь, как тебе того хочется. Тебе же сейчас не я, тебе победа нужна. Только жить с тобой без чести я не стану – сам же первый презирать меня начнешь. Если бы любил, как говоришь, надо было в жены брать; никогда я не поверю, что другую жену тебе насильно всучили, или что ты испугался, будто прошлое мое всплывет! Разве ж я тебя плохо знаю? Разве ж не видела все это время, что ты никому, кроме себя самого, жизнью своей командовать не дашь?! Нет, милый, раз так вышло, что ты не со мной судьбу связал, значит, на то твоя воля была, а не чья-нибудь еще. И теперь нам с тобой другой дороги нет, кроме как в разные стороны. Ничего, в убытке не останешься, тебе другие победы предстоят!
Круто повернувшись, она зашагала прочь. Сперва мнилось ей, что не сможет покинуть Михайлу Ларионовича, что сердце раньше разорвется, но выдержала и, удалившись далеко вглубь степи, повалилась ничком на землю. Лежа, она была неразличима за высокими травами и, дав волю чувствам, Василиса завыла, как животное. И как животное же, поползла по земле, в муке мотая головой, хватаясь руками за пучки травы и в кровь разрезая ладони об острые стебли. Ничего человеческого не было в ней в этот миг, одно ничем не сдерживаемое отчаянье корчилось в ее образе, и если бы Михайла Ларионович вдруг стал ему свидетелем, то ужаснулся бы до глубины души. Но Кутузов тем временем быстро шагал по направлению к лагерю, чтобы как можно скорее уехать оттуда, взбешенный словами девушки и обезоруженный ими одновременно.
К тому часу, как нестерпимый дневной жар начал ослабевать, Василиса пришла в себя. Она села на траве, бессмысленно оглядывая степь, затем поднялась, как могла, привела в порядок одежду и волосы и, поминутно оступаясь, двинулась по направлению к лагерю.
Зайдя в лазарет, она возблагодарила Бога за то, что не столкнулась сразу же с Иваном Антоновичем, поразившимся бы ее плачевному виду. В своей каморке быстро скинула всю в пятнах земли и зелени рубаху с поневой и надела лазорево-золотое платье, придавшее ей веру в свои силы. Тщательно умывшись ледяной водой и причесавшись, она окончательно стяжала твердость духа.
Выйдя из лазарета на солнечный свет, Василиса постояла, раздумывая, где бы поскорее найти врача, как вдруг увидела его, быстрым шагом направлявшегося к ней.
– Василиса Филаретовна, как же так! – взволнованно воскликнул он, хватая ее за обе руки. – С самого утра вы пропадаете, я не знал уже, что и думать!
– Напрасно вы тревожились! – произнося слова отчетливо и ровно, отвечала Василиса. – В степь я ходила, думала… обо многом.
– Да вы же поранились! – воскликнул Иван Антонович, смятенно рассматривая ее изрезанные травой ладони.
– Пустое! – отмахнулась девушка. – До свадьбы заживет, – добавила она, вгоняя врача в краску. – Нам бы с вами, Иван Антонович, парой слов перемолвиться. Повиниться я перед вами должна, уж не сочтите за труд меня выслушать!
XLV
«…Что есть смерть против ужаса жить в вечной разлуке с любовью?..»
Закончив повествовать о том, что приключилось с нею четыре с половиной года назад в Калуге, Василиса не могла не добавить такие слова:
– Сами посудите, Иван Антонович, могла ли я во всем этом признаться кому бы то ни было? Сразу бы люди от меня отвернулись. А так – что греха таить! – надеялась я на новый брак. Нынче уж меньше года осталось до того, чтобы сочли меня в Калуге без вести пропавшей, и муж мой стал бы от меня свободен[54]. Наверняка он, как и я, сызнова венчаться решит. Правда, я в этом деле сторона виновная[55], но кто о том узнает, если умолчать? А искать меня да права предъявлять, ему не резон.
Иван Антонович ничего не отвечал, избегая встречаться с ней взглядом, и Василиса, собравшись с духом, продолжала:
– Впрочем, ежели вы предложение свое назад возьмете, я вас не осужу. За вас любая с радостью пойдет, а мне поделом будет.
Она отвела взгляд.
Иван Антонович наконец поднял на нее глаза и, краснея всем лицом проговорил:
– А он все о вас знал – потому не женился?
– Он… – Василиса до боли сцепила пальцы. – Он знал, но боялся не того, что прошлое мое откроется, а того, что выгоду упустит. Жена у него родовитая, не то что я.
Вновь их накрыло молчание, и Василисой все больше и больше завладевал страх, что рухнет сейчас ее последняя надежда, когда Иван Антонович с лицом человека, мечущегося в жару, спросил:
– Вы его сильно любите?
Василиса едва не завыла в голос, не желая лгать, но не видя другого способа устроить свою судьбу.
– Я нынче другую жизнь хочу начать, – тщательно подбирая слова, ответила она. – Без него.
Иван Антонович смотрел на нее с мукой в глазах:
– Мне подумать надобно, – сказал он. – Не решать же такое дело на ночь глядя!
Василиса молча кивнула; на том и разошлись они в тот день.
Утром же по обведенным краснотой глазам врача Василиса поняла, что если тому и удалось заснуть, то лишь под утро. Ей стало мучительно жаль его, и, сама подойдя к нему, она мягко проговорила:
– Право же, Иван Антонович, не стою я того, чтобы вы так переживали! Давайте забудем обо всем, кроме того, что мы с вами вместе больных должны выхаживать. Так оно, верно, и лучше будет.
Однако, к ее удивлению, врач покачал головой:
– Нет, – сказал он твердо, – ни о чем я забывать не намерен. Коли вы и вправду другую жизнь стремитесь начать, то давайте начнем ее вместе. Я теперь же пойду к отцу Даниилу договориться о венчании.
Приближаясь к палатке священника, дабы исповедоваться перед таинством брака, Василиса не представляла себе, в чем она будет каяться. Перечислить будничные свои грехи? Но это не принесет ей ни малейшего облегчения. Назвать тот, что не давал вздохнуть свободно? Но это означало похоронить всякую надежду на будущее. И душа Василисы в эти минуты смятения была подобна внутренностям человека, в живот которого угодил осколок снаряда.
Отец Даниил встретил ее на удивление приветливо:
– Вот и слава Богу, что так все устроилось! – сказал он, благословив девушку. – Полковник твой, хоть он и герой, до добра б тебя не довел. А за лекарем тебе покойно будет. Только венчаться вам поскорее надо, пока тебя лукавый на что-нибудь не попутал. Полковник-то, небось, из головы у тебя не выходит?
Василиса молча кивнула.
– Вот я и говорю, что чем скорей под венец, тем лучше, – продолжал отец Даниил. – А там дети пойдут, не до страстей станет…
Он приподнял епитрахиль, собираясь накрыть ею девушку и прочитать разрешительную молитву.
– У самой-то есть в чем покаяться? – спросил он напоследок.
Василиса посмотрела на Евангелие и крест, лежащие на аналое.
– Батюшка, а ведь я замужем, – вдруг сказала она.
– Была замужем? – уточнил отец Даниил.
Василиса покачала головой:
– Муж-то мой не умирал.
Отец Даниил опустил епитрахиль и в полном недоумении уставился на девушку:
– Как же ты здесь без него оказалась?
– Да сбежала я от него, – мертвея, проговорила Василиса.
Священник был настолько ошеломлен, что не находил слов.
– Давно ли? – выговорил он с трудом.
– Пять лет будет нынешней зимой.
Последовало молчание, за время которого Василиса успела похоронить все свои надежды на брак.
– И что же мне с тобой прикажешь делать? – с беспомощным смешком осведомился отец Даниил.
– Не знаю, – прошептала Василиса. – Что хотите, то и делайте – воля ваша.
Вновь они окунулись в молчание, но, искоса, глянув на священника, Василиса заметила, что на лице его отражается внутренняя борьба.
– Вот поступлю я по закону и откажусь тебя венчать, – сказал он, не глядя на девушку, как если бы разговаривал сам с собой, – и что с тобой будет? Пропадешь ведь! Только во грехе тебе жить и остается.
Василиса молча ждала его приговора. Губы ее подергивались, подбородок дрожал.
– А буде закон нарушу, и узнает кто потом – так мне не служить больше, – мучаясь выбором, продолжал батюшка. – Жили-то вы с мужем где?
– В Калуге.
– Возвращаться туда не собираешься?
Василиса в страхе замотала головой.
Отец Даниил провел рукой по лицу, как если бы пытаясь упорядочить свои мятущиеся мысли:
– Одному Богу известно, будет у тебя благодать в этом браке, или нет, – сказал он, наконец.
Василиса упала на колени и прижалась губами к его руке. Отец Даниил накрыл ее епитрахилью, и девушка услышала столь привычные, негромко и быстро произносимые слова:
– Господь и Бог наш, Иисус Христос, благодатию и щедротами своего человеколюбия да простит ти, чадо Василиса, и аз, недостойный иерей Его, властию мне данною прощаю и разрешаю тя от всех грехов твоих, во Имя Отца и Сына, и Святаго Духа. Аминь.
После службы в праздник святых апостолов Петра и Павла[56] отец Даниил огласил их предстоящее бракосочетание с Иваном Антоновичем, назначенное на ближайшее воскресенье. Понимая, какую пищу для пересудов даст сия новость обитателям лагеря, Василиса старалась как можно меньше показываться на люди в тот день и смертельно испугалась, узнав, что после полудня в их палаточном городке вновь объявился Кутузов. До места расположения его полка была всего пара часов быстрой езды, что не мешало ему так часто наносить визиты.
Впрочем, по его словам (Василиса не смогла удержаться от встречи с ним напоследок), он приехал всего лишь забрать забытую во время прошлого визита табакерку – подарок императрицы. Табакерка, однако, не нашлась (да была ли она вовсе?), зато Кутузов успел узнать о предстоящем венчании и, не скрывая своего озлобления, спросил:
– Что, соврала попу на духу[57]? Смотри, чтобы причастие тебе не было в осуждение!
– Я за свои грехи сама отвечу, а тебе за меня беспокоиться больше ни к чему, – в тон ему с вызовом отвечала Василиса.
Они стояли на дороге, ведущей прочь из лагеря, на отдалении от караульных, и слова их были никому не слышны.
– Значит, так ты судьбой своей распорядилась? – спросил он вновь, и Василиса с удивлением ощутила, что в голосе его сквозь ожесточение проступают и боль, и мольба.
– Значит так, – не глядя на Михайлу Ларионовича, сказала она.
Кутузов закинул поводья на шею своего скакуна, и мог бы уже садиться в седло, но почему-то не делал этого. Он все смотрел на нее, но чтобы не встречаться с ним взглядом, Василиса глядела на его коня. Золотисто-буланый Хан, не менее прекрасный в этот миг, чем когда девушка впервые увидела его, вдруг повернул к ней морду и скосил глаз. Обнять бы его на прощание и прижаться лицом, оставив мокрый след на лоснящейся конской шее! Но, расставаясь с хозяином, Василиса не дерзала прикасаться к его коню.
– Я больше звать тебя не буду, – сказал Кутузов, – но если вдруг сама захочешь меня навестить, то милости прошу!
– Сие невозможно, – покачала головой Василиса.
– Да почему же? – усмехнулся Кутузов, и девушка вновь увидела его таким, каким знала прежде, до отъезда в Петербург: дерзко-веселым и радующим ее взгляд. – Лошадь у тебя есть, скакать ты на ней умеешь, а бегать от мужа тебе не привыкать, верно, пустынница?
Василиса часто дышала. Словно бы сумрак сгущался в ее голове, и грезилось девушке, что стоят они с Михайлой Ларионовичем не на пыльной дороге, а в море, и волны колеблют их тела, а одна, самая шальная, подхватывает ее и бросает к ее любимому, не давая глупой человеческой воле противостоять счастью. И вдруг она услышала:
– Не поздно еще передумать. Долго ль тебе собираться? Только лошадь взять из табуна…
Василиса с трепетом вскинула глаза на Михайлу Ларионовича. Он молчал, и она не могла понять, Кутузов ли произнес эти слова, или кто-то другой в ее мыслях. Но, пересилив себя, девушка покачала головой.
Кутузов сел в седло и, не оглядываясь, тронул коня.
Собираясь к венцу, Василиса надела все то же золотисто-лазоревое платье, отрез ткани на которое стал первым подарком Михайлы Ларионовича. Другой праздничной одежды у нее не было, да и задумываться о нарядах не хотелось: в душе у девушки простиралась ледяная пустыня. Вспоминала она первое свое венчание, столь же мало отвечавшее ее желаниям, как и это, новое, и с тоской сознавала, что не будет с нею божественной благодати и в этом браке. Вновь не перед Всевышним, а перед людьми и их представлениями о правильном устройстве жизни ответит он на вопрос: «Имаши ли произволение благое и непринужденное пояти себе в мужи сего Иоанна, егоже пред тобою зде видиши?» И ответом будет лживое «Имею, честный отче». А уж на вопрос: «Не обещалася ли еси иному мужу?» – ей и вовсе отвечать нельзя. Не заявлять же при всех, что одному мужчине уже принадлежит она по закону, другой владеет ее сердцем, а тому, кто стоит с ней перед алтарем, достается одно ее тело, еще хранящее воспоминания о ласках любимого.
Но, содрогаясь от невысказанной правды, Василиса внятно произнесла во время обряда то, что от нее ожидалось. Задавая положенные вопросы, отец Даниил старался не смотреть ей в глаза, и ложь далась девушке легче, чем та предполагала. За спиной она ощущала присутствие огромного числа людей – весь полк собрался поглядеть на ее венчание – и мучилась от того, что нет среди этой толпы никого, кто мог бы разделить ее боль и отчаянье. Скользят по ее спине взгляды с одобрением и любопытством, порой – насмешкой, но ни к одному из смотрящих не может она обернуться, чтобы встретить понимание в его глазах. Она одна, совсем одна, точно скала в море, неведомой рукой оторванная от берега и преданная волнам – между нею и миром темная пучина.
В те минуты, когда слова священника перемежались пением хора, Василисе становилось легче. В голосах певчих, что были набраны из солдат, слышались ей одновременно и скорбь, и утешение. «Все проходит, пройдет и это», – словно бы внушали они девушке вечную мудрость царя Соломона, и у той ненадолго отлегало от сердца.
Однако к тому моменту, как венчание было почти завершено, Василиса неожиданно ожила. Она как будто почувствовала… нет, она совершенно ясно ощутила на себе еще один взгляд, тот единственный, которого ждала. Еле сдерживаясь, чтобы не обернуться, девушка затрепетала. У нее зажглись глаза, полыхнули щеки, напряглась спина, и весь вид ее изменился настолько, что у отца Даниила, готовившегося дать ей испить вина из одной чаши с женихом, замерла рука. Он подозрительно взглянул на толпу перед собою, но по его выражению было не понятно, увидел он в ней новое лицо, или нет. А Василиса едва дождалась того момента, когда, набросив им на руки епитрахиль, повели ее с женихом вокруг аналоя. Позабыв стыд, она жадно высматривала среди солдат и офицеров Михайлу Ларионовича. «Рекогносцировку проводит!» – мелькнуло у нее в уме.
Вот в надежде встретиться с ним взглядом пройден был первый круг и второй, но третий раз поворачиваясь лицом к полку, Василиса уже не ощутила среди собравшихся присутствия Кутузова. Так же незаметно, как появился, он исчез, оставляя девушку наедине со сделанным ею выбором.
С этого мгновения все происходящее перестало существовать для Василисы. И что бы она не делала до окончания торжества – принимала ли поздравления, отвечала ли на них со всей любезностью, даже смеялась обычным свадебным шуткам – было ни чем иным, как ненавидимым ею до глубины души лицедейством. Иван Антонович же, видя, что молодая жена его так весела, надо полагать, вздохнул с облегчением и решил, что прошлая привязанность потеряла для Василисы цену. Так и вошли они в новую, отныне общую жизнь: он с доверием и надеждой, она – запрещая себе обнаруживать истинные чувства. И неизвестно, чей крест в этом браке был тяжелее.
Когда пришло время молодым отправляться на покой, Василиса, сославшись на то, что ей необходимо взять кое-что из вещей, ускользнула в лазарет, оставив молодого мужа дожидаться ее в своей палатке. Оказавшись в привычном полумраке лечебницы, девушка медленно, точно лишенная всяких сил прошла меж рядами лежаков для больных солдат и опустилась на один из них. Она сидела в одиночестве – тяжелых больных не было, а всем остальным недуг позволял до сих пор гулять на ее свадьбе. Благословляя Провидение за то, что на нее никто не смотрит, Василиса вытянулась на лежаке во весь рост и закрыла глаза. Ей было невыносимо думать о том, что рано или поздно придется вставать и возвращаться к жизни. И если бы сейчас кто-то, войдя в лазарет, принял ее за мертвую, положил пятаки на опущенные веки и, скрестив ей руки на груди, вставил свечу в холодные пальцы, девушка не стала бы ему препятствовать.
* * *
Счастливы или несчастливы в браке были те, кто не оставил заметного следа в истории, порой не известно даже их ближайшим потомкам. Сильным же мира сего посчастливилось куда меньше: их семейная жизнь, никогда не отличавшаяся безоблачным покоем, на виду у всего человечества. И если мы бросим взгляд хотя бы на современников Кутузова, то в изумлении расширим глаза. Не такого ожидаешь от людей, величественно глядящих с парадных портретов!
Начнем с Суворова, перед военным гением которого заслуженно преклонялся не один Михайла Ларионович. Генералиссимусу неоднократно изменяла жена, и рожденного ею впоследствии сына он не признал своим. А вот дочь (появившуюся на свет еще до измен), полководец разлучил со сластолюбивой матерью и отправил в Смольный институт, сумев устроить так, чтобы между ними не было свиданий. Можно лишь догадываться, что творилось в душе четырехлетней (!) девочки, грубо вырванной из объятий семьи и заточенной фактически в монастырь. Мольбы супруги оставили Суворова непреклонным. А впоследствии, в своей биографии, он даже не упомянул, что был женат.
Трудно сказать, больше или меньше повезло в делах семейных Петру Багратиону, поскольку его жена, открыто отдававшая предпочтение известному дипломату Меттерниху, жила при этом в Париже, никак не реагируя на просьбы мужа воссоединиться с ним в России хотя бы для виду. А вот брачная жизнь Петра Румянцева вполне укладывается в понятие «и смех и грех». Решительно бросив супругу, родившую ему к тому времени троих детей, он никогда более не вспоминал о ней. Когда же его старший сын начал военную службу и поступил под командование собственного отца, Румянцев даже не узнал его. Смущенный молодой офицер вынужден был напомнить полководцу, кем они друг другу приходятся. «Как же вы выросли!» – покачал головой удивленный папаша.
Но перещеголял всех, пожалуй, сам «Благословенный» император Александр I. Пренебрегая своей прелестной супругой Елизаветой Алексеевной, он пятнадцать лет ходил в любовниках у Марии Нарышкиной (на что ее муж смиренно закрывал глаза), а прекратилась эта связь лишь потому, что Нарышкина, никогда не отличавшаяся ни умом, ни тактом, сбежала от императора в Париж с его же собственным флигель-адъютантом. Другой же известный роман императора имел, увы, не мелодраматический, а, скорее, шекспировский финал: фаворитка Александра, княжна Туркестанова, родив от него дочь прямо в Зимнем дворце, сразу после родов отравилась. Злой рок преследовал и детей императора: единственная дочь от императрицы умерла в младенчестве, дочь от Нарышкиной скончалась шестнадцатилетней накануне собственной свадьбы, а дочь несчастной Туркестановой, отданная на воспитание в семью дворян Голицыных, умерла, едва успев обвенчаться, в возрасте всего двадцати четырех лет. Законных же сыновей Александр после себя не оставил.
Покинутая им императрица, Елизавета Алексеевна, одно время утешалась в объятиях красавца-кавалергарда Охотникова и даже родила от него ребенка (вскоре тоже скончавшегося), но такое утешение сочли недопустимым для царственной особы. Наемный убийца расправился с кавалергардом, положив конец недолгому счастью императрицы.
Что интересно, одновременно с Елизаветой Алексеевной Охотников радовал своими визитами и ее фрейлину, Наталью Загряжскую. После смерти кавалергарда Загряжскую спешно выдали замуж за дворянина Николая Гончарова. Одна из их дочерей, названная в честь матери Натальей, выросла настолько неотразимой, что история ее брака и сердечных порывов сделалась национальным достоянием. Да, да, это она: Наталья Николаевна Гончарова – любовь и смерть Александра Пушкина.
На этом бурном фоне семейная жизнь супругов Голенищевых-Кутузовых выглядит оазисом покоя и взаимного согласия. Ни единой сплетни, на которую могли бы накинуться в петербургских салонах, ни единой тени, брошенной на доброе имя полководца. Пять милейших дочерей, удачно выданные замуж, также ничем не запятнали славу отца. И, на первый взгляд, единственным, что омрачало этот союз, была смерть единственного сына супругов, Николая. Младенцем он скончался от оспы.
«Награждена Божею милостию, что спас Михаила Ларионовича, не только оставил его живого, но и здорового. Услыша сие, была порадована несказанно», – так выражала свое счастье в одном из писем Екатерина Ильинична Кутузова, в девичестве, Бибикова. «Боже мой, как я завидую вам, я не знаю судьбы более прекрасной, как быть женою великого человека!» – разливалась соловьем ее корреспондентка Жермена де Сталь[58]. Однако при этом госпожа Кутузова всего лишь раз и всего на месяц однажды приехала к месту службы мужа, ни разу не последовала за ним в поход, не навещала его ни в Киеве, ни в Вильно, где он служил военным губернатором, и не соизволила даже сопровождать его, когда он, униженный и получивший отставку со всех должностей, уехал налаживать хозяйство в свои малороссийские вотчины. А ведь в это время ему, как никогда, требовалась поддержка близкого человека! Она не сидела у его постели, когда он получил опаснейшую рану под Очаковом, и была слишком далеко, чтобы врачевать раны душевные после Аустерлицкого сражения, когда Кутузов вез в Россию не только незаслуженно свалившийся на его голову позор, но и мертвое тело любимого зятя. Словом, то, что в современном обществе принято называть «гостевым браком», вполне устраивало даму, ставшую, благодаря заслугам мужа, светлейшей княгиней[59], статс-дамой и хозяйкой трехэтажного особняка над Невой, вид из которого открывался не хуже, чем из Зимнего дворца.
Сам же Михайла Ларионович в письмах жене неизменно проявляет себя как заботливый семьянин, регулярно упоминает о подарках, которые ухитрялся высылать родным даже с театра военных действий, и весьма подробно и доверительно описывает свою жизнь, точнее, ту ее часть, которую полагалось знать супруге для ее же собственного спокойствия. «Верный друг Михайла Голенищев-Кутузов» – так подписывает он свои послания, оставляя за кадром то, что «не может существовать без того, чтобы иметь около себя трех-четырех женщин»[60], и, куда бы не забросила его служба, неизменно находит себе новую «владычицу»[61].
Словом, идиллия! Однако супруги строго соблюдали правила игры, согласно которой их браку надлежало быть образцовым в глазах общества. И светлейшему князю и княгине Кутузовым это удалось.
После смерти фельдмаршала Александр I напишет княгине трагически-торжественное письмо, в котором, выражая ей соболезнование, назовет имя и дела ее супруга бессмертными. Она же в ответ попросит государя выплатить ее и мужнины долги. Что и будет им милостиво исполнено.
Часть третья
XLVI
«…На рассвете, когда травы тяжелы от росы, выходила я в степь и, созерцая их, думала: “В скольких же из вас заключено избавление от мук! Жаль, что мало кому о том ведомо ”…»
Что такое десять лет в жизни лишенной страстей? Пролетают они, как водомерки по воде, не оставляя следа; повседневные дела не запечатлеваются вехами на сердце, а мелкие радости и огорчения не прибавляют веса прожитым годам. И Василиса едва осознавала, что ей уже не двадцать три, как было в момент прощания с Михайлой Ларионовичем, а тридцать три.
Сейчас, когда пошел одиннадцатый год их разлуки, вновь жила она там, где некогда встретилась со своей любовью – в столь много значившем для нее Ахтиаре. Милостью государыни императрицы сменил он свое косматое татарское название на благозвучное греческое Севастополь. Таврида теперь безоговорочно принадлежала Российской империи.
Хотя к тому моменту, как это произошло, Крым казался безвозвратно потерянным для России. Через несколько лет после того, как Василиса шагнула под венец, а Кутузов ускакал командовать полком, там вспыхнуло восстание с целью сместить очередного ставленника Екатерины, хана Шагин Гирея, и вернуться под покровительство Турции. Шагин Гирей бежал в Керчь – единственное место, где по-прежнему располагался русский гарнизон – и оттуда умолял Петербург выступить на его защиту. Императрица, не колеблясь, отправила в Крым войска, стоявшие на Днепровской пограничной линии. В их числе был и Мариупольский легкоконный полк под командованием бригадира Голенищева-Кутузова.
Через сослуживцев мужа (сам Иван Антонович никогда не упоминал при жене о сопернике) Василиса узнала, что Михайла Ларионович, находясь в Тавриде едва ли не весь 1783 год, немало способствовал установлению там мира не токмо силой оружия, но и своим бесспорным талантом дипломата. Вспоминая о том, как, служа в Ахтиаре, он расположил к себе местных татар и предотвратил очередной десант, она ничуть не была удивлена. Кутузов оставался все тем же, лишь поле деятельности для него выросло от гарнизона до целого полуострова.
За свои миротворческие заслуги он был пожалован чином генерал-майора. Узнав об этом, Василиса улыбнулась, задумчиво и грустно: муж ее дослужился, покамест, лишь до младшего лекаря 1-го класса.
Впрочем, что ей до того, каким чином и какими заслугами может похвастаться некогда близкий ей человек! Михайла Ларионович принадлежит теперь Екатерине. По странной прихоти Провидения это имя носила не только императрица, но и супруга Кутузова.
А Василиса едва ли не ежедневно напоминала себе о том, что следует быть довольной судьбой, и даже в мыслях не тяготиться отсутствием чего-то большего. Иван Антонович работал в госпитале вновь стоявшего в Ахтиаре-Севастополе русского гарнизона, и жили супруги тихо и мирно, успев разделить все тяготы походной жизни, а нынче наслаждаясь всеми прелестями оседлой. И радуясь детям, кои не замедлили скрепить их союз.
На другой год после свадьбы, в ночь, когда март уступает права апрелю, родила Василиса сына. На свет он появился, по мнению матери, преждевременно (вела она свой счет от первой брачной ночи), но повитуха, принимавшая роды, нашла младенца вполне доношенным. На том и успокоились.
Окрестили мальчика Филаретом в память о батюшке. Василиса не стала перенимать чуждых ей дворянских обычаев и не сдала новорожденного на руки кормилице; прикладывала его к своей груди, сама нянчила и получала от этого несказанное удовольствие.
Два года спустя за сыном последовала дочь, названная по настоянию Ивана Антоновича Ольгой в честь матери. Ни о каких других детях в записках Василисы не упомянуто. Не то умирали они при рождении, не то ее женская природа не позволяла ей зачать новую жизнь, не то сама Василиса, зная об этой природе не в пример больше других женщин, благодаря занятиям медициной, сознательно ограничивала свои возможности материнства. Так или иначе, она ни разу не обмолвилась на бумаге о причинах своей малодетности.
Брат и сестра были чрезвычайно привязаны друг к другу и неразлучны, как близнецы, однако, отчего-то совсем не схожи ни внешностью, ни нравом. Девочка походила на обоих родителей сразу льняными волосами, серой прозрачностью глаз, тонкой статью и изяществом черт. Сын же рос темноволосым крепышом с пухлыми, как у амура, губами и широко распахнутыми карими глазами, чрезвычайно живыми и выразительными. Оленька была тиха, задумчива и легко поддавалась на уговоры, Филарет же, напротив, всегда стоял на своем и стремился верховодить. Эти различия в характерах их детей всегда заставляли недоумевать Ивана Антоновича, Василиса же считала их естественными проявлениями мужского и женского начал. А что до цвета волос, то ведь и у тетки Лукерьи была каштановая коса…
С того момента, как Василиса, благодаря браку с дворянином, стала и сама принадлежать к благородному сословию, она была решительно отстранена мужем от повседневной работы в лазарете. По его мнению, это роняло ее достоинство, к тому же неожиданно рано, едва ли не сразу после свадьбы, у молодой жены обнаружились признаки беременности, и Иван Антонович опасался, не повредит ли женщине в ее положении уход за больными. Однако Василиса, видевшая в медицине свое призвание, отнюдь не думала с нею расставаться. Пользуясь тем, что ей уже не приходится заниматься черной работой, она посвятила себя тому, к чему всегда испытывала интерес – лекарственным свойствам трав.
Случай свел ее с бабкой-знахаркой, жившей в станице, близ которой они разбивали лагерь летом и где квартировали зимой. Обширная семья Терентьевны, равно как и ее односельчане, были равнодушны к науке о том, как составлять целебные снадобья, и множество знаний, накопленных старой женщиной, грозило уйти в могилу вместе с ней. Посему знахарка чрезвычайно обрадовалась, когда нежданно объявившаяся ученица стала сопровождать ее в степь на поиски растений и прилежно запоминать, а то и записывать, от какой травы какую часть следует брать, когда собирать, каким образом заготавливать впрок и с чем смешивать.
Под надзором Терентьевны Василиса научилась исцелять гноящиеся трещины на коже с помощью растертой земляники. От расстройства желудка, столь часто преследовавшего солдат, давала им пить натощак горячий отвар из смешанных в равных долях зверобоя и тысячелистника. Напаром девясила лечила кашель, а смесью его корневищ с корнями дягиля – и сильную простуду. Для быстрого же заживления ран и восстановления сил, использовала, как и прежде, колючий подарок имама Дениза. Так постепенно накопила она столько познаний о травах и их свойствах, что заболевшие солдаты отправлялись не в лазарет, а прямиком к ней за облегчением своих недугов, и, как, смеясь, говорила женщина мужу, она отнимала у него пациентов, облегчая этим ему работу.
От бабки Терентьевны выведала она и множество тайн, связанных с женским естеством, благодаря чему не мучили ее обычные бабьи хвори, и на четвертом десятке лет оставались ее лицо и тело свежи и упруги. Если б взглянул на нее сейчас Михайла Ларионович, то, наверняка, поразился бы тому, что время обходит женщину стороной, почти не меняя оставшийся у него в памяти облик. Однако ни разу за все эти десять лет Василисе не довелось увидеть того, кто, как печать, лежал у нее на сердце. И не было за эти годы дня, когда она не вспомнила бы о нем.
Даже в то мгновение, когда женщине, едва живой после первых долгих родов, положили на руки сына, память тут же воскресила перед нею возлюбленного, когда он, вернувшись к жизни после боя в Шумлах, лежал в тяжелом сне. И, покрывая поцелуями головку младенца, Василиса делала это столь нежно и трепетно, словно ласкала не одного новорожденного, но и того, к кому уж больше не имела права прикоснуться.
По прошествии лет боль перестала донимать ее так, как в первые месяцы после разлуки, и на смену ей пришло ожидание. Воскрешая в памяти прошлое, Василиса видела в нем волшебную сказку, рассказанную вдохновенно, но прерванную в самый захватывающий миг. Ведь лишь человек донельзя простодушный или начисто лишенный прозорливости мог бы счесть ее свадьбу венцом приключившейся с ней истории. Конец у сказки, как известно, наступает лишь тогда, когда чудесным образом соединяются главные ее герои. А посему, прилежно исполняя обязанности жены, Василиса пестовала в душе предчувствие, точнее, веру в новую встречу с Кутузовым. Им она и жила, не забывая меж тем радоваться детям и приносить пользу всем вокруг. И жизнь ее напоминала то время на рассвете, когда солнце еще не взошло, но горизонт уже светел от обещающих скорое утро лучей.
XLVII
«…Муж мой был нрава спокойного, честен и весьма рассудителен. Других достоинств я припомнить за ним не могу…»
Если бы Василиса и задалась целью пожаловаться на семейную жизнь с Иваном Антоновичем, то ей бы это не удалось. Их брак напоминал тихое лесное озеро, не знающее не то что бурь, но даже и сильных волн. Лишь изредка возмущала его поверхность легкая рябь, вскоре сходившая на нет, и поверхность воды оставалась безупречно гладкой.
Ничто в супруге не отталкивало женщину – ни внешность, ни привычки, ни отношение к ней и к детям – однако, ничто и не притягивало. Хоть если взглянуть со стороны, ничем Иван Антонович не был плох. То забавное сходство с козьим племенем, что рассмешило Василису при первой их встрече, с годами как-то сгладилось, облик врача стал куда более солиден и нынче уже не вызвал бы ничьей улыбки. Более того: рассуждая беспристрастно, доктор Благово к середине жизни выглядел куда лучше многих своих сверстников. От природы худощавый, он казался моложе, чем был, льняные волосы его ничуть не поредели, плечи не ссутулились, а мундир придавал ему тот необходимый вес, коего он был бы лишен в гражданской одежде. Все это, конечно же, отмечала Василиса, потому и в горничные взяла женщину весьма пожилую. Однако… Однако, с улыбкой провожая мужа в госпиталь и с улыбкой встречая его со службы, делала это отнюдь не из расположения к нему, а из вежливости. А еще оттого, что для детей благотворно видеть приязнь меж отцом и матерью.
В чинах Иван Антонович поднимался медленно, что было, впрочем, закономерно – в медицинской службе попробуй взлети! Хоть опыт участия в военной кампании у него уже имелся: в том самом 1783 году, когда потребовалось силой вернуть почти упущенный Крым, он на несколько месяцев разлучился с женой, участвуя в боевых действиях. За что и был произведен в младшие лекари 1-го класса, что вполне удовлетворило его самолюбие. По наступлении же мира остался служить в Севастополе, коему предстояло стать морским форпостом России.
В делах медицинских он звезд с неба не хватал, но обязанности свои исполнял со всем возможным тщанием, особенно следя за чистотой, что было не самым обычным делом в те времена. Среди персонала госпиталя снискал он уважение, а пациенты передавали из уст в уста рассказы о тех чудесных снадобьях, коими ставил он на ноги даже, казалось бы, безнадежных больных. Поговаривали, впрочем, что снадобья эти готовит его жена, и что с женой же Иван Антонович непременно советуется, буде столкнется со сложным случаем в своей практике. Иной раз видели в госпитале и ее саму – тонкую, светлую, всегда дружелюбную и внимательную даму, что не брезговала рассматривать гноящиеся раны и дышать гангренозными испарениями. После ее визитов Благово со спокойной уверенностью брался за лечение и, как правило, исцелял больного. А потому, увидеть в госпитале его супругу почитали за добрый знак.
Василиса же отнюдь не исполнялась гордыни от того, что муж без ее советов, как без рук, лишь радовалась, что знания ее и умения по-прежнему нужны людям. Многие приходили к ней за помощью прямо домой, и никто не уходил без лекарства или, хотя бы совета, а зачастую и сама она отправлялась к больному на дом. После нескольких лет жизни в Севастополе Василиса стала шутить, что, верно, нет в округе женщины, роды у которой она не приняла бы хоть раз, а если собрать вместе всех ее крестников, то получится целый батальон.
Мало ли женщин, лишившись любви, остаются с пустырем в душе, взращивая на нем ожесточение и тоску! Василиса же, едва заприметив, что сии сорняки пробиваются и в ее сердце (что неизбежно случалось время от времени), немедля выкорчевывала их, нагружая себя множеством полезных дел. Михайле Ларионовичу не до тоски, небось, а стало быть, и ей негоже. На новое их свидание надлежит ей явиться не потухшей и опустошенной, а бодрой и живой с огнем в глазах и верой в свое умение исцелять даже тех, кто, казалось бы, обречен. Сможет ли Кутузов, столь высоко ставивший достижения и победы, не оценить, какой искушенной лекаркой она стала! Еще прежде, чем занемогший человек изложит свою жалобу, умела угадать по глазам, ногтям, цвету кожи и не уловимым, но ощущаемым ею признакам, в чем его недуг. С годами все более крепло ее умение успокоительно и властно смотреть на больного, внушая ему, что снадобье непременно принесет облегчение, и сила внушения порой приносила куда больше пользы, чем сила трав. А за тех, кого болезнь успела уж слишком подкосить, молилась так горячо, что по молитвам ее нередко наступало исцеление. И вновь с почтением нарицали ее «святой», из уст в уста передавая рассказы о ее удивительных свойствах.
Так и текли дни Василисы в любимом труде и воспитании любимых детей, что позволяло смиряться с ничем не радостным браком. Сколь бы ни был порядочен Иван Антонович, его порядочность не зажигала ей сердца. Ровный нрав мужа оставлял недвижимой душу жены, а его привязанность к ней не вызывала в женщине трепета. Однако скрывать свои истинные чувства к супругу стало для Василисы такой же привычкой, как расчесывать волосы или глядеться в зеркало по утрам. Иван Антонович же, на свое счастье, пребывал в полной уверенности, что любим женою, и радовался, что находит в ней такую помощницу в своих делах. Наверняка, он полагал, что увлечение супруги тем самоуверенным полковником минуло, как болезнь, и закончилось полным выздоровлением.
Мать его, Ольга Андреевна, приняла невестку ласково, однако, в глубине души осталась недовольна выбором сына. Разве такой супруги достоин ее Ванечка! С лица, правда, недурна, но телом не вышла – худосочна. Порты на нее надень – будет парень: ни зада женского, ни груди не углядишь. Да и того счастливого обожания, с коим молодой жене должно взирать на мужа, в глазах ее не видно. Держится с ним ровно и приветливо, да материнский-то глаз не обманешь: за приветливостью этой пустота, а не любовь. И придраться не к чему, а горько видеть, как дурачок ее счастлив. Впрочем, весь внешний декор при встречах с семьей сына она соблюдала, умилялась внукам, баловала их подарками и ни разу не подивилась тому, почему меж ее сыном и сыном Василисы нет никакого внешнего сходства. По крайней мере, не высказала этого вслух.
XLVIII
«…Войны на земле не иссякают, как волны в море…»
При взгляде на Филарета у Василисы всегда точно искра вспыхивала в сердце. Она готова была любоваться сыном до бесконечности: ясным его взглядом, живо передававшим каждое движение души, да ладным телом, крепостью своей напоминавшим тело мужчины, скорее, чем мальчишки. Не обещал он стать высокого роста, но Василиса того и не ждала. А вот ум, наблюдательность и удивительную точность суждений Филарет обнаружил в самом раннем возрасте, и, по мнению матери, качества сии должны были блестяще развиться со временем. Но главной отрадой было то, что сын с самого детства твердо знал, по какому пути он отправится в жизни.
Однажды Василиса спросила у мужа, отчего тот решил избрать медицину своим жизненным поприщем. Внятного ответа она не получила. Иван Антонович признался, что представления не имел о своем будущем, пока мать не определила его учиться в Хирургический госпиталь. Выбор же свой Ольга Андреевна объясняла так: дворянину должно служить, но на службе гражданской без связей будешь прозябать, а к службе строевой сын ее явно не расположен. Медицина же занятие весьма достойное и вполне отвечает спокойному нраву ее отпрыска, не рвущегося ни к чинам, ни к приключениям. Так и стал Иван Антонович врачом.
Филарет же являл ему полную противоположность. Едва научившись складно говорить, стал задавать он множество вопросов об оружии: о том, каким образом оно действует, какое является наилучшим для той или иной задачи, и как совершенствовались в ходе истории ружья и пушки. Иван Антонович, увы, не мог удовлетворить его любопытства, и Василиса, пользуясь своими знакомствами в гарнизоне, упросила одного капитана артиллерии время от времени беседовать с мальчиком о предмете его интереса. Кончилось же тем, что Филарет стал по пятам ходить за своим учителем, убегать к месту его службы по нескольку раз в день, а во время артиллерийских учений мальчик отсутствовал дома ровно столько, сколько сии учения длились. При каждом выстреле у него полыхали глаза, и он в восторге взмахивал руками, очевидно, чувствуя себя в тот миг всемогущим.
За определенную плату тот же артиллерийский капитан занимался с Филаретом и математикой, а еще один офицер – географией и фортификацией, но Василиса сознавала, что дать достойное образование сыну в Севастополе она не сможет. Отправить бы его в Соединенную Артиллерийскую и Инженерную школу, где когда-то отличался успехами Михайла Ларионович! Но покамест она не находила в себе сил расстаться с сыном, успокаивая себя тем, что еще годок-другой можно повременить.
О том, чтобы отправить на учебу дочь и речи не шло. Василиса, правда, слышала, что в Петербурге существует Смольный монастырь, где обучаются девочки из благородных семей, но к чему это ее Оленьке? Замуж она, очевидно, выйдет за одного из гарнизонных офицеров, а для того, чтоб очаровывать мужчин, наука ни к чему. Была б девица мила да весела – этого достанет! Василиса сама обучала дочь (равно как и сына) чтению, письму и закону Божьему, и единственное, о чем жалела, так это о том, что не умеет музицировать. Передать сие искусство дочери было бы весьма полезно!
Однако Оленька, прилежно выполняя материнские уроки, отнюдь не тянулась к знаниям по доброй воле: компания девочек-сверстниц была для нее куда привлекательней. Филарет же осваивал науки с удовольствием пахаря, поднимающего целину, но особое наслаждение находил в том, чтобы слушать разговоры старших о войне. Стратегия и тактика, рекогносцировки и атаки, укрепления и штурмы – все это было его стихией. Стоило собраться в их доме гостям и завести разговор о двух последних турецких кампаниях, как мальчика невозможно было выпроводить в детскую. Возбужденно приоткрыв рот, стоял он подле беседующих или спорящих офицеров и, нимало не смущаясь, перебивал их расспросами, а то и высказывал свое мнение. Что удивительно, никто из старших не выговаривал ему за это, поскольку реплики Филарета были неизменно точны и уместны, а вопросы порой заставляли не на шутку задуматься. Иными словами, девятилетнего мальчишку воспринимали на равных, что наполняло его вполне заслуженной гордостью. Василиса же при этом не могла не вспоминать рассказы Михайлы Ларионовича о его собственном детстве: по словам Кутузова, ни одна игра с ровесниками не обладала для него таким очарованием, как беседа со взрослыми, и его отец, как бы не был занят, всегда находил возможность удовлетворить любопытство сына.
Вообще, задумываясь о склонностях и пристрастиях детей, Василиса поражалась тому, насколько легкий след оставляет в их душах воспитание, и насколько властно диктует им путь текущая в жилах кровь. Оленька явно идет по стопам отца, коего ничто в жизни не увлекало до самозабвения. Ну да Бог с ней! С девочки большой ли спрос? Филарет же определенно явился на свет полководцем, и, восторгаясь задатками сына, Василиса переставала испытывать стыд за тайну его рождения.
Мальчик постоянно выпытывал у матери, удастся ли и ему побывать на войне, когда он вырастет, и Василиса уверяла сына, что, сколько свет стоит, столько люди воевать будут. Но, когда в начале сентября 1787 года Филарет влетел в дом с горящими глазами, объявив, что началась война, женщина приняла это за его измышления.
Однако раньше времени вернувшийся из госпиталя муж подтвердил принесенную мальчиком весть. Полку, в котором он состоял, было приказано выступать назавтра и ускоренным маршем идти в Ольвиополь[62] – город на реке Южный Буг, расположенный к северо-западу от Сивашского перешейка. Там назначили сборный пункт действующей русской армии.
– И я с тобой! – вырвалось у Василисы, прежде чем она успела о чем-либо задуматься.
Однако Иван Антонович решительно отверг эту идею. Что за вздор! На кого она оставит детей? Не на служанку же! Ведь не известно, на сколько затянется эта кампания: на несколько месяцев или на несколько лет. К тому же, той нужды, что была в ней прежде, уже нет – хорошо обученные помощники у него имеются.
Василиса кусала губы: все эти доводы были справедливы, и она легко смирилась бы с ними, если бы не одно обстоятельство. В тот самый миг, когда она осознала, что начинается новая война, память немедленно перенесла ее на поле боя близ деревни Шумлы. Вновь она стремглав мчалась меж мертвых тел, вслед за гонящими турок русскими солдатами, и кричала им, что ранен офицер, коего нужно сей же час вынести с поля боя. Так отчетливо встало перед нею то страшное мгновение, словно бы тринадцать пролетевших лет не воздвигли между прошлым и настоящим никакой преграды.
Видя, что Василиса мучается какой-то невысказанной тревогой, Иван Антонович был искренне тронут. До сих пор он знал, что жена уважает его и испытывает положенную супруге привязанность, однако, всегда не хватало ему чего-то большего, чем она одна могла бы осчастливить мужа. Конечно, он был ей бесконечно признателен за мир и покой в их семье и доброе их взаимное согласие, но порой с досадой спрашивал себя: неужто, и все последующие годы брака ему придется довольствоваться одним этим? И вот наконец ее истинные чувства к нему плеснули наружу! Что за наслаждение лицезреть ее охваченное волнением лицо!
Глаза Василисы были широко открыты и донельзя красноречивы, а губы плотно сомкнуты, точно она стремилась одним взглядом дать ему понять нечто крайне важное. Однако не решалась. Иван Антонович угадал, что: жена смертельно боится за него, но не хочет вселять в него тревогу перед отъездом.
– Хорошая моя, – тихо проговорил он, – думаешь, я рад с тобой разлучаться? Да иначе невозможно ведь…
Василиса молча кивнула, отводя взгляд. В мыслях своих она стояла на коленях подле Михайлы Ларионовича, поддерживая его простреленную голову. Ей было не по себе от тяжелого предчувствия.
– А буде и случится со мной что, – продолжал Иван Антонович, поглаживая ее по голове, – чем ты сможешь помочь?
В этот миг Василиса словно бы увидела себя со стороны. Ночь, горница в доме того татарина, куда снесли обреченных солдат, их стоны и конвульсии. И между всем этим, точно в аду, она сама, молящаяся над неподвижным телом с белой от бинтов головой.
– И верно, – медленно проговорила женщина, стараясь никак не обнаруживать того, что огнем плеснуло у нее в душе. – Чем я при случае могу помочь? Ничем, пожалуй!
* * *
За тридцать четыре года своего правления Екатерина II мастерски решила довольно много сложных задач. Однако две проблемы не давали ей расслабиться практически все годы, проведенные на троне.
Первая из них состояла в том, как не допустить до престола своего единственного законного сына, цесаревича Павла. Второй был крымско-турецкий вопрос. И если с сыном императрица не церемонилась, держа его в Гатчине, как в заточении, то в случае с Крымом ей приходилось действовать то кнутом, то пряником, подчас применяя и более нетривиальные ходы.
Кучук-Кайнарджийский мир не позволил императрице вздохнуть с облегчением: едва Ахтиар был покинут русским гарнизоном, в его бухту вошли турецкие корабли, а основные силы турок сосредоточились в Кафе, также обладавшей отличной гаванью. Взамен марионетки – Сахиб Гирея крымским ханом был провозглашен ставленник турецкого султана Девлет Гирей IV.
Стерпеть такую наглость было трудно, и в ноябре 1776 года, когда Кутузов заканчивал свое путешествие по Европе, а Василиса ждала его, еще веря в свое счастье, генерал-поручик Прозоровский принялся наводить в Крыму порядок. На трон посадили новую марионетку – Шагин Гирея, но привело это лишь к тому, что весь следующий 1777 год полуостров был охвачен восстанием. Относительное затишье наступило лишь тогда, когда командующим войсками Крыма и Кубани взамен Прозоровского был аносительное затишье наступило лишь тогда, когда командующим войсками Крыма и Кубани лее нетривиальные ходы. оставляет в их душназначен Суворов. Произошло это 23 марта 1778 года, за неделю с небольшим до того, как у Василисы родился сын.
Суворов не стал миндальничать с турками, и это мгновенно принесло свои плоды. На месте деревянных казарм покинутого ахтиарского гарнизона он приказал строить каменные бастионы, одновременно позаботившись о том, чтобы турок не подпускали к устьям близлежащих рек за пресной водой. Жажда вынудила моряков покинуть бухту.
Ту же самую тактику Суворов применил и в Кафе, где турецким капитанам было «с полной ласковостью» отказано в праве набрать воды на берегу. Так очистили от готовых высадить десант кораблей главное турецкое гнездо в Крыму.
Одновременно, по совету Потемкина (или, вероятнее всего, самой Екатерины) Суворов впервые в русской истории применил тактику, которой впоследствии будет активно придерживаться Сталин. Под предлогом того, что христианское население Крыма находится в опасности, он занялся переселением греков и армян на азовское побережье и к устью Дона. Императрица же издала по этому поводу грамоту, обещая согнанным с родной земли людям «жизнь толико благоденственную». Всего с мая по сентябрь 1778 года из Крыма была выселена 31 тысяча человек – по тем временам огромное число! А поскольку именно с христиан собиралась основная масса налогов, ханская казна резко оскудела и о могуществе крымского хана говорить уже не приходилось.
Крым временно поутих, и в июне 1779 года, когда Кутузов в новороссийских степях готовил к будущим боям свой пикинерный полк, русские войска вновь покинули полуостров, как и в прошлый раз, оставив гарнизон в Керчи. Однако уже осенью 1781 года Турция не удержалась от того, чтобы спровоцировать новое восстание, провозгласив ханом некоего Махмут Гирея. Тогда-то Шагин Гирей и бежал в Керчь, откуда умолял русскую императрицу защитить его престол.
Но Екатерине к тому времени смертельно надоела чехарда Гиреев то пророссийской, то протурецкой ориентации. С полной ласковостью и железной решимостью она предложила последнему крымскому хану добровольно отдать свою землю России. Что тот и вынужден был сделать.
Итак, 8 апреля 1783 года Крым официально вошел в состав Российской Империи. Но одно дело – присоединить к себе землю на бумаге, и совсем другое – утвердиться на ней так, чтобы не последовало новых восстаний. Тут-то Екатерина и вспомнила о человеке, чей дипломатический дар она подметила давным-давно. И Михайла Ларионович Кутузов отправился в знакомые края – налаживать контакты с местной знатью на ее родном языке, дарить подарки, сыпать обещаниями и уверять татар и ногайцев в их светлом будущем. Судя по тому, что с тех пор вплоть до крымской войны 1853–1856 годов на полуострове царил мир, миссия Кутузова удалась с блеском.
Воодушевленная Екатерина решила насладиться созерцанием своих новых владений, ценимых ею столь высоко, что управление ими она доверила лишь Потемкину, своему тайному мужу и второму человеку в государстве. В 1787 году в сопровождении огромной свиты, и множества иностранцев (дипломатов, шпионов и иже с ними) императрица отправилась в Крым. На пути ее следования, в Полтаве, решено было провести грандиозный смотр войск, дабы иностранцы в царском кортеже еще раз вспомнили о победах Петра I и убедились в том, что нынешняя августейшая узурпаторша, отправившая внука Петра на тот свет, также достойна называться «Великой».
Кутузов, к тому времени успевший побывать командиром нескольких легкоконных полков и сейчас командовавший Бугским егерским корпусом, очевидно, волновался на маневрах куда более других офицеров – ведь императрица наблюдала не одно воинское подразделение, им возглавляемое, но и несколько других, обученных им ранее. Однако результат его трудов оказался не менее блестящ, чем переговоры в Крыму. «Благодарю вас, господин генерал. Отселе вы у меня считаетесь между лучшими людьми», – во всеуслышание провозгласила Екатерина. Вскоре мундир Михайлы Ларионовича украсился еще одним орденом – Святого Владимира 2-ой степени. Как правило, его получали за боевые заслуги.
После маневров императрица проследовала в Крым, проинспектировала черноморский флот, наградила Потемкина титулом «Таврический» и чрезвычайно довольная увиденным отбыла обратно в Петербург. Но вот незадача! Через четыре дня после ее возвращения, российскому послу в Стамбуле, Булгакову, был вручен ультиматум с требованием вернуть Крым и признать недействительным Кучук-Кайнарджийский мир. Посол отказался даже передавать столь дерзостный ультиматум императрице, в результате чего был брошен в Семибашенный замок – стамбульскую политическую тюрьму. А 13 августа все того же 1787 года Турция вновь объявила России войну.
7 сентября, на следующий день после именин Михайлы Ларионовича, Екатерина II в свою очередь подписала высочайший манифест о войне. Театром военных действий на сей раз становился не Крым, а примыкавшая к нему с северо-запада Бессарабия.
XLIX
«…По отъезде мужа моего на войну молилась я за него прилежно, однако же по долгу жены, но не по зову сердца…»
Уж который месяц кряду длилась осада турецкой крепости Очаков! Почитай, с самой зимы наступившего, 1788 года. И к июню, когда осаждавшие были измучены лишь немногим меньше осажденных, Иван Антонович Благово успел до глубины души возненавидеть главного врага русской армии – сыпной тиф. Невероятная скученность людей на столь малом участке земли выводила из строя несметное число солдат. И едва очередной несчастливец, коего трясло в лихорадке, жаловался при этом на то, что и спину ломит, и голова раскалывается, Благово с бессильным отчаянием сознавал, что еще день-два – и живот больному обмечет розовой сыпью, а затем жар усилится до того, что человек перестанет сознавать, кто он и где находится. Так пролежит он пластом, весь пылая, недели две, а затем либо навеки освободится от мук, либо, медленно, едва находя в себе для этого силы, начнет возвращаться к жизни.
И, мрачно осматривая очередного тифозного больного, Иван Антонович неизменно благодарил Бога за то, что нет с ним рядом Василисы, иначе извелся бы он от тревоги за нее. Никогда он не отличался горячностью нрава, и многое в жизни принимал куда спокойнее, чем другие, но зрелища того, как она ежечасно подвергает себя опасности в этой преисподней, он, пожалуй, не вынес бы. Как же прав он был в том, что сдержал ее порыв и принудил остаться дома! А что тоскливо без нее, так на то и мысли даны, чтобы приближать предмет своих мечтаний.
У каждого в жизни должна быть своя опора, благодаря которой человек твердо стоит на ногах и верит в себя. Одним такой опорой служит богатство и знатность их рода, другим – высокие чины и завидные должности, третьим – успех у женщин. Иван Антонович же, подобно многим людям такого же склада, опирался на свою семью. Она удалась ему на славу, и в маленьком кругу домочадцев он неизменно обретал уверенность и покой. Там не было у него необходимости что-либо доказывать себе и всему миру или же одерживать верх над соперниками. Тот единственный, что у него некогда имелся, исчез раз и навсегда, оставив их с Василисой благоденствовать друг с другом. Благоденствие – вот подходящее слово для отношений в их браке: ни тебе страстей, ни печалей, мир и покой, и отдых для души.
Василиса во всем оправдала его ожидания. Верна (с исчезновением Кутузова, похоже, и мысли о нем выветрились из ее головы), характером ровна и приветлива (при встрече с мужем на губах ее всегда была улыбка, а при расставании – теплое напутствие). Не отличаясь броской красотой, она обладала счастливой способностью почти не меняться с годами, сохраняя девическую стройность и осанку. А рассудительность ее и была вовсе выше всяких похвал: донельзя благополучно удалось ей обустроить их жизнь, располагая при этом весьма скромными средствами.
Единственным недостатком, который Благово находил в жене, было ее неизменное спокойствие. Порой ему хотелось лицезреть куда большую горячность в проявлении чувств, особливо тех, что она должна была питать к мужу. Но, увы, Василиса не стремилась их обнаруживать, ограничиваясь одной спокойной доброжелательностью. Один лишь раз она позволила себе приоткрыть душу и дала понять, сколько он для нее значит: в тот день, когда умоляла о позволении сопровождать его на войну. Как мерцали тогда ее глаза искренней тревогой! Наконец-то любовь восторжествовала над природной сдержанностью!
Иван Антонович извлек из походного саквояжа эмалированный медальон и раскрыл его. Распахнувшаяся створка явила ему портрет Василисы, точнее, небольшой карандашный набросок, сделанный одним из больных в севастопольском госпитале. Голова его жены склонилась над чьей-то постелью, а глаза ее были полны глубокого внимания. Некоторое время Благово наслаждался созерцанием светлого и одухотворенного лица жены, а затем со вздохом поднялся. Сейчас, под вечер предстояло идти к командиру с докладом о положении дел в лазарете. Уходя, он оставил медальон раскрытым на видном месте, дабы по возвращении быть, как и дома, по приходе со службы, встреченным супругой. Пометив, сколько человек за истекшую неделю умерло, сколько пошло на поправку, а сколько по-прежнему находятся между жизнью и смертью, Иван Антонович покинул госпитальную палатку.
Таких палаток в русском лагере насчитывались многие ряды, едва поддающиеся исчислению. Под осажденный Очаков были стянуты громадные силы. Под стенами одного города по сути дела вырос другой, со своими жилищами, улицами, площадями, местами торговли, своей аристократией из офицеров и простым людом из солдат. Два эти города упорно противостояли друг другу, но ни один не желал сдавать позиции, напротив, осада обещала быть затяжной.
Уйдя в свои мысли и ни на что не обращая внимания, Иван Антонович шел изученной в мельчайших подробностях дорогой. По пути ему встретился шедший в противоположном направлении офицер, и Благово привычно отсалютовал ему, не замедляя шага. Однако пару мгновений спустя он замер на месте. Что за странный укол воспоминания! Ведь этот офицер ему знаком! Обернувшись, Иван Антонович увидел, что и встреченный им человек остановился, и так пристально на него смотрит, как будто тоже пытается что-то вспомнить. Не сговариваясь, они двинулись навстречу друг другу, и знакомый незнакомец первым начал разговор:
– Если, не ошибаюсь, мы с вами уже встречались, господин…
– Младший лекарь, – назвал свой чин Благово[63].
Он, в свою очередь, тоже не был уверен, как следует обращаться к собеседнику: на обшлаге рукава у того была одна золотая пуговица, что могло свидетельствовать и о бригадирском чине, и о чине генерал-майора.
– Так точно, встречались, ваше превосходительство, – решил подстраховаться он.
Судя по тому, что офицер не поправил его обращение на «ваше высокородие», он действительно был генералом.
– Тогда вы должны служить в Тульском пехотном полку, – уже уверенно продолжал генерал.
– Так и есть, – подтвердил Благово, стараясь ничем не выдать охвативших его чувств. И надо же было этому человеку вновь оказаться у него на пути после стольких спокойных лет!
Кутузов тем временем улыбнулся, сдержанно, но весьма располагающе:
– Вы оказали мне тогда большую услугу, господин лекарь. Рад был вас снова увидеть! Да, кстати, служат ли еще у вас в полку мои старые друзья? – он перечислил несколько фамилий.
Благово ответил большей частью утвердительно.
– Непременно зайду их навестить! – пообещал генерал. – Честь имею!
Он невозмутимо продолжил свой путь, оставив Ивана Антоновича в самом мрачном расположении духа. Благово так и не понял, всерьез или в насмешку были сказаны слова о «большой услуге». А уж изъявление радости от их новой встречи точно не могло быть искренним!
Впрочем, сутолока военных будней вскоре заставила Ивана Антоновича забыть о чем-либо другом, кроме его прямых обязанностей. Еще весной русские войска принялись рыть траншеи и возводить батарейные позиции вокруг крепости, постепенно приближая их к стенам Очакова. Однако работы продвигались крайне медленно из-за каменистой, с трудом поддающейся ударам лопат почвы. Турки же не упускали случая совершить вылазку из-за крепостных стен и напасть на строителей. И через пару недель после столь нерадостной для Ивана Антоновича встречи состоялось очередное столкновение. На беду атакованы были солдаты того полка, где служил Благово, и весь день врач провел как в угаре, промывая раны, делая перевязки, отсекая поврежденную плоть и соединяя сломанные кости. К вечеру же, убедившись, что сделал для раненых все, что мог, и оставив в лазарете дежурного, он отправился в свою палатку с одним-единственным желанием – рухнуть на постель и спать, пока его не разбудят.
Но едва он успел обмыть опухшее от жары лицо и немного прийти в себя, снаружи раздался голос, спрашивающий разрешения войти. Голос был смутно знаком, однако, Благово не догадался сходу, кому он принадлежит, и устало пригласил неизвестного в палатку. Увидев же перед собой Кутузова, был настолько раздосадован и растерян, что чувства его весьма негостеприимно отразились на лице.
Однако гость и не думал смущаться таким приемом. Присаживаясь напротив хозяина, он дружелюбно заявил:
– Я пришел выразить вам свое восхищение, господин лекарь! Только что был у вас в лазарете – смотрел, не пострадал ли кто-нибудь из моих старых товарищей – и подивился вашей изобретательности. Нигде я раньше не видел, чтобы раненых отделяли от прочих больных и чтоб ходили за ними разные люди. А ведь сие так разумно!
– Да, при таком разделении раненым не грозит еще и тиф подхватить, – не мог не ответить Благово на похвалы в свой адрес. Мысль о том, чтоб разделить госпитальное помещение пологом на две части и сделать отдельный вход в каждую из них, подсказала ему Василиса давным-давно. По ее словам, она задумалась об этом еще в Ахтиаре, увидев, что один из раненых, к тому времени уже шедший на поправку, стал мучиться от того же жара и рвоты, коими страдал его сосед по лежаку. Еле выходили. С тех пор женщина пребывала в твердой уверенности, что раненых следует поелику возможно отделять от больных с иными недугами.
– Я непременно прикажу своим штаб-лекарям[64] перенять у вас сей полезный опыт, – продолжал тем временем Кутузов. – А, возможно, нам удастся внедрить его не только в моем корпусе, но и в прочих.
Он говорил с таким искренним воодушевлением, что Иван Антонович стал понемногу оттаивать. Похвала – великое дело! Тот, кто недавно был врагом, уже переставал казаться врачу таковым, и Кутузов не мог не почувствовать этого поворота в душе собеседника.
– Вы не откажетесь выпить со мной? – задушевным голосом спросил он. – За сегодняшний успех нашего оружия?
Отказаться не было ни какой возможности: генерал предлагает врачу выпить за победу, одержанную их армией… Благово кивнул, сказав, однако, что вина у него нет. Впрочем, он может послать в лазарет за спиртом.
– Не беспокойтесь! – махнул рукой Кутузов. – У меня все найдется.
Он вышел из палатки, и Благово услышал, как стоящий там денщик осведомляется у генерала:
– Ежели справляться о вас будут, ваше превосходительство, я знаю, где вас искать, или нет?
– Нет, – тихо ответил Кутузов и мгновение спустя вновь появился внутри с корзиной в руках. Горлышко спрятанной там бутылки утопало в сахарных грушах и мясистых сливах. К своему стыду, Иван Антонович почувствовал, что умирает от желания поскорее попробовать столь редкое в их военном быту лакомство.
– Плоды-то как сейчас с ветки! – вырвалось у него.
– После полудня сняты, – подтвердил Кутузов. – Тут недалече в деревне одна молодая вдова живет, хозяйка просто отменная! И сад у нее – всем на зависть, и настойки готовить мастерица.
«И одиночеством своим томится», – мысленно добавил Благово.
Настойка, приготовленная из терна, действительно была необычайно вкусна и ароматна. А крепость ее и не ощущалась вовсе. После первого же глотка Иван Антонович почувствовал себя куда лучше, чем тогда, когда измученный вернулся из лазарета. Офицер же напротив него постепенно становился в глазах врача не соперником, коего следует остерегаться, а просто человеком. К тому же, весьма приятным в общении, как ему показалось вскоре.
– Как давно здесь стоит ваш полк, господин лекарь? – спросил Кутузов, в поведении которого не чувствовалось ни малейшей скованности.
– Еще с зимы. Странно, что мы с вами раньше не встречались, ваше превосходительство.
– Я лишь недавно получил приказ выступить под Очаков, – объяснил генерал. – Теперь я командую егерями, а их приберегают для решительных боевых действий.
– Наилучшая часть пехоты?
– Да, – ничуть не смущаясь, кивнул Кутузов. – Их обучают куда тщательней, чем простых мушкетеров, потому как ждут от них куда большего.
– Чего же от них ждут?
– Прежде всего – меткой стрельбы. В егеря-то отбирают тех рекрутов, что прежде были охотниками, или тех мушкетеров, что заслужили славу лучших стрелков. К тому же им надлежит быть самого лучшего, проворного и здорового состояния. В бою ведь требуется и препятствия преодолевать, и маскироваться, и скрыто занимать боевые позиции. Да все это бегом! Чего ради они при обучении на шаг почти не переходят…
Иван Антонович слушал с интересом, потягивал вино с удовольствием и с наслаждением закусывал его фруктами. Теперь он не чувствовал и вовсе ничего, что разделяло бы его с собеседником. Этот генерал умел держаться так, словно не было между ними пропасти в чинах, а прошлые личные счеты были им, как будто, начисто забыты.
– Стало быть, нам предстоят решительные боевые действия?
– В лагерь скоро прибудет генерал-фельдмаршал Потемкин, – уклончиво ответил Кутузов. – Слишком уж медленно идут осадные работы. Но, коли будете писать домой, не пугайте пока родных грядущими боями.
Вскоре они вновь сдвинули кружки с наливкой, отмечая, по предложению Кутузова, успехи Ивана Антоновича на медицинском поприще. Беседа их становилась все доверительней.
– Я надеюсь, Василиса Филаретовна пребывает в добром здравии? – светски осведомился Кутузов через некоторое время.
– Да, вполне, благодарю вас.
– И наследники, – доброжелательно улыбаясь, спросил генерал, – у вас наверняка уже имеются?
– Имеются, – со вполне уместной гордостью ответил Благово. – Сыну сравнялось десять, дочери – восемь.
– Все-то вам, господин лекарь, везет больше, чем мне! – рассмеялся Кутузов. – У меня четыре дочери и хоть бы один мальчишка! Я их спокойствия ради держу в Петербурге, подальше от наших южных границ. А вы свою семью где оставили?
– Да там же, где и жили мы все последние годы – в Севастополе.
– Вот как? – с интересом сказал Кутузов. – Стало быть, в Ахтиаре? Да, и тут вам повезло! Лучшей гавани для флота не сыскать, так что город ваш, думаю, скоро так разрастется, что со столицами соперничать будет.
– И климат там весьма благоприятный, – добавил Благово. – Особливо для тех, кто к чахотке склонен. Те, если полностью и не исцеляются, по крайности, мучаются куда меньше.
– Да, климат там для всего благоприятный, – неопределенно подтвердил Кутузов, как будто на время ушедший в воспоминания. – Даже для того, чтобы раны залечивать.
Он вновь рассмеялся, но смех его звучал не слишком весело.
Еще какое-то время они обсуждали преимущества Севастополя перед другими крымскими городами, и Кутузов рассказывал о жизни ахтиарского гарнизона в годы, предшествовавшие Кучук-Кайнарджийскому миру. Сам того не замечая, Иван Антонович был захвачен его красочным, увлекательным повествованием, и потому вопрос, неожиданно заданный генералом застал его врасплох:
– Да вы, наверняка, слышали все эти истории от Василисы Филаретовны? Она же им была свидетельницей.
Однако Иван Антонович вынужден был признаться, что не слышал. Испытывая неловкость, он мысленно искал объяснение скрытности жены: очевидно, Василиса так сильно желала вычеркнуть его визави из памяти, что вместе с ним предала забвению и тот отрезок жизни, что они провели бок о бок в Тавриде.
Какое-то время он был полностью поглощен этими размышлениями, а когда решил вновь вернуться к разговору, то заметил, что Кутузов пристально на что-то смотрит. Проследив за направлением его взгляда, Благово увидел медальон с портретом Василисы, как и всегда лежавший на видном месте, чтобы радовать мужа, время от времени попадаясь ему на глаза. Глядя на выражение лица Кутузова, Иван Антонович не мог не проникнуться злорадством: «Смотри, смотри! Только на портрете ее теперь и увидишь!»
Генерал отвел глаза от изображения Василисы. Взгляд его стал каким-то иным. Благово не смог бы описать сию перемену словами, но отчего-то она заставила его ощутить беспокойство.
– Жаль, что вы не взяли супругу с собой, – сказал Кутузов, и Благово со все нарастающим смятением почувствовал, что и голос его собеседника звучит как-то по иному, – ее медицинские таланты были бы здесь весьма полезны!
– Ее таланты будут полезны и дома, – сухо ответил Иван Антонович. – Она уже достаточно подвергала себя опасностям на войне.
На лице Кутузова появилась странная улыбка:
– Вам, вероятно, стоило больших трудов ее отговорить?
Благово почувствовал себя так, как если бы прямо на него летело пушечное ядро, а он был бессилен тронуться с места. Кутузов же не присутствовал при его разговоре с женой! Но как тогда?.. Да никак – строит догадки. И, судя по улыбке, наверняка, воображает, что госпожа Благово стремилась оказаться в армии не ради помощи мужу, а с целью вновь увидеться с давним смутителем своего спокойствия. Вот наглец! Но вдруг… вдруг так оно и есть?
– Вовсе нет! – сказал Иван Антонович настолько резко, что сам испытал неловкость. – У нее и в мыслях не было здесь появляться.
Уже договаривая последние слова, он с ужасом понял, что выдал себя противоречием предыдущей фразе, но Кутузов как будто не заметил его оговорки:
– Если больше не увидимся, передавайте ей от меня поклон, – сказал он настолько невозмутимо, как если бы речь действительно шла всего лишь о поклоне от старого знакомого.
– Непременно! – заверил его Благово, ледяным своим тоном давая понять, что ни за что не станет выполнять сию просьбу.
Поговорив еще немного о чем-то незначительном, Кутузов ушел, напоследок повторив, что непременно воспользуется опытом Благово по организации лазарета. А Иван Антонович после его ухода не находил себе места, и усталость его улетучилась, как по волшебству. Осмысливая истинную цель визита Кутузова, он с горечью сознавал, что, видимо, тот стремился узнать, живет ли он еще в душе Василисы. И ведь узнал! Узнал, все, что хотел, именно по тому, с какой резкостью ему ответили «нет».
Несмотря на полнолуние, эта ночь была для Благово самой черной изо всех, что он провел в лагере под Очаковом. А, возможно, и во всей его жизни, предыдущей и последующей.
L
«…Душа же моя была обращена к Михайле Ларионовичу, и самые пылкие мольбы мои ко Господу были тоже о нем…»
В середине июля лагерь, наконец, осчастливил своим прибытием генерал-фельдмаршал Потемкин. Это событие имело три очевидных последствия: во-первых, осадные работы пошли быстрее, во-вторых, Кутузов, очевидно, доложил командующему о полезном нововведении в одном из лазаретов, поскольку все армейские госпиталя вскоре были изменены на новый лад. В-третьих, младший лекарь 1-го класса Благово был произведен в штаб-лекари. Это стало единственным его повышением в чине, не принесшим врачу ни малейшей радости. Он даже не упомянул о нем в письме домой.
Да и вообще после ночного разговора с Кутузовым Ивану Антоновичу ничуть не хотелось писать жене, хоть и приходилось это делать, дабы не вызвать ее беспокойства. Но берясь за перо, он не испытывал и подобия той душевной теплоты, что пронизывала прочие его послания. «Неужто все ложь?» – хлестала его неотвязная мысль. Слова ее о благом желании вступить с ним в брак – ложь, и взгляды – ложь, и ласки – ложь. А ведь с каким усердием он годы напролет убеждал себя в том, что Василиса с ним счастлива! Иначе сам не знал бы счастья.
Он с горечью вспоминал то время, что предшествовало их свадьбе. Знал же тогда, и чувствовал, и видел, что не он владеет ее душой, но заглушал и затаптывал в себе это знание ради одной цели – обладать ею. И отчего-то свято верил, что стоит ей стать его женой, как прошлая ее привязанность рассеется и сойдет на нет. Отчего он в это верил? Лучше и не спрашивать себя сейчас!
И, словно бы в насмешку, лицо Василисы вырисовывалось перед ним столь светлым, нежным и правдивым, что он не знал, как примирить свои мысли с ее образом. Он вспомнил, как больные называли ее «Святая», и усмехнулся. Хорошие святые нынче пошли, нечего сказать! Такие, что сам не знаешь, в раю ты с ними, или в аду.
Он все же сумел достойно начать и закончить очередное письмо, ни строчкой, ни словом не выдав своих терзаний и, разумеется, не упомянув о встрече с Кутузовым. После чего запечатал конверт, передал его денщику и вернулся к своим обязанностям. В последнее время та часть лазарета, что была предназначена для раненых, увы, не пустовала. Чем больше траншей и батарей сооружали осаждающие, тем яростней и чаще совершали вылазки осажденные. Недели три тому назад, в конце июля схватка меж ними вышла столь ожесточенной, что пострадал сам генерал-аншеф Суворов, раненый пулей в шею. Для излечения его пришлось увезти из-под Очакова, и командование осадой принял на себя лично Потемкин. Правой рукой же его стал ни кто иной, как Кутузов
По завистливому мнению всех офицеров Главного штаба, генерал-майору Кутузову предоставлялся блестящий шанс проявить себя. Что он и делал, будучи на людях неизменно бодр и весел. Однако наедине с собой все последние недели не знал покоя, сам недоумевая, что не дает ему в полной мере насладиться нежданно свалившейся на него властью. Не встреча же с мужем Василисы, в конце концов! Пусть тот ненароком и проговорился, что пустынница его не забывает, но что с того? Любовь – дело прошлого, не тот у него возраст и не тот чин, чтобы вновь отдаваться чувствам.
Но, невольно вспоминая тот отрезок жизни, что он провел без Василисы, Кутузов к своему неудовольствию сознавал, что ни разу за одиннадцать лет не был безмятежно счастлив, сколько бы возможностей для этого ему не открывалось. Вроде бы, имелось у него все, о чем человек может только мечтать, но не хватало чего-то одного, чему не находилось названия, и оттого солнце удачи светило ему как будто сквозь дымку, не желая открываться во всей красе. И ведь пожаловаться не на что! Как и предсказывал дядя, Катенька Бибикова оказалась ровно такой женой, какая была ему нужна: смирной, безгласной, во всем покорной, да и весьма пригожей к тому же. Встречала его в Петербурге с радостью, а провожала после недолгого визита с полным пониманием того, что отправляться за мужем ей не след. И никогда не на что не претендовала, кроме щедро выделяемого ей содержания. Дочери были милы, прекрасно воспитаны; ему доставляло удовольствие наблюдать, как они подрастают, не доставляя отцу ни малейших хлопот или волнений. По возвращении же из очередного отпуска в армию он сполна получал то, без чего жизнь была б ему не в радость – власть и уважение. Его досуг всегда был скрашен приятельскими пирушками или безотказными ласковыми женщинами, что непременно оказывались под рукой, едва в них возникала нужда. Военные же кампании или маневры, где он неизменно проявлял себя с лучшей стороны, привносили в его жизнь остроту и блеск, а ордена придавали ему все больше веса.
Словом, уж кто-кто, а он имел полное право считать себя обласканным судьбой. Почему же тогда накатывают и накатывают безрассудные мысли о том, чтобы вскочить на коня и, презрев служебный долг, поскакать в Ахтиар? А там, кто знает, что выйдет из новой их встречи с Василисой!
Нет, он не раскаивался в принятом годы назад решении (если сотню раз подряд повторить себе, что ты прав, то раскаяние неуместно). Но всерьез досадовал об одном: что не увез-таки девушку с собой, отправляясь командовать полком. А ведь шанс у него был – колебалась она до последнего. Но не довел он тогда свою игру до победного конца – слишком уж уязвлен был тем, что сказала ему Василиса в степи. И врач этот так некстати встрял между ними…
Безрадостно глядя на стены и башни неприступно возвышавшегося перед ним Очакова, Кутузов неотступно возвращался к мысли о том, с каким удовольствием он исчез бы на время с театра военных действий и отправился осаждать совсем иную крепость. Ту, победа над которой принесла бы ему куда больше радости, чем очередной орден и очередной чин. Однако самовольная отлучка в разгар осады не только перечеркнет все, чего он к тому моменту добился, но и будет стоить ему всей будущей карьеры. Как же глупо все порой выходит в жизни! Бьешься в ней совсем не за то, что действительно хотелось бы получить…
– Ваше превосходительство!
Кутузов обернулся – к нему подбегал взволнованный адъютант. Но прежде чем молодой офицер выпалил свое донесение, генерал уже знал, что он скажет: турки опять выбрались за крепостные стены и атаковали осаждающих. А стало быть, сейчас он не имеет права думать ни о чем, кроме того, как дать им отпор.
Участившиеся вылазки янычар были следствием той расторопности, с которой после приезда в лагерь Потемкина стали вестись осадные работы. В середине июля светлейший князь прибыл под стены Очакова, а к середине августа уже были возведены две новые артиллерийские батареи на левом фланге армии и заложена еще одна на правом. Последняя находилась на самом близком от города расстоянии.
Именно ее строительство и взволновало турок настолько, что 18 августа более тысячи янычар, неожиданно вырвались из-за крепостных стен, напав на строителей и прикрывавших их работу егерей. Кутузов немедленно отправил им на подмогу еще несколько егерских рот и командовал ими под прикрытием ретраншемента[65]. Рядом с ним находился начальник артиллерии, австриец на русской службе, принц де Линь, руководивший батарейным огнем.
Пронеслось уже несколько часов с начала боя, хоть все его участники, положа руку на сердце, могли бы сказать, что минуло не более нескольких минут. Штыковые удары и ядра к тому времени оставили на земле сотни истерзанных тел и в русской, и турецкой форме. Янычары и егеря попеременно теснили друг друга, но ни одна из сторон не могла бы похвастаться тем, что одерживает верх.
Кутузов, давно уже привыкший к беспощадной арифметике войны, на сей раз чрезвычайно мрачно наблюдал, как устилают подступы к Очакову тела егерей, тщательно обученных под его началом. И, отправляя в бой очередную роту, делал это, скрепя сердце. Будь его воля, он не тратил бы солдатские жизни на отражение бесчисленных вылазок противника и не ждал, пока тиф унесет еще часть армии, а давно уже начал штурм крепости. Артиллерийских позиций для этого возведено достаточно, и дальнейшее продолжение осады будет чревато лишь уроном в живой силе. Он отказывался понимать, почему так медлит Потемкин и страстно желал, чтобы в главнокомандующем наконец заговорил здравый смысл. Отчего же так часто судьбы людей, армий и государств доверены не тем, кто мог бы наилучшим образом ими распорядиться?
– Ваши бойцы превосходны, генерал! – крикнул де Линь Кутузову, стараясь превозмочь голосом пушечную пальбу. – Если б только можно было поддержать их артиллерией с правого фланга!
– Наша гребная флотилия вот-вот должна подойти! – в свою очередь прокричал Кутузов. – Когда она откроет огонь с реки, турки отступят.
– Скорей бы уж! – воскликнул принц, припадая глазом к подзорной трубе. – Из крепости выпустили свежие силы. Вот, посмотрите сами!
Де Линь посторонился и Кутузов шагнул к амбразуре. Он взял из рук принца подзорную трубу и наклонился к отверстию в ретраншементе…
Сильнейший удар в левый висок сопровождался коротким свистом. В первое мгновение Кутузов не почувствовал боли и успел с укором сказать де Линю:
– Что заставило вас подозвать меня сюда в сию минуту?
Ответа не было. Генерал удивился тому, с каким ужасом смотрит на него и принц, и оба их адъютанта, и поднес руки к голове. И на правом, и на левом виске пальцы его ощутили выступающие обломки костей. Он почувствовал струящиеся по лицу горячие струи крови, и одновременно полыхнула боль. Голова резко закружилась, и он вынужден был осесть на землю.
«Точно, как в Шумлах!» – потрясло его воспоминание.
Сознание начинало путаться, и Кутузов скорее чувствовал, чем понимал, что перед тем, как уйти в небытие, он должен сказать нечто очень важное, возможно, самое важное в своей подходящей к концу жизни.
«Василиса… чтобы простила…» – несвязно сталкивались между собою мысли.
И, ощущая, что разум и язык повинуются ему лишь из последних сил, генерал выговорил настолько внятно, насколько мог:
– Штаб-лекаря Благово ко мне! Тульский пехотный полк…
Для Ивана Антоновича Благово эти несколько часов боя тоже слились в одно мгновение, палящее жаром, кровавое, исходящее стонами мгновение, оставившее его неживым от усталости, с дрожащими от напряжения мышцами рук и такой тяжелой головой, как если бы туда набросали мешков с песком. Раненых егерей сносили в ближайшие к полю боя лазареты, а когда те переполнились, стали класть прямо на землю у госпитальных палаток. Мучения солдат усугублялись палящим солнцем, и Благово распорядился натянуть над страдальцами брезентовый полог. Его помощники едва успевали подносить воду.
К тому моменту, как окончился бой и турок водворили обратно за крепостные стены, Иван Антонович был в таком угаре, что, услышав приказ срочно явиться к генерал-майору Кутузову, даже не сразу сообразил, кто требует его к себе. Он усталым шагом пошел вслед за посыльным и, лишь на полдороге осознав, куда идет, остановился.
– Как ты сказал? – спросил он у солдата. – Кутузов?
– Так точно. Поскорей бы, ваше благородие!
Но Благово, как назло, ощутил, что ноги перестают повиноваться ему с прежним усердием. Против воли он замедлил шаг. Опять этот треклятый генерал! Чего ему надо на сей раз? Едва ли он ранен. Что же тогда? Вновь какой-нибудь хитроумный трюк с целью что-то выведать о Василисе? Или же что-то передать ей? «Небось, умирающим притворится, с него станется! – зло усмехнулся Благово. – Ну-ну! Надо будет дать ему понять, что для меня его фокусы белыми нитками шиты!»
В том лазарете, куда привел его посыльный, Иван Антонович с трудом протолкался сквозь кольцо людей, окружавших постель Кутузова. Оказавшись же лицом к лицу с соперником, он оторопел. «Треклятый генерал» лежал на спине, неподвижно, как покойник; половину головы его скрывали окровавленные бинты. А лицо, прежде такое живое и выразительное, казалось бесцветной маской, жалким подобием его настоящего лица. Благово никак не мог понять, приподнимается ли от дыхания его грудная клетка, и хотел уж было приложить пальцы к сонной артерии, когда к нему подошел другой врач. Как и все в лагере, Иван Антонович знал, что это главный хирург Екатеринославской армии, француз на русской службе по фамилии Массо.
– Простите, что я опередил вас, господин штаб-лекарь, – заговорил он, – но дело было безотлагательным. Его превосходительство потерял сознание сразу после того, как приказал позвать вас; он истекал кровью и потому…
Благово молча кивнул. Он никак не мог прийти в себя от увиденного. Из глубины души, как со дна стоячего пруда, потревоженного веслом, поднималась темная, илистая муть: «Вот и все, наконец! Вот и кончилась эта история!»
– Каков характер ранения? – спросил он.
– Пуля прошла из виска в висок позади обоих глаз.
Иван Антонович вздрогнул: не точно так же ли Кутузов был ранен прежде, в Тавриде? Он вспомнил шрамы на висках у генерала – да, поразительное совпадение!
– Задет ли мозг?
– Неизвестно. Но полагаю, что да.
– И?.. – Благово вопросительно взглянул на хирурга.
Тот в ответ лишь безнадежно покачал головой.
Выбравшись из лазарета, Иван Антонович сел прямо на землю и несколько раз глубоко глотнул воздух. Он смотрел прямо перед собой, но взгляд его был невидящим. К тому времени вязкая муть в душе успела осесть, и вместо нее чистой водой колыхалось сострадание. Благово вспоминал, как еще совсем недавно видел Кутузова здоровым и бодрым, полным сил, с огоньком интереса в глазах и увлекательной речью на устах, и никак не мог представить себе, чтобы человек, в котором столь ярко играет жизнь, достался бесстрастно-холодной смерти.
Он пытался догадаться, что именно хотел передать Василисе генерал, но догадка всякий раз ускользала, как птица, что вспархивает прямо из-под ног. И под конец Иван Антонович отправился обратно, так и не найдя для себя ответа на вопрос, как могли бы прозвучать последние слова Кутузова.
LI
«…Любовь без прощения – все равно что дерево без листьев: жизни в нем нет, и деревом его не назовешь…»
Читая письма мужа из-под Очакова, Василиса не должна была бы испытывать беспокойства: осада все тянулась, боевых действий не ожидалось. Однако неизъяснимое предчувствие держало ее душу, точно в клещах, и когда через пару дней после Успения Богородицы к ним в дом с утра постучался взволнованный незнакомец, у нее захолонуло сердце.
Однако на сей раз дело было в том, к чему женщина давно привыкла – ее просили о медицинской помощи. Поскольку больная, о которой шла речь, не могла подняться с постели, татарин, ее муж, умолял Василису саму отправиться к его жене. В окне виднелась его повозка, запряженная неказистой лошадью – семья была явно не из богатых.
Ехать пришлось далеко – в селение Учкуй, что располагалось на северной стороне Севастопольской бухты. В дороге татарин на ломаном русском сумел объяснить Василисе, что после родов у его жены отказали ноги и она уже месяц как не встает. Слушая его взволнованную речь, женщина с тяжестью на сердце сознавала, что никакие снадобья тут не помогут, и разумнее всего было бы сказать об этом сразу. Но у нее язык не поворачивался сходу лишать отчаявшегося человека последней надежды.
Войдя в дом, где лежала злосчастная родильница, она обратила внимание на то, что, помимо родни, у постели расслабленной[66] находится священник. Это был державшийся с большим достоинством, немолодой человек в просторном зеленом одеянии, белой чалме и с белой оторочкой на рукавах. Он встретил Василису пристальным взглядом, но не произнес ни слова, пока она не осмотрела больную. Результаты осмотра же были весьма неутешительны: как Василиса и предполагала, она не знала средства, чтобы поднять на ноги совсем еще молодую, чрезвычайно измученную женщину, глядевшую на нее с мольбой и надеждой.
– Травы тут не помогут, – мягко сказала Василиса, – но я буду молиться за тебя от всей души.
Когда она вышла из дома, чтобы ехать в обратный путь, имам последовал за ней.
– Вы будете молиться за женщину другой веры? – с изумлением спросил он, довольно свободно выражая свои мысли по-русски.
– Господь один, – уверенно отвечала Василиса, – и он любит все свои создания.
Изумление во взгляде священника сменилось уважением:
– У вас чистое сердце, – сказал он, – и я не удивлюсь, если Аллах исполнит вашу молитву.
Они медленно ступали бок о бок по дорожке, направляясь к выходу из сада.
– Ваш муж сейчас воюет с турками в Бессарабии? – спросил священник.
Василиса кивнула.
– Мне кажется, я знаю, кто он, – продолжал имам. – Много лет назад я был знаком с одним русским офицером. Из уважения к нашему народу он решил овладеть татарским языком, и я стал его учителем.
Василиса замерла на месте.
– Во время наших встреч он рассказывал мне о своей невесте; по его словам, она была превосходной целительницей. Не вы ли это? О вас ведь идет молва.
– Это я, – с трудом выговорила женщина.
– Вот как? – заметно обрадовался священник. – Тогда передайте мужу в письме – ведь вы наверняка ему пишете? – поклон от имама Дениза. И уверьте его в том, что я храню наилучшие воспоминания о наших встречах! А когда он вернется…
Имам вдруг заметил в глазах Василисы слезы.
– Простите! – смешался он. – Возможно, я не понял… Тот, о ком мы говорим, жив?
– Да, – ответила женщина, быстро вытирая глаза, – он жив и здоров, только…
– Вы очень волнуетесь за него, – понимающе кивнул имам. – Любая волновалась бы на вашем месте. А вот господину офицеру тревожиться не о чем! – с улыбкой добавил он. – Я уверен, что ваши молитвы и в дальнейшем сохранят ему жизнь.
На обратном пути и Василиса, и татарин, правивший лошадью, безрадостно молчали. Муж родильницы – оттого, что лишился надежды на ее исцеление, а Василису угнетали овладевшие ею после беседы с имамом воспоминания. И лишь когда они были на полпути меж Учкуем и Севастополем оба взглянули друг на друга и обменялись несколькими встревоженными словами: к тому времени облачное с самого утра небо стало сумрачно-грозовым.
Татарин подстегнул лошадь, и та побежала рысцой, но гроза собиралась над их головами невероятно быстро. Глядя на то, как неуклонно меркнет дневной свет и мрачнеет небо, Василиса с удивлением приметила, что облака принимают форму крепости со множеством башен, и заворожено наблюдала за вырастающей прямо на ее глазах цитаделью. Вероятно, именно оттого первый удар грома прозвучал для нее в точности, как залп артиллерийского орудия.
Ливень еще не начался, но татарин, сознавая, что в запасе у них считанные минуты, направил лошадь к ближайшей купе деревьев и привязал под густыми ветвями. Однако, находя сие укрытие недостаточным, он полез пережидать грозу под телегу, призывая Василису следовать его примеру. Женщина сошла на землю, но медлила к нему присоединяться, не отрывая глаз от неба. Ею властно овладевало тягостное предчувствие, столь же мучительное, как и в прошлом сентябре, когда она услыхала о начале новой кампании. Многобашенная крепость в воздухе надвигалась прямо на нее и грозила испепелить своим огнем. Молнии вспыхивали все чаще, а гром звучал все ближе и более устрашающе.
«Что же это? – вдруг мелькнуло у Василисы в мыслях. – Опять до меня война добралась?»
Очередная молния, соединившая небо и землю, была прекрасна, как только может быть прекрасна стихия. Она казалась необычайно яркой на фоне чугунно-черных облаков. Ее белизна полыхнула у Василисы перед глазами, а вот грома она уже не услышала. Белый свет продолжал слепить ее, а тело колыхалось, как объятое волнами, и когда женщина вновь обрела способность видеть, то увидела совсем не то, что окружало ее мгновения назад…
Она стояла по пояс в воде, и волны, одна разъяренней другой, надвигались на нее, как полки, бегущие в атаку. Страх терзал ее, но каким-то чудом ей удавалось устоять на ногах в сем неравном поединке, а прибой с ревом прокатывался дальше, обрушиваясь на берег за ее спиной. Впору было выбираться из бурлящей полосы, но странное предчувствие удерживало женщину в воде, не давая отступить на безопасную землю.
Внезапно прямо перед собой, несколько глубже в море, Василиса заметила другого человека. Волны накрывали его непрестанно; лишь голова проглядывала меж ними время от времени, но тут же вновь исчезала в пенном валу. Она присмотрелась и обмерла. Изо всех сил прокричала его имя, и раз и другой, но он не отвечал. Да он и не видел ее, хоть и был обращен к ней лицом: незрячий взгляд выдавал в нем человека, ускользающего из жизни. Ей ли не помнить подобные остановившиеся взгляды! Василиса дрогнула от страха: она должна что-то сделать, должна! Но что?
А за спиной того, к кому были обращены все ее мысли, в угрожающей пене вздымалась новая волна. Уж из такой не вынырнешь, как пить дать! Василиса ринулась к нему, расталкивая телом воду, но та отчего-то сделалась густой, как мед, и расступалась нехотя, едва-едва. Чуть не рыдая и тщетно пытаясь пробиться вперед еще хоть на пядь, женщина видела, как безучастно лицо ее любимого в преддверии смерти и сознавала, что он не может дать отпор всепоглощающей стихии. Ах, если б сама она сейчас была рядом! Но нет… И в последнее мгновение перед тем, как Михайле Ларионовичу предстояло скрыться под водой, Василиса в отчаянии закричала:
– Господи, смилуйся! Пощади его!
Смертоносный серп с пеной на острие обрушился на обоих, и женщину сбил с ног и затянул образовавшийся водоворот. Задыхаясь и в смертельном страхе борясь за глоток воздуха, она извивалась в прибое, пока не ощутила, что хватка волны слабеет. Едва же удалось ей вынырнуть, задышать и открыть глаза, как Василиса вновь задохнулась, на сей раз от счастья: тот, за кого она молила, по-прежнему стоял на ногах и даже, как будто приблизился к ней, выступая из воды уже по грудь. Взгляд же его, став осмысленным, был устремлен прямо на нее.
– Ты жив! – воскликнула женщина, голосом, нестойким от радости и от слез.
Он не ответил, но ей достаточно было и взгляда. В обращенных на нее глазах стояло безмерное удивление, как если бы он не верил в ее присутствие. И, изо всех сил желая убедить его в том, что она действительно рядом, Василиса вновь закричала:
– Я с тобой! Дождись меня только!
Она с удвоенной горячностью рванулась вперед (вязкая вода уступала ее напору легче прежнего), но вдруг в ужасе замерла: новая волна, еще грозней предыдущей, вырастала над ними. Ее прозрачно-зеленое тело с белыми прожилками пены вытягивалось и выгибалось, как если бы из моря выступал дракон, и, наконец, вошло в силу, готовое сокрушить их. Вспененно-белая морда зависла над головой человека, уже казавшегося ей спасенным, и Василиса, не чувствуя в себе голоса, прошептала:
– Господи, защити его! На тебя уповаю!
Удар волны враз лишил ее воздуха, швырнул на дно и протащил по камням. С безумьем предаваемого смерти животного она боролась за жизнь, отчаянно выгребая наверх. Когда же выгребла и отдышалась, то увидела, что любимый стоит на расстоянии вытянутой руки от нее. А во взгляде его, как восходящее солнце, все ярче и ярче сияет надежда.
– Ну, вот и я! – не скрывая слез, приговаривала Василиса, делая к нему последние шаги и стискивая его бессильно висящие вдоль тела руки. Она подняла их из воды и прижала к себе, чтобы согреть – до того холодны были!
– Не ждал я, – так странно, как если бы принадлежал кому-то другому, прозвучал в ответ его голос.
– Отчего же не ждал? – шептала Василиса, растирая его ледяные ладони и дыша на них, как зимой. – Помнишь, я тебе обещала, что в трудный час приду на помощь.
– Да, ты свое слово держишь! – согласно склонил он голову. – Святые, они заповеди чтут.
Он попробовал рассмеяться, но смех его звучал совсем как стон.
– Не святая я ничуть, – возразила Василиса, – да и нет такой заповеди – слово сдерживать, А здесь я потому, что люблю тебя.
– Любишь?! – потрясенно переспросил он. – После всего, что было?
Василиса замешкалась, не зная, как высказать то, что чувствовала, но вдруг обмерла: коварно подкравшись, пока они оба были заняты друг другом, на них восставала новая волна. Яростно-прекрасная, завораживающая своей мощью, она казалась воплощенной смертью. И женщина оцепенела, сознавая, что, достигнув своей цели и встав бок о бок с любимым, все равно она не сможет одним этим отвести от него кончину. Сила ее – ничто против силы стихии. С каким оружием выступишь против нее? Да с одним, пожалуй: с теми словами, что способны вдохнуть в человека волю к жизни.
– А что было? – в смятении выкрикнула она, с трудом отводя взгляд от сокрушительного вала и глядя прямо в глаза Михайле Ларионовичу. – Счастлива я с тобой была, только и всего!
Затащив их в тот же миг под себя, волна должна была бы с издевкой вознести обоих на гребень, а затем, адским по силе ударом сокрушить о каменистое дно. Но вспененная вершина водяной горы грянулась оземь за спиной Василисы, каким-то чудом не тронув тех, кому готовила гибель. А в следующее мгновение женщина осознала, что стоят они оба уже всего лишь по колено в воде, и море бессильно клубится у ног, не способное более накрыть их с головой и затянуть в небытие.
Василиса ослабела от пережитого волнения и теперь держалась на ногах так же нетвердо, как и Михайла Ларионович. Оба поминутно пошатывались и оступались, пока, собравшись с духом, женщина не шагнула на берег, ведя спасенного за собой. Им приветственно сияли белизной столь знакомые колонны эллинского капища.
– Ты не оставишь меня больше? – с надеждой спросил у нее Кутузов. – Не сбежишь, как тогда в степи?
– Мне от тебя сбежать не судьба: все одно – обратно прибегаю, – с теплеющими от слез глазами проговорила женщина. – Ты не тревожься: я завсегда рядом окажусь, как будет нужда и другие от тебя отступятся.
Она с нежностью провела рукой по его лицу, но на пальцах ее осталась кровь.
– Что это? – изумилась она, только сейчас заметив багряные струйки на обоих его висках. – Старые раны открылись?
– Считай, что так, – ответил Михайла Ларионович.
– Пора б им уже затянуться! – качала головой Василиса, зачерпывая морскую пену у своих ног и омывая ему лицо. – Сколько лет-то прошло…
– Да сколько б ни прошло… – горестно прозвучало в ответ.
– Выздоравливай! Как иначе? – шептала женщина, прижимаясь виском к его виску и смешивая свои слезы с его кровью. – Ты же не можешь не победить!
– И кого мне сейчас побеждать? – услышала она потерянный вопрос. – Себя самого?
С тяжелым сердцем женщина кивнула. Несмотря на замешательство Кутузова, она уже видела в его глазах силу жить и сознавала, что он вот-вот покинет ее и те странные пределы, где они оба нашли друг друга. Разлука вновь распахивала перед ней свою черную пасть, и Василиса едва удерживалась от того, чтоб застонать, накрепко обвить руками свою любовь и никогда больше не отпустить от себя. Остаться бы с ним, а в жизни или в смерти – что ей за дело!
Однако она преодолела свой порыв и, поочередно припав губами к его ранам, заставила остановиться не унимавшуюся прежде кровь.
– Воды бы! – привычным ей голосом вдруг попросил Михайла Ларионович. – Поскорее!
– Сейчас, сейчас, будет тебе вода! – поспешила уверить его Василиса, с надеждой поднимая глаза к небу. Оно оказалось затянуто тяжелыми тучами, из которых накрапывал все убыстряющийся дождь. А затем их обоих накрыл ливень, столь сильный, что женщина уже не видела любимого подле себя и наугад тянула руки туда, где он только что находился…
Когда она пришла в себя, капли стучали по ее лицу. Рядом на коленях стоял татарин и в отчаянии что-то причитал на своем языке. Василиса зашевелилась, села, и он пораженно всплеснул руками.
– Я думал, ты умер! – воскликнул он.
Женщина попыталась ободряюще улыбнуться, но улыбка не шла на ее лицо. Гроза уже миновала, подходил к концу и дождь, и татарин вывел лошадь из-под деревьев и вновь пустил по дороге, ведущей к Севастополю. Все время пути Василиса молчала, не шевелясь: она чувствовала себя, как человек с пробитым навылет сердцем.
Едва вернувшись домой и успокоив детей и горничную, уже не знавших, куда бежать и где искать ее, Василиса заперлась в своей комнате и разыскала письменные принадлежности. Взявшись за перо, женщина призвала на помощь все свое мужество: тот вопрос, что терзал ее, нельзя было задавать в письме к мужу в явном виде. И она терпеливо перечисляла на бумаге незначительные семейные новости, а также откликалась на события, упомянутые Иваном Антоновичем в его последнем послании. И лишь под конец, видя, что письмо ее вышло ровно таким, как обычно, дописала, словно бы невзначай:
«Третьего дня встретила я на рынке Матвея Ковалева, того инвалида[67], что вышел в отставку позапрошлой весной. Так он пытал меня, не имею ли я через тебя каких-нибудь вестей о бывшем его командире, Кутузове. А то он не знает, как за того в церкви записки подавать – за здравие или за упокой».
Пылая лицом, Василиса опустила перо. По словам торговок, время от времени отдававших Матвею Ковалеву подгнивший товар по бросовой цене, инвалид отдал Богу душу незадолго до конца Петрова поста[68]. А стало быть, буде и усомнится муж в таком разговоре, расспросить уже некого.
Ответ ей пришел через месяц. Едва получив заветный конверт, Василиса взволнованно разорвала его и, не вчитываясь в письмо, стала тревожно выискивать строки, где мелькнуло бы имя Михайлы Ларионовича. Ага, вот они!
«А тому инвалиду, что справлялся о Кутузове, передай, чтоб записки подавал за здравие, но как о болящем. Недели две тому назад ему опять прострелили голову навылет, и все полагали, что он умрет, но чудом жив остался. Однако же один глаз у него искосило, и генерал теперь не так хорош собой, как прежде, если вдруг Матвея Ковалева сие тоже заботит».
Василиса в испуге отшвырнула письмо, как если бы Иван Антонович мог сойти с его страниц и дать ей пощечину за вероломство. Никогда прежде он не обнаруживал того, что знает нелицеприятную для себя истину, крывшуюся за безупречным спокойствием жены. На мгновение стыд затмил для женщины все прочие чувства. Но затем Василиса подобрала отброшенный лист бумаги и вновь с трепетом вчиталась в строки, касавшиеся Михайлы Ларионовича. Она отыскала дату, коей было помечено письмо, и отсчитала от нее две недели. Да, выходил тот самый день, третий день после праздника Успения, когда она попала в грозу.
Не выпуская письма из рук, Василиса взглянула на образ Спасителя, возвышавшийся прямо над нею в красном углу, тот образ, что увезен был ею еще из родительского дома, и вместе с иконой Владимирской Богоматери сопровождал во всех скитаниях. Христос взирал на нее с болью во взгляде, глубокая печаль таилась и в глазах Богородицы, и Василиса вдруг рухнула перед ними на колени, как если бы получила глубокую рану и не могла более удерживаться на ногах:
– Господи! – простонала она. – Господи, что же ты с нами делаешь?!
Ответа не было. Василиса закрыла лицо руками, словно тем самым хотела скрыться от тех, кто смотрел на нее.
– Господи, – прошептала она вновь, не решаясь поднять взгляд на того, к кому обращалась. – Как же мне жить-то теперь, опять без него?
Она с надеждой отняла руки от лица и вдруг услышала какие-то счастливые возгласы, доносившиеся с улицы и приближавшиеся к их дому, поскольку становились они все громче. Сама не зная, что намереваясь увидеть, Василиса вскочила на ноги, бросилась в прихожую и рванула входную дверь. К ее изумлению, на пороге колыхался от радости татарин, возивший ее некогда в Учкуй к расслабленной жене.
– Жена встал! – выпалил он, протягивая к женщине руки. – Ты святая! Святая!
Рыдания охватили Василису так же стремительно, как некогда объяла небо заставшая их по дороге гроза. Она осела на ступеньку и прислонилась головой к дверному косяку. Слезы капали ей на платье, пятная его неровными потеками.
Однако простодушный татарин принял ее страдание за слезы счастья. Эта праведная женщина так горячо молилась за его жену, что сейчас, сознавая, что молитва ее услышана, не может удержаться от радостного плача. Да пошлет ей Аллах всяческое благополучие!
К заднику его телеги была привязана крутобокая овца, которую татарин торжественно подвел к Василисе, благодаря за чудесное исцеление. Но женщина решительно отказалась брать подношение. Тогда татарин, хитро улыбаясь, вложил веревку, обвязанную вокруг овечьей шеи, в руку Василисиной дочки. Он объяснил девочке, что овечка скоро принесет ягненка, с которым та сможет играть, и Оленька восторженно обняла покорно глядевшее на нее животное.
Наблюдая за тем, как татарин отъезжает от их дома, облегченно распрямив спину и что-то воодушевленно напевая, Василиса обращалась памятью к тому дню, когда покидал ее Михайла Ларионович, оставляя девушку выбранной ею судьбе. И словно край отвесного обрыва, бросал ее в дрожь вопрос: а права ли она была, отказавшись последовать за ним, без венца и без чести, но с горячим чувством в душе? Если б вернуть те роковые мгновения, как распорядилась бы она ими сейчас?
От осознания сделанной ошибки на женщину накатила слабость. Новая волна слез пролилась по лицу. Ступить бы хоть на миг в прошлое, на ту степную дорогу! Она не позволила бы любви покинуть ее навсегда, удержав свое счастье какой угодно ценой. Вполне достойное «святой» решение! Но после долгих лет иссушающе праведной жизни, подкошенная той встречей, что пережила она в беспамятстве, Василиса была бессильна по-другому взглянуть на сделанный некогда с ожесточенно замкнутым сердцем выбор.
* * *
«Два раза в одно и то же место молния не бьет», – так изначально звучала русская поговорка. В годы Великой Отечественной войны «молния не бьет» закономерно изменилось на «снаряд не попадает», и в таком виде поговорка дошла до наших дней. Тем, кто воспринимает ее как непреложную истину, трудно поверить в то фантастическое противоречие народной «мудрости», каким явилось новое ранение Кутузова.
Поразительно, до какой степени повторились события, между которыми пролегло четырнадцать лет и двадцать четыре дня! Как и в первый раз, пуля вошла в левый висок полководца и вышла в правый, не задев мозга и не повредив глаз. Лишь угол правого из них несколько опустился, однако, способность видеть им фельдмаршал сохранял вплоть до преклонных лет. Вопреки распространенному мифу, Кутузов отнюдь не был одноглаз, что подтверждается свидетельствами современников. Вот, что вспоминал о нем Федор Глинка, офицер и писатель, в 1812 году:
«Правый глаз его был несколько прищурен. Всматриваясь внимательно, вы бы легко заметили, что в нем уже погасла живая точка света. Это следствие раны, ужасной, неслыханной, о которой в свое время говорили все врачи Европы».
Так что Михайле Ларионовичу, лицо которого не обезобразила рана, вполне мог бы позавидовать Потемкин, который хоть и велел живописцам изображать себя на портретах с двумя глазами, на деле лишился одного из них еще в юности, в кабацкой драке.
Словно бы намереваясь в точности воспроизвести то, что произошло некогда в Тавриде, вторую рану Кутузова также сочли смертельной:
«Вчера опять прострелили голову Кутузову. Я полагаю, что сегодня или завтра он скончается», – писал принц де Линь австрийскому императору Иосифу II 19 августа 1788 года. А четыре месяца спустя, когда генерал вернулся в строй (на сей раз выздоровление шло куда быстрее), его лечащий врач Массо не удержался от восклицания: «Должно полагать, что судьба назначает Кутузова к чему-нибудь великому, ибо он остался жив после двух ран, смертельных по всем правилам науки медицинской».
Великие дела не замедлили найти генерала. Правда, к тому времени, как Кутузов окончательно выздоровел, Очаков уже был взят (штурм его в декабре 1788 года продолжался всего час с четвертью, и потери были отнюдь не так велики, как потери армии вследствие болезней), однако русским войскам предстояло овладеть еще одной чрезвычайно важной крепостью – Измаилом, главной твердыней Оттоманской Порты на берегах Дуная.
«Раньше небо упадет в Дунай, чем русские возьмут Измаил», – самонадеянно восклицал султан Cелим III. «Крепость сия не имеет слабых мест», – вынужден был констатировать и главнокомандующий русской армией Суворов. Что думал Кутузов, глядя на семиметровый крепостной вал, увенчанный семью бастионами, неизвестно, но, возможно он вспоминал о том, что два года назад императрица трижды справлялась лично у Потемкина о состоянии здоровья своего любимого генерала. А стало быть, она возлагала на него большие надежды.
Во всех событиях, сопровождавших взятие Измаила, Михайла Ларионович остался полностью верен себе. На военном совете, предшествовавшем штурму, командующий гребной Черноморской флотилией, генерал-майор де Рибас, испанец на русской службе[69], предложил отвести главную роль в боевых действиях массированной бомбардировке крепости с речных судов. Наклонившись к Суворову, Кутузов тихо заметил главнокомандующему: «Если вы согласитесь с Рибасом, вся слава взятия Измаила будет принадлежать ему». Будучи по характеру гораздо простодушнее искусного интригана де Рибаса, Суворов не мог не оценить кутузовскую проницательность и отблагодарил его во время штурма. Когда схватка на крепостном валу была в самом разгаре, и чаша весов еще не думала склоняться в сторону россиян, генералу доставили от главнокомандующего следующую депешу: «Я донес уже в Петербург о покорении Измаила, а Кутузова назначаю измаильским комендантом». После чего судьба неприступной твердыни была решена[70].
В победной реляции Потемкину Суворов отвел восхвалению Кутузова столько места и высказался о нем с таким чувством, что светлейшему князю Таврическому впору было испытать укол зависти. «Достойный и храбрый генерал-майор и кавалер Голенищев-Кутузов преодолев под сильным огнем неприятеля все трудности, влез на вал, овладел бастионом и, когда превосходный неприятель принудил его остановиться, он, служа примером мужества, удержал место, превозмог сильного неприятеля, утвердился в крепости и продолжал потом поражать врагов…»
«Он шел у меня на левом крыле, но был моей правой рукой», – такими словами главнокомандующий завершил прославление Михайлы Ларионовича. Но за глаза все же, посмеиваясь, высказался о нем так: «Ой умен, ой хитер, никто его не обманет».
На радостях государыня Екатерина произвела генерал-майора в генерал-поручики[71] и украсила его парадный мундир еще одним орденом – Святого Георгия III степени[72]. Взятие Измаила стало первым ярким триумфом Кутузова как полководца и было бы прекрасно всем – проявленными им умом и храбростью, значимостью одержанной победы и вознаграждением, если бы… Если бы именно под стенами этой крепости, в декабре, незадолго до штурма, Михайла Ларионович не получил известие о смерти своего единственного законного сына. Кутузов ни разу не видел этого ребенка, родившегося в начале 1790 года после краткого визита к нему жены годом ранее, но сама мысль о том, что на свете больше нет наследника его блестящего имени, была убийственна.
Несчастный младенец Николай стал последним ребенком супружеской четы Голенищевых-Кутузовых. До того, в конце декабря 1788 года, когда Михайла Ларионович только-только оправился от полученной под Очаковом раны, в Петербурге родилась его пятая дочь, Дарья. Было что-то символическое в том, что в семье Кутузова окружали одни женщины, поскольку его нескрываемое пристрастие к прекрасному полу неоднократно отмечали современники. Женщины отвечали обаятельному генералу взаимностью, и в число фаворитов Екатерины II Кутузов наверняка не попал лишь потому, что этого не хотел.
Взамен сомнительной роли временного любимца он предпочел стать для государыни тем, кто может с блеском выполнять невыполнимые миссии. И не ошибся в своих ожиданиях: в 1792 году он был неожиданно для всех назначен чрезвычайным и полномочным послом в Турции. Екатерине требовался человек, способный выявить истинные намерения Оттоманской Порты в отношении России после военных поражений. Кому еще могла она доверить столь хитроумное дело?
LII
«…Так простилась я с Тавридою, но, прощаясь, взяла к себе в душу, да и унесла с собою…»
Странное дело – расстояние! Куда более странное, чем принято считать. Всего в нескольких сотнях верст к северо-западу от Севастополя пушечные ядра сокрушали крепостные стены, а пули и штыки – человеческие тела, цитадели сдавались на милость победителя, а люди в мучениях переселялись в мир иной, в то время как жители белокаменного города над укромной извилистой бухтой вкушали все прелести мирной жизни. И если нечто значительное в той жизни и происходило, то вершилось оно не явно, а скрытно – в душах горожан.
Первое время после своего поразительного видения и письма мужа, подтвердившего ее прозрение, Василиса жила так, как если бы лишь телесная ее оболочка ступала по земле, душа же продолжала витать в иных пределах. Она изводилась мыслями о том, что не может, как прежде, в Шумлах, находиться подле Михайлы Ларионовича и вдыхать в него силы, потребные для выздоровления. Ведь сколь бы ни был значителен и окружен почетом человек, в болезни он становится смертельно одинок. И буде не сыщется того, кто посвятил бы ему себя на время, ободряя и утешая, возвращение к жизни станет куда более долгим и мучительным, чем могло бы. Кому, как не Василисе, выходившей стольких больных и раненых, было о том судить! Оттого и рвалась она душой туда, где могла бы послужить любимому, и приходила в отчаянье, сознавая, что заказан ей этот путь. Хоть птицей к нему лети, чтоб быть никем не узнанной! Да не будучи узнанной, много ли утешения она ему принесет?
Однако мало помалу свыклась женщина и с этой, новой разлукой. Из повседневности стремилась почаще уйти в свои мысли, где представляла себе, как Михайла Ларионович вновь обретает здоровье и силу, встает на ноги, возвращается в строй… Видела его деятельным и бодрым, повелительным голосом отдающим приказания, живым и улыбчивым в часы досуга, ровно таким, каким запечатлелся он в ее памяти. И лишь одного не могла себе вообразить (да, признаться, и не пыталась этого сделать) – как искосился от раны его многострадальный правый глаз. Перед ее внутренним взором Кутузов представал не утратившим ни капли былого очарования.
Дела мирские тем временем властно требовали ее живого участия в них, и Василиса смирилась перед неизбежным. Сыну ее в ту пору уже сравнялось десять лет, а, стало быть, в самое ближайшее время предстояло отправлять его на учебу. Того ради женщина снеслась со свекровью, что как-никак жила ближе нее к Москве и обратилась к ней с просьбой разузнать все, что будет под силу, о наилучших учебных заведениях в первопрестольной. А удастся – и о таковых в Петербурге, кои, будучи столичными, наверняка превосходят московские.
Ответ она получила весьма обстоятельный. В Москве знающие люди хвалили Артиллерийско-инженерную школу, основанную сподвижником Петра I, Яковом Брюсом. Там дворянских недорослей обучали геометрии, тригонометрии, артиллерийским чертежам и артиллерийскому делу. В Петербурге же лучшим учебным заведением считался Шляхетский кадетский корпус, дававший, по слухам, не только блестящее образование, но и выгодные связи с бывшими соучениками, большинство из которых быстро росли в чинах и занимали самые завидные должности. Однако Василису привели в ужас те условия, на которых учеников принимали в корпус. Мальчиков, начиная с шестилетнего возраста, ждала многолетняя разлука с родными, краткие и редкие свидания с ними, а, главное, отсутствие у родителей права забрать свое чадо домой, в случае если такой режим станет для него невмоготу. Сбежавших же кадетов ожидала жесточайшая порка и водворение обратно в стены учебного заведения. Василиса холодела при мысли о том, что все это может быть применено к ее сыну. Нет уж, лучше мирная учеба в школе без громкого имени, но и без драконовских порядков! И выбор матери пал на московскую Артиллерийско-инженерную школу.[73] Теперь дело было лишь за тем, чтобы дождаться возвращения мужа и получить его одобрение.
Иван Антонович не заставил себя ждать. 1 декабря 1788 г. был взят Очаков, и штаб-лекарь Благово сразу же испросил себе отпуск. Рождество того года он уже праздновал в кругу семьи. Выслушав рассуждения жены о том, куда, по ее мнению, следует отдать на учебу Филарета, он выразил полное согласие с нею, и Василиса принялась собираться в дорогу и укладывать вещи сына. Однако незадолго до Крещения супруги Благово получили известие, что в своем имении Знаменском скончалась Ольга Андреевна. Оплакав мать, Иван Антонович вынужден был отправиться под Калугу – вступать в наследство. И, получив разрешение продлить отпуск (благо в активных боевых действиях его полк пока не участвовал), он пустился в путь со всей семьей.
В Знаменское они добрались на второй неделе Великого поста. Снег еще не сошел, хоть был уже рыхлым и зернистым, но небо сияло по-весеннему ярко. При виде родных мест, покинутых ею осьмнадцать лет назад, у Василисы должно было защемить сердце, однако щемило оно совсем от другого: женщину угнетала разлука с Тавридой, коей предстояло, по-видимому, затянуться. В дороге Иван Антонович не раз заводил разговоры о том, что намерен оставаться в имении как можно дольше, дабы наладить хозяйство, отданное матерью на откуп управляющему. Деревни Ольги Андреевны год от года приносили все меньший доход, и было бы неразумно спорить с тем, что за ними требуется пригляд, однако… Однако глядя на придорожные кусты, круто изогнутые под тяжестью снега и лежащие пышными верхушками на земле, Василиса видела кипящие белизной волны прибоя, кидавшиеся на берег в таком же крутом изгибе. Неужто тому краю, что подарил ей любовь и где все было наполнено памятью о днях ее счастья, суждено, как и Кутузову, исчезнуть из ее жизни?
События последующих дней подтвердили сие печальное предчувствие. Чем дольше Иван Антонович жил в мире под Калугой, тем меньше ему хотелось возвращаться к войне в Бессарабии. Никогда не чувствовавший медицину своим призванием, он был бы рад уйти в отставку и тихо хозяйствовать на своей земле. «Послужил и будет», – такие слова все чаще вырывались у него, когда речь заходила о будущем. Впрочем, Василиса полагала, что переубедить мужа в ее силах, что, пожалуй, и сделала бы, если бы долгий путь из Севастополя на север не показал ей со всей очевидностью, насколько трудно станет навещать сына, живя за сотни верст от него. От Калуги же до Москвы путь и четырех дней не займет, даже если ехать на своих лошадях.[74] И в итоге каждый из супругов сделал свой выбор: Иван Антонович подал в отставку и обосновался в унаследованном имении, а Василиса предпочла близость к сыну жизни в любимой ею Тавриде.
Первое, что сделала она, став барыней – это послала в Соколовку за сестрой. До сих пор, к ее облегчению, бывшую поповну не узнал никто из случайных встречных, а когда они проезжали ее родную деревню, женщина спряталась в глубине возка и опустила меховой полог. Однако на душе у нее было неспокойно: мысль о бывшем муже так и свербила ее. А ни у кого, кроме той, что наверняка сохранит ее тайну, Василиса не осмелилась бы о нем расспрашивать.
Аглая тоже поначалу не признала сестры и сладкой скороговоркой стала сыпать пожелания благополучия новой знаменской барыне. Как вдруг осеклась и, ахнув, прижала ладонь ко рту. Василиса в ответ с легкой улыбкой поднесла палец к губам и во всеуслышание пригласила матушку Аглаю отужинать с ней наедине.
Сестры засиделись за беседой до первых петухов. Застарелый стыд вставал в душе Василисы, когда Аглая живописала переполох, поднявшийся после ее побега, но, к счастью, Василисе уже не приходилось опасаться своего прошлого. Артемий Демидович так ни разу и не объявился в Соколовке, и дальнейшая судьба его была никому не ведома. А тетка Лукерья, подсуетившись, выдала младшую племянницу за поповича Никона, некогда сватавшегося к Василисе, но отвергнутого ею. Он и занял место отца Филарета в их церкви во имя Покрова Божьей Матери, сделав Аглаю попадьей к ее превеликой радости.
– Довольна ты мужем-то? – с любопытством спрашивала сестру Василиса.
– Как не быть довольной! – уверенно отвечала та, воодушевленно повествуя, что семья их живет в достатке, хоть и поднимает шестерых детей, поскольку муж берет за требы куда большие деньги, чем покойный отец. Да и работать он лютый – держит пчельник и обучает грамоте сыновей сельского старосты. Потому и деньги в доме водятся.
– А промеж собой вы ладите? – допытывалась Василиса.
– А как же! – заверила ее Аглая. – Руку он на меня не подымает. Чует верно, что, ежели попробует, я в долгу не останусь! – рассмеялась она.
– Стало быть, повезло тебе, – подытожила Василиса.
– Да уж, не жалуюсь, – с достоинством кивнула сестра. И, не удержавшись, завистливо добавила:
– А тебе-то и вовсе счастье выпало – барыней стала.
– Правда твоя, – с непонятной попадье тоской в голосе откликнулась Василиса. – Уж кому счастье выпало, так это мне.
В сентябре того же, 1789 года Филарет был зачислен в Московскую Артиллерийско-инженерную школу. Ах, если бы Василиса могла в тот миг заглянуть в будущее! Пять лет спустя, в 1794 году, директором отвергнутого ею Шляхетского кадетского корпуса станет генерал-поручик Голенищев-Кутузов, при котором столь испугавшие женщину суровые порядки будут существенно смягчены. Однако предугадать сей нежданный поворот судьбы было не под силу даже ей.
LIII
«…Многажды пыталась я вообразить себе, каков он ныне и в какие дела погружен…»
Кутузов был чрезвычайно доволен той должностью, что предложила ему по возвращении из Турции государыня. Сорок семь лет – хороший возраст для наставничества. Полезного опыта накоплено предостаточно, уважение, внушаемое твоим именем, велико, а проведенные в бесконечных походах юность и зрелость требуют передышки. Однако передышки плодотворной: удаление от дел для мужчины в его годы было бы в чем-то сродни самоубийству.
Сидя за столом в недавно раскрывшем ему свои двери кабинете директора кадетского корпуса, Кутузов не спешил перебирать кипу лежащих перед ним бумаг. Он обращался мыслями к своему прошлому, оценивал, подводил итоги и под конец пришел к выводу, что на примере одной своей дипломатической миссии в Стамбул мог бы преподать кадетам все те основополагающие истины, что способствуют преуспеванию в жизни. Ведь разве не затем родители определили в корпус своих сыновей, чтобы те впоследствии шагнули в почет и процветание?
Краеугольным камнем успеха, по мнению Кутузова, было то, что ни один час и ни единое мгновение жизни не должны пропадать втуне. Глупее всего – не уметь обращаться со временем: оно не прощает пренебрежения собой (как не прощает его и женщина). Время жаждет, чтобы ты заполнял его без остатка тем, что принесет тебе пользу или наслаждение, и твердо знал при этом, зачем проводишь тем или иным образом тот или иной час. Взять, например, его недавний путь в Стамбул: вместо того, чтобы убивать неизбежные дни дороги пустыми беседами или карточной игрой, он всю первую половину пути совершенствовался в турецком языке со специально включенным в состав миссии для этой цели турком. А вторая часть пути, пролегавшая по югу России – вечной арене русско-турецких войн – и вовсе заставила его потрудиться. Под его надзором военные картографы составляли подробнейшую карту местности, указывая на ней, помимо прочего, источники топлива и пресной воды. Огромное подспорье при новом противостоянии с Оттоманской Портой, которое вполне могло разгореться в этих краях! (Когда в Стамбуле у него осведомились, почему дорога заняла столь долгое время, он с глубоким прискорбием сослался на старые раны. Сие не могло не вызвать у султана неловкости: ведь не секрет, в боях с каким противником эти раны были получены!)
Другим важнейшим залогом того, что движешься ты не в стороне от успеха, а прямиком к нему, Кутузов считал умение говорить с людьми. Право, жаль, что подобного курса наук не предусмотрено в корпусе: он, пожалуй, лично взялся бы его вести! С кем бы ты не говорил, должно слушать собеседника с дружелюбным вниманием. Покажи себя добрым слушателем – и тебе откроют тайны, в коих не признались бы и под пыткой. Говорить же в ответ надлежит не «правду», ибо правда у каждого своя, а то, что от тебя жаждут услышать. Любящим говори, что любишь, надеющимся – что оправдаешь надежды, а завистникам внушай, что нет человека, более тяготящегося предметом их зависти, чем ты. И не скупись на похвалы, но не пустые. Умей разглядеть в человеке те черты, что действительно заслуживают поощрения, и, отметив их, непременно расположишь его к себе. Едва ли следует хоть при ком-то обнаруживать свои истинные мысли и чувства. Разве что будешь уверен в неподдельной любви того человека к себе… Но счастье иметь такого друга выпадает, быть может, раз в жизни, а длится, увы, недолго.
При мысли о Василисе Кутузов вспомнил ее слова о вреде лицедейства и решил, что девушка была глубоко не права. Нет, если подразумевать под лицедейством то недостойное человека умного шутовство, что однажды вышло ему боком, то правда, конечно, на ее стороне. Но если брать актерство в наивысшем его проявлении – дипломатию, то пустынница, определенно, заблуждалась. Ах, как он был доволен собой в Стамбуле, выведав у султана и его приближенных ровно то, что намеревался, и добившись тех уступок в пользу России, о которых государыня могла лишь мечтать. А все благодаря той утонченной игре слов, жестов, интонаций, что превращает человека настороженного в друга, а тому, кто настроен против тебя, внушает уважение и расположение. Прежде чем предстать перед Селимом III и его диваном[75], Кутузов имел беседы со знающими людьми, не только посвятившими его в подробности сложнейшего турецкого этикета, но и давшими совет, с кем из царедворцев как следует себя держать, имея в виду слабые места каждого из них. И все же не раз он вынужден был проходить словно по лезвию ятагана, памятуя о том, что поведение подобострастное способно зародить у турков мысль о слабости России, а поведение самоуверенное несет в себе вызов, весьма опасный при сложившейся обстановке. Он с усмешкой вспомнил, как при традиционном обмене подарками ему преподнесли от имени султана драгоценную шубу. Следовало принять ее с глубоким поклоном, но сие означало умалить свое достоинство и достоинство твоей страны: ведь турки – побежденные. Оставить же подарок и вовсе без благодарности отдавало оскорблением. И до чего же блестящ был найденный им в одночасье выход! В момент преподнесения подарка он сидел на низкой софе и, приняв шубу, сперва с благосклонным выражением лица продел руки в ее рукава, а затем приподнялся, одновременно наклонившись, как бы для того, чтобы оправить ее полы. В результате турки и поклон его лицезрели, и принять его на свой счет в полной мере не могли. И придраться не к чему, но и повода для торжества нет. Что за наслаждение – предаваться подобным играм!
И, наконец, третье, что ведет тебя прямиком к цели – это вера в то, что невозможного, по большому счету, нет. Разве не считалось невозможным для мужчины попасть в султанский гарем и остаться после этого в живых? Считалось. Но ровно до тех пор, пока для российского посла Голенищева-Кутузова не открылась едва заметная дверь, ведущая в покои прекрасных невольниц. Он, разумеется, не пошел бы на столь дерзостный шаг, если бы не знал, что султан-валиде [76] Михри-шах, сестра Селима, Хадиджа, и любимая жена предыдущего султана, Нахши-диль не пользуются большим влиянием на турецкого владыку. Внуши этим женщинам желанные для тебя мысли – и считай, что ты внушил их самому султану. А Нахши-диль, к тому же, приходилась двоюродной сестрой и подругой юности некой Жозефине Богарне, возлюбленной французского генерала Бонапарта – весьма влиятельной фигуры в революционной республике. Немыслимая прихоть Провидения – и юная Эме де Ривери, уроженка острова Мартиники[77], отплыв во Францию к жениху, стала жертвой алжирских пиратов и была продана в гарем предыдущему султану Абдул-Хамиду. Незаурядный ум позволил этой женщине после смерти мужа остаться в роли советчицы у его приемника, Селима III. Через Нахши-диль и ее сестрицу Жозефину Стамбул вел неофициальную переписку с Парижем. А, стало быть, не лишне дать знать Европе, что султан настолько пресмыкается перед победительницей Россией, что открывает дверь в свой гарем ее послам.
Кутузов самодовольно усмехнулся: о его невероятном приключении гуляют по Петербургу восторженные слухи. И какое ликование вызывает бессилие султана перед хитростью русского посла. Тот не ворвался в гарем, как тать, но сперва связался со всеми тремя интересовавшими его женщинами и получил их согласие на встречу. Вслед за тем старший надзиратель за одалисками получил громадную мзду – и запретнейшая часть дворца Топкапы перестала быть неприступной для генерала, захватившего уже немало турецких крепостей.
Узнав о происшедшем, Селим предпочел сделать вид, что ничего не знает, но все же велел пустить слух, что русский посол – великий евнух царицы Екатерины, а потому посещение им одалисок не угрожало достоинству султана.
Кутузов вновь улыбнулся своим воспоминаниям: если бы не политика, столь ревностно охраняемая собственность султана не представляла бы для него интереса. Запретные женщины, коих ему довелось увидеть, бесспорно были хороши, но хороши не настолько, чтобы из-за них лишаться головы. Мир полон женщин доступных, общение с коими не влечет за собой ничего, кроме необходимости распрощаться по-хорошему. А эти столь тщательно скрываемые от мужских глаз сокровища… Михри-шах была уже не молода, а у Хадиджи в лице читалась властность, всегда претившая ему в женщинах. Одна Нахши-диль показалась ему привлекательной: черты ее лица были изящно-тонки, а взгляд – открыт, ясен и умен. К тому же в ней чувствовалась удивительная для обитательницы гарема внутренняя чистота. Всем этим отуреченная француженка до странности напомнила ему Василису, и, обращаясь к ней, Кутузов не мог отделаться от ощущения, что судьба вновь свела его с оставленной в прошлом любовью. Сходство это усугублялось тем, что обе женщины были светловолосы, а в прическе Нахши-диль поблескивали бриллианты, так похожие на капли влаги, оседавшей на волосах Василисы сырой Таврической зимой…
Гордо рассуждавшего с самим собой о слагаемых успеха генерала вдруг выбило из колеи безумное сомнение: а стоил ли сей успех вечной разлуки с единственным по-настоящему близким ему человеком? Но он немедля устыдился своей минутной слабости. Ведь сердцем можно управлять, как рукой или ногой, и, возможно, именно сие ему и следовало внушить кадетам прежде всего… Однако отчего-то генералу Кутузову не хотелось этого делать.
Обратившись мыслями к Василисе, Кутузов задумался о том, не может ли ее сын быть в числе его юных подопечных. В принципе, ничто сему не противоречило. Он приказал подать ему список кадетов и тщательно его просмотрел, но фамилию Благово не встретил ни разу. Что ж, не судьба.
– Ваше высокопревосходительство! Учащиеся Сухопутного Шляхетского кадетского корпуса построены в парадной зале для приветствия, – доложили ему.
Кутузов поднялся. Итак, ему предстоит произвести на этих детей первое, наиважнейшее впечатление. Что ж, разумеется, он не будет делиться с ними своими недавними мыслями – не доросли. К тому же, юноши способные и так рано или поздно придут к тем же самым выводам, а кто не придет, будет прозябать, учи его или не учи. Но нечто запоминающееся произнести непременно следует: как выступить в поход, не развернув знамена?
Генерал-поручик, кавалер трех орденов Святого Георгия и других высоких наград, герой Тавриды и Измаила, чрезвычайный посол России в Турции Михайла Ларионович Голенищев-Кутузов вошел в парадную залу. Десятки кадетов от шестилетних мальчиков до двадцатилетних юношей при его появлении по команде вытянулись в струну. Один из старших воспитанников выступил из рядов и от имени своих товарищей произнес:
– Ваше высокопревосходительство! В лице графа Ангальта[78] мы лишились нашего нежного отца, но мы надеемся, что и вы с отеческим чувством примете нас к своему сердцу. На полях битв слава увенчала вас лаврами, а здесь любовь ваша к нам будет одушевлять нас.
Кутузов милостиво кивнул ему: достойная встреча. И, скрывая за строгостью в голосе внутреннюю улыбку, сказал в ответ:
– Граф Ангальт обходился с вами как с детьми, а я буду обходиться с вами как с солдатами.
Кадеты притихли. Кутузов, довольный произведенным впечатлением, окидывал взглядом оробевших мальчишек. «А жаль все же, что Василисиного сына среди них нет! – сказал он себе в мыслях. – Было бы любопытно на него взглянуть».
LIV
«…Когда живешь ты ради других, то проживаешь не одно лишь свою, но и множество иных жизней…»
Пять лет, проведенных Василисой в родных краях, легли один к одному, точно галька на морском берегу, ничем не дурные, но почти ничем не отличимые друг от друга. И порой казалось женщине, что жизнь, однажды расщедрившись, позволила ей поверить, будто может она избегнуть уготованной ей с рождения участи, дала вдохнуть любви, как аромат волшебного цветка, а затем вернула беглянку на круги своя – к одуванчикам да ромашкам. И хоть участь ее была всем на зависть, – о чем не уставала повторять при каждой их встрече сестра Аглая, сама Василиса смотрела на выпавший ей жребий с иных высот. Может ли быть счастлив тот, кого навек лишили солнечного света, но не лишили памяти о нем? Едва ли.
Однако смиряются же со своей участью те, кто потерял изрядную долю отпущенных другим радостей: слепые, глухие, увечные и иже с ними. Смиряются и находят утешение в том, что им доступно, иначе жизнь обратилась бы в пытку и непрестанный плачущий крик: «За что?!» – обращенный к безмолвному Провидению. Так и Василисе, смирившейся с утратой любви, утешно было сознавать, что по прежнему следует она той стезе, на которую вывел ее некогда Михайла Ларионович – стезе целительства. Едва обосновалась она хозяйкой в господском доме, как пришлось лечить от горячки одну из дворовых девок – и пошло, поехало. Потянулись к доброй барыне крестьяне со своими недугами; дня еще не миновало, чтобы Василиса, выходя поутру на крыльцо, не встречала трех-четырех мужиков, баб с ребятишками, стариков или старух, с надеждой поджидавших ее, «благодетельницу». Василиса не отказывала никому, хоть лекарские дела занимали у нее порой до полдня, а то и больще, и спустя какое-то время знала крестьян из принадлежащих ей с мужем деревень не хуже, чем Кутузов знал когда-то солдат в своем батальоне. И пользовалась не меньшим их доверием и расположением.
Сие сослужило ей однажды незаменимую службу. В их уезде вспыхнула холера, вследствие чего было прислано несколько рот солдат – перекрыть все дороги, ведущие из охваченных болезнью деревень. На крестьян такое распоряжение нагнало ужас. И без того омерзительный в своих проявлениях недуг хватал без разбора и мужиков, и грудных младенцев, и их матерей, а тут еще власти на них ополчились – понаставили идолов с ружьями, и теперь ни товар на рынок свезти, ни родню проведать – узнать, живы ли еще. От властей добра ли ждать? Верно, вконец хотят извести весь народ в холерных деревнях, для того их и заперли. И потянулись слухи, один зловещее другого. Дескать, видели, будто солдаты подсыпают в колодцы отраву, да, мол, с появлением служивых перемерло втрое больше народу, чем до них. И, обезумев от страха перед недугом, но не зная, как дать ему отпор, крестьяне вдруг узрели вполне понятного для них врага – солдат. А с таким врагом разговор короткий: и вилами его достанешь, и топором.
Василиса, за которой сельский староста догадался послать верхового, примчалась к месту стычки в тот момент, когда солдаты уже вскинули ружья, чтобы дать залп картечью по разъяренно наступающей на них толпе. Перегородив своей коляской дорогу мужикам, барыня обратилась к ним громким, но твердым голосом:
– Верно, вовсе вы от страха ума решились, что не разберете, где супостат. Враг вам сейчас – холера, она и солдатам враг, и всем крещеным людям. Думаете, рады служивые торчать тут и гадать, не схватит ли завтра холера кого из них? А торчать приходится, иначе через ваше неразумие, через ваши наезды к родне, да на базар зараза по всей губернии расползется.
– Что ж нам теперь, как на живодерне что ли, сидеть взаперти и ждать конца? – выкрикнул тот, кто был у мужиков заводилой.
– Кому из нас помирать, а кому – нет, это Господь рассудит, – крикнула Василиса в ответ ему и всем остальным. – Я сама, как видите, предалась его воле и никуда ночью по лесу сбежать не пытаюсь. Если во мне зараза уж сидит, то лучше взаперти скончаться, чем повезти ее другим на погибель!
Когда мужики, глухо переговариваясь, отправились восвояси, а солдаты опустили ружья, то возглавлявший их офицер, отирая пот со лба, сказал Василисе, что, будь его воля, он наградил бы ее орденом. Женщина лишь улыбнулась в ответ: на ее памяти ордена получали лишь мужчины, и отнюдь не за то, что выступали миротворцами.
Иван Антонович, узнав о случившемся, пришел в ужас. Василисе же было и страшно, и радостно вновь ощутить себя на поле боя и спасти человеческие жизни. Словно бы вернулась она в прошлое, в те времена, когда судьба ее была сплетена с судьбой Михайлы Ларионовича. Верно, потому, несмотря на все тяготы, а, порой, и горечь смерти, было ей так отрадно заниматься лекарским делом: врачуя недуги, ощущала она себя по-прежнему спутницей своего возлюбленного. Разлученная с ним, женщина ни на мгновение не допускала мысли, что забыта им. Придет ее час, и они свидятся, и она предстанет перед ним такой, какой была – умеющей вдохнуть в человека жизнь и надежду. И, кто знает, что всколыхнется в его душе при новой их встрече?
Однако ровным счетом никаких сведений о Кутузове она не имела, лишь предполагая, что полет его по-прежнему высок.
В середине апреля 1794 года (того самого года, когда Кутузов стал директором кадетского корпуса) Василисе исполнилось сорок лет. Сия дата, по мнению ее мужа, была прекрасным поводом запечатлеть жену на портрете, тем более что та сохранила к почтенному своему возрасту девическую стройность и нежную открытость почти не измененного морщинками лица. В Калуге в то время все, кто обладал достаточными средствами, обращались к художнику Томилину, что, невзирая на свое мастерство и популярность, оставался крепостным помещика Рогозина, принося тому своей кистью немалый доход. Много испытавший, как и любой наделенный талантом раб, Томилин умел заглянуть своим моделям в душу. Если же кто и смотрел с его полотен пустым взглядом, то, верно, лишь потому, что и душа запечатленного на холсте человека была пуста.
Василисе доставляло удовольствие позировать живописцу. Замирая в кресле с легкой улыбкой на губах, она была вольна спокойно предаваться своим мыслям, не боясь быть отвлеченной каким-нибудь сиюминутным делом. В мыслях, как правило, господствовали дети. Филарет, коему сравнялось уже шестнадцать, приводил мать в искреннее восхищение не столько успехами в науках и похвалами учителей, сколько твердым пониманием своего пути и умением следовать по нему, опережая других. В отличие от многих соучеников, он проводил время за партой не из покорности родителям, но умело взращивал в себе те знания, семена которых были посеяны на уроках. Да к тому же являлся любимцем товарищей, живым и радостным, легко умеющим сплотить их вокруг себя. Умение предводительствовать давалось ее сыну так же естественно, как некогда далось умение встать на собственные ноги; командиром он был прирожденным.
Изо всех изучаемых предметов юношу более всего привлекало артиллерийское дело. Пушка наделяет бомбардира могуществом громовержца, а могущество испокон веков пленяет мужчин, с ним не способна соперничать ни одна женщина на свете. И, пожалуй, лишь сейчас, наблюдая, как влечет оно ее сына, Василиса смогла понять тот роковой для нее выбор, что некогда сделал Кутузов. Она, девушка низкого происхождения, была очевидным препятствием на пути к его величию, так стоит ли удивляться, что он предпочел обойти ее стороной и далее последовал не обо что не спотыкаясь, но восходя все выше и выше?
– Василиса Филаретовна, вы хотите быть изображенной в роли плакальщицы? – услышала она недовольный голос художника.
Женщина поспешила приободриться и предалась мыслям о дочери, что были для нее куда покойнее. К своим четырнадцати годам Оленька, не будучи красавицей, отличалась тем, что позволяет женщинам самой средней наружности торжествовать над соперницами – ласковым обхождением. Кто бы из мужчин не оказывался подле девушки – соседи-помещики, офицеры расквартированного в Калуге полка, случайные гости – все они тянулись к ее дочери, как иззябшие путники – к очагу, находя в ее глазах тепло, а в голосе – нежность.
Женихи уже принялись наведываться в Знаменское, и самым частым визитером в доме Благово стал Никита Борисович Комлев, адъютант калужского генерал-губернатора. Еще совсем молодой человек, он получил сию должность не без протекции родных сразу после окончания военной школы, и Василиса не могла не вспомнить, что точно таким же образом складывалась поначалу и карьера Кутузова. Пятнадцатилетним выпускником он оказался флигель-адъютантом в штабе петербургского и ревельского генерал-губернатора, немца по национальности, не потрудившегося выучить по-русски и пары слов. Полгода Михайла Ларионович добросовестно перебирал бумаги в канцелярии, попутно совершенствуясь в немецком языке, а после расформирования штаба, со вздохом облегчения вернулся в армию. Комлев же, напротив, и не думал взваливать на себя военные тяготы и лишения. Наслаждаясь могуществом, даруемым властью, он с вожделением взирал на высокие гражданские чины. Сии честолюбивые устремления (в полной мере свойственные и Кутузову, пусть и на другом поприще), весьма импонировали Василисе, и, видя, с каким уважительным восхищением юная Оленька засматривается на Никиту Борисовича, ее мать узнавала саму себя. Чем чаще Комлев появлялся в Знаменском, тем очевиднее становились его будущие намерения, и Василиса, радуясь за дочь, не могла не испытывать к ней вполне понятную зависть: девочке, похоже, удастся то, что не удалось ей самой – стать законной спутницей желанного для нее человека.
Живописец опустил кисть и поманил свою модель взглянуть на полотно. Впервые подойдя к портрету с той стороны, что до сих пор оставалась для нее загадкой, Василиса замерла, и веря, и не веря увиденному. А она хороша! На диво хороша для тех лет, когда деревенские бабы превращаются в старух, а соседки-помещицы уже с грустью готовы махнуть на себя рукой. Если в юности она едва ли могла потягаться с кем-либо красотой, то возраст, считающийся «бабьим веком», решительно выдвинул ее вперед относительно сверстниц. Ее черты по-прежнему нежно и твердо очерчены, не опухли и не оплыли, а подбородок изящно завершает лицо, и не думая ползти к шее бесформенным студнем. Тело ее по-молодому подобрано и хранит прежнюю, почти не измененную временем форму, словно бы и не выносило двоих детей. Только вот глаза… Как же грустны они у нее! Василиса, конечно, догадывалась, что те не могут не отражать скорбь о потерянной любви, как иное лицо вечно несет на себе шрам от ожога или удара. Но полагала при этом, что ее постоянное оживление служит ей вполне сносной маской. Однако живописец оказался талантливей, чем она могла предположить, явив на всеобщее обозрение то, что она искренне считала своей тайной.
– Вы чрезвычайно даровиты! – собравшись с духом, похвалила Василиса Томилина.
«И зачем вы так даровиты!?» – горько упрекнула она его в мыслях.
Через пару месяцев после того, как шумным застольем было отмечено его пятидесятилетие, Кутузов стоял перед зеркалом, готовясь отправиться в Зимний дворец на аудиенцию к императору Павлу. Отражение и радовало его, и удручало одновременно. Радовало двумя рядами золотого шиться на парадном генеральском мундире, равно как и сияющим созвездием орденов на груди. Удручало же тем, что о человеке, глядящем на генерала из зеркала, едва ли можно было сказать «хорош собой», скорее, «велик» или «величествен». И ладно бы еще бессильно полуприкрытый веком правый глаз. Прежде, смотрясь в зеркало, Кутузов видел перед собой мужчину довольно плотного сложения, однако, его мундир никогда не выдавался вперед под натиском живота, а ноги легко входили в голенища сапог. Нынче же… И откуда что взялось при его-то кочевом образе жизни! Но словно бы что-то надломилось в организме к преклонному возрасту, и тот принялся расширять фигуру полководца по всем фронтам.
Кутузов весьма переживал потерю былой стройности и, поелику возможно, выкраивал время для моциона, но, увы, терпел поражение в борьбе с собственным естеством. Тело его становилось все крупнее и крупнее.
Впрочем, если смотреть на вещи философски, мысленно ободрил себя генерал, то нынешнее его телесное изобилие в полной мере отражает изобилие во всем остальном. Все победы, которые только может одержать мужчина к тому возрасту, когда пора подводить итоги, им одержаны. Имя его прославлено, чин высок, дом – полная чаша, и в Зимнем дворце он желанный гость. Разве что богатства он не стяжал, так ведь богатство приносят не чины, а вотчины, а тех у него меньше, чем орденов на мундире. Правда, расходы его вполне приличествуют человеку его положения, но то благодаря умелому обращению с контрактами на поставки в армию. Ну да кто из генералов с ними не мудрит, с контрактами-то? Едва ли найдется такой, кому одного жалования достало бы.
И в семье у него – мир и покой, всем на зависть. Еще с тех самых пор, когда, вскоре после свадьбы, он отбыл служить в новороссийские степи, оставив молодую жену в положении, Екатерина Ильинична уяснила: ее место в Петербурге на должности законной супруги. Там она в окружении родни и станет растить все возрастающее число их дочерей. А мужа будет видеть лишь тогда, когда он сам соизволит ей показаться. Госпожа Кутузова не роптала на свою долю, сознавая, что сие не имеет смысла, и муж был ей за это весьма признателен. Равно как и за то, что дочерей она воспитала в должном почтении к отцу. Сейчас они одна за другой выходили замуж, и ему доставляло удовольствие присутствовать на их свадьбах, сознавая, что заключавшиеся браки лишний раз дают обществу повод с уважением отозваться об отце невест.
Генерал самодовольно улыбнулся своему отражению. На удивление всем, его положение никак не пошатнулось с кончиной императрицы Екатерины и воцарением ее сына Павла. Покровительствовавшая ему государыня преставилась год назад, и с тех пор Петербург не знал покоя: словно джинн, выпущенный из бутылки лишь тогда, когда он перестал уж и мечтать об избавлении, сын Екатерины проявлял не свойственную его натуре жестокость. Все любимцы покойной матери были в одночасье уволены с занимаемых должностей, сосланы в свои имения и публично опозорены. И ладно бы еще надменный временщик Платон Зубов, в свое время открыто насмехавшийся над цесаревичем, или Алексей Орлов, под чьим надзором испустил дух отец Павла, Петр III! Но отставка и бесчестие коснулись и ничем не провинившейся перед новым государем княгини Дашковой, достойно возглавлявшей Академию наук и в последние годы перед смертью императрицы находившейся с нею в весьма натянутых отношениях. И слава Богу еще, что оба милых Екатерине Григория, Орлов и Потемкин, успели к тому времени переселиться в мир иной. Неизвестно, какие унижения ждали бы их, столь много потрудившихся не только на благо своей царственной возлюбленной, но и на благо отечества.
Кто же уцелел в эту злую пору заслуженного и незаслуженного сведения счетов со всеми, кто блистал при Екатерине? Он, генерал-поручик Голенищев-Кутузов. Да не просто уцелел: Павел благоволит к нему настолько, что доверяет новую дипломатическую миссию, не менее важную, чем блестяще проведенные им пять лет назад переговоры в Стамбуле.
Дело в том, что Пруссия польстилась на уговоры Франции разделить Европу меж собой, и российские дипломаты в Берлине бессильны убедить короля в том, что решение сие самоубийственно. Ах, если бы только удалось склонить монарха к антинаполеоновскому союзу с Россией, Австрией и Британией! Сам чрезвычайный посол, Никита Панин, молит прислать ему в помощь «доверенного агента», способного «разъяснить королю сущность дел, побудить его к работе, предупредить происки французов и разрушить их оковы». Кому, как не Кутузову доверять подобные дела! Для обсуждения подробностей новой миссии он и вызван сейчас на аудиенцию к государю.
Ему доложили, что карета заложена. Проводить Михайлу Ларионовича вышла жена. Она молча сняла некие невидимые мужскому глазу пылинки с его мундира и перекрестила мужа. Кутузов улыбнулся ей: Екатерина Ильинична всегда радовала его покорностью и бессловесностью. Чего еще желать от супруги? Красоту, юную свежесть и любовный пыл надобно искать вдали от дома.
– Достойно ли я выгляжу? – спросил он у жены, давая ей возможность высказаться.
– Ты – настоящий Агамемнон, – с почтением в голосе и глазах отозвалась Екатерина Ильинична.
Сидя в карете и преодолевая незначительное расстояние, отделявшее его дом от Зимнего дворца, Михайла Ларионович воскрешал в памяти те фрагменты «Илиады», что были связаны с Агамемноном. Предводитель армии ахейцев в войне против Трои, он носил лестный титул «царя царей». Война закончилась поражением троянцев, а, стало быть, «царь царей» был увенчан лавровым венком победителя. Что ж, недурное сравнение подобрала Екатерина Ильинична! По возвращении надо будет поблагодарить ее за это.
Перед тем, как явиться императору Павлу кандидатом на роль «доверенного агента», Кутузов, разумеется, видел его и раньше. Сын Екатерины всегда производил на него впечатление болезненно обидчивого и совершенно не умеющего держать себя в руках человека. Впрочем, возможно ли быть иным, если ты нелюбим собственной матерью, отстраняем ею от всяких государственных должностей, а года твои таковы, что сама природа требует быть занятым полезным делом? Но нет, изволь томиться в Гатчине, как в золотой клетке и ежегодно обеспечивать трон новыми наследниками. Да от такой жизни, право, недалеко до умопомешательства!
После взаимных приветствий, которые Кутузов произносил умиротворяюще приятным голосом, а Павел – отрывистым и как будто раздраженным, император перешел сразу к делу:
– Граф Панин отзывался о вас как о человеке, коему можно доверить самые деликатные вопросы, – произнес он таким тоном, как если бы ни на мгновение в сие не верил. – Скажите же, как вы полагаете подтолкнуть Пруссию к союзу с Россией?
Он вскинул голову и оглядел Кутузова взглядом учителя, экзаменующего неспособного к наукам ученика.
Михайле Ларионовичу не пришлось раздумывать: такой вопрос он предполагал:
– Прежде всего, – сказал он, позволяя себе легкую улыбку, – я напомню его величеству о том почтении, которые Вы, Государь, питаете к его августейшему дяде[79]. А затем уверю его в том, что армия русская с виду уже ничем не отличается от прусской, а потому было бы затруднительно иметь нас в качестве противника: как отличить своих от чужих на поле боя?
– Хм! – с удивлением сказал Павел, не ожидавший такого начала. Он и не подозревал, что Кутузов найдет столь полезным его приказ переодеть армию в мундиры прусского образца. Это волей неволей располагало к собеседнику, о чем сказали Кутузову смягчившиеся черты лица императора. Но Павел вдруг снова встревожился:
– Стало быть, вы поддерживаете мои нововведения? А вот ваш учитель, граф Суворов, восстает против них.
Что за прелестный поворот беседы! Кутузов не мог не знать, что Суворов, открыто подавший голос против насаждаемой Павлом бессмысленной муштры и крайне неудобной формы на прусский манер, сейчас в опале. Попробуй отзовись тут с уважением об Александре Васильевиче! Но и очернять того, кому Михайла Ларионович был стольким обязан, включая славу Измаильского сражения, не поворачивался язык.
– Я полагаю, что у Пруссии есть чему поучиться, – обходя молчанием Суворова, ответил Кутузов. – Фридрих Великий был человеком необычайно широких взглядов. Его веротерпимость, отмена пыток, реформа судебной системы достойны всяческого восхищения. Что до военных вопросов, то я, в свое время, путешествуя по Европе, не раз встречался в Вене с Лаудоном и старался усвоить его уроки. Ваше Величество наверняка помнит, что он был фельдмаршалом при императоре Фридрихе.
Судя по выражению лица Павла, тот едва ли об этом знал, но кутузовские слова произвели на него впечатление. И следующий каверзный вопрос был задан им уже без всякой личной неприязни к собеседнику, скорее, по инерции:
– В то путешествие вас, кажется, отправила императрица Екатерина? Вы и вообще были у нее в большом фаворе, не так ли?
«Да и заслуженно!» – чуть было не вырвалось у Кутузова, но он сдержался и, отвечая, придал своему голосу тот медовый оттенок, что всегда безотказно действовал на людей.
– До сих пор я служил при государыне Екатерине, Ваше Величество, а потому мои заслуги отмечала она. Буду счастлив, если и Вы, Государь, сочтете меня достойным поощрения.
Так мало-помалу Кутузов уверенно занимал позицию за позицией, и к концу их беседы Павел благосклонно утвердил его назначение агентом русского двора при прусском дворе.
Чем неприступнее цитадель, тем больше оснований уважать себя за победу. Сделавшись доверенным лицом непредсказуемого, взбалмошного и недоверчивого Павла, Кутузов стал считать себя почти всемогущим.
* * *
Павел Петрович Романов оказался одной из самых трудных крепостей, которые Кутузову доводилось штурмовать. Человек с исковерканной душой опасен в любой социальной роли, а уж в роли самодержца – тем паче. Благие порывы в отношении подданных – ограничение барщины тремя днями в неделю, ящик для жалоб на стене Зимнего дворца – непринужденно сочетались со шпицрутенами для нижних чинов за недостаточно напудренный парик или не до блеска начищенные штиблеты. Армию лишили удобной формы, разработанной самим Потемкиным, и вырядили, как паяцев, на прусский манер – в узкие фраки, панталоны и перчатки. Парики с косицами, чеканный шаг… Долгие годы проведший затворником в Гатчине, Павел не имел другой возможности приобщиться к военному делу, кроме как устраивая парады перед своим дворцом. Со вступлением же затворника на престол не только несколько несчастных рот, но и вся армия принялась чеканить шаг на плацу вместо того, чтобы отрабатывать жизненно важные в бою приемы.
Кутузов не мог не сознавать угнетающей бессмысленности Павловских нововведений, но здравый смысл и дальновидность советовали ему держать свое мнение при себе. Времена были такие, что офицеры, отправляясь на дежурство, клали в карман сторублевые ассигнации, не зная наверняка, где окажутся нынче вечером: у себя на квартире или по дороге в Сибирь. А генералиссимус Суворов, некогда отправленный Павлом в Итальянские Альпы с напутствием: «Иди, спасай царей!» – и остановивший экспансию Бонапарта на восток, тоскует в опале, отстраненный от дел. За что? Да за то, что подал голос против новых порядков.
Нет уж, милостивые государи! Плетью обуха не перешибешь. С безумием особ вышестоящих следует бороться лишь одним испытанным способом: делать вид, что ревностно исполняешь их приказы, меж тем спуская оные на тормозах. Подобная тактика позволила Кутузову вполне благополучно пережить четыре года правления Павла, получив за это время два новых ордена – святого Иоанна Иерусалимского и святого Андрея Первозванного, чин генерала от инфантерии[80], горячую похвалу за проведенные в Гатчине маневры и бесчисленное количество выговоров за слишком мягкие наказания в возглавляемых им полках.
Что и говорить, государь Михайле Ларионовичу достался не из легких! С момента воцарения до момента смерти Павла у Кутузова не вызвал внутреннего протеста лишь один высочайший приказ: вернуть Севастополю его прежнее название Ахтиар. Генерал и сам так называл сей город, смолоду привыкнув к его татарскому имени. В остальном же его мнение расходилось с императорским в прямо противоположных направлениях, и у Кутузова порой едва хватало сил скрывать свои истинные чувства относительно политики государя. Каким же безумием со стороны Павла было готовиться к войне с Британией и довести до того, что эскадра Нельсона готовилась обстреливать Кронштадт! Грешно говорить, но проломленный табакеркой висок императора[81] и офицерский шарф, затянутый на его шее, обернулись большим благом для России – война с Англией так и не разгорелась.
К слову сказать, Кутузов был одним из последних, кто видел Павла в живых. Перед тем, как лишиться жизни мартовской ночью, злосчастный император ужинал в тесном, почти семейном кругу. Михайла Ларионович был на этом ужине едва ли не единственным, кто не состоял с государем в родственных отношениях, что позволяет судить о степени его близости к самодержцу.
По правую руку от «русского Гамлета» сидела его супруга, Мария Федоровна, которая, не успеет остыть тело мужа, огласит Михайловский замок достойным момента истошным криком: «Я хочу царствовать!» По левую – наследник престола, цесаревич Александр, с чьего молчаливого согласия его отец отойдет в небытие несколько часов спустя. Мило, не правда ли?
Любимец Екатерины, доверенное лицо ее сына, с воцарением внука своей покровительницы Кутузов не должен был испытывать ни тени беспокойства. Александр I, родившийся в тот год, когда Михайла Ларионович расстался с Василисой, и годившийся ему в сыновья, четко обозначил свой политический курс словами: «При мне все будет, как при бабушке». А стало быть, у генерала Кутузова будет прежний почет и новые должности, достойные его опыта и способностей.
И сперва «дней Александровых прекрасное начало», действительно не вызвало у Кутузова, как и у прочей страны, ничего, кроме воодушевления. Из унизительных ссылок были возвращены все жертвы Павловского гнева, армия приобрела прежний боевой вид взамен смехотворно парадного, Дашковой вновь предложили возглавить Академию наук, а Ахтиар уже окончательно окрестили Севастополем. Словом, у царственной бабушки Александра, спящей под сводами Петропавловского собора, больше не было повода переворачиваться в гробу: страна уверенно следовала заданным ею курсом.
Единственное, о чем могла болеть душа Екатерины, так это о невзгодах, постигших ее любимого полководца с воцарением ее любимого внука. Причин того, почему Александр Павлович невзлюбил Михайлу Ларионовича, вероятно, было несколько, и одно недостаточное рвение Кутузова в поиске сбежавшего крепостного парикмахера едва ли явилось достаточным основанием отправить его в отставку. Между царем и генералом, назначенным к тому времени военным губернатором[82] Санкт-Петербурга, наверняка пробегали и другие кошки.
Начать с того, что Александр мог испытывать к Кутузову банальную зависть. Как и любой мужчина на троне, юный император видел себя в будущем великим полководцем. А Кутузов им уже был. Со смертью Суворова он, герой Тавриды, покоритель Бендер и Аккермана, Измаила и Мачинских высот, чудесным образом оправившийся от двух смертельных ран, был самой яркой звездой на русском военном небосклоне.
Кроме того, подобно любому другому государю, Александр мечтал стяжать лавры искусного дипломата. Но и здесь Кутузов, прославившийся своими посольствами в Турцию и Пруссию, мог выложить такие карты, крыть которые императору было нечем.
И, на закуску, Александр, стремившийся, как можно скорее завоевать симпатии общества, столкнулся с тем, что человека, более популярного в свете, чем Кутузов, было еще поискать. Среди мужчин он пользовался безусловным уважением, а благодаря обаянию, обходительности и красноречию дамы благоволели к пятидесятичетырехлетнему генералу ничуть не меньше, чем к статному двадцатичетырехлетнему красавцу императору.
Конкурентов принято устранять, и, увы, внук Екатерины совершил извечную ошибку всех наделенных властью особ: он позволил личным симпатиям и антипатиям взять верх над интересами государства. Придравшись к недостаточно эффективной работе столичной полиции, царь поспешил отправить соперника в отставку.
Впрочем, возможно, зависть была не единственной причиной того, почему Михайла Ларионович оказался не у дел. Если верить психологам, человек ненавидит в других именно те качества, которыми в полной мере наделен он сам, но которые отказывается в себе замечать. Александр I, «настоящий византиец»[83], по мнению Наполеона, и «властитель лукавый», по мнению Пушкина, искренне возмущался тем, что у Кутузова «лживый характер»[84]. Нет бы спокойно признать, что и сам он не слишком-то честен и прямодушен! Глядишь, Михайла Ларионович, родственная императору душа, и продолжал бы спокойно губернаторствовать в Петербурге, руководя строительством Казанского собора, где он двенадцать лет спустя будет погребен…
Однако произошло то, что произошло – отставка. Три года подряд Михайла Ларионович, глубоко переживая, что «все труды и опасности молодых лет», похоже, пропали втуне, приглядывал за тем, какой урожай сняли в его имениях, и надзирал за устройством пивоварни. А в 1805 году продвижение Бонапарта на восток вновь стало угрожать спокойствию Европы. Вступив в альянс с австрийцами, Россия двинула войска навстречу самоуверенному французу. И Александр, скрежетнув зубами, вынужден был признать: более достойного кандидата на должность главнокомандующего, чем Кутузов, у него нет. И в имение Горошки на Волыни[85], где Михайла Ларионович, ни о чем не подозревая, рассчитывал, во что обойдется строительство винокурни, помчался императорский гонец с приказом генералу от инфантерии Голенищеву-Кутузову возглавить армию и выступить в поход.
LV
«…Семья моя цвела вокруг меня, как сад, мною же самой и насаженный…»
– Неужели вы всерьез полагаете, что Бонапарте[86] намерен соблюдать заключенный в Тильзите мир?
– У меня нет оснований полагать что-либо другое.
– Простите, батюшка, но это, по меньшей мере, наивно.
Василиса наблюдала за спором мужа и сына с затаенной улыбкой. Сама она почти не вмешивалась в беседу. Что ей намеренья французского узурпатора, когда она снова видит сына подле себя после трех лет молитв и тревожного ожидания! Вновь он в родительском доме, живой и здоровый, преисполненной заслуженной гордости за победу. Очередное русско-турецкое противостояние закончилось полным разгромом султанской армии и едва ли не полным ее уничтожением.
Иван Антонович несогласно пожал плечами:
– Уж если Наполеон сватался к сестре государя, едва ли он держит в мыслях агрессию против России.
Филарет усмехнулся:
– Да если бы он и стал зятем нашего государя, сие никак не повлияло бы на его планы. Таких завоевателей, как он, останавливает или полный разгром, или смерть, а любые союзы – лишь повод усыпить бдительность союзников. К тому же, в Тильзите он ясно дал понять, что стремится к единоличному главенству в Европе.
– Это каким же образом?
– Бонапарте должен был встретиться с императором Александром на плоту посреди реки Неман, на одинаковом расстоянии от нашей границы и от границы захваченных корсиканцем новых земель. Так было задумано, дабы соблюсти полное равенство сторон при подписании мира. И что же делает узурпатор? Он приказывает гребцам доставить себя на плот на несколько мгновений раньше нашего государя, чтобы встретить его там как хозяин гостя. Разве сие не свидетельствует о его истинных намерениях? Все равно как если бы невеста намеренно обогнала жениха, чтобы первой встать на рушник.
Все взрослые, сидевшие за столом, рассмеялись, а затем призадумались, очевидно, вспоминая, кто же из них ступил на рушник прежде другого во время своего бракосочетания. В тот день все, кого Василиса причисляла к своей семье, были в полном сборе: Филарет с женой Надеждой и их тремя сыновьями и Ольга с мужем (коим закономерно стал Никита Комлев), а также их наследники и наследницы, общим числом пять. Детям, особенно младшим из них, уже наскучила взрослая беседа, и Василиса шепнула дочери и невестке, что пора отпустить их в сад и предоставить самим себе. Май в этом году выдался восхитительным – без обычных черемуховых холодов, на редкость солнечный, теплый и благоуханный.
Глядя на то, как стайка ее внуков, старшему из которых сравнялось шестнадцать, а младшему – шесть, выбирается из-за стола, Василиса с трудом верила в то, что может приходиться им всем бабушкой. Как будто лишь пару недель тому назад живописец Томилин писал ее портрет, а сама она размышляла о будущем сына и дочери. Попробуй-ка осознай, что с той поры минуло осьмнадцать лет, и дети ее обзавелись собственными семьями! Ничто не напоминало Василисе о ее возрасте: тело не обременяли недуги, а душа не уставала удивляться жизни. И зачем обложка «Русского вестника», полученного нынче утром, показывает 1812 год? Не будь его, она бы и не вспомнила о том, что жизнь уже почти что пройдена.
– И слава Богу еще, – продолжал Филарет, – что мы разгромили турок так, что им теперь долго не собраться с силами. Султан определенно поддержал бы Наполеона, реши тот вторгнуться в наши пределы. Нынче же всю армию можно сосредоточить вдоль нашей западной границы, не оттягивая силы на юг.
– Ты так уверенно говоришь о войне с Наполеоном! – с горечью вступила в разговор Василиса.
– Маменька, сие лишь вопрос времени. Со стороны государя было безумием так долго затягивать эту кампанию с турками. Назначь он Кутузова главнокомандующим на пять лет раньше, война продолжалась бы один год вместо шести.
– Странно, что Кутузов вообще получил сие назначение! – с неприязнью в голосе вмешался Иван Антонович. – После аустерлицкого позора лично я не доверил бы ему командовать и пожарной бригадой.
Филарет, протестуя покачал головой:
– Кутузову нельзя ставить в вину Аустерлиц. С самого начала кампании он был главнокомандующим только на бумаге. Государь не любит его – одному Богу известно, за что – и велел во всем подчиняться бездарному австрийскому фельдмаршалу Макку. Вообразите только: Кутузова с его умом и талантом делать пешкой в неумелых руках!
– Я вижу у Кутузова один бесспорный талант – умение создать себе громкую славу, – непримиримо отрезал Иван Антонович.
– А вы-то его за что так не любите, батюшка? – удивился Филарет, заставляя Василису застыть в неподвижности. – Я не видел другого полководца, который бы так заботился о нуждах армии, как он. Если б вам довелось с ним служить, вы бы сами стали тому свидетелем. Во время той злополучной кампании 1805 года он заметил, как рвутся у солдат сапоги на каменистых дорогах, и попросил австрийцев доставить сапожников на предполагаемые места привалов. Сам следил за тем, чтобы наши доблестные союзники не урезали солдатский паек, и во все солдатские нужды вникал лично.
Василиса думала, что мужу будет нечем крыть такую карту, но он неприязненно сказал:
– Я знаю его с другой стороны. Мне приходилось иметь с ним дело под Очаковом. И, доложу я вам, коварства ему не занимать.
Филарет пожал плечами:
– Полководцу и не пристало быть прямодушным, так же, как и врачу – излишне чувствительным. Вот, например, наш противник в этой турецкой кампании – Ахмет-паша – был давним знакомым, даже приятелем Кутузова. Они сдружились, кажется, во время его посольства в Стамбул. И что же? Когда нам понадобилось собрать сведения о намерениях турок, Кутузов, вполне по-дружески, затеял с пашой переписку. А в ней намекнул, что государь не прочь начать мирные переговоры. Паша ему поверил и не усомнился в том, что наш главнокомандующий действительно долго ждет ответа из Петербурга. А тем временем один из приближенных паши разузнал его планы, а заодно и продал нам четыреста кораблей, на которых янычары собирались форсировать Дунай. Представьте себе, каково пришлось паше, когда он осознал, что мира не предвидится!
– Да, уверять в своем полном дружелюбии, а потом нанести удар – это кутузовская тактика, – мрачно подтвердил Иван Антонович.
Но Филарет стоял на своем:
– Победителей не судят. Турки еще долго будут помнить Рущук.
Василиса приметила, что Никите Комлеву тоже хочется вступить в разговор, но он решительно не знает, кого из спорщиков поддержать. В пользу шурина говорил опыт: Филарет участвовал и в кампании 1805 года, и в последней русско-турецкой войне. Возразить ему означало выставить себя невежей. В пользу тестя говорили родственные чувства: не ссориться же с родней из-за такой безделицы, как некий генерал!
Поразмыслив, Комлев осторожно спросил:
– Неужели при Аустерлице у Кутузова не было возможности повлиять на исход сражения?
Филарет покачал головой:
– Наш государь возомнил себя Александром Великим[87] и этим испортил все дело. Когда Кутузов уже освободился от подчинения австрийцам, и успешно теснил Наполеона, его величество зачем-то вдруг решили прибыть в армию и сами ее возглавить. И тут Кутузова опять лишают права голоса, всем распоряжаются австрийцы, а конец известен! – Филарет махнул рукой.
На какое-то время все опять замолчали. У Филарета стояла перед глазами та страшная картина, что он наблюдал со своей батареи: проломленный ядрами лед озера и обезумевшие от смертного страха лошади, колотящие по нему копытами. Сотни кавалеристов и пехотинцев, отступавших, в попытке спастись, и не подозревали, что бегут поверх своей будущей могилы.
– У помещицы Гольцовой в том бою погиб сын, – подала голос Ольга.
– А у Кутузова – зять, – парировал Филарет. – Да и сам он был ранен в голову.
– Навылет позади обоих глаз? – хором спросили Василиса с Иваном Антоновичем.
– На сей раз нет, – ответил Филарет, – пуля задела щеку.
– А я слышал, будто бы он опять был ранен смертельно, – снова вступил в разговор Комлев.
– Это его неверно понятые слова. Кутузов назвал своей смертельной раной исход боя. Да уж, достойно его седин было расхлебывать кашу, заваренную Александром и Францем[88]. Если ты – император, сие еще не значит, что ты что-то смыслишь в военном деле! Наполеон был единственным полководцем из них троих[89]. А наш доблестный государь удирал с поля боя так, что по дороге растерял всю свиту! В штабе же он решил подлечить себе нервы вином. Так того не нашлось ни капли – все уже выхлебал австрияк.
У Василисы сжалось сердце. Она, разумеется, и раньше знала о поражении при Аустерлице, но лишь сейчас живо представила себе, что должен был пережить Михайла Ларионович, проиграв бой не по своей вине, но при этом неся всю ответственность за разгром армии.
– Должно полагать, – с надеждой сказала она, – что победой над турками Кутузов вернул себе расположение государя?
– Да кто его знает, – неопределенно ответил Филарет. – Александр так мечтал о лаврах победителя, а при Аустерлице ему надавали пинков. Кто в этом виноват? Конечно, Кутузов! Не себя же винить, в самом-то деле! Так что, боюсь, император едва ли изменит к нему отношение, несмотря на любые победы.
Под вечер, когда Филарет с Надеждой ушли прогуляться в луга над Окой, Ольга укладывала младших детей, а Комлев был чем-то занят со старшими, Василиса стояла на крыльце, глядя на садящееся солнце. Сегодняшний разговор всколыхнул ей душу. А, казалось бы, что ей до Кутузова теперь, когда жизнь их обоих склонилась к закату, так ни разу больше и не переплетясь. Ей исполнилось пятьдесят восемь лет, а ему… он, помнится, был на семь лет ее старше… Да, ему – шестьдесят пять. И осталось обоим всего лишь мирно дожить свои дни в христианском благочестии, ей – благоденствуя в окружении семьи, а ему – искупив Аустерлицкое поражение блестящей победой над турками. Каждый из них достойно заканчивает свой век: ее семья дружна и радостна всем на зависть, и сын, и зять преуспевают, каждый на своем поприще, а дочери и невестке покойно за такими мужьями, как они. Внуки ее веселы и здоровы, окружены родительской заботой и относятся к бабушке с почтением и любовью. Соседи ищут ее общества, а крестьяне молятся на барыню-целительницу. Чего еще желать?
Да и Михайла Ларионович оставит по себе добрую память. Славно повоевал, проявил себя как искусный дипломат, а солдатам был добрым командиром. И когда придет его час отойти к своему Творцу, то Кутузов сделает это со спокойной душой и чувством исполненного долга.
Но почему-то по прошествии стольких лет, проведенных порознь, не оставляет ее то чувство, что их путям еще предстоит пересечься, и нечто чудесное, не менее чудесное, чем некогда возникшая меж ними любовь, станет итогом сей новой встречи.
Из глубины дома тихо вышел и встал рядом с ней на крыльце Иван Антонович. Вопреки своему обыкновению, он не обнял жену при этом и даже не прикоснулся к ней: сегодняшний разговор о Кутузове как будто разъединил супругов.
И, сознавая, что не имеет права задавать мужу подобный вопрос, но не в силах от него удержаться, Василиса спросила:
– Так у тебя с ним вышел разговор там, под Очаковом?
– Да, – сухо сказал Иван Антонович.
– И о чем же?
– Большей частью – о военных вопросах, – тем же тоном ответил муж.
«Большей частью»… А в части меньшей Кутузову наверняка удалось что-то выведать о ней. Василиса с такой тоской взглянула на сбегающие вниз белые ступени, как если бы они были склоном меловой горы близ Ахтиара, и к ней вот-вот должен был подняться молодой офицер с веселым взглядом, любопытствующий, что за отшельница объявилась в заброшенном монастыре.
«Любимый! – вдруг отчетливо раздался в голове Василисы ее собственный голос. – Уж скоро мы будем вместе! Ты и не ждешь меня, но я приду».
LVI
«…И вот – горестное известие для всех нас – французский узурпатор вторгся в наши пределы…»
8 августа 1812 года император Александр стоял у окна в своем кабинете и молча созерцал, как шпиль Петропавловской крепости сияет золотом на фоне собравшихся туч. В руках у него было письмо генерал-губернатора Москвы, Ростопчина, написанное двумя днями ранее.
«Государь! Ваше доверие, занимаемое мною место и моя верность дают мне право говорить Вам правду, которая, может быть, встречает препятствие, чтобы доходить до Вас. Армия и Москва доведены до отчаяния слабостью и бездействием военного министра[90]. В главной квартире[91] спят до десяти часов утра: Багратион почтительно держит себя в стороне, с виду повинуется и, по-видимому, ждет какого-нибудь плохого дела, чтобы предъявить себя командующим обеими армиями.
Москва желает, чтобы командовал Кутузов и двинул Ваши войска: иначе, Государь, не будет единства в действиях, тогда как Наполеон сосредотачивает все в своей голове. Барклай и Багратион могут ли проникнуть в его намерения?..»
Сказать, что в душе у императора стоял мрак, означало ничего не сказать. Кто, как не сам он, Александр, призван возглавить армию в сей тягчайший для родины час! Два месяца тому назад войска Наполеона Бонапарта перешли Неман – границу его империи, и с тех пор только и делали, что преследовали отступающие русские войска, не встречая сколько-нибудь значительного сопротивления. 1-ая и 2-ая Западные армии под командованием Барклая-де-Толли и Багратиона находились на таком расстоянии друг от друга, что лишь отступив на шестьсот верст вглубь страны[92] смогли соединиться под Смоленском, чтобы, наконец, дать отпор неприятелю. И что же? Два дня продолжавшийся бой закончился новым отступлением и торжеством Наполеона.
Александр справедливо полагал, что сей позор имел причиной в том числе и вражду меж Багратионом и Барклаем. Вспыльчивый южанин открыто обвинял сдержанного северянина в нерешительности, даже трусости, и сообщал подобное отношение к главнокомандующему всей армии. Дошло до того, что солдаты стали считать Барклая изменником, коего подкупил Наполеон. Стратегия же Барклая, все отступавшего и отступавшего на восток, увы, ничем не могла опровергнуть сих ужасных слухов. Настораживала солдат и его шотландская фамилия, считавшаяся в армии немецкой. Нет, дальше так продолжаться не может! И над Барклаем, и над Багратионом должен стать кто-то третий, кому они оба подчинились бы беспрекословно и чье имя звучало бы привычно для русского уха, не вызывая настороженности. Помазанник Божий, царствующий монарх, Александр Павлович Романов – вот кто! Однако, третьего дня на военном совете, все его приближенные, как один, принялись отговаривать царя от той высокой миссии, что он задумал на себя возложить. Вполнамека напоминали об Аустерлице, а затем, доведя его до полного бешенства, князь Горчаков, только что ставший военным министром взамен Барклая, принялся убеждать государя, что «вся Россия желает назначения Кутузова».
Вспоминая те унизительные минуты, Александр в ярости скомкал письмо Ростопчина. И тот предлагает Кутузова – сговорились они все, что ли! Мало того, и московское, и петербургское дворянство единодушно выбрало его предводителем своего ополчения. Да что они нашли в этом полном лукавства человеке?! Сам он, Александр, никогда не простит сему одноглазому хитрецу его позорного поведения под Аустерлицем. Тот ведь знал наперед, что предложенная австрийцами диспозиция войск приведет к их разгрому. Знал, но не решился отстоять свою точку зрения перед государем. Видать, боялся вызвать его неудовольствие. А что в итоге вызвал и вспомнить страшно!..
Александр продолжал в ярости стискивать кулаки, чувствуя, как письмо внутри его ладони становится жалким комочком бумаги. Нет, никогда и ни за что Кутузов не встанет во главе армии! Это сделает он сам, император всероссийский, и наконец-то одержит победу над корсиканским наглецом. Велик ли труд проникнуть в его намерения! Наполеон вознамерился сделать Россию частью своей империи, а значит, следует воодушевить армию присутствием в ней государя, а затем дать генеральное сражение – вот и все.
И, уверив себя в своей правоте, Александр немедленно вызвал флигель-адъютанта с тем, чтобы продиктовать и обнародовать принятое решение. Однако мгновение спустя, к полному своему отчаянью обнаружил, что диктует следующее:
«Михайла Ларионович!
Ввиду настоящего положения военных обстоятельств, нахожу нужным назначение над всеми действующими армиями одного общего главнокомандующего.
Известные военные достоинства Ваши, любовь к отечеству и неоднократные опыты отличных подвигов приобретают Вам истинное право на сию мою доверенность.
Избирая Вас для сего важного дела, Я прошу всемогущего Бога, да благословит деяния Ваши к славе российского оружия и да оправдаются тем счастливые надежды, которые отечество на Вас возлагает.
Пребываю Вам всегда благосклонным
Александр»
17 августа экипаж Кутузова подъехал к местечку Царево-Займище, где Барклай-де-Толли рассчитывал дать французам генеральное сражение. В ста семидесяти верстах[93] к востоку от расположения русской армии находилась Москва.
Несмотря на изнурительную неделю пути, а также боли в пояснице, преследовавшие его как результат многих лет, проведенных в седле, настроение фельдмаршала было солнечным. Он победил! Нет, покамест, не француза, а государя-императора, который вынужден был назначить его главнокомандующим. Кутузов с наслаждением представлял себе, как, наверное, мучился Александр, ставя во главе армии того, кого он после Аустерлица предпочел бы вообще не видеть в пределах своей империи. Но, слава Богу, справедливость восторжествовала, и вновь войска ведет он, Кутузов! И едва ли русские солдаты могли желать другого вождя.
Жаль одного: поздно же император сдался и передал ему бразды правления, ох как поздно! Лишь через два месяца после начала войны! И теперь ему предстоит расхлебывать чужие ошибки. О, нет, он не желает сказать ничего дурного ни о честном умнице Барклае, ни о храбреце Багратионе, но Наполеону должны противостоять более хитроумные противники. Не те, что готовы встретиться с ним в бою и умереть с честью, а те, что потихоньку вытянут из него душу и умертвят его самого. Ведь именно это он и собирается сделать.
Кутузов приказал подать себе коня, чтобы объехать войско. Выбираясь из кареты, он решил не водружать себе не голову великолепную генеральскую шляпу с плюмажем, а удовольствовался той фуражкой артиллериста, в которой выезжал из Петербурга. Не возвышаться над солдатом должно ему сейчас, а показать то родство, что есть между ними. Не солдатом ли был он всю свою жизнь? Солдатом (о чем с гордостью говорил своим воспитанникам-кадетам). Только вот дослужиться сему солдату удалось до генерал-фельдмаршала.
К нему подвели невысокого (знали, как ему трудно взбираться в седло), но бодрого, гнедого клеппера[94]. Золотисто-буланый красавец Хан, память о юности и первых победах, пал много лет тому назад, и с тех пор Кутузов так и не нашел ему достойной замены. Какого коня подавали, на того и садился. Но, хоть сии беспрестанно менявшиеся кони всегда бывали хороши, ни один из них не мог сравниться с тем незабвенным скакуном. Хан был привязан к своему наезднику и чувствовал его так, как может чувствовать лишь любящее существо. Ну да полно! Не время предаваться тоскливым воспоминаниям!
Тронув коня, он поехал по направлению к расположившимся на отдых войскам. Завидев его, и солдаты, и офицеры радостно срывались со своих мест, бросались вперед и выстраивались перед фельдмаршалом, словно море, ласково стелющееся к ногам. Точно ветер носились по рядам приветственные восклицания. И впервые после двух месяцев тревожного напряжения, в котором он находился с того момента, как Бонапарте вторгся в Россию, у Кутузова отлегло от сердца: в него верят, и он любим – чего еще желать?
С теплой улыбкой оглядывая восхищенно взирающих на него солдат и офицеров, Кутузов задержал взгляд на одном из них. Тот показался ему знакомым, и фельдмаршал непроизвольно натянул поводья, останавливая коня. Полковник артиллерии, привлекший его внимание, был человеком необычайно приятной наружности. Среднего роста, крепкого телосложения, он невольно обращал на себя взгляд крупно-красивыми чертами лица и бодрым их выражением. Внешность сия показалась Кутузову чрезвычайно знакомой, но память не давала ответа на вопрос, где и когда мог он прежде видеть сего офицера. И, не желая продлевать неловкость, уже привлекавшую к себе внимание, он задал вопрос:
– Как ваша фамилия, господин полковник?
– Благово, ваше высокопревосходительство.
«Ах, вот оно что!»
– Уж не Ивана ли Антоновича сын?
– Так точно, ваше высокопревосходительство.
Офицер выглядел донельзя польщенным. Кутузов же тем временем продолжал расспросы:
– Что ж, батюшка ваш нынче тоже в армии?
– Никак нет, ваше высокопревосходительство. Он в отставке давно.
– Жаль! – сказал Кутузов, изображая глубокое сожаление. – Будь он в наших рядах, я бы не беспокоился за судьбу раненых. Но – даст Бог – и так одолеем француза, верно?
– Непременно одолеем, ваше высокопревосходительство! – сияя, отвечал полковник Благово.
Кутузов милостиво кивнул ему и продолжил объезжать войска. Приветствия продолжали взлетать в воздух, точно брызги разбившейся о берег волны. И до того благостно было у Михайлы Ларионовича на душе, что казалось ему, будто едет он вдоль кромки моря в Тавриде. Только вот лошадка Василисы со своей задумчивой всадницей не ступает с другой стороны.
Несколько позже в тот же день Кутузов осмотрел поле, предназначенное Барклаем для генерального сражения, и решительно отклонил его выбор. В той части, где находились бы тылы, протекала речка с заболоченными берегами. В случае неудачи через болото не отступишь, а, напротив, найдешь в нем смерть. Что ж, предстоит еще немного приблизиться к Москве в поисках места для предстоящей баталии, но сие уже не должно угнетать армию: тот командир, что пользуется полным ее доверием, с нею.
По счастью, долго отступать не пришлось: подходящее для столкновения двух исполинских армий поле было найдено неподалеку от Можайска. Внимательно осмотрев его, Кутузов распорядился разобрать по бревнам несколько деревень, что могли бы стать препятствием на пути у марширующих колонн, и остался вполне удовлетворен представшей взгляду картиной. Местность равнинная, маневрировать на ней легко, и для конницы места достанет. А возвышенности расположены так удачно, что он уже видит, как на них встанут артиллерийские батареи. К тому же поле ограждено рекою с правого фланга, и обойти его не представляется возможным. Левый фланг прикрыт хуже – редкий лес да кусты. Ну да есть еще время укрепить его.
Выехав со штабными офицерами далеко вперед армии, дабы осмотреть сие поле при селе Бородине, Кутузов затем вернулся к расположившимся на отдых войскам. Сейчас, когда жребий относительно места баталии был уже брошен, он мог позволить себе отвлечься на размышления о том, что стояло у него в голове все эти дни: каким образом удалось ему узнать сына Василисы? Восстанавливая в памяти его лицо, Кутузов не улавливал в нем не малейшего сходства с чертами штаб-лекаря Благово. Ни овал лица, ни форма носа, лба или губ решительно ничем не походили на те, что так хорошо запечатлелись у него в памяти во время ночного разговора под Очаковом. А телосложение – тем паче: тот был худощав и довольно высок, этот – роста среднего и коренаст. Что до сходства с матерью, то о ней напоминали, может быть, чуть опущенные уголки глаз. Но, могло ли одно это привлечь его внимание к сему офицеру и выделить полковника Благово из множества других? Едва ли. Что же тогда бросилось ему в глаза?
Кутузов задумчиво прошелся по горнице деревенской избы, что он занимал, и посмотрел в окно. Там, у колодца, светловолосая девушка с ведрами, полными воды, не спешила поднимать их на коромысло, а заигрывала с ласково глядящим на нее парнем, чьи темно-русые кудри перебирал ветер. Да, вот что еще любопытно: и Василиса и муж ее были, как брат и сестра схожи льняным цветом волос и серыми глазами. В кого же их сыну было уродиться кареглазым и от кого получить в наследство столь красивый, сочно-каштановый цвет волос?
Не веря мгновенно вспыхнувшей догадке, Кутузов сперва оцепенел. Затем прошептал старое, как мир: «Этого не может быть!» Но затем, быстро двинувшись к столу, водрузил на него бумагу и перо с чернильницей и принялся выписывать одному ему известные даты и производить подсчеты.
Полковник артиллерии, Филарет Благово отнюдь не удивился, когда, три дня спустя после того, как фельдмаршал обратил на него внимание, он получил приказ явиться к Кутузову. Очевидно, что главнокомандующий пользуется случаем что-то разузнать о своем старом боевом товарище. Однако к избе, где размещался Кутузов, шагал он не слишком охотно, испытывая чувство неловкости, а то и стыда. И что ему рассказать о своем отце, помимо того, что жизнь батюшки протекает в полном покое без тревог, порывов и свершений? Как и любой взрослый человек, Филарет лишь обрывочно помнил проведенное в Севастополе детство, когда Иван Антонович служил врачом в местном госпитале, все же отрочество его и зрелые годы прошли при виде родителя, отошедшего от дел и ничем не могущего подать ему пример. Если б тот, по крайности, производил какие-нибудь усовершенствования в ведении хозяйства, что увеличили бы их доход! Но нет, Иван Антонович хозяйствовал по старинке, и дела, хоть и поправились после смерти его матери, но сильно вперед не продвинулись. А как, право, горько, когда отец не становится героем для своего взрослеющего сына! Тому волей-неволей приходится искать другой предмет для восхищения.
И когда фельдмаршал (как и ожидалось) любезно пригласил его к столу и с доброжелательной улыбкой принялся расспрашивать о семье, Филарет пришел в еще большее смятение. Вот он, настоящий герой, тот, кто перед ним! А про кого ему повествовать прикажете? Про ничем не примечательного помещика, при первой же возможности ускользнувшего от столь благородной медицинской службы? А ведь батюшка мог бы и в ополчение записаться, невзирая на свои лета. Уж врача-то в любом возрасте приняли бы с распростертыми объятьями.
Кутузов прекрасно видел, как тушуется полковник Благово, рассказывая об отце, и счел сие прекрасным поводом перейти к расспросам о матери:
– А что матушка ваша? – спросил он как бы невзначай, ничем не выдавая свое истинное любопытство. – Она, помнится, тоже подвизалась на медицинском поприще?
Матушка! О, тут у Филарета развязался язык. В отличие от отца, мать была им не только любима, но и вызывала сыновнюю гордость. И тут Кутузову пришлось выслушать упоенный рассказ о том, какой искусной целительницей стала Василиса, как идут к ней на поклон пациенты из далеко отстоящих от их имения мест, и как не гнушается она никем, готовая помочь и соседке-графине и последней нищей сироте в их деревне. Однако сие повествование, произведя на Кутузова большое впечатление, ничем, в сущности, не удивило его. И даже история о том, как женщине удалось предотвратить холерный бунт, заставила его восхищенно покачать головой, но не поразиться: Василиса с ее любовью к людям и бесстрашием оставалась все той же, сам он ни на мгновенье не усомнился бы в том, что именно такую жизнь и суждено ей вести.
Но странное чувство испытывал он во время сего разговора: словно бы годы, проведенные в разлуке с нею, незаметно выскользнули из жизни и вновь поставили его лицом к лицу с юностью. Василиса все та же… Он не мог и не хотел расспрашивать сына о том, как нынче выглядит его матушка, предпочитая представлять свою любовь такой, какой она была в час их прощания – двадцатитрехлетней. Она все та же и она рядом – такое же чувство испытал он и в ночь, когда благодаря ее простодушному мужу и кстати попавшемуся на глаза портрету узнал о сохраненном ею чувстве к нему. Нынче же и каверзных расспросов не надо: ведь свидетельство того, что Василиса не может о нем не вспоминать, сидит сейчас перед ним и ведет с ним беседу. Как в зеркало он смотрит в лицо сего молодого полковника и видит себя в его летах. Так вот что заставило его по приезде в армию сразу задержать на сем артиллеристе взгляд – очевидное сходство с самим собой! Впрочем, не мешало бы все же полностью удостовериться в своей догадке.
– Стало быть, живете вы сейчас под Калугой, – подытожил он. – Да, места красивые, но с Севастополем все же не сравнятся: там одно море чего стоит!
– Я надеюсь когда-нибудь снова попасть в Тавриду, – откровенничал Филарет, проникавшийся к фельдмаршалу все большим доверием и симпатией. – Хоть я и был еще мальчишкой, когда мы уехали оттуда, но родные края забыть не могу.
– Вы наверняка там рано или поздно побываете опять, – заверил его Кутузов. – В Тавриде и вокруг нее, в бывших владениях Оттоманской Порты частенько бывает неспокойно. Я там свое уже отвоевал, – улыбнулся он, – а вам еще предстоит. Вы-то в отставку не собираетесь, я надеюсь?
– Как можно, ваше высокопревосходительство!
Кутузов поощрительно кивнул:
– Да, ваши годы – лучшие для того, чтобы создать себе имя. Кстати, а лет-то вам сколько?
– Тридцать четыре исполнилось.
«Да, совпадает».
– Хороший возраст! – заставил себя заговорить Кутузов, у которого сей ответ, хоть фельдмаршал и был к нему готов, не мог не всколыхнуть душу. – Для человека военного – самый лучший. И сил – море, и опыта уж набралось. Если еще и чутьем обладать, то такому полководцу и вовсе цены нет.
Он пристально посмотрел на Филарета:
– Приходилось вам, господин полковник, когда-нибудь предугадывать события?
– Доселе в том не было нужды, – растерянно ответил полковник.
– А давайте-ка проверим, способны вы на это, или нет! – с виду шутливо предложил Кутузов. – Как считаете: разобьем мы француза к вашим именинам?
Тут он к досаде своей осознал, что Василиса, наверняка, назвала сына в честь собственного отца, а не по святцам[95]. А потому именины полковника Благово могут отстоять довольно далеко от дня его рожденья, который и был настоящим предметом вопроса. Но тут Филарет сам невольно пришел ему на помощь:
– К именинам – навряд ли; они у меня – первого декабря. А вот к дню рожденья уже должны.
– И когда же вы родились?
– В апреле. Первого числа.
«Все совпадает. В точности».
В следующее мгновение, безумное, непередаваемое мгновение, в коем сплелись и гордость, и горечь, и трепет, и торжество, Кутузов едва удержался от того, чтобы не раскрыть Филарету правду. Сказать ему все, как есть, и будь что будет! Кто его знает, осудит или, напротив, возрадуется? Как бы там ни было, пусть знает! Ведь невозможно удержать в себе такое, каким бы дипломатом и стратегом ты ни был!
Слова так и горели у него на языке, и единственное, что остановило Михайлу Ларионовича – это мысль о Василисе. Нет, ее он не имеет права чернить в глазах собственного сына.
– Вот ведь старые раны, – проговорил Кутузов, наконец. – Вроде бы, и жив после них остался, а вот замру иной раз, как неживой.
Филарет смотрел на него с тревогой и участием.
– Верно, пора мне сегодня на покой, – тяжелым голосом сказал Кутузов, и Филарет тут же поднялся. – Нет, погодите, господин полковник, я имею сказать вам кое что еще …
Он медлил, совершенно не представляя себе, что скажет в следующий миг.
– Нам предстоит генеральное сражение, – заговорил он, наконец, – о чем вы, конечно, осведомлены?
Филарет кивнул.
– Размах его будет таков, – продолжал фельдмаршал, – что я уже заранее вижу, что имеющихся у меня адъютантов мне не достанет. Я охотно добавил бы к их числу еще одного: человека умного и настоящего боевого офицера, хорошо умеющего оценить обстановку на поле боя. Именно таким вы мне и представляетесь.
Он поднял взгляд на Филарета:
– Что скажете на это предложение?
Тот казался ошеломленным.
– Должен ли я расценивать сие как приказ, ваше высокопревосходительство?
– Я бы очень хотел видеть вас своим адъютантом, – медленно проговорил Кутузов.
Он видел, как борются чувства на лице полковника Благово и, прежде, чем тот заговорил, уже понял, что потерпел поражение:
– Ваше высокопревосходительство! Если ваше пожелание – приказ, то я, разумеется, повинуюсь ему. Но если у меня есть право выбора, то, при всем моем глубочайшем уважении к вам и при том, что сие предложение для меня более чем лестно, я предпочел бы остаться в своей нынешней должности.
На мгновение Кутузов задумался: а что если приказать? Удержать его подле себя на время предстоящего кошмарного кровопролития и тем самым почти наверняка сохранить ему жизнь. Каждый ведь полагает, что в бою убьют кого угодно, только не его…
Однако вслед за тем он поставил себя на место Филарета и понял, что сим приказом воздвиг бы стену насмешек, а, возможно, и презрения между полковником и его товарищами по оружию. Ведь как все стало бы выглядеть в их глазах? За отцовские заслуги главнокомандующий берет сына под свое крыло… Нет, в принципе сие было в порядке вещей, но накануне генерального сражения подтекст становился совершенно очевиден: Благово не хотят подставлять под пули. Да, человек отважный побоится быть униженным этим в глазах соратников и приказу подчинится с камнем на сердце.
Он сидел и молчал, не имея душевных сил ни отпустить Филарета, ни насильно оставить его подле себя. Прошлое, настоящее и будущее теснили его, объединившись, как неприятельские войска, и он едва выдерживал их натиск. Его единственный сын рядом, однако, не знает о том, нося чужое отчество и чужую фамилию. И Василиса рядом – что там езды до Калуги! – однако, она так же недосягаема, как мечта, виденье, воспоминание. И смерть рядом – скольких накроет она своим черным крылом через считанные дни! – а противостоять ей нечем. Армия жаждет горячей схватки, император и его двор желают красивой победы, Наполеон спит и видит, как разгромит бегущих от него русских, и он, Кутузов, пожалуй, единственный человек во всей стране, который предпочел бы отступать и дальше, имей он такую возможность. Но нет, ему не дадут отступить, изматывая Бонапарта, и заставят дать сей заранее ненавистный ему бой, где, возможно, его сын, тот единственный, которого ему довелось увидеть… Кутузов устрашился додумывать эту мысль до конца.
– Ну, что ж, невольник – не богомольник, – с усилием выговорил он, поднимая взгляд на Филарета. – Оставайтесь в своей нынешней должности, коли хотите. Но в таком случае я желаю вам, Филарет Иванович…
Осекшись, он через несколько мгновений собрался с духом:
– Я желаю нам с вами увидеть друг друга в живых по окончании сего сражения.
LVII
«…Лишь по возвращении нашей армии из Парижа узнала я с содроганием всю правду о том кровопролитнейшем из боев…»
Из воспоминаний генерала Жан-Жака Пеле, в 1812 году начальника дивизионного штаба наполеоновской молодой гвардии:
«…Наполеон давший и выигравший более сражений, нежели кто либо другой во все времена, не переставал говорить, что «Бородинское сражение было самое прекрасное и самое грозное, что французы показали себя достойными победы, a русские заслужили право быть непобедимыми». Он говорил также на острове Св. Елены, что: «из пятидесяти, данных им, сражений, в Бородинском было проявлено наиболее доблестей и получено наименее последствий…»
После переправы через Неман, Наполеон постарался разделить русские силы, и сразиться с ними поочередно. Сражение, которого он желал, чтобы дать характер этой кампании, казалось, убегало от него. Ничто не было решено при Смоленске. Древнее Государство Царей не было тронуто ни в своей поземельной области, ни в своих действительных силах. Наполеон не мог подвинуть далее свои завоевания, не разбив армию. Для вступления в неприятельскую столицу нужна была громкая победа. Или расширение завоевания, или занятие столицы, были необходимы для того, чтобы принудить к миру неприятеля.
Русские генералы призвали к начальствованию Кутузова, известного Аустерлицким поражением и незначительными успехами против турок. Этот генерал продолжал отступление, которое ему надлежало прекратить…»
Из воспоминаний Федора Николаевича Глинки, в 1812 году адъютанта генерала Милорадовича:
«…Наконец прибыл сей лаврами и сединами увенчанный вождь. Радость войск неописуема. У всех лица сделались светлее, и военные беседы вокруг огней радостнее. Дымные поля биваков начинают оглашаться песнями.
Когда Светлейший Князь объезжал в первый раз полки, солдаты засуетились было, начали чиститься, тянуться и строиться. «Не надо! Ничего этого не надо! – говорил князь. – Я приехал только посмотреть, здоровы ли вы, дети мои! Солдату в походе не о щегольстве думать: ему надобно отдыхать после трудов и готовиться к победе». В другой раз, увидев, что обоз какого-то генерала мешает идти полкам, он тотчас велел освободить дорогу и громко говорил: «Солдату в походе каждый шаг дорог, скорей придет – больше отдыхать будет!» Такие слова главнокомандующего все войско наполнили к нему доверенностью и любовью. «Вот то-то приехал наш «батюшка»! – говорили солдаты, – он все наши нужды знает: как не подраться с ним»; в глазах его «все до одного рады головы положить». Быть великому сражению!..»
Из воспоминаний Ивана Федоровича Паскевича, в 1812 году генерал-майора, командира 26-ой пехотной дивизии:
«…В Можайске Кутузов встретил генерала Беннигсена, который, ничем не командуя, ехал позади армии. Назначив его начальником штаба армии, Кутузов поручил ему отыскать позицию, Беннигсен избрал Бородинское поле…»
Из воспоминаний Николая Ивановича Андреева, в 1812 году офицера 50-го егерского полка:
«…Армия наша, кроме двух дней после Смоленска, везде имела продовольствие отличное: хлеба, мяса и вина всегда было довольно, даже с избытком. Спасибо командирам-отцам, мы были сыты вдоволь. Поговаривали, что Кутузов, приняв армию, даст потешиться нашим и остановит француза; но впоследствии оказалось, что Наполеон очень желал чаще сражений и бесился, что мы отступаем без боя, полагая своим множеством народа уничтожить нашу небольшую армию. Ошибся голубчик в расчете, сам себя скорее уничтожил. Кутузов и подлинно хотел дать сражение в Царевом Займище, но нашел, что позиция невыгодна и отступил до Бородина, близ города Можайска в 9 верстах, а от Москвы в 90-та…»
Из воспоминаний Паскевича:
«…Правый фланг Бородинской позиции примыкал к лесу, за полверсты от реки Москвы. Фронт правого крыла и центр до села Бородина прикрывала речка Колоча, текущая в глубоком овраге. Левое крыло от высот Бородинских простиралось до кустарников, находившихся по левую сторону деревни Семеновской. Несколько оврагов и кустарники только отчасти защищали фронт левого крыла.
Позиция эта была укреплена искусством. В кустарниках перед фронтом и на левом крыле рассыпаны были егеря. Наконец, для наблюдения движения неприятеля против левого фланга в 900 саженях перед фронтом был построен редут впереди села Шевардина…»
Из воспоминаний Авраама Сергеевича Норова, в 1812 году 17-летнего юнкера:
«…Войска, по мере того как подходили, выстраивались на предварительно назначенных им местах, и, когда мы подошли, уже почти на всех гребнях возвышенной площади этой местности сверкали сталь штыков, медь орудий и разносились слитые голоса полчищ и ржание коней. Мы не имели времени оглядеться в первый день, усталые от похода и занятые размещением орудий, коновязи, обоза и, наконец, своих бивуаков; нам казалось, что мы пришли как бы на стоянку. И подлинно, для скольких тысяч из нас это место сделалось вечною стоянкою!..»
Из воспоминаний Павла Сергеевича Пущина, в 1812 году ротного капитана:
«…Наш корпус вошел в Московскую губернию и в 10 часов утра раскинул лагерь у Бородино. Ожидаем нападения неприятеля на эти позиции. Слышна сильная пальба в авангарде. Стало известно, что вчера французский отряд в 200 человек напал на крестьян князя Голицына в лесу, да они от него спрятались. Крестьяне отбили атаку эту, убили у неприятеля 45 человек, а 50 взяли в плен. Замечательно, что даже женщины дрались с ожесточением. Среди убитых одна девушка 18 лет, особенно храбро сражавшаяся, которая получила смертельный удар. Она обладала присутствием силы духа настолько, что вонзила нож французу, выстрелившему в нее, и испустила дух, отомстив…»
Из воспоминаний Паскевича:
«…25-го числа Наполеон, убедясь, что слабейшею частию нашей позиции был левый фланг, сосредоточил силы свои в центре и на правом своем фланге…»
Из воспоминаний Норова:
«…Вопреки моим ожиданиям, следующий день, 25 августа, пошел миролюбиво для обеих армий. Глубоко-трогательное зрелище происходило в этот день, когда образ Смоленской Божьей Матери при церковном шествии и с молебным пением был обносим по рядам армии. Теплое религиозное чувство привело в движение все войско; толпы солдат и ратников поверглись на землю, все желали хотя бы коснуться иконы; с жадностью прислушивались к молебному пению, которое для многих из них делалось панихидою, – они это знали, и на многих ратниках, у которых на шапках сияли кресты, были надеты белые рубашки. Вся наша армия походила тогда на армию крестоносцев, и, конечно, наши противники были не лучше мусульман: те призывали аллаха, а у французов имя Божие едва ли было у кого на устах. Кутузов помолился пред иконою и объехал всю армию, громко приветствуемый ею…»
Из воспоминаний Пеле:
«…Две первые армии в мире готовились оспаривать скипетр Европы. С одной стороны были двадцать лет триумфов, искусство и привычка к войне, превосходная организация, храбрость блестящая и просвещенная, доверие, основанное на постоянных победах, пылкость, которую одна смерть могла остановить. С другой стороны – желание восстановить старинную известность и заставить забыть многочисленные неудачи, преданность слепая и храбрость бездейственная, страдательное повиновение, выработанное железною дисциплиною, наконец, решимость умереть скорее, чем уступить. Армия древних скифов защищает землю, на которой она родилась, и свои храмы, единственный очаг, который рабство позволяет ей знать…»
Из воспоминаний Глинки:
«…Все безмолвствует!.. Русские, с чистой, безупречной совестью, тихо дремлют, облегши дымящиеся огни. Сторожевые цепи пересылают одна другой протяжные отголоски. Эхо чуть вторит им. На облачном небе изредка искрятся звезды. Так все спокойно на нашей стороне.
Напротив того: ярко блещут устроенные огни в таборах[96] неприятельских; музыка, пение, трубные голоса в крики по всему их стану разносятся. Вот слышны восклицания! Вот еще другие!.. Они, верно, приветствуют разъезжающего по строям Наполеона. Точно так было перед Аустерлицким сражением. Что будет завтра?..»
Из воспоминаний Пеле:
«…7-го числа, на рассвете, во французских рядах прочитали Императорскую прокламацию, которая воспламеняет эти благородные сердца, которая заставит биться благородные сердца всех стран и всех веков. «Солдаты! – говорит Император, – вот сражение, которого вы так желали! Отныне победа, зависит от вас; она нам необходима; она доставит нам изобилие, хорошие зимние квартиры и скорое возвращение в отечество. Ведите себя как под Аустерлицем, и пусть самое отдаленное потомство с гордостью помянет ваше поведение в этот день. Пусть скажут о вас: «Он был в этом великом сражении под стенами Москвы». Солдаты отвечают радостными восклицаниями; они говорят Наполеону: «Будь покоен: сегодня все мы клялись победить, и победим».
Из воспоминаний Андреева:
«…С 25-го на 26-е в ночи, близко нас, у неприятеля пели песни, били барабаны, музыка гремела, и на рассвете увидали мы вырубленный лес, и против нас, где был лес, явилась огромная батарея. Лишь только была заря, то зрелище открылось необыкновенное: гром орудий до того, что не слышно было до полудня ружейного выстрела, все сплошной огонь пушек. Говорят, что небо горело, но вряд ли кто видел небо за беспрестанным дымом…»
Из воспоминаний Норова:
«…Мы поздно полегли спать не раздеваясь, не помышляя, что несколько сот жерл неприятельских орудий смотрят уже на нас с противной стороны, ожидая рассвета. Ночь была свежая и ясная. Самый крепкий и приятный сон наш на заре был внезапно прерван ружейными перекатами: это была атака на гвардейских егерей в Бородине, и почти вслед за тем заревела артиллерия и слилась в один громовой гул. «Становись!» – раздалось по рядам. Быстро припряжены были лошади к орудиям и зарядным ящикам. Несколько ядер с визгом шмыгнуло уже мимо нас. Разговоры наши заметно были серьезны; всякий чувствовал, что он стоит на рубеже вечности. Преображенцы вскоре нас оставили: у них уже начались некоторые кровавые сцены. Мы узнали, что полковник Баранцев, который часто утешал нас своею гитарою, наигрывая своего сочинения романс: «Девицы, если не хотите подвергнуться любви бедам…», бывший тогда в большом ходу, объезжая свой батальон, был перерван ядром…»
Из воспоминаний Глинки:
«…Застонала земля и пробудила спавших на ней воинов. 2000 пушек гремели беспрерывно. Тяжко вздыхали окрестности – и земля, казалось, шаталась под бременем сражающихся. Французы метались с диким остервенением; русские стояли с неподвижностью твердейших стен. Одни стремились дорваться до вожделенного конца всем трудам и дальним походам, загрести сокровища, им обещанные, и насладиться всеми утехами жизни в древней знаменитой столице России; другие помнили, что заслоняют собой эту самую столицу – сердце России и мать городов. Оскорбленная вера, разоренные области, поруганные алтари и прахи отцов, обиженные в могилах, громко вопияли о мщении и мужестве…»
Из воспоминаний Норова:
«…Несмотря на преклонность лет своих, Кутузов с самого начала битвы до конца, как капитан корабля на палубе, с высот, прилежащих к Горкам, следил за всеми фазисами битвы, непоколебимо выслушивая все привозимые ему донесения, как хорошие, так и дурные, за которыми, когда требовала необходимость, делались им немедленно распоряжения. Таким образом, в одно время оставив свою скамейку, он сел на лошадь и, находясь под выстрелами, велел Милорадовичу с пехотным корпусом графа Остермана и с кавалерийским Корфа идти на подкрепление центра, когда неприятель штурмовал батарею Раевского…»
Из воспоминаний Тихонова, в 1812 году унтер-офицера:
«…То наша пехота оправится, вперед пойдет, то кавалерия наша пойдет выручать пехоту, то французские шассеры наскочат на пушки, пойдут артиллеристов рубить. Горькая, сударь, артиллерийская служба, самая тяжелая. Палят по ним из пушек больше, чем по ком-либо, и стрелки их донимают, подбивают пушки, ящики взрывают; а тут либо пехота навалит, либо конница наскачет; ружья нет, отбивайся, как знаешь, а то, жди: «Отцы, мол, родные, выручайте!»
Из воспоминаний Норова:
«…На пространстве не более двух верст от Горок до Семеновского под покровительством 300 орудий наваливала французская армия одновременно на всю нашу линию, но, приметно стягиваясь на наш левый фланг, который был предметом всех усилий неприятеля…»
Из воспоминаний Тихонова
«…Начальство под Бородином было такое, какого не скоро опять дождемся. Чуть, бывало, кого ранят, глядишь, сейчас на его место двое выскочат. Ротного у нас ранили, понесли мы его на перевязку, встретили за второй линией ратников. «Стой!» кричит нам ротный (а сам бледный, как полотно, губы посинели). «Меня ратнички снесут, а вам баловаться нечего, ступайте в батальон!» Простились мы с ним, больше его не видали. Сказывали, в Можайске его французы из окна выбросили, от того и умер. А то поручика у нас картечью ранило. Снесли мы его за фронт, раскатываем шинель, чтоб на перевязку нести. Лежал он, с закрытыми глазами: очнулся, увидал нас, и говорит: «Что вы, братцы, словно вороны около мертвечины собрались. Ступай в свое место! Могу и без вас умереть!» Когда б не такое начальство, не так бы мы и сражались. Потому что, какое ни будь желанье и усердье, а как видишь, что начальство плошает, так и у самого руки опускаются.
Коновницын, сударь, был такой генерал: что на смотру, что на ученьи, что на полковом празднике, что в деле, всегда одинаковый. Ловкий и распорядительный, спокойный. А ты видишь, что начальник спокоен, ну, и сам не сомневаешься ни в чем.
Про Дохтурова у нас говорили, что коли он где станет, надобно туда команду с рычагами посылать, а так его не сковырнешь. Стойкий был человек, веселый такой и добрый. Старый служака, еще с Суворовым ходил, а, пожалуй, и Румянцева помнил…»
Из воспоминаний Глинки:
«…Неприятель, как туча, засипел, сгустившись, против левого нашего крыла и с быстротой молнии ударил на него, желая все сбить и уничтожить. Но князь Багратион, генерал Тучков, храбрый граф Воронцов и прочие, призвав на помощь Бога, укрепясь своим мужеством и оградясь русскими штыками, отбросили далеко пехоту, дерзко приступавшую к батареям. Пушки наши действовали чудесно. Кирасиры врубались с неимоверной отважностью. Раздраженный неприятель несколько раз повторял свои нападения, и каждый раз был отражен. Поле покрылось грудами тел. Во все это время мелкий огонь гремел неумолчно и небо дымилось на левом крыле. Князь Михаила Ларионович сидел на своей деревянной скамеечке, которую за ним всегда возили, у огня, на середине линий. Он казался очень спокоен. Все смотрели на него и, так сказать, черпали от него в сердца свои спокойствие.
Из воспоминаний Армана Луи де Коленкура, в 1812 году генерала, приближенного Наполеона:
«…Пленных было мало. Русские проявили большую отвагу; укрепления и территория, которые они вынуждены были уступить нам, эвакуировались в порядке. Их ряды не приходили в расстройство; наша артиллерия громила их, кавалерия рубила, пехота брала в штыки, но неприятельские массы трудно было сдвинуть с места; они храбро встречали смерть и лишь медленно уступали нашим отважным атакам. Еще не было случая, чтобы неприятельские позиции подвергались таким яростным и таким планомерным атакам и чтобы их отстаивали с таким упорством. Император много раз повторял, что он не может понять, каким образом редуты и позиции, которые были захвачены с такой отвагой и которые мы так упорно защищали, дали нам лишь небольшое число пленных. Он много раз спрашивал у офицеров, прибывших с донесениями, где пленные, которых должны были взять. Он посылал даже в соответствующие пункты удостовериться, не были ли взяты еще другие пленные. Эти успехи без пленных, без трофеев не удовлетворяли его. Несколько раз во время сражения он говорил князю Невшательскому, а также и мне: «Русские дают убивать себя, как автоматы; взять их нельзя. Наши дела не подвигаются. Это цитадели, которые надо разрушать пушками…»
Из воспоминаний Тихонова
«…Под Бородином, как ударили мы в штыки, погнали француза. Кустики тут попались, продираемся мы сквозь них: я иду, ружье взял наперевес, да прямо против целого французского батальона и вылез. Подскочили ко мне французы, велели бросить ружье, снять перевязь и портупею. А тут, немного погодя, подвели еще наших: драгуна, артиллериста, да гренадер, да пехотинцев несколько. Пришли мы к Шевардину, видим: сам Бонапарт на стуле сидит, насупился. Сейчас подскочит к нам какой-то, мундир весь вышит у него золотом, и спрашивает: «Какой, вы, братцы, дивизии? Какого полку?» Мы молчим. Он ко мне: «Ты, говорит, любезный, не ранен ли?» Злость меня разобрала. Думаю себе: продает, подлая душа, Отечество, да в золотом мундире и щеголяет! Я ему и сказал: «Что уж ты о нас так печалишься! Сам, чай, помирать тоже будешь? Как потянут черти твою душу сквозь ребра, узнаешь, как Богу и Отечеству изменять». А тут подскочил другой, и говорит: «Какого ты есть полку? Сколько в полку солдат? Кто у вас из генеральства забит?» Вижу, поляк, изменник, я ему сказал: «Вот что, почтенный, я у тебя спрошу: где бы тут помочиться?» Близко Бонапарт был, а то не быть бы мне живому: Поляк покраснел, вижу, лопнуть хочет. «Гицель, кричит, кацап! Научу я тебя отвечать начальству!» – «Ладно, думаю, учи, а ты у меня свое съел!»
Из воспоминаний Глинки:
«…Мужество наших войск было неописуемо. Они, казалось, дорожили каждым вершком земли и бились до смерти за каждый шаг. Многие батареи до десяти раз переходили из рук в руки. Сражение горело в глубокой долине и в разных местах, с огнем и громом, на высоты всходило. Густой дым заступил место тумана. Седые облака клубились над левым нашим крылом и заслоняли середину, между тем как на правом сияло полное солнце. И самое светило мало видало таких браней на земле с тех пор, как освещает ее. Сколько потоков крови! Сколько тысяч тел! «Не заглядывайте в этот лесок, – сказал мне один из лекарей, перевязывавший раны, – там целые костры отпиленных рук и ног!» На месте, где перевязывали раны, лужи крови не пересыхали. Нигде не видал я таких ужасных ран. Разбитые головы, оторванные ноги и размозженные руки до плеч были обыкновенны. Те, которые несли раненых, облиты были с головы до ног кровью и мозгом своих товарищей…»
Из воспоминаний Норова:
«…В самое это время вбежала на батарею разнузданная, отличных статей, лошадь. Находка была невелика: у бедной лошади сорвана была оконечность морды, и кровь капала с нее. Остановясь возле лошадей, она жалостно глядела на нас, как бы прося помощи…»
Из воспоминаний Андреева:
«…Был уже 10-й час, пальба пушек не переставала с той же силою. На дороге я видел колонны русских и французов, как в игрушках согнутые карты, поваленные дуновением ветра или пальцем. Картина ужасная».
Из воспоминаний Норова:
«…Только что взвод миновал меня, как упал к моим ногам один из егерей. С ужасом увидел я, что у него сорвано все лицо и лобовая кость, и он в конвульсиях хватался за головной мозг. «Не прикажете ли приколоть?» – сказал мне стоявший возле меня бомбардир. «Вынесите его в кустарник, ребята», – ответил я.
Некоторые из тяжело раненых тут же умирали и тут же предавались земле, и трогательно было видеть заботу, с которою раненые же солдаты и ратники ломали сучки кустов и, связывая их накрест, ставили на могилу…»
Из воспоминаний Пеле:
«…По мере того, как войска Багратиона получали подкрепления, они по трупам павших с величайшею решимостью шли вперед, чтобы возвратить потерянные позиции. Мы видели, как русские массы маневрировали, подобно подвижным редутам, унизанным железом и извергавшим огонь. Посреди открытой местности, и картечь нашей артиллерии и атаки нашей кавалерии и пехоты наносили им огромные уроны. Но пока у них оставалось сколько-нибудь силы, эти храбрые солдаты снова начинали свои атаки…»
Из воспоминаний Ивана Ивановича Лажечникова, в 1812 году ополченца:
«…Все, что делалось в армии, было через несколько часов известно в Москве; каждое биение пульса в русском войске отзывалось в сердце ее. Многие купцы содержали по пути к месту военных действий конных гонцов, которые беспрестанно сновали взад и вперед. Два исполина дрались с ожесточением: француз шел очертя голову в белокаменную и хвалился перед миром победой; русский, истекая кровью, но готовый лучше умереть, чем покориться, сильный еще силою крестного знамения, любви и преданности к государю и отечеству, шел отстаивать святые сорок сороков матушки белокаменной, пока не положит в виду ее костей своих: мертвые бо срама не имут…»
Из воспоминаний Норова:
«…Приближалась к нам небольшая группа, поддерживая полунесомого, но касавшегося одною ногою земли генерала. И кто же был это? Тот, которым доселе почти сверхъестественно держался наш левый фланг – Багратион!..»
Из воспоминаний Гавриила Петровича Мешетича, в 1812 году подпоручика пехоты:
«…Поле брани уже покрылось множеством бездыханных трупов, лощины и кустарники – множеством стонущих, просящих одного – прекращения жизни – раненых; по рытвинам текла ручейками кровь человеческая, с обеих сторон еще падали мертвы герои. Еще гром артиллерии визгом ядер, грохотом гранат, шумом картечи, свистом пуль возвещал желание неприятеля сбить с места россиян, но оные мужественно противились, поражали, падали за Отечество и удивляли самих врагов. Под вечер начал чувствовать совершенную усталость неприятель, не стала слышна ружейная перестрелка, сумрак вечера прекратил и действие артиллерии. Русские провели всю ночь на своих местах, и позиция боевой линии за ними осталась…»
Из воспоминаний Норова:
«…Данилевский, находившийся при Кутузове, сохранил нам приказ его Дохтурову, диктованный в пятом часу пополудни при взрыве лопавшихся вокруг него гранат: «Я из всех движений неприятельских вижу, что он не менее нас ослабел в сие сражение, и потому, завязавши уже дело с ним, решился я завтра возобновить сражение». И только уже по личном свидании с Дохтуровым в одиннадцатом часу вечера, взвеся понесенные в этот день огромные потери, он решил отступление. Увидев Дохтурова, который так достойно заместил Багратиона и отстоял наш левый фланг, Кутузов сказал ему: «Поди ко мне, мой герой, и обними меня. Чем государь может вознаградить тебя?»
Из воспоминаний Сергея Николаевича Глинки, брата Федора Николаевича Глинки, в 1812 году ополченца:
«…На равнине Бородинской, по словам самого Наполеона, он должен был допить чашу вина, налитую в Смоленске. И он испил ее под угасающею звездою прежнего своего счастья. На этом пире кровавом испили чашу смертную девяносто тысяч и сынов России и сынов стран дальних.
Что будет? Богу знать!»
* * *
На вопрос о том, что было дальше, легко ответит любой русский человек, начиная от школьников уже прошедших по истории тему «Отечественная война 1812 года». Вслед за Бородинской битвой, где русские войска отнюдь не потерпели поражения, Кутузов прикажет армии без боя сдать Москву, после чего война будет выиграна. Парадокс на парадоксе, не говоря уже о том, что сам Михайла Ларионович, оставивший врагу столицу, останется при этом в памяти потомков одним из тех редких героев, слава которых поистине народна, общепризнанна и не меркнет ни при каком политическом режиме.
Но феноменальность событий, происходивших в конце лета – начале осени 1812 года еще и в том, что Кутузов, по-видимому, с самого начала знал, что впустить врага в Москву придется. Вот что писал он своей дочери Анне из города Гжатска[97] на Смоленской дороге[98] за неделю до сражения при Бородине:
«…Я твердо верю, что с помощью Бога, который меня не оставлял, поправлю дела в честь России. Но я должен сказать откровенно, что ваше пребывание возле Тарусы мне совсем не нравится. Вы легко можете подвергнуться опасности. Поэтому я хочу, чтобы вы уехали подальше от театра войны. Уезжай же, мой друг! Но я требую, чтобы все сказанное мною было сохранено в глубочайшей тайне, ибо, если это получит огласку, вы мне сильно навредите…»
Анна Михайловна (в замужестве Хитрово) с семьей жила то время в усадьбе Истомино, что западнее Тарусы, примерно в 50-ти километрах от Малоярославца. При отступлении наполеоновской армии из Москвы у стен этого города развернется грандиозное сражение, которое станет поворотным пунктом всей войны. Однако произойдет это почти через два месяца после того, как Кутузов отправит дочери предостерегающее письмо.
Что это было? Прозрение? Или фельдмаршал заранее понимал, что генеральное сражение с Наполеоном не сможет решить судьбу кампании, заранее же решил отдать французу столицу и спланировал свое предстоящее отступление по Калужской дороге?
Скорее всего, второе. Об этом говорят последние слова письма. Совершенно очевидно, что если бы подобные планы полководца вдруг стали известны в Петербурге, то император Александр немедленно прискакал в расположение армии, собственноручно расстрелял Кутузова и, наконец, исполнил свою заветную мечту, возглавив русские войска. После чего проиграл бы кампанию. К счастью для истории этого не произошло, поскольку Анна Михайловна, унаследовавшая отцовскую ловкость и умение держать язык за зубами, скрылась из Истомино совершенно незаметно для соседей.
Интересно задуматься о том, насколько уникальны были события, последовавшие за Бородинской битвой. История знает множество примеров того, как враг занимал столицу государства, но это всегда являлось его величайшим триумфом, а не началом конца. Если же покоренный город и удавалось вернуть обратно, то это требовало новых сражений и новых жертв, не говоря уже о времени, в течение которого проигравшая сторона собиралась с силами. Но чтобы победитель, вступив в столицу державы, не почувствовал ни малейшего дуновения победы, а через месяц сам сбежал из нее, чтобы начать отступление… В такой поворот событий верится с трудом, если не знать наверняка, что однажды в России он имел место.
Что именно натолкнуло Кутузова на мысль, что подобная стратегия увенчается успехом? Если мы окинем взглядом его полководческий путь, то увидим, что он четко делится на два этапа: до 1791 года и начиная с 1805 года. Первый период, когда Кутузов имел дело почти исключительно с турками, отмечен главным образом безудержной храбростью Михайлы Ларионовича, перед которой отступала и сама смерть. Последующие четырнадцать мирных лет, возможно, заставили его поразмыслить о цене, заплаченной за победы, поскольку, выступив против Наполеона в 1805 году, полководец меняет тактику. Теперь он не взлетает на крепостные стены, врубаясь в гущу врагов, а заманивает последних в ловушку отступлением и изнуряет их.
Незадолго до битвы при Аустерлице, стремясь соединиться с идущим к нему навстречу подкреплением, Кутузов за 29 дней отступления преодолевает свыше 400 километров, да так искусно, что превосходящим силам Наполеона не удается не только разбить но и существенно ослабить его войска. Теперь Михайла Ларионович имеет все основания утверждать, что необходимо отступать и дальше, пока союзники[99] не соберут максимальное количество сил, а Наполеон не отдалится от источников снабжения армии. На военном совете, в котором участвуют и Александр I, и австрийский император Франц I, он уверяет:
«…Чем далее завлечем Наполеона, тем он будет слабее, отдалится от своих резервов, и там, в глубине Галиции, я погребу кости французов…»
Ах, почему Александр I не унаследовал таланта своей бабушки грамотно выбирать тех, чьему мнению можно доверять! Не понятно, с какой стати, он был очарован бездарным австрийским генералитетом, предоставив ему право распоряжаться и судьбой русской армии, и судьбой всей кампании. Кутузовский план был отклонен, а менее чем две недели спустя Наполеон нанес русским и австрийцам столь сокрушительное поражение, что впоследствии отзывался о возвеличившей его битве не иначе, как о «солнце Аустерлица».
Итак, первая попытка Михайлы Ларионовича применить новую стратегию провалилась не по его вине. Но вторую ему, к счастью, удалось воплотить в жизнь. Произошло это в ходе той самой русско-турецкой кампании, где Кутузова лишь под конец назначили главнокомандующим. Он не замедлил проявить себя на этом посту:
«Одержанная Вами над верховным визирем победа в 22 день июня покрыла Вас новою славою. Большое превосходство сил неприятельских Вас не остановило. Пятнадцать тысяч храбрых разбили шестидесятитысячные турецкие толпы» – так против воли восторгался Александр I победой Кутузова над турками под крепостью Рущук в 1811 году.
Триумф, действительно, был полнейший: неприятель, обладавший четырехкратным превосходством в силах, наголову разбит! На радостях император одарил Кутузова своим портретом, усыпанным бриллиантами. Султанская армия спешно отступала. В Стамбуле скрежетали зубами. В Париже (поддерживавшем южного врага России) приуныли. Однако всего пять дней спустя Михайла Ларионович отдает приказ… оставить крепость и перебраться на другую сторону Дуная. Стамбул возликовал и осыпал наградами верховного визиря Ахмет-пашу, до сих пор – презренного побежденного, а ныне – победителя неверных. Наполеон открыто насмехался над последствиями Рущукской победы. Император Александр был в ярости, военный министр Барклай-де-Толли – в недоумении, но Кутузов оставался невозмутим: дальнейшее удержание крепости связывало ему руки (там пришлось бы оставить немалый гарнизон), а преследовать султанскую армию оставшимися силами означало пойти на слишком большой риск. Почему бы вместо этого не завлечь врага к себе, используя видимость слабости как приманку?
И враг не замедлил сделать то, что от него ожидалось.
Воодушевленный мнимой победой, Ахмет-паша дождался подкрепления и с огромным войском переправился через Дунай – мстить Кутузову. Тот, же предвкушая именно такое развитие событий, расположил свои войска так, чтобы тут же после переправы взять турецкую армию в кольцо и блокировать ее.
«Необходимо было, – писал Кутузов Барклаю-де-Толли, – запереть неприятеля таким образом, чтобы:
1) стеснить ему способы прокормления конницы, и
2) чтобы толпы их не могли никак объехать наш правый фланг и наделать каких либо шалостей позади нас: тогда бы должно было отделять отряды и гоняться за неприятелем».
В результате через два месяца после переправы 40-тысячная турецкая армия оказалась в полной блокаде. Возглавлявший ее Ахмет-паша, не выдержав позора, бежал в Турцию. Кутузов был не против: теперь ему оставалось лишь методично бомбить турок и ждать развязки. Когда «отборное турецкое воинство» лишилось более двух третей своего состава, Кутузов сам предложил Стамбулу во имя человеколюбия взять остатки турецкой армии «на сохранение», иначе говоря, спасти им, брошенным на произвол судьбы, жизнь. Султаном, согласившимся на это, был Махмуд II, сын Нахши-диль, одной из тех гаремных затворниц, которых в свое время навещал Кутузов. Возможно, именно его мать, чем-то похожая на Василису, и убедила царственного сына в том, что противостоять русскому генералу нет смысла – судя по всему, он явился на свет, чтобы побеждать.
Параллели между этими событиями и теми, что имели место всего год спустя под Москвой, настолько очевидны, что едва ли стоит их перечислять. Выигранный бой – оставленный неприятелю город, за который велось сражение – отступление победителей – преследование их окрыленным врагом – ловушка – разгром. Не говоря уже о том, что позорно бросивший армию Ахмет-паша предвосхитил бегство во Францию Наполеона, пересекшего границу Российской империи куда раньше, чем остатки его «Великой армии».
Итак, выезжая из Петербурга главнокомандующим 11 августа 1812 года, Кутузов, наверняка держал в голове прошлогодний сценарий, принесший столь блестящие плоды. Москва, конечно, не Рущук… Но и ставки в этой новой войне куда выше. А, стало быть, и столицу, скрепя сердце, можно поставить на кон.
LVIII
«…Так посетила я его в последний раз и покинула с томящейся душою, не имея надежды на новую встречу в пределах земных…»
Офицеры главного штаба разошлись, и он остался один. Как часто прежде ему приходилось мечтать об одиночестве, но люди ни на минуту не оставляли его своим присутствием, и даже ночи, когда он был предоставлен самому себе, выдавались редко. Нынче же одиночество казалось убийственным. Немилосердно, как волна, оно затягивало его на самое дно уныния, отрывало от всего света, не давало вздохнуть. Темнота крестьянской избы, где он лишь недавно держал совет со своими генералами, еще больше нагоняла тоску. Ища хоть где-то утешения, Кутузов обратился взглядом к иконам в красном углу, но их в богомольческом усердии столь закоптили лампадой, что и ликов-то было не разобрать, одна чернота.
Тогда он вышел на воздух. Первый день сентября заставлял зябко ежиться – столь силен был северный ветер. Солнце не успевало проступать из-за стремительно летящих облаков, и березы в перелесках взволнованно колыхались, вовсю шумя еще не облетевшими кронами. Прогибалась на ветру и парусина бесчисленных солдатских палаток, словно море затопивших все пространство, доколе хватало глаз. Островком выступали из этой пучины темные избы деревушки Фили, но, огибая их, палаточное море плыло вверх, к Воробьевым горам. С их крутых северных склонов уже открывался вид на Москву-реку, Новодевичий монастырь и московские предместья. Войска отступили до самых стен древней столицы.
А в лагере тем временем шла обычная повседневная суета. Готовили ужин, гнали на водопой лошадей, кто-то куда-то бежал, выполняя чье-то приказание. Но впервые в жизни Кутузов не ощущал никакой связи между собой и подчиненной ему армией. И знал, почему: всем уже известно о его решении сдать Москву. И главнокомандующий больше не герой для своих солдат и офицеров, а тот, кто навлек на них позор. Легко представить, что говорят о нем сейчас за глаза: презирают и поносят на разные лады. И горько сетуют на то, что государь отдал ему бразды правления: будь во главе армии храбрец Багратион, тот не довел бы до такого бесчестия.
Но Петр Багратион мучается сейчас в лазарете, обреченный на верную смерть. Не позволив докторам отнять перебитую осколком снаряда ногу, он охвачен антоновым огнем, и дни его сочтены. Неужто и он перед смертью пошлет проклятие своему старому боевому товарищу? Как проклинают его сейчас те, кто только что покинул военный совет. Кем, любопытно, величает его Беннигсен – трусом или подлецом? И Дохтуров, наверняка, вторит ему слово в слово. Ермолов же должен с возмущением вспоминать, как утром сегодняшнего дня он, Кутузов, прилюдно демонстрировал намерение защищать Москву. (Да, но что ему оставалось делать? Не раскрывать же загодя свой замысел!) И, очевидно, все хором негодуют по поводу того, что даже протокол совета никто не вел: к чему он, если фельдмаршал уже принял свое позорное решение, и выслушать мнения соратников было для него пустой формальностью?
Итак, от него отступились все. Нет ни единого человека, который понял бы его или поддержал. Даже те, кто на совете высказался в пользу оставления Москвы, сознавали вынужденность сей меры и в глубине души, наверняка, сокрушались, что фельдмаршал продолжает отступление после всех жертв Бородина. Нет, ему не у кого искать поддержки и не на кого опереться. Хорошо еще, что он не известил императора о самолично принятом решении оставить столицу! Иначе пару дней спустя получил бы приказ об отставке.
Кутузов вернулся в избу и уселся в горнице поближе к печке. Хотелось тепла, но хозяйка не догадалась, или же поскупилась подбросить в огонь поленьев. Фельдмаршал сам отворил заслонку и принялся раздувать еле тлеющее пламя. Он огляделся в поисках дров, но не обнаружил ни единого смолистого бруска.
Тогда он сел на табурет, прислонился к печи спиной и закрыл глаза. «Боже, чем угодно испытывал ты меня, только не одиночеством. Оттого и не знаю я теперь, как нести сей нежданный крест. И в самые черные минуты меня всегда окружали верные сподвижники; даже мрак Аустерлица и смерть зятя, и помышления дочери о самоубийстве помогли мне вынести они. А как оставался я наедине со смертью, приходила Василиса, и вдвоем удавалось нам устоять. Но теперь я один. Отверженный. Не хуже ли это, чем смерть? По крайности, ничем не лучше. И спасенья от этого нет».
В дверь постучали, и Кутузов позволил войти. На пороге появился его адъютант:
– К вам дама, ваше высокопревосходительство!
– Дама? – усмехнулся Кутузов. – Что, смерть за мной пришла?
– Никак нет, – как и все в армии угнетенный происходящим, не воспринял шутки офицер. – Госпожа Благово, Василиса Филаретовна.
Тут адъютант с изумлением увидел, как преобразилось лицо фельдмаршала. К нему вернулась жизнь, румянец проступил на его щеках, и даже потухший правый глаз в этот миг казался зрячим.
– Проси! – с хрипотцой в голосе приказал Кутузов. – И пока она не выйдет, с донесеньями никого ко мне не пускать. Пусть бы и сам Наполеон пожаловал мира просить – никого, слышишь?
– Так точно, ваше высокопревосходительство!
Кутузов быстро поднялся, сделал несколько шагов к двери и, сдержав себя, остановился на полдороге. Как влажны стали руки и сухо горло! Неужто чувства, давно оставленные за ненадобностью в прошлом, вернулись к нему? Тем временем адъютант вновь отворил дверь, и вошла Василиса.
Она тоже сделала несколько быстрых шагов ему навстречу и так же, как и он, замерла на полпути. В первое мгновение женщина решила, что ее по ошибке привели к кому-то другому. В памяти ее и видениях Михайла Ларионович всегда представал таким, каким был в час их прощания – тридцатилетним. Проведенные же в разлуке тридцать пять лет, Василиса как-то не принимала в расчет. Тот, кто стоял перед нею сейчас, вызывал у женщины непривычное чувство – робость. Он был величествен (другое слово не приходило на ум), вдвое крупнее себя прежнего, с царственной осанкой и привычкой повелевать, отраженной в лице и манере держаться. А невидящий правый глаз его с приспущенным веком заставлял ее робеть еще больше, будто свидетельствовал о том, что фельдмаршалу достаточно и одного ока, чтобы увидеть собеседника насквозь. Годы лишили Кутузова былой привлекательности, но величие, всегда проступавшее в его облике, достигло сейчас своего апогея.
Василиса попыталась произнести слова приветствия, но те словно бы примерзли к языку.
Кутузов не мог не заметить ее смятения и с уязвленным смешком осведомился:
– Что, не узнаешь меня? Постарел?
– Да и я не помолодела, – справилась с собой женщина.
– Нет, не скажи, ты изменилась мало, – внимательно оглядывая ее, возразил Кутузов. – Только глаза погрустнели.
«Всю жизнь без тебя – как не погрустнеть!» – мысленно ответила ему Василиса.
– Чем обязан визитом? – спросил Кутузов. Голос его при этом был не безразлично-светским, а теплым и участливым.
– У тебя во мне нужда была – вот я и пришла, – безыскусно сказала женщина.
– Верно, – странным голосом подтвердил Кутузов. – А откуда ты… Хотя смешной вопрос: ты же всегда знала, когда у меня в тебе нужда – и в Шумлах, и под Очаковом.
Василиса опустила глаза, стесняясь обнаружить свое счастливое волнение. Так значит, он помнит, что был не один в часы борьбы со смертью!
– А я, как о тебе доложили, – продолжал Кутузов, – сперва подумал: ты к сыну приехала – проведать после боя.
Мать оцепенела в тревоге:
– Боя? – переспросила она. – Какого боя? Сын писал, что вы все отступаете.
Кутузов покачал головой:
– Поздно же до Калуги вести доходят! С неделю назад дали мы Бонапарту бой, наконец…
То, как тяжело он замолчал, не закончив своей фразы, нагнало на женщину ледяного страху. В сильнейшем волнении она схватилась рукой за горло, словно кошмарные вести могли захлестнуться на нем петлей.
– Сын жив! – поспешил успокоить ее Кутузов. – Не ранен даже, – со сдержанной улыбкой добавил он.
Страх отпустил Василису; слезы облегчения выступили на глазах.
– Спасибо! – прошептала она.
– И тебе за него спасибо! – сказал в ответ Михайла Ларионович.
Она как будто не удивилась его словам. Он приблизился к ней и всмотрелся в ее лицо – утомленное прожитыми годами, но такое нежное, что хотелось прижать его к своей груди и отныне не разлучаться с ее добротой и любовью. И пусть летят в тартарары тридцать пять лет, проведенные порознь! Она никогда не отпускала его душу, и он не может больше делать вид, что это не так.
Повинуясь порыву, он протянул к ней руку, и она не отстранилась – позволила коснуться своей щеки, виска, волос.
– Филарет не должен знать! – тихо проговорила она, глядя ему в глаза.
– Он не узнает, – заверил ее Кутузов.
– Как ты догадался? – спросила, наконец, Василиса.
Кутузов чуть улыбнулся:
– Обходил строй, оглядывал офицеров и увидел… себя. Молодцом он вырос и в том же чине, что и я в его годы. Ну да в эту кампанию он у меня генералом станет! – гордо закончил он.
– Что генералом! – вздохнула Василиса. – Жив бы остался!
– Бог даст – останется. Я сделал, что мог – в адъютанты к себе его позвал. Да он не согласился.
– Ты и сам, помнится, при штабе не задержался, – с легкой улыбкой напомнила Василиса.
Неловко было и дальше стоять – Кутузов усадил гостью к столу и придвинул свой стул как можно ближе.
– Я и мечтать не мог, что ты приедешь, – признался он, испытывая неловкость от того, что выдает свои чувства. – Теперь хоть словом есть с кем перемолвиться! А то, видишь, сижу один, как перст – сторонятся меня все, как зачумленного.
– Неужто не ты верх одержал? – осторожно спросила женщина.
Кутузов усмехнулся:
– А вот сама посуди, кто из нас верх одержал: француз вернулся на прежние позиции, и мы вернулись. У нас треть армии полегла, сколько у Бонапарта – Бог весть, должно, не меньше. Я императору нашему послал донесение о победе, а Наполеон, верно, себя победителем счел, когда увидел, что мы опять отступаем.
При последних своих словах Кутузов посмотрел куда-то в сторону.
– И Москву сдаем, – голосом человека, терпящего сильную боль, добавил он.
Некоторое время Василиса молчала, проявляя уважение к его беде. Затем мягко проговорила:
– Москва – России не конец. За ней еще Волга, да Урал, да Сибирь, не говоря уж об Ахтиаре.
– Правда твоя, – чуть качнул головой Кутузов, – только раненые, узнав, что я Кремль французу оставляю, повязки срывают и дают себе кровью истечь.
Мысли у Василисы метались: чем ободрить его, по всему видать, павшего духом?
– И раньше Москву неприятель брал. Батюшка сказывал: в Смутное время поляки ее разорили и сожгли дотла. А потом все одно ушли – на пепелище долго не протянешь.
– А не сказывал твой батюшка, – с грустным смешком осведомился Кутузов, – что с тем воеводой сделали, который Москву полякам сдал? Четвертовали или на кол посадили? Хорошо, если сам в бою погиб!
– Времена сейчас другие, – тихо возразила Василиса.
– Верно, другие, – с мукой в голосе проговорил Кутузов, – и бояться мне нечего, кроме как отставки да позора. А стыд не дым, глаза не выест! Буду доживать свой век помещиком и вспоминать, что когда-то победы одерживал.
Он встал и отвернулся к окну, чтобы женщина не видела его лица.
– Нет! – вдруг сорвавшись с места и бросившись к нему, воскликнула Василиса. – Не бывать такому! Помнишь, еще в пещере под Ахтиаром, когда мы только встретились, что я тебе сказала? Что ты изо всех своих сражений победителем выйдешь.
– Твои бы слова – да Богу в уши! – ласково, но горестно произнес Кутузов. – Только сама посуди…
Но женщина решительно покачала головой:
– Рано еще судить! Любую войну конец рассудит. Взять хоть нас с тобой: ты меня другому оставил, а все равно победителем вышел. Никого я, кроме тебя, никогда не любила и вспоминала всю жизнь.
Кутузов напряженно смотрел на нее, и что-то менялось в его лице.
– Стало быть, я победитель? – проговорил он, наконец, и в голосе его проступила былая вера в свои силы.
Василиса горячо кивнула, стремясь поддержать в нем это чувство:
– Ты, а кто же еще? Иначе меня бы здесь не было нынче.
Оба неотрывно смотрели друг на друга: Василиса – с окрыляющей любовью, Кутузов – со все крепнущей уверенностью в себе, и в какое-то мгновение женщина вдруг ясно ощутила: победа! Ее победа над его унынием и горестным надломом его души. В своих глазах он – снова победитель, а значит, скоро станет им и в глазах других.
– Вот как, значит! – взволнованно заговорил Михайла Ларионович, и вид его свидетельствовал о том, что душевные силы вернулись к фельдмаршалу. – Ну, спасибо, пустынница!
Вновь услышав то ласково-насмешливое прозвище, коим Кутузов наградил ее в самом начала их знакомства, Василиса вдруг лишилась самообладания. Безудержный плач овладел ею стремительно, как налетевший ливень овладевает пространством, и женщина беспомощно ощущала, как неумолимо размягчается ее иссохшее от терпения сердце. Вот и свиделись они с Михайлой Ларионовичем. Но как она жила все эти годы, ни разу не взглянув ему в глаза? Как ходила по земле, не ступая с ним бок о бок? Как засыпала ночами, зная, что, проснувшись, не сможет протянуть к нему руки?
– Что это с тобой сделалось? – удивился ее слезам Кутузов. – Или ты победе моей не рада будешь?
– Да я тому не рада, что с жизнью со своею сделала! – простонала в ответ Василиса. – Зачем, когда звал, с тобой не уехала?! Если б все вернуть! Надо было мне грешить с тобой тогда. Грешить и каяться и снова грешить! Ведь я любила тебя и люблю – Бог мне свидетель. Что я, спрашивается, берегла? Не девство же свое!
Кутузов утешительно прикоснулся к ее волосам:
– Ты душу свою берегла, – сказал он, – и правильно делала. Ну, прилепилась бы тогда ко мне и что? Думаешь, продолжал бы я тебя любить? Вот уж уволь! Нешто обозных девок любят? В походе с ними облегчение, а после – с глаз долой.
Василиса, не веря, подняла на него взгляд, но, сколь ни была проницательна, не смогла прочесть в глазах Михайлы Ларионовича, правду он говорит или нет.
– Я смолоду, как петух, девок топтал, – продолжал он тем временем, – и тебя растоптал бы, не задумался. А так… Помирать буду – вспомню: было у меня в жизни что-то святое. Так что правильно ты поступила, не казни себя!
– А если правильно, – упорствовала Василиса, – то почему, с тех пор, как мы расстались, у меня ни единой минуты счастливой в жизни не было? Только дети и утешали.
– Я так думаю, – медленно проговорил Кутузов, – что любовь – она, как радуга, долго не держится. А как промелькнет, каждый ей свою замену находит: кто – в чинах, кто – в деньгах, кто – в трудах. Вы, женщины – в детях. Так что мы с тобой, Васюша, ничего нового на этот счет не придумали: ты без любви прожила достойно, да и мне жаловаться – грех.
– Не согласна я с тобой, – покачала головой Василиса, – да спорить поздно. Но все же, по мне, любовь – не радуга, а солнце. Она до гроба согревать должна.
– Вот давай и останемся каждый при своем, – примирительно сказал Кутузов. – Кстати, печка тут совсем остыла! – уводя разговор в сторону, заметил он.
Василиса по-хозяйски огляделась и за какой-то неприметной серой завеской тут же отыскала дрова. Скоро она уже подкидывала в огонь поленья.
– Я смотрю, ты на все руки мастерица, – покачал головой Кутузов, когда горница наполнилась теплом, – что печь растопить, что из мертвых воскресить. Как ты армию-то нашла, если даже о сражении ничего не знала?
Женщина неловко пожала плечами:
– Да тут не объяснишь… Велела заложить экипаж, выехала на дорогу, а там – как Бог направит, туда и лошадь пускала.
– Завидую тебе! – восхищенно вздохнул Кутузов. – Вот и мне бы так всегда командовать – как Бог направит. А то изволь собирать совет, выслушивать остолопа Беннигсена…
– И на что он тебе сдался этот совет? – улыбалась Василиса. – Все равно же по-своему все повернешь!
– Да проформы ради, – пояснил Кутузов, – иначе завалят государя доносами; их и так строчат потихоньку. Да я не в обиде: пусть себе душу отводят.
Женщина тихо смеялась. За смехом прятала она боль от неизбежно предстоящей разлуки.
– А свидимся еще после войны? – как если бы почувствовав ее мысли, спросил Кутузов.
Прежде, чем ответить, Василиса помедлила, а когда заговорила, почему-то глядя на темнеющие окна, то голос ее звучал с преувеличенным воодушевлением:
– Ну, конечно, свидимся, о чем речь!
Кутузов почувствовал неестественность ее тона и с легкой насмешкой спросил:
– Что, побоишься сызнова меня навестить?
– Я? Побоюсь? – улыбнулась Василиса, которую позабавило сие сочетание слов. – Ты себя спроси, пойдешь ли на это!
Кутузов решительно кивнул, и у женщины на миг остановилось сердце: как ей вновь томиться без него до часа их новой встречи?
– Тогда я буду ждать тебя, – медленно проговорила она, – на эллинском капище, что близ Ахтиара. Помнишь его?
– Как не помнить! – удивился Кутузов. – Но, неужто, поближе места не найдется?
Василиса молча покачала головой.
– Ну, воля твоя, – пожал плечами Кутузов. – Хоть и странно это. Я, положим, на казенных лошадях туда без особых хлопот доберусь, а ты?
– А я тебя там встречу, как доберешься, наконец, – прошептала Василиса. В голосе ее и в глазах уже стояли слезы, и, дабы не омрачать их встречу, она быстро поднялась на ноги.
Поднялся вслед за ней и Кутузов. На лице его было такое выражение, как если бы он намеревался ей что-то предложить, но не решался.
– Мне бы сына повидать! – продолжая бороться с подступающим плачем, попросила Василиса.
Кутузов молча кивнул, но продолжал стоять на месте, ничего не предпринимая. Еще несколько мгновений он удерживал женщину взглядом, а затем поднял ее руку, слегка испачканную сажей, и поднес к своим губам.
– Спасибо тебе! – тихо произнес он, целуя ее холодные от волнения пальцы.
А затем уже совсем другим голосом вызвал стоящего за дверью адъютанта и велел проводить госпожу Благово к сыну, Филарету Благово, полковнику одиннадцатой артиллерийской бригады.
На прощание Василиса оглянулась и дрогнула: Кутузов смотрел на нее так, как и однажды вечером во дворике татарского дома, когда выздоравливал после первого ранения. «Ты для меня одна женщина во всем свете! Лишь с тобой и хочу судьбу свою связать», – услышала она в мыслях произнесенные им тогда слова.
И, сделав глубокий вдох, заставила себя шагнуть прочь из горницы.
LIX
«…Сперва Михайла Ларионович был проклинаем, затем чествуем как победитель, а после изгнания французов за пределы земли русской превозносим до небес…»
10 сентября 1812 года император Александр вновь стоял у окна в своем кабинете и с остановившимся взглядом наблюдал, как немилосердный ветер баламутит воду на Неве, гоня ее в сторону, противоположную течению. В руках он сжимал яростно скомканное письмо генерал-губернатора Москвы, Ростопчина, уже второе за последнюю неделю. Исходя ненавистью, тот сообщал:
«…Отдача Москвы французам поразила умы. Солдаты предались унынию. Генералы в бешенстве, а офицеры громко говорят, что стыдно носить мундир.
Князя Кутузова больше нет – никто его не видит; он все лежит и много спит. Солдат презирает его и ненавидит его. Он ни на что не решается; молоденькая девочка, одетая казаком, много занимает его. Так как распространено мнение, что Кутузов действует по Вашим приказаниям, и, так как объявленная им самим сдача Москвы без сражения поразила всех ужасом, то было бы необходимо, для предотвращения мятежа, отозвать и наказать этого старого болвана и царедворца. Иначе произойдут неисчислимые бедствия…»
Александр чувствовал себя как человек, коего накрыло морской волной и он никак не может выгрести на поверхность, чтобы глотнуть воздуха. Два дня тому назад он и сам в полном замешательстве писал Петру Толстому, командующему войсками нескольких центральных российских губерний:
«… По-видимому, враг впущен в Москву. Я рапортов с 29 августа по сие число от князя Кутузова не имею, но по письму от графа Ростопчина от 1-го сентября извещен Я, что князь Кутузов намерен оставить с армиею Москву. Причина сей непонятной решимости остается мне совершенно сокровенна, и Я не знаю, стыд ли России она принесет, или имеет предметом уловить врага в сети…»
Император был далеко не единственным, у кого волосы шевелились на голове от вестей, доходящих из армии. Несколькими днями ранее Мария Петровна Дохтурова, жена одного из кутузовских военачальников, пробежав глазами письмо мужа, почувствовала слабость в коленях. Дмитрий Сергеевич писал ей:
«… Я, слава Богу, совершенно здоров, но я в отчаянии, что оставляют Москву. Какой ужас! Мы уже по сю сторону столицы. Я прилагаю все старание, чтобы убедить идти врагу навстречу; Беннигсен был того же мнения, он делал, что мог, чтобы уверить, что единственным средством не уступать столицы было бы встретить неприятеля и сразиться с ним. Но это отважное мнение не могло подействовать на этих малодушных людей: мы отступили через город. Какой стыд для русских покинуть отчизну без малейшего ружейного выстрела и без боя! Я взбешен, но что же делать? Следует покориться, потому что над нами, по-видимому, тяготеет кара Божья.
Я полагаю, что мы пойдем по Калужской дороге, но я боюсь, чтобы соседство Москвы не было для вас опасно; любезный друг, если возможно, то переберитесь несколько далее…»
Прерывисто дыша, Мария Петровна опустила письмо. Боже! И сие допустил Кутузов, всегда имевший репутацию храбреца! Спешно кликнув горничную, госпожа Дохтурова велела ей немедля укладывать вещи.
На следующий день после пришедшего с Тульской дороги доноса Ростопчина, Александр с содроганием вскрыл только что доставленный пакет, содержащий рапорт самого Кутузова. Перед тем, как прочесть его, он вынужден был сделать столь глубокий вдох, как если бы собирался нырнуть на глубину:
«… После столь кровопролитного, хотя и победоносного с нашей стороны, от 26-го числа августа, сражения должен я был оставить позицию при Бородине. После сражения того армия была приведена в крайнее расстройство. В таком истощении сил приближались мы к Москве, и на сем недальнем расстоянии не представилось позиции, на которой мог бы я с надежностию принять неприятеля.
Осмеливаюсь всеподданнейше донести Вам, всемилостивейший Государь, что вступление неприятеля в Москву не есть еще покорение России. Напротив того, с войсками, которые успел я спасти, делаю я движение на Тульской дороге. Сие приведет меня в состояние защищать город Тулу, где хранится важнейший оружейный завод, и Брянск, в котором столь же важный литейный двор, и прикрывает мне все ресурсы, в обильнейших наших губерниях заготовленные.
Хотя не отвергаю того, что занятие столицы было раною чувствительнейшею, но теперь, в недальнем расстоянии от Москвы, собрав мои войска, твердой ногою могу ожидать неприятеля. И пока армия Вашего Императорского Величества цела и движима известною храбростию и нашим усердием, дотоле еще возвратная потеря Москвы не есть потеря отечества…»
Александр прислонился к стене, прикрыл глаза и покачал головой, как если бы отказываясь верить в происходящее. И впервые в жизни послал горький упрек своей царственной бабушке, осыпавшей орденами и поднявшей к столь высоким должностям этого… Нет, он не мог подобрать и бранных слов, чтобы в полной мере выразить все, что думал о фельдмаршале Кутузове!
Если Александр ограничивался чтением писем и горькими раздумьями, то офицеры кутузовской армии, не тратя слов на возмущение действиями фельдмаршала, переходили сразу к делу. Да так решительно, что главнокомандующий вынужден был написать атаману Войска Донского, Матвею Платову, следующее:
«… Известился я, будто командиры полков Войска Донского при армии заболели почти все. Таковое известие не могло меня не оскорбить, и я обращаюсь к Вашему Высокопревосходительству с просьбою уведомить меня без отлагательства о причине странного сего случая. Если известие, ко мне дошедшее, справедливо, в таком разе я обязан буду довести о сем до сведения Государя Императора, меж тем не упущу и мер принять, какие высочайшая власть предоставляет мне по долгу службы…»
Все против него! Не говоря уже о французах… Приближенный Наполеона, генерал Арман Луи де Коленкур в эти дни насмешливо писал:
«…Кутузов обманул петербургский двор, общественное мнение и московскую администрацию. Считали, что он одерживает победы. Внезапная эвакуация Москвы разорит русское дворянство и принудит правительство к миру. Дворянство взбешено против Кутузова и против Ростопчина, которые усыпили его лживыми успокоениями…»
И счастье еще, что всеобщее возмущение направлено против него одного, а не против возглавляемой им армии! В день оставления Москвы жители города так встречали солдат, вступающих в столицу, чтобы тут же покинуть ее:
«…По Смоленской дороге показался в клубах пыли обоз, которому не видно было конца. Везли раненых. Поезд тянулся в несколько рядов и затруднился у Драгомиловского моста. Сделалась остановка. Надо было видеть в это время усердие москвичей к воинам, пролившим кровь свою за отечество. Калачи летели в повозки, сыпались деньги пригоршнями, то и дело опорожнялись стаканы и кувшины с квасом и медами; продавцы распоряжались добром своих хозяев, как своею собственностью, не только не боясь взыскания, но еще уверенные в крепком спасибо; восклицаниям сердечного участия, благословениям, предложениям услуг не было конца…»[100]
Кутузов не был свидетелем сей трогательной сцены, узнав о ней впоследствии лишь по рассказам очевидцев. Сознавая, что самого его москвичи встретят отнюдь не так радушно и не желая подвергаться унижению, он велел своему кучеру объехать город по окраинным улицам и соединился с армией у Калужской заставы, где, неожиданно для всех своих сподвижников, приказал начать движение на юго-запад, по Калужской дороге. В то время как небольшой отряд казаков имел от него приказание следовать по дороге Рязанской – на юго-восток – и непременно привлечь к себе внимание французского авангарда, уже вступающего в город.
Внимание привлечь удалось, благодаря чему Наполеон, задержавшийся на несколько часов у той же Драгомиловской заставы в тщетном ожидании символических ключей от города, искренне полагал, что знает, в каком направлении двинулась русская армия.
«…Правда, – отмечал де Коленкур, – он не получил никаких предложений у врат Москвы, но нынешнее состояние русской армии, упадок ее духа, недовольство казаков, впечатление, которое произведет в Петербурге весть о занятии второй русской столицы, – все эти события должны были, говорил император, повлечь за собою предложение мира. Он не мог только объяснить себе движение Кутузова на Казань…»
Пока французский император, чье настроение омрачал один-единственный факт – отсутствие связки ключей от врат Москвы – питал приятные иллюзии, один из офицеров Великой армии, бригадный командир Антуан Дедем, смотрел на вещи куда более реалистично:
«…Был седьмой час вечера, как вдруг раздался выстрел со стороны Калужских ворот. Неприятель взорвал пороховой погреб, что было, по-видимому, условленным сигналом, так как я увидел, что тотчас взвились несколько ракет и полчаса спустя показался огонь в нескольких кварталах города. Только слепой мог не видеть, что это был сигнал к войне не на жизнь, а на смерть…»
Кутузов этого и не отрицал:
«…Подождите, я ему голову проломлю!» – не слишком изысканно, но от души высказывался он в это время в кругу сподвижников, уже начавших смутно сознавать, что, может быть, не все потеряно.
Арман де Коленкур тем временем с ужасом наблюдал за событиями в столице:
«…Пожар распространялся от окраинных предместий, где он начался, к центру. Огонь охватил уже дома вокруг Кремля. Ветер, повернувший немного на запад, помогал огню распространяться с ужасающей силой и далеко разбрасывал огромные головни, которые, падая, как огненный дождь, на расстоянии более ста туазов[101] от горящих домов, зажигали другие дома и не позволяли самым отважным людям оставаться поблизости…»
Антуан Дедем не менее него был потрясен увиденным:
«…Пламя пожара освещало дорогу на расстоянии более двух верст от города; подъезжая к Москве, я увидел целое море огня и так как ветер был очень сильный, то пламя волновалось, как разъяренное море…»
А кавалерия генерала Мюрата все преследовала искренне потешавшихся над ними казаков, уводивших авангард французской армии дальше и дальше на восток. Затем казаки неожиданно пропали, а русская армия так и не появилась, как если бы тысячи людей, лошадей и пушек обладали способностью растворяться в воздухе. Узнав о том, что его противник бесследно исчез, Наполеон в бешенстве вскричал:
«…Они провели Мюрата! Не может быть, чтобы Кутузов оставался на этой дороге; он не прикрывал бы тогда ни Петербурга, ни южных губерний…»
И где же он теперь, этот треклятый одноглазый старый лис? Недели через две разведка на отощавших от бескормицы лошадях, наконец, обнаружила, что Кутузов отступил не на юго-восток, а на юго-запад, разбил там при селе Тарутине укрепленный лагерь и чувствует себя отнюдь не худшим образом. Войска его регулярно пополняются воодушевленными новобранцами, и костров в русском стане пылает столько, что уже не понять, на чьей стороне численный перевес. Один из адъютантов Кутузова, Александр Михайловский-Данилевский, имел все основания восторженно отзываться о тех днях, когда у русской армии открылось второе дыхание:
«…Пребывание в Тарутино было для Кутузова одною из блистательных эпох его достославной жизни. Со времен Пожарского никто не стоял так высоко в России.
В Тарутино в неимоверно краткое время Кутузов привел в самое стройное положение армию, утомленную тысячеверстным отступлением и кровавыми сражениями, вручил народу оружие, осадил Наполеона в Москве и извлекал все выгоды из нового рода войны…»
Одной из несомненных выгод сего рода войны были лихие налеты казаков на московские окраины и регулярное пленение множества французов.
«… Дня не проходит без того, чтобы мне не взяли триста человек в плен…» – удовлетворенно отмечал Кутузов. Великую армию обгрызали, как яблоко, а те, до кого еще не добрались, благодаря их близости к сердцевине, обреченно констатировали:
«… Провести зиму в Москве было немыслимо. Мы пробились до этого города, но ни одна из пройденных нами губерний не была нами покорена. Армия генерала Кутузова сформировалась вновь и начала обходить нас с правого фланга. С другой стороны, мир, заключенный с Турцией, давал армии адмирала Чичагова полную возможность отрезать наши сообщения с Польшей. Чем долее мы оставались в сожженной Москве, тем вернее была наша гибель…»
Отнюдь не один барон Дедем, автор сих строк, предавался в те дни унынию. Но если он смотрел на ход событий глазами стратега, то в глазах наполеоновских солдат, славших письма родным, беда была совсем в другом:
«…Нам нельзя здесь зазимовать; средства наши не позволят нам этого. Пожар, уничтоживший 5/6 города, лишил нас большей части тех средств, на которые мы рассчитывали. Особенно озабочены кавалерией, заметно уже уменьшившейся…»
«…Настоящая война уносит у нас больше всего людей не неприятельским огнем, а болезнями, лишениями и усталостью. Только железное здоровье может выдерживать все это! Мы не замедлим оставить Москву. Эти отчаянные казаки наносят очень много вреда нашему тылу и нашим фуражировкам…»
«…Все эти переходы, в погоню за главной русской армией без возможности догнать ее, только истощают войско. Не сделавши еще ни одного выстрела, солдаты наши приходят легко в страх перед казаками, которые ведут войну на манер мамелюков: окружают войско, испуская дикие крики…»
Наполеон же по-прежнему не хотел видеть очевидного, предпочитая созерцать картины, являвшиеся ему в мечтах:
«…Он заперся в Кремле, как будто выжидая время, тогда как при тогдашних обстоятельствах каждый момент становился драгоценнее. Он все еще хотел заблуждаться. Вообразив, что Александр будет просить мира, он был уверен, что русский император поспешит, по крайней мере, принять этот мир, если тот ему будет предложен…»
Однако французский эмигрант Горрер, оставшийся в Москве при вступлении в нее наполеоновской армии, постарался через доверенных лиц императора развеять его иллюзии:
«…Заключение мира зависит не от императора Александра, а от армии. Фельдмаршал очень честолюбив и тщеславен; могу Вас уверить, что он принял командование армией только в надежде отомстить за Аустерлиц, так как император Александр несправедливо приписывает ему потерю этого сражения. Мир зависит от него; если он пожелает, мир будет заключен, без него сделать этого не удастся…»
И во второй половине сентября 1812 года Кутузов получил из рук наполеоновского посланника, маркиза Жака де Лористона, письмо следующего содержания:
«Князь Кутузов!
Посылаю к Вам одного из Моих генерал-адъютантов для переговоров о многих важных делах. Хочу, чтобы Ваша Светлость поверили тому, что он Вам скажет, особенно когда он выразит Вам чувства уважения и особого внимания, которые я с давних пор питаю к Вам. Не имея сказать ничего другого этим письмом, молю Всевышнего, чтобы он хранил Вас, князь Кутузов, под своим священным и благим покровом.
Наполеон»
Михайла Ларионович не мог слышать, как отправляя де Лористона в Тарутино, Наполеон, едва сдерживая нервозность, дал ему указание: «Мне нужен мир, лишь бы честь была спасена!» Но именно эта фраза была написана на лице почтительно склонившегося перед ним генерала.
Кутузов остался чрезвычайно доволен происходящим: наконец-то его стиль ведения войны оценили по достоинству! Жаль, право, что первыми сие сделали враги, а не соотечественники! Фельдмаршал с наслаждением сообщил де Лористону, что ни один посланник Наполеона не будет пропущен в Петербург с письмом к Александру, он, дескать, сам известит государя о мирном предложении французов. В ответном же послании, Наполеону, написанном несколько дней спустя, издевательски посетовал на то, что «…принимая во внимание дальнее расстояние и дурные дороги в настоящее время года, невозможно, чтобы я мог уже получить ответ по этому поводу…»
И в начале октября, когда холода уже дали о себе знать, Наполеон, так и не дождавшийся вестей из Петербурга, вынужден был покинуть первопрестольную. Неделю спустя его ожидало ожесточенное сражение под Малоярославцем, где, как и при Бородине, обе армии под вечер вернулись на свои позиции, не закрепившись в городе. Но Бонапарт, к тому времени с большим трудом владевший собой, решил с наступлением темноты проверить, не сбежал ли князь Кутузов опять в неизвестном направлении. И… едва не попал в плен к подстерегавшим его казакам; конвой с трудом отбил своего императора. Известие об этом мгновенно распространилось по французской армии, и у Наполеона окончательно сдали нервы. Свернув на Смоленскую дорогу, он начал отступление тем же путем, которым пришел в Россию.
Получив сие воодушевляющее известие, император Александр вынужден был сквозь зубы продиктовать следующее послание:
«Нашему генерал-фельдмаршалу князю Голенищеву-Кутузову
Усердная Ваша служба и многие оказанные Вами знаменитые Отечеству заслуги, а наконец и ныне одержанная победа, обращают вновь на Вас внимание Наше и признательность. В ознаменование которых признали Мы за благо пожаловать Вам золотую с лавровыми венками, украшенную алмазами шпагу…»
Кутузов насмешливо улыбнулся, прочтя сие. А государь-то, похоже, наконец уразумел, кто стоит во главе его армии. Начав преследовать француза, он ясно ощутил, как ангел победы веет на него своими крыльями и, вдыхая уверенность в сердце, влечет на запад. А пустынница-то была права! Изо всех своих сражений он вышел победителем, включая сражение с императором Александром. Стало быть, и смерть от него отступаться будет, пока он сам от жизни не устанет – так, помнится, она напророчила?
И, на мгновение дав сердцу волю, он вдруг почувствовал смертельную тоску. И почему Василиса не стоит с ним сейчас бок о бок, разделяя его радость? Ведь он чуть было не предложил ей остаться подле него там, в Филях, но побоялся опять услышать отказ. Вот ведь проклятье! И отчего любви никогда не находится места в его жизни? Кроме, разве что времени борьбы между жизнью и смертью…
И, дабы отвлечься от некстати нагрянувших мыслей, Михайла Ларионович принялся диктовать адъютанту приказ на имя командира Войска Донского, Матвея Платова, подчиненные которому казачьи есаулы чудесным образом выздоровели сразу после первого письма главнокомандующего. Новый же приказ гласил следующее:
«… Ваше Высокопревосходительство, старайтесь выиграть марш над неприятелем так, чтобы главными силами Вашими делать на отступающие головы его колонн нападения во время марша и беспрестанные ночные тревоги…»
А несколькими днями спустя он сообщит Александру о Платове следующее:
«Всемилостивейший Государь!
Генерал от кавалерии Платов с некоторого времени оказал давнюю свою ревность и действовал неутомимо при всей своей болезни. Кажется, что верх его желаний есть графское титло…»
«Легче выиграть баталию, нежели как всех наградить по их желанию!» – вздохнул Кутузов, заканчивая письмо. – «Но, похоже, тут я угадал: сам в свое время мечтал о графском титуле. Теперь имею и княжеский, а что толку? Хотя лучше, все же, иметь их, нежели не иметь».
Покидая Москву, Наполеон произнес печально-пророческие слова: «Какие ужасные, разрушительные войны последуют за моим первым отступлением!» — но не мог в полной мере представить себе всего ужаса последующих событий. Один из офицеров его армии, де Пюибюск, поведал о них так:
«…Жребий брошен; русские, ретируясь во внутренние свои земли, находят везде сильные подкрепления, и, нет сомнения, что они вступят в битву лишь тогда, когда выгодность места и времени даст им уверенность в успехе.
Сухари все вышли, вина и водки нет ни капли, солдаты наши оставляют свои знамена и расходятся искать пищи; русские мужики, встречая их поодиночке или по нескольку человек, убивают их дубьем, копьями и ружьями.
Уже несколько дней почти нечего есть бедным раненым, которых здесь[102] в госпиталях от 6 до 7 тысяч. Сердце обливается кровью, когда видишь этих храбрых воинов, валяющихся на соломе и не имеющих под головою ничего, кроме трупов своих товарищей. Кто из них в состоянии говорить, тот просит только о куске хлеба или о тряпке, или корпии, чтобы перевязать раны; но ничего этого нет. Голод губит людей. Мертвые тела складывают в кучу, тут же, подле умирающих, на дворах и в садах; нет ни заступов, ни рук, чтобы зарыть их в землю. Они начали уже гнить; нестерпимая вонь на всех улицах еще более увеличивается от городских рвов, где до сих пор навалены большие кучи мертвых тел, а также множество мертвых лошадей покрывают улицы и окрестности города.
После дождя настали морозы, люди гибнут на бивуаках от холода. Русские генералы одели своих солдат в тулупы, хотя те и привыкли к стуже, а наши войска почти голые.
Сегодня мороз 16 градусов. Наши солдаты, прибывшие из Москвы, закутаны иные в шубы мужские и женские, иные в салопы или в шерстяные и шелковые материи, головы и ноги обернуты платками и тряпками. Лица черные, закоптелые; глаза красные, впалые, словом, нет в них и подобия солдат, а более похожи на людей, убежавших из сумасшедшего дома. Изнуренные от голода и стужи они падают на дороге и умирают, и никто из товарищей не протянет им руку помощи. У кого еще остался кусок хлеба или сколько-нибудь съестных продуктов, тот погиб: он должен их отдать, если не хочет быть убитым своими же товарищами.
За несколько дней перед выступлением из Москвы, дан был по всей армии приказ, подобного которому тщетно искать в летописях человечества. Повелено каждому корпусному командиру представить ведомости с показаниями: 1) числа раненых, которые могут выздороветь в одну неделю; 2) числа раненых, которые могут выздороветь через две недели или месяц; 3) о числе тех, которые должны умереть через неделю или две. Вместе с тем, последовало повеление, чтобы заботиться и прилагать попечение лишь о тех больных, которые могут выздороветь в неделю, а остальных предоставить их судьбе.
Я молчу, пускай собственное ваше чувство скажет вам, как судить о таком распоряжении?..»
Впрочем, у истерзанных голодом и холодом французских солдат все же был шанс остаться в живых: сего ради им следовало попасть в плен. О том, что ждало их в этом случае, лучше всего свидетельствует письмо Кутузова губернатору Могилевской губернии, Петру Нилову:
«… Доходят до меня слухи, что в некоторых губерниях обходятся с пленными жестоко, лишая их собственности, им принадлежащей. Я весьма далек от того, чтобы думать, что в управляемой вами губернии происходит такое же зло, однако ж если откроются подобные происшествия, то не оставьте предать всей строгости законов виновного в том…»
Судьба же тех, кто из последних сил отступал по Смоленской дороге, не находя ни крохи провианта в разоренной несколько месяцев назад местности, была не завидна. Наполеоновская армия билась в конвульсиях и, проигрывая сражение за сражением, после боя при Березине окончательно испустила дух. Наполеон же поступил с нею так, как поступал и с несчастными ранеными, оставленными им на произвол судьбы: через два месяца отступления, в начале декабря, он тайно ускакал в Париж, намереваясь за пределами России собрать необходимые для реванша силы. Из 608 тысяч бравых вояк, в июне форсировавших Неман, в обратном направлении его перешли всего 70 тысяч деморализованных, оборванных и голодных страдальцев.
«Война закончилась полным истреблением неприятеля», – доложил императору Кутузов.
А за месяц до того, в начале ноября, Василиса получила изрядно поплутавшее в дороге письмо сына, написанное тремя неделями ранее:
«Любезная маменька!
Горький час отступления нашего из Москвы и пожар древней столицы уже позади. Мы выдержали сражение при Малоярославце и заставили французов повернуть на запад, что нельзя назвать ничем иным, как отступлением. Только сейчас большинству из нас, включая меня самого, стало ясно, что постыдное, на первый взгляд, бегство от Наполеона явилось на самом деле заключением его в ловушку, выберется из которой он еще не скоро, если выберется вообще. Мне приходилось слышать о том, что именно так поступали с неприятелем скифские военачальники: не давая решающего боя, они заманивали его вглубь своей территории и медленно уничтожали, нанося постоянный урон и все больше отдаляя от источников снабжения армии. Мы отступили от сего принципа лишь в одном – в сражении при Бородине, что фельдмаршалу Кутузову пришлось дать помимо своей воли. Теперь же, сделав сию вынужденную уступку настроениям в армии и воле государя, он вернулся к прежней своей тактике и весьма преуспел в ней. Благодаря хитроумному маневру при отступлении из Москвы, Наполеон был сбит с толку и вынужден был – вообрази! – сам искать на российских просторах наши войска, ускользнувшие в неведомом ему направлении. В голове у Бонапарта, очевидно, царил полный хаос: сражаться не с кем, некого покорять и нигде не возможно утвердиться победителем. Не удивительным ли разумом должен обладать его противник, использовавший сию древнюю стратегию в девятнадцатом столетии от Рождества Христова! Военный гений главнокомандующего поражает воображение.
Любезная маменька! Во время нашей с вами встречи под Москвой мне было недосуг рассказать вам об одном любопытном случае. В момент прибытия фельдмаршала Кутузова в армию он, проезжая мимо строя, где в первом ряду стоял и я, признал, чей я сын, и удостоил меня коротким разговором. Сие показалось мне удивительным, поскольку сам я нахожу, что едва ли похож на отца. Но, вероятно, со стороны фамильное сходство виднее. Некоторое время спустя фельдмаршал вызвал меня к себе и после весьма теплой и доверительной беседы предложил мне стать его адъютантом. Со всей возможной вежливостью я отказался, поскольку всегда видел себя боевым, а не штабным офицером. Сейчас же я весьма сожалею о своем выборе. И вовсе не потому, что адъютант имеет куда меньший шанс погибнуть на поле боя. Нет, дело в другом: чем дольше я являюсь свидетелем того, как искусно главнокомандующий ведет сию кампанию, тем большим уважением к нему проникаюсь. А сейчас, когда мы не просто преследуем Наполеона, но форменным образом гоним его из России вон, я начал преклоняться перед Кутузовым. И как хотелось бы мне сейчас быть ближе к сему достойному восхищения человеку, иметь возможность беседовать с ним и приобщаться к его мудрости! Неловко признаваться (и я умоляю вас скрыть мое признание от батюшки), но я испытываю к фельдмаршалу почти сыновние чувства.
О Кутузове ходит в армии множество слухов – удивляться пройденному им пути можно до бесконечности. Смертельные раны, после которых мы видим его живым; поражающая воображение победа на стенах Измаила; пикантная миссия в Стамбул, где он навестил султанских наложниц так запросто, как если бы они были его соседками по имению… Однако самую невероятную историю слышал я от одного унтер-офицера, служившего еще солдатом в батальоне Светлейшего, когда тот противостоял туркам в Тавриде. По словам сего фельдфебеля, спасением жизни Кутузов был обязан некой девице, с коей состоял в романтических отношениях, но которую затем оставил, поскольку она, будучи низкого происхождения, не могла составить ему достойную партию. Сия история весьма похожа на правду, поскольку поведана мне была с такими подробностями, кои выдумать едва ли возможно. Она произвела на меня сильнейшее впечатление, поскольку все, слышанное мной о фельдмаршале до сих пор, лишь умножало в моих глазах его славу. Однако, по зрелом рассуждении, я решил, что не вправе судить его. Никто из нас не свят, и неизвестно еще, какие грехи сколько весят на весах человеческих, а сколько – на весах Божьих…»
К тому времени, как в конце ноября русские войска победоносно вступили в город Вильно, Филарет Благово получил от матери ответ:
«…Вести о продвижении наших войск доходят до нас так поздно, мой свет! Последнее, что я слышала – это разгром Наполеона под селом Красное. Но с тех пор вы уже наверняка продвинулись дальше на запад, а корсиканец понес новые потери. Чутье подсказывает мне, что победа нашего главнокомандующего в этой войне станет ярчайшей из всех, что он одерживал. Я согласна с тобой: он – удивительный человек, и, стань ты его адъютантом, я была бы счастлива тому, сколь многое ты мог бы от него почерпнуть. Впрочем, порой не обязательно проводить с человеком бок о бок день за днем, чтобы чувствовать и понимать его. А ты, по моему разумению, куда ближе к Михайле Ларионовичу, чем офицеры из его свиты.
Что до истории о его чудесном спасении и оставленной им девице, то, даже если сие и правда, то Кутузов достоин скорее сострадания, чем осуждения. Из твоего рассказа следует, что фельдмаршал по доброй воле лишил себя любви, а жизнь без нее чудовищно тяжела и порой едва выносима. И тот, кто жертвует чувствами, польстившись на некие земные блага, теряет куда больше, чем обретает. В этой связи я имею сказать тебе, что чрезвычайно рада сердечному согласию в вашем с Наденькой браке, равно как и счастию Оленьки с Никитой. И доведись мне в скором времени покинуть земную юдоль, я сделала бы это с легкой душой, не тревожась за тех, кого оставляю, уверенная в вашем благоденствии…»
А за несколько дней до Рождества Кутузов продиктовал следующий приказ вверенной ему армии:
«Храбрые и победоносные войска! Наконец вы на границах империи, каждый из вас есть спаситель Отечества. Не было еще примера столь блистательных побед.
Не останавливаясь среди геройских подвигов, мы идем теперь далее. Пройдем границы и потщимся довершить поражение неприятеля на собственных полях его.
Главнокомандующий всеми армиями генерал-фельдмаршал князь Голенищев-Кутузов-Смоленский»
LX
«…Всю жизнь прошел он рука об руку с победой, а не со мною, но нашел ли в том истинную радость, Бог весть…»
Преследуя Наполеона, русская армия продвигалась все дальше на запад. К войскам присоединился теперь и император, желавший украсить свою редеющую шевелюру хотя бы одним листочком из предназначенного Кутузову лаврового венка. В тех странах, откуда изгоняли французов, русских встречали как освободителей, и боевой дух в войсках был необычайно высок. 4 апреля кутузовский штаб прибыл в Силезию, где главнокомандующему устроили торжественную встречу. Впрочем, он не смог сполна насладиться очередным триумфом – сырость, витавшая в воздухе, вызвала у Михайлы Ларионовича озноб и болезненное недомогание.
Два дня спустя, по прибытии в городок Бунцлау, лежавший на пути в Дрезден, фельдмаршал мечтал лишь о том, как бы поскорее добраться до постели. Езда в открытых дрожках и мокрый снег с дождем по дороге усугубили его лихорадку. Теперь его к тому же донимал не сильный, но постоянный и изнурительный кашель. О продолжении поездки не шло уже и речи.
К величайшей досаде Кутузова император Александр отправился в Дрезден без него, стремясь услышать те фанфары триумфального приема, что должны были прозвучать вовсе не для царя. Проводив государя любезным напутствием на словах и крепким ругательством в мыслях, Михайла Ларионович вынужден был погрузиться в болезнь. Возле него остались лейб-медик Виллие и два офицера Главного штаба, не считая адъютантов и прислуги.
Пробудившись на следующее утро, фельдмаршал почувствовал себя несколько лучше. Во сне он видел Василису, глядевшую на него с любовью, и, открывая глаза, предвкушал, что увидит ее воочию. Однако перед ним возникли лишь почтительные лица офицеров, вид которых не принес ни капли утешения. И вскоре от временного облегчения не осталось и следа.
Всё не желавшие проходить и крепко державшие его в постели жар и кашель могли бы дать Кутузову повод для отдыха от того чрезвычайного напряжения, в котором он находился уже без малого год, но не дали. Не доверять же государю руководство войсками! Фельдмаршал продолжал выслушивать рапорты, отдавать приказы, диктовать письма. Лишь изредка он все же давал понять, что силы его на исходе и оставался в желанном одиночестве.
Будучи наедине с самим собой, он передумал тысячу мыслей, для которых никогда не находилось времени за тысячей повседневных его обязанностей, и пришел к заключению, что нынче достиг вершины той славы, к которой всегда стремился. Восхищение им на родине не знает границ. Император вынужден был пожаловать ему последний орден Святого Георгия – высшей I степени, так что теперь он полный георгиевский кавалер. Ни Потемкин, ни Румянцев, ни даже Суворов такого не удостоились[103]. Да что царские награды! Совсем недавно, в марте, получил он в подарок от известнейшего сочинителя Гаврилы Державина гимн в свою честь под названием «На парение орла». Множество незнакомых людей пишет ему прямо в ставку с просьбой прислать его гравированный портрет. Да и в каждом письме супруга сообщает о том, сколь восторженны отзывы о нем в газетах и в обществе.
Не только родина, но и Европа пала к его ногам. Какой прием ему оказали в Пруссии! Король счел за счастье отдать под его команду свои войска и предлагал принять помимо российского еще и прусское гражданство (от чего пришлось тактично отказаться). Наградили его в Пруссии сразу двумя высшими орденами – Черного и Белого Орла. И вновь просят его портретов; за неимением оных в Берлине даже награвировали их по рассказам – вот потеха! Ну да Екатерина Ильинична обещала прислать настоящие – скоро можно будет их раздавать.
Вот отступила бы от него болезнь – и сможет он сполна насладиться тем, к чему восходил всю жизнь, беря высоту за высотой! Но болезнь не отступала.
Императорский врач Виллие уже неоднократно предлагал сделать ему кровопускание, но Кутузов только смеялся. От Василисы не раз он слышал о том, что процедура эта бывает полезна лишь в редких случаях от избыточного прилива крови к голове, в остальных же вредит больному, убавляя его силы.
Василиса… Дорого бы дал он за то, чтобы увидеть ее сейчас! Все свои ордена, пожалуй, и отдал бы. Стоило ему лишь представить ее себе молящейся возле его постели, как слабость на время оставляла его, а на душе становилось так хорошо, как будто он только что искупался в море и выходил на берег полный свежей бодрости. Но едва образ Василисы исчезал из его мыслей, болезнь вновь брала свое.
Кутузов еще пытался руководить армией, и оставленные в его распоряжении офицеры не сидели без дела. С театра военных действий приходили донесения, кои фельдмаршал выслушивал со всем доступным при его самочувствии вниманием, отправляя в ответ приказы. Однако то время, что он уделял своим обязанностям полководца, все более и более сокращалось, а те часы, когда он вел безмолвный поединок с болезнью, все более растягивались. И союзников в этой незримой борьбе Кутузов не имел: никто из окружавших его людей, сколь бы не были они исполнены уважения к своему главнокомандующему, не упал бы на колени перед Всевышним, чтобы вымолить жизнь рабу Божьему Михаилу. Хоть и поминали они его, наверняка, в своих вечерних молитвах, но веры в его исцеление, той безудержной, несокрушимой веры, которую дает лишь любовь, у его сподвижников не было. Да и у него бы этой веры не было на их месте.
Чем сильнее затягивала его лихорадка, тем явственней Кутузов ощущал, как он устал. Устал бороться с недугом в одиночку, не имея любви на своей стороне. Много лет он без нее обходился, теша себя иллюзией, что почет и восхищение способны заменить живое чувство, а тут вдруг выбился из сил. Сколько можно жить в разлуке с той, чья душа горит ради тебя, как светильник? Сколько можно блуждать во мраке, полагая, что блеск орденов и есть истинный свет? Нынче, когда он стяжал всю доступную смертному славу, ему нежданно открылась вся бессмысленность жизни без любви.
И, искажая губы горькой улыбкой, вспоминал он писанное еще полтора года назад в Бухаресте письмо к своей дочери Елизавете:
«Чем дольше я живу, тем больше вижу, что слава – это только дым. Я всегда был философом, но теперь стал им в высшей степени. Мне смешно на самого себя, когда я размышляю о том, как я расцениваю и свое положение, и власть, и те почести, которыми я окружен. Я всегда вспоминаю Катеньку, сравнившую меня с Агамемноном: но был ли Агамемнон счастлив?»
Адъютанты осторожно заглядывали в его комнату и, видя фельдмаршала с глазами, закрытыми, как во сне, безмолвно закрывали за собою двери. А Кутузов все надеялся, что рано или поздно двери откроются для того, чтобы впустить к нему Василису и оставить их наедине. Он не сомневался, что пойти на такое, вполне в ее духе и в ее силах. А как свидятся… Хоть бы душа его в тот миг и разлучалась с телом, молитвами любящей женщины он вернется к жизни.
Но Василиса все не появлялась, оставляя его изнемогать от жара, слабости и кашля. Доколе же ему быть прикованным к постели?! Ведь армия уходит на запад без него! Неужто и в Париж без него войдут, и победителем в этой кампании Александра объявят?! «Нет, не бывать тому! – вдруг твердо подумал он. – Господь не допустит такой несправедливости! В этой войне победитель я, а не царь, о том и нынче всем ведомо».
Он позволил себе насладиться мысленной картиной того, как после молебна в Казанском соборе, предшествовавшем его отъезду к войскам, люди со слезами надежды стремились коснуться его мундира, называли «отцом» и «спасителем», умоляли защитить их. А те два протопопа, что почтительно вели его под руки через толпу, почитали себя счастливейшими из смертных. Сие воспоминание на время укрепило его дух, но быстро померкло. А на смену ему пришло другое, выжимающее из сердца невероятную тоску: ночь, горница в татарской деревушке, где он пришел в сознание после долгого беспамятства, и светлое от любви лицо Василисы, встречающее его на пороге жизни. Кутузов приподнял руку, желая прикоснуться к ее щеке и провести ладонью по волосам, но осознал, что он один в комнате.
Тогда он поднял колокольчик, подзывая к себе адъютанта. Несколько минут спустя Кутузов уже диктовал приказ, последний свой приказ в этой кампании, о присвоении чина генерал-майора полковнику артиллерии Филарету Ивановичу Благово. «Пусть порадуется!» – подумал он о Василисе, заканчивая диктовку.
Когда минуло более недели с начала его недуга, а улучшения, хотя бы незначительного все не наступало, Кутузов по лицу врача понял, что дела его плохи. Однако разум отказывался верить в скорую смерть. Тем более что Михайла Ларионович твердо знал, кто мог бы спасти его – та, что делала это уже не единожды. Одно ее прикосновение, полное искреннего чувства, заставило бы его воспрянуть. О, да, он окружен всеобщим восхищением и уважением, но разве они целительны для души? Из мертвых воскрешают любовь и вера.
Шла уже середина апреля, и промозглая сырость, уложившая фельдмаршала в постель, сменилась празднично ярким небом и пробуждающимися к жизни почками на деревьях. Из окна той комнаты на втором этаже, где он лежал последние десять дней, было видно, как мир охватывает весна. Но великий праздник Пасхи миновал, едва замеченный больным, и ночь ликующих песнопений прошла для него в забытье.
Жар Кутузова усугубился до крайности, и врач неотлучно находился при его постели. А в один из дней на Светлой седмице в комнате его собрались и все офицеры одновременно. Они подавленно молчали, лишь изредка шепотом переговариваясь друг с другом. По долетавшим до него обрывкам фраз Михайла Ларионович понял, что о его ухудшившемся состоянии известили государя, который должен вот-вот прибыть к умирающему.
Ему становилось все труднее думать и осознавать происходящее. В изнеможении он закрыл глаза и вдруг увидел дочерна загорелую девушку в белой рубахе с оторванными рукавами. Она выходила к нему навстречу из-за стройной колонны эллинского капища, на фоне ослепительно яркого неба, и улыбка ее была такой счастливой, что на мгновение у него от тоски остановилось сердце.
– Ваше высокопревосходительство! Ваше высокопревосходительство! – ворвался к нему откуда-то, из другого мира тревожный и умоляющий голос. – Может, изволите чего?
– Ее, – сделав над собой усилие, внятно выговорил Кутузов.
И вновь устремившись душою в те пределы, где он был некогда молод и счастлив, фельдмаршал слышал недоуменно-горестные голоса своих сподвижников:
– Жену к себе требует – как же быть-то? Буде и пошлем курьера за Екатериной Ильиничной, не успеет в живых его застать.
С легкой полуулыбкой прислушивался Кутузов к их удаляющимся голосам. Ведь она уже выступила из-за колонны к нему навстречу, уже протягивала с трепетом руки, и слезы нечаянной радости стояли в ее дымчато-серых, как агат на срезе, глазах.
– Князь Михайла Ларионович! Вы меня слышите? Вы узнаете меня?
С раздражением фельдмаршал приоткрыл глаза. Ах, да, царь… И зачем он здесь? Вновь, как и на Праценских высотах[104], этот самонадеянный лицемер стоит у него на дороге. Тогда не давал одолеть врага, а нынче мешает всецело отдаться такому близкому и наконец-то возможному счастью любви.
– Простите меня, князь Михайла Ларионович!
Кутузов милостиво кивнул, мол, Бог с тобой, прощаю! И хотел уж было скрыться от императора в те пределы, где ждала его Василиса, и надеялась наконец-то навсегда заключить в свои объятия, как царь смятенно заговорил:
– А Россия? Простит ли она меня?
«О чем это он? Об Аустерлице, не иначе», – догадался Кутузов, и вмиг перед ним предстало мертвое лицо его зятя, Тизенгаузена. Вслед за тем он услышал предсмертные крики русских кавалеристов, уходящих со своими лошадьми под лед, и нашел в себе силы покачать головой. Вмиг побледнев, Александр стремительно поднялся на ноги, как если бы ему в то мгновение вынесли приговор на страшном суде.
А Кутузов вновь закрыл глаза. «Сам – отцеубийца, бабка его была мужеубийца, отец – безумец, – пронеслось у него в голове. – Кому я всю жизнь служил?»
И, мысленно махнув рукой на всех беспринципных негодяев на всех престолах вместе взятых, он сделал шаг навстречу Василисе. Та с готовностью рванулась к нему навстречу и обняла, как обнимает волна, захлестывая собой и заставляя забыть обо всем, кроме ее ласковой и непоколебимой силы.
«Ты все еще любишь меня?» – хотел он взволнованно спросить у нее, но вдруг ощутил, что теряет дар речи. Что-то шумело, путалось и взвивалось в голове, точно влетел туда штормовой ветер и разом сорвал со своих мест все, что так долго и усердно служило полководцу: речь, зрение, слух.
– Ваше высокопревосходительство! Ах ты, Господи, кончается, видать. За попом бегите, скорее!
Кутузов уже не слышал этих слов. Рука об руку с Василисой спускался он от эллинского капища к морю, и радостно игривые волны наперегонки стремились лизнуть ему ноги. Ни мгновения не колеблясь, вступил он в полосу прибоя, а в следующий миг почувствовал, что вода доходит уже до пояса и стремительно взбирается все выше и выше. Василисы же почему-то не было рядом с ним. Обернувшись, Михайла Ларионович увидел, что она стоит на берегу, судорожно прижав руки к груди, и, несмотря на слезы, сбегающие по щекам, пытается улыбнуться.
«А ты?» – одним взглядом спросил он у нее.
«Я приду к тебе, только дождись!» – так же, взглядом отвечала она.
«Дождусь, не сомневайся! – повеселел он. – Но ты не очень спеши, пустынница!»
Она кивнула в знак согласия, и крепко прижала ладонь к губам, готовым застонать. Слезы хлынули из ее глаз, струясь по пальцам, зажимающим рот, и капая в море, и Кутузов рванулся назад, чтобы утешить ее, хотя бы напоследок. Однако именно в этот миг морская гладь сомкнулась и выровнялась над его головой.
* * *
Генерал-фельдмаршал Голенищев-Кутузов, светлейший князь Смоленский, скончался 16 апреля 1813 года. В этот день Русская Православная Церковь чтит память святой мученицы Василисы, так что, возможно, еще не зная о кончине Михайлы Ларионовича, та, что любила его всю жизнь, праздновала свои именины. Впрочем, едва ли: наверняка ее сердце дрогнуло в половину десятого пополудни, и чутье, никогда не изменявшее женщине, дало ей знать о ее утрате.
Смерть Кутузова поставила точку в записках Василисы. «В разгар весны на другой год после изгнания Наполеона из России с глубочайшим прискорбием узнала я о том, что Михайла Ларионович преставился в вечное блаженство. Что не стало концом моей любви к нему, ибо, как сказано в Писании, «любовь никогда не перестает». Это последние слова на хрупких от времени коричневатых страницах ее воспоминаний.
Донесение о смерти Кутузова пришло в штаб русской армии накануне сражения с французами под Люценом. Чтобы не вызвать в солдатах и офицерах уныния, могущего повлиять на исход битвы, это известие несколько дней хранили в тайне.
Спаситель отечества был похоронен в Казанском соборе Санкт-Петербурга при огромном стечении народа со всеми мыслимыми и немыслимыми почестями. Впрочем, в наши дни его надгробие может показаться слишком скромным по сравнению с помпезным мраморным саркофагом Наполеона в Доме Инвалидов. Однако любое недоумение на сей счет тут же уступает место восхищению, стоит узнать о том, что в делах погребальных Кутузов удостоился того, чего не удостаивался никто из смертных – чести иметь… вторую могилу.
Дело в том, что, скончавшись вдалеке от России полководец уже не мог вернуться на родину иначе как в виде забальзамированного тела. Для осуществления же этой процедуры все внутренние органы человека подлежат изъятию. Вот они-то (за исключением сердца, сопровождавшего Михайлу Ларионовича в Россию) и были похоронены близ городка Бунцлау, где над частью тела Кутузова возвели обелиск. Летом 1813 года вновь занявшие район Бунцлау наполеоновские войска его разрушили. Год спустя обелиск был восстановлен. Во время фашистской диктатуры в Германии обелиск сняли с пьедестала. После освобождения Бунцлау от гитлеровцев в феврале 1945 года памятник вновь поставили на свое место. Не мог же Кутузов не одержать в таком деле победу, пусть даже и после смерти! Этот памятник полководцу чтили все российские военные, находившиеся на территории Германии, и вторая могила Кутузова, равно как и первая, всегда утопала в цветах.
Что касается памятников, то Михайле Ларионовичу вообще чрезвычайно с ними повезло. Количеством своих изваяний он оставил далеко позади себя всех царей, при которых ему довелось служить, а из выдающихся современников с ним соперничает разве что бронзовый Суворов. Даже на предполагаемом месте его ранения в Крыму установлена мемориальная доска, и изображенный в профиль полководец продолжает держать в поле зрения гору Демерджи, сражение близ которой и положило начало его славе.
Единственным же памятником Василисе, помимо исчезнувшего надгробия над затерянной могилой, стали ее записки и портрет. И по-своему эти скромные предметы впечатляют куда больше, чем помпезные статуи, поскольку за два столетия, минувших после смерти женщины, ни то, ни другое не было утеряно ее потомками или безнадежно испорчено неправильным хранением, не погибло ни в огне, ни в воде, и не было унесено в неизвестность шквалами Гражданской и Великой Отечественной войн. Лицо Василисы и ее голос, доносящийся со страниц, дождались своего часа, чтобы поведать историю о женщине, всю жизнь восходившей к вершинам любви и прощения и, наконец, утвердившейся на них, подобно тому, как ее возлюбленный утвердился на вершине славы.
Семейное предание не оставило сведений о том, когда угасла Василиса, но, вероятнее всего, пережила она Кутузова совсем не надолго. Возможно, успев лишь дождаться благополучного возвращения с войны сына и обрадовавшись его генеральскому чину, она со спокойной душой отошла в вечность. Земное предназначение этой женщины было исполнено до конца, и разошедшиеся с поминок Василисины дети и внуки, друзья и пациенты унесли с собой самую светлую память о ней.
Нам не дано знать наверняка, куда устремляются человеческие души, покинув свой телесный приют, но при мысли о загробной судьбе Василисы мне почему-то видятся безоблачно-яркие небеса, склон меловой горы, испещренный монастырскими кельями и светловолосая девушка в рубахе из белого холста, стоящая подле них. Она кого-то ждет, неотрывно глядя на клубящуюся внизу зелень, и вдруг взволнованно подается вперед: дождалась!
Тот, к кому всю жизнь было обращено ее сердце, поднимается вверх по склону с безмятежной улыбкой на лице. Все, что их когда-то разлучало, уже не имеет ни силы, ни смысла, и ничем не замутненная радость так запоздавшего свидания наконец-то доступна обоим. И Василиса с легким сердцем устремляется вперед, и, протягивая руки навстречу долгожданному гостю, встречает своего Михайлу Ларионовича нежным, горячим и все прощающим взглядом.
КОНЕЦ
Примечания
1
Призыв к молитве.
(обратно)2
«Кобеднишной» называли праздничную одежду, надеваемую в церковь, к обедне.
(обратно)3
Так повсеместно называли внебрачных детей.
(обратно)4
Акридами (саранчой) и диким медом питался в пустыне, согласно Евангелию, Иоанн Креститель.
(обратно)5
Современная Евпатория
(обратно)6
Современная Феодосия
(обратно)7
Золотая десятирублевая монета.
(обратно)8
Группа солдат, которые вместе вели хозяйство и готовили себе еду.
(обратно)9
Позднее многоженство стало караться ссылкой в Сибирь.
(обратно)10
Имеющих отношение к церковному праву.
(обратно)11
В народе было чрезвычайно популярно апокрифическое сказание «Хождение Богородицы по мукам», где повествовалось о том, как Богоматерь в сопровождении архангела Михаила спускается в ад.
(обратно)12
Территория между реками Днестр и Прут.
(обратно)13
Так называлось заражения крови.
(обратно)14
Современный вариант этой мучительной процедуры – электрокоагуляция.
(обратно)15
Инструмент, используемый для зажимания сосудов во время операции.
(обратно)16
Праздник Святого Николая чудотворца, 6 декабря. Здесь и далее все даты приводятся по старому стилю.
(обратно)17
В то время червонец равнялся трем золотым рублям, соответственно, за коня запрашивали полторы тысячи рублей золотом.
(обратно)18
В те времена так называли пехотинцев.
(обратно)19
Традиционное время свадеб.
(обратно)20
По-гречески это слово означает «полуостров».
(обратно)21
То есть на греческие города в Крыму, принадлежавшие тогда Византийской империи.
(обратно)22
Лишь через 200 лет русских вытеснили из Причерноморья половцы.
(обратно)23
В переводе с татарского – «Желтая крепость». Название, вероятно, обязано своим возникновением желтоватому цвету ракушечника, из которого были сложены городские стены.
(обратно)24
От татарского «Ак-Яр» – «Белый обрыв».
(обратно)25
По условиям мирного договора, России запрещалось держать на Черном море военный флот, однако через тридцать лет Российская империя восстановила свои утерянные права.
(обратно)26
Около десяти тысяч человек!
(обратно)27
29 января 1773 г.
(обратно)28
В то время название Польши.
(обратно)29
Должность, аналогичная современной должности мэра города. Как правило, чаще использовался термин «генерал-губернатор», но в столице и приграничных городах главу городской администрации называли «военный губернатор».
(обратно)30
Не следует путать ее с безжалостной помещицей-убийцей Салтычихой, хотя, по иронии судьбы, обе женщины были однофамилицами.
(обратно)31
Другое название праздника – Иван Купала. Отмечался 24 июня.
(обратно)32
По другим данным 10 июля.
(обратно)33
На территории современной Болгарии близ города Силистра.
(обратно)34
Для сравнения, калибр пуль автоматического ручного стрелкового оружия, используемых в армиях мира в наши дни, колеблется в основном от 5,45 до 7,62 мм. А самый распространенный в России калибр гладкоствольных охотничьих ружей рассчитан на пули диаметром 18,5 мм; с таким ружьем ходят и на лося, и на медведя.
(обратно)35
Приказ или письменное уведомление.
(обратно)36
2 октября.
(обратно)37
Согласно Библии, Бог, явившись иудеям в виде огненного столпа, указал им путь из Египетского плена.
(обратно)38
Легкая обувь, представлявшая собой закрытые мягкие туфли на плоской подошве.
(обратно)39
И. Л. Голенищев-Кутузов имел чин адмирала, и при Екатерине II был первым членом Адмиралтейств-Коллегий, а также директором Морского кадетского корпуса.
(обратно)40
То есть, казначея.
(обратно)41
Екатерина вторая родилась в 1729 г., Сталин произнес эту фразу в 1935 г.
(обратно)42
Внебрачный сын от Григория Орлова.
(обратно)43
А сможете ли вы так же свободно беседовать с прусским фельдмаршалом, как беседовали со мной?
(обратно)44
Я свободно владею немецким, равно как и французским, и турецким, государыня.
(обратно)45
26 ноября. Осенний праздник Георгия Победоносца и есть печально знаменитый Юрьев день, когда крестьяне, некогда имевшие право именно в тот день переходить от одного помещика к другому, лишились и последнего намека на свободу.
(обратно)46
В просторечии – «катеринка».
(обратно)47
2 февраля
(обратно)48
Работать в воскресенье и дни церковных праздников считалось грехом.
(обратно)49
Медикам в армии того времени не присваивали традиционных военных чинов. Их звания обладали своей собственной иерархией. Ниже младшего лекаря 2-го класса стоял подлекарь (фельдшер). А выше – младший лекарь 1-го класса.
(обратно)50
6 августа.
(обратно)51
Первая неделя после Пасхи.
(обратно)52
То есть, до 1 августа.
(обратно)53
То есть, 23 июня.
(обратно)54
Безвестное отсутствие одного из супругов на протяжении 5 лет являлось основанием для развода.
(обратно)55
Вступать в повторный брак после развода имела право лишь невиновная сторона.
(обратно)56
29 июня.
(обратно)57
То есть, на исповеди.
(обратно)58
Французская писательница.
(обратно)59
Наивысший и чрезвычайно редкий дворянский титул в Российской империи.
(обратно)60
По свидетельству А. Ф. Ланжерона.
(обратно)61
То есть любовницу.
(обратно)62
Современное название – Первомайск.
(обратно)63
Повседневная форма армии того времени не предоставляла возможности для точного определения чина.
(обратно)64
Старшим полковым врачам.
(обратно)65
Фортификационное сооружение, расположенное позади какой-либо главной позиции обороняющихся, обстреливающее пространство за нею и принуждающее противника, овладевшего главной позицией, вести дальнейшую атаку.
(обратно)66
То есть парализованной.
(обратно)67
«Инвалидами» называли тогда ветеранов.
(обратно)68
То есть, в конце июня.
(обратно)69
И один из основателей Одессы, в честь которого и названа знаменитая Дерибасовская улица.
(обратно)70
Измаил был взят 11 декабря 1790 года.
(обратно)71
Соответствует современному званию генерал-лейтенанта.
(обратно)72
Годом позже, после окончания войны, к нему добавится орден Святого Георгия II степени.
(обратно)73
Порядки в Шляхетском кадетском корпусе отнюдь не были жестоким исключением из правил в те времена. Например, за побег из Морского кадетского корпуса юному ученику полагалась ни много, ни мало… смертная казнь. (Неизвестно, правда, применялось ли это правило когда-нибудь на практике.) А жизнь в отрыве от семьи с запретом посещать родной дом и вовсе считалась признаком элитного учебного заведения. Условиям свиданий в небезызвестном Институте благородных девиц ужаснулись бы и современные заключенные: девочек и их родных во время кратких встреч разделяла перегородка, по обе стороны которой стояли возвышающиеся ряды скамей. Общаться с домашними удавалось лишь тем счастливицам, что оказывались на первом ряду. Остальным девочкам, начиная с шестилетнего возраста, оставалось лишь смотреть на родные лица и глотать слезы. Что отнюдь не приветствовалось надзирающей за свиданием классной дамой.
(обратно)74
На почтовых станциях можно было получить свежих казенных лошадей, езда на которых была не в пример быстрее.
(обратно)75
То есть, верховным советом.
(обратно)76
Мать султана.
(обратно)77
Мартиника тогда принадлежала Франции.
(обратно)78
Предыдущий директор кадетского корпуса.
(обратно)79
Имеется в виду Фридрих II Великий.
(обратно)80
Соответствует современному званию «генерал армии».
(обратно)81
Что любопытно, Николай Зубов, нанесший Павлу смертельный удар, приходился братом опальному фавориту, Платону Зубову и зятем опальному генералиссимусу Суворову.
(обратно)82
Так же, как и должность генерал-губернатора, соответствует современной должности мэра города.
(обратно)83
То есть, человек двуличный.
(обратно)84
Такое мнение было высказало Александром в письме к сестре Екатерине.
(обратно)85
Современный город Володарск-Волынский Житомирской области на Украине.
(обратно)86
Так в те времена произносилась фамилия Наполеона.
(обратно)87
То есть, Александром Македонским.
(обратно)88
Австрийский император Франц I, так же, как и Александр I, возглавлял свою армию.
(обратно)89
Аустерлицкое сражение вошло в историю как «битва трех императоров».
(обратно)90
Имеется в виду Барклай-де-Толли.
(обратно)91
То есть, в главном штабе.
(обратно)92
Около 640 километров.
(обратно)93
Немногим более 160 километров.
(обратно)94
Немецкая порода лошадей, отличающаяся невысоким ростом.
(обратно)95
Как правило, ребенка называли именем того святого, в день памяти которого он появился на свет. Или в праздник особенно почитаемого родителями святого, если тот приходился на один из ближайших дней. Так, сам Кутузов родился 5 сентября, а именины его – праздник Св. Архангела Михаила в Хонех – праздновали 6 сентября.
(обратно)96
Имеется в виду, в биваках.
(обратно)97
Современный город Гагарин, родина первого космонавта.
(обратно)98
Современное Минское шоссе.
(обратно)99
Русские, австрийцы и пруссаки.
(обратно)100
Из записок И. И. Лажечникова.
(обратно)101
Около 2-х метров.
(обратно)102
Имеется в виду Смоленск.
(обратно)103
Ни один из вышеперечисленных полководцев не имел все 4 степени ордена Святого Георгия.
(обратно)104
Возвышенность, оказавшаяся ключевой в ходе Аустерлицкого сражения.
(обратно)



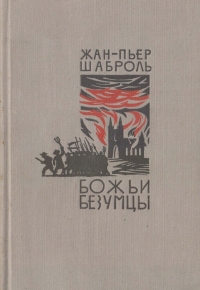




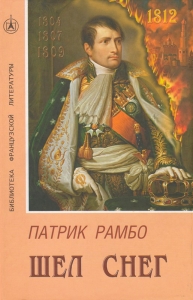
Комментарии к книге «Святая с темным прошлым», Агилета
Всего 0 комментариев