Гор Видал Вице-президент Бэрр
Моим племянникам Айвену, Хью и Бэрру
1833
ГЛАВА ПЕРВАЯ
Экстренное сообщение для нью-йоркской «Ивнинг пост»:
Незадолго до полуночи 1 июля 1833 года полковник Аарон Бэрр, семидесяти семи лет, обвенчался с Элизой Джумел, урожденной Боуэн, пятидесяти восьми лет (более вероятно, что ей шестьдесят пять, но будьте осторожны: она может подать в суд!).
Церемония, состоявшаяся в доме мадам Джумел на Вашингтонских холмах, была совершена доктором Богартом (имя сообщу позднее). Присутствовали также племянница мадам Джумел (по некоторым сведениям — дочь) с мужем Нелсоном Чейзом, адвокатом конторы полковника Бэрра на Рид-стрит. Это второй брак полковника; полстолетия тому назад он женился на Теодосии Прево.
В 1804 году полковник Бэрр, вице-президент Соединенных Штатов, застрелил на дуэли генерала Александра Гамильтона. Через три года после сего досадного происшествия полковник Бэрр был арестован по приказу президента Томаса Джефферсона и обвинен в измене за попытку распустить Соединенные Штаты. Суд под председательством верховного судьи Джона Маршалла признал полковника Бэрра невиновным в измене, но осудил за попытку незаконного вторжения на испанскую территорию с намерением провозгласить себя императором Мексики.
Новоиспеченная миссис Аарон Бэрр — вдова виноторговца Стивена Джумела, самая богатая женщина в Нью-Йорке, начинала свои дни не столь пышно, но, без сомнения, весело — в борделе города Провиденс, штат Род-Айленд…
* * *
Похоже, мне не дается верный тон, но, раз уж Уильям Леггет поручил мне писать о полковнике Бэрре для «Ивнинг пост», я буду фиксировать все подряд, а там пусть он сам решает. «Я не думаю, — и он заглотнет воздух своими чахоточными легкими, — что главный редактор допустит хотя бы упоминание о том, что он называет „непорядочным заведением“.
Ладно, потом можно подыскать что-нибудь помягче. В последнее время Леггет обнаружил столь же внезапный, сколь и таинственный интерес к полковнику Бэрру, хотя редактор, мистер Брайант, находит моего работодателя „непривлекательным“: подобно многим мужчинам прошлого века, он не чтил женскую добродетель».
Поскольку я моложе мистера Брайанта, «непривлекательность» полковника Бэрра кажется мне приятным контрастом лицемерию наших дней. Мужчина восемнадцатого столетия непохож на нас, а полковник Бэрр — мужчина восемнадцатого столетия, еще полный жизни и сил, с новой женой здесь, в Гарлеме, и прежней любовницей в Джерси-Сити. Он полон блеска и обаяния. Короче говоря, чудовище. Опорочить его? Очевидно, Леггет именно этого и хочет. Но хочу ли этого я?
Я сижу под сводами особняка Джумелов. Все спят — кроме новобрачных? Жуткая картина — сплетенные старческие тела. Я гоню ее прочь.
Этот удивительный день начался с того, что полковник Бэрр, выйдя из своего кабинета, попросил меня проводить его до гостиницы «Сити», где у него назначена встреча с другом. Как всегда, он был сама таинственность. Даже прогулка к парикмахеру выглядит у него как попытка государственного переворота. Он буквально несся вприпрыжку рядом со мной по Бродвею, будто не было и в помине удара, который наполовину парализовал его три года назад.
На углу Либер-стрит он купил яблоко в сахаре. Торговка узнала его. Но все нью-йоркские старожилы узнают его на улице. Люди простые тепло приветствуют полковника, респектабельные норовят с ним не раскланяться, хотя он не доставляет им такого удовольствия, предпочитая смотреть себе под ноги или на своего спутника. Но примечает все.
— Лично для полковника, яблочко без червячка! — Очевидно, это какая-то шутка, известная только Бэрру и назойливой старухе. Он с ней очень любезен. Деловые люди с Уолл-стрит, завидя его, тотчас отворачиваются и прибавляют шаг. Он же как будто не замечает производимого им эффекта.
— Чарли, у тебя вечером найдется время для небольшого приключения? — Это довольно трудно разобрать. У полковника далеко не все зубы целы, да и яблоко во рту отнюдь не облегчает дела.
— Да, сэр. А что за приключение?
Большие черные глаза смотрят на меня лукаво.
— Весь смак в том, что это сюрприз.
Перед гостиницей остановился омнибус. Лошади ржут, мочатся, тяжело дышат. Солидные процветающие мужчины устремляются к гостинице: сумерки — время свиданий, сплетен, выпивки; потом они пешком расходятся по домам, потому что так быстрее, чем экипажем. В наши дни нижняя часть Бродвея забита экипажами и повозками и все ходят пешком: тут можно встретить даже дряхлого Джона Джекоба Астора, он ползет по улице подобно древней улитке, оставляя за собой липкие, пахнущие ассигнациями следы.
Вместо того чтобы войти в гостиницу, полковник (может, чтоб не столкнуться с компанией боссов Таммани-холла [1]) вдруг свернул к кладбищу церкви св. Троицы. Я послушно последовал за ним. Я всегда послушен. А что еще остается не слишком расторопному клерку юридической конторы? Не понимаю вообще, почему он меня держит.
— На этом прелестном кладбище у меня больше интимных друзей, чем на всем Бродвее. — Бэрр шутит по любому поводу: не то, что другие. Всегда он был такой или годы ссылки в Европе сделали его столь непохожим на всех нас? Или — тоже не исключено — изменился нрав ньюйоркцев? Да, видимо, в этом все дело. Но если мы и кажемся ему странными, он слишком вежлив, чтобы это показать; так он и живет среди нас — дьявольская загадка, над которой я бьюсь.
В полумраке кладбища Бэрр и в самом деле был похож на дьявола — если, конечно, дьявол не выше пяти футов и шести дюймов росту (на дюйм ниже меня), с маленькими ногами (копытами?), высоким лбом с залысинами (во мраке мне чудятся рудиментарные рога), волосы у него высоко взбиты, небрежно припудрены по старой моде и удерживаются роговым гребнем. За его спиной памятник человеку, которого он убил.
— Я хотел бы, чтобы меня похоронили в Принстоне, возле колледжа. Правда, никакой спешки в этом нет. — Он посмотрел на гамильтоновское надгробие. Ни выражение лица, ни голос его ничуть не изменились, когда он спросил: — Ты знаком с трудами сэра Томаса Броуна[2]?
— Нет, сэр. Это ваш друг?
Бэр лишь усмехнулся, сверкнув красной яблочной кожурой, прилипшей к уцелевшему переднему зубу.
— Нет, Чарли. И при том, как Ахилл прятался среди девушек, я тоже не присутствовал. — Не знаю, о чем это он, но записываю все подряд. По совету Леггета я решил записывать все, что говорит полковник. — Правда, я всегда предпочитал женское общество. Странно, не так ли?
Тут уж я точно знаю, что он имеет в виду, и соглашаюсь. Нью-йоркские джентльмены проводят в барах и трактирах гораздо больше времени друг с другом, чем в смешанном обществе. В последнее время они даже создают клубы, куда женщинам вход запрещен.
— Я просто не могу обходиться без женщин.
— Но вы потеряли жену…
— Еще до твоего рождения. Но впоследствии я не испытывал недостатка… в нежном участии. — Снова мимолетная усмешка: при тусклом свете он похож на задиристого подростка лет четырнадцати. Но в следующее мгновение он уже стал самим собой: полным достоинства, любопытно сочетающегося с неожиданными всплесками остроумия. Его остроумие всегда смущает меня. Нам не нравится, когда старики выглядят умнее нас самих. Хватит с них того, что они нас опередили и им досталось все лучшее.
— В гостинице мы встретимся с моим старым другом доктором Богартом. Он нанял экипаж. И вместе поедем на Гарлемские холмы — то есть Вашингтонские холмы, так их, кажется, теперь называют. — Уклончивая улыбка. — Может ли быть лучшее название для американских холмов, нежели Вашингтонские?
Я уже записал кое-какие высказывания Бэрра о генерале Вашингтоне. Правда, они загадочны, чаще всего не больше одной фразы, например такой: «Кем же и быть первому американскому президенту, как не землемером?» Знает он много, но говорит мало. Что ж, я решил узнать, что он все-таки знает, пока не поздно.
Бэрр наслаждается надписями на памятниках.
— Элизабет! Кто бы мог подумать? Не знал, что она умерла. — Бэрр нацепил свои восьмигранные очки. — Скончалась в восемьсот десятом. Вот в чем дело. Я был еще в Европе. Скрываясь от неправосудия. — Он снова снял очки. — Боюсь, что ее возраст, как сказал бы Джереми Бэнтам[3], был всегда сильно преуменьшен. Она была старше меня и… прекрасна! Прекрасна, Чарли. — Бэрр сдвинул очки на лоб. Птицы щебетали среди деревьев у церкви наперекор оглушающему в этот час дня грохоту, скрипу и ржанью, доносившемуся с улицы.
— Я знаю, ты пишешь о моей бурной жизни. — Я обомлел. И выдал себя. У меня все всегда на лице написано. Ничего не умею скрыть. Надо учиться этому искусству. — Я обратил внимание, что ты делаешь заметки. Не путайся. Я не возражаю. Если бы я не был так ленив, я бы сам все записал, тем более что кое-что у меня уже набросано.
— Настоящие мемуары?
— Крохи и осколки воспоминаний. Я все еще мечтаю рассказать подлинную историю Революции, пока не поздно, хотя, наверное, уже поздно, ведь легенды тех дней отлиты в типографском свинце, если можно судить по школьным учебникам. Просто ужасно, сколько там вранья. Зачем ты так часто видишься с мистером Леггетом из «Ивнинг пост»?
Внезапное обвинение буквально сбило меня с ног: это его знаменитый прием в суде во время перекрестного допроса.
Старик помог мне удержаться на ногах.
— Я вижусь с ним потому, — лепетал я, — что знаком с ним еще с той поры, когда учился в Колумбийском… Он часто там бывал, знаете, беседовал с нами о литературе. О журналистике. Я тогда подумывал, не заняться ли мне журналистикой, но потом выбрал юриспруденцию…
Неизвестно, что Бэрр хотел у меня выведать, но, очевидно, он своего добился, потому что по пути с кладбища к Бродвею, где уже зажигались ярко-белые шипящие уличные фонари, а прохожие отбрасывали темные, мерцающие тени, он переменил тему. Я вздрогнул: не призраки ли это? Да и рядом со мной разве не призрак, решительно не желающий исчезнуть?
— Когда в следующий раз увидишь мистера Леггета, скажи ему, что я в восторге от его статей насчет нуллификации[4]. Я тоже сторонник Джексона и против нуллификации. — Как же это понять? Недавно Южная Каролина заявила о своем «праве» не только не признавать федеральные законы, но и выйти в случае необходимости из союза штатов. Если полковник Бэрр действительно хотел отделения западных штатов от восточных (в чем все убеждены), он должен был бы одобрить принятый Южной Каролиной закон. Но он его не одобряет. Или говорит, что не одобряет. Он — как лабиринт. Не заблудиться бы.
Бэрр привел меля в переполненный бар гостиницы, мы выпили изрядное количество мадеры (ему это несвойственно: табак его единственная слабость), пока не пришел доктор Богарт, щуплый, седенький старичок с мордочкой попугая и птичьими повадками.
Бэрр был в праздничном настроении. Я все еще не понимал почему.
— Святой отец, вы опоздали! Не оправдывайтесь. Мы немедленно едем! Пора, пора!
Он отставил стакан. Я последовал его примеру, заметив, что джентльмены за соседним столиком ловят каждое его слово. Нелегкая задача: в прокуренной комнате стоял гул голосов, сопровождаемый стуком молотка, которым бармен раскалывал лед.
— Вперед! — Бэрр устремился к двери, разметая на ходу стайку адвокатов — некоторые из них, с ужасом узнавая его, кланялись. — На Холмы, джентльмены. — Он хлопнул в ладоши. — На Холмы! Только туда!
ГЛАВА ВТОРАЯ
Я страшусь ночных путешествий. Сидеть закупоренным в темноте экипажа — все равно, что расстаться навсегда с реальным миром, уйти в небытие. И цокот копыт, позвякивание упряжки, проклятия возницы только вселяют еще больший ужас перед небытием. А в эту ночь отвратительный белесый свет луны к тому же обесцвечивал мир, лишал поля и деревья зелени, превращая природу в нечто черно-белое, серебристое. Временами мне и в самом деле казалось, что я умер.
Да и сидевшие напротив два старика, конечно же, не улучшали моего мрачного настроения. Бэрр: «Тут, кажется, Вэнтворты жили, в том фермерском доме с тремя трубами?» Д-р Богарт: «Нет, полковник, тут жил голландец. Как его… Ну, тот, с лысой женой, которая утонула в Фишкилле в семьдесят втором или семьдесят третьем».
Неужели и я буду таким в их годы? Буду вспоминать ненужные подробности чьих-то смертей. Но мне, если верить итальянцу-предсказателю в Касл-гарден, суждена короткая жизнь. Меня не ждет болтливая старость. И слава богу.
А тем временем в экипаже я погружался в небытие и надолго достигал совершенства. Но я жульничал: думал о будущем, когда нуль, в который я превратился, лопнет — о, тогда мир узнает, что Чарли Скайлер был существенным слагаемым в общей сумме! Почему я пишу математическими терминами? Я ведь не слишком тверд в таблице умножения и робею при виде сложных дробей.
«Описывай! — твердит все время Леггет. — Описывай!» Ну что ж, попробую.
Проехали открытые ворота. Каменные? Деревянные? Не видно. По изогнутой подъездной аллее. Высокие темные деревья. В отдалении — река. Свет на воде как потускневшее серебро (пока ничего лучше не придумал — потом еще попробую). Темная громада особняка. Огни во всех окнах. Званый вечер? Вряд ли, Бэрр предложил бы нам одеться соответствующим образом. Но почему такая иллюминация? Даже мадам Джумел при всем своем богатстве не станет зажигать свет во всех комнатах, чтобы отпраздновать наступление полуночи.
Экипаж останавливается у подъезда. Откуда-то сбоку появляется черный лакей. Мы выходим. Ступени поднимаются к портику с колоннадой (на втором этаже балкон). Дом громадный, на два крыла, представляешь себе всяческие флигели, мансарды, подвалы. Дом построил до революции некий тори по имени Моррис. Впоследствии он был конфискован государством. Мои родители приезжали сюда по воскресеньям, когда дом был модной гостиницей. Затем его купил Стивен Джумел для своей новой жены и старой любовницы Элизы Боуэн (или как ее) из Провиденса, штат Род-Айленд.
Открывается парадная дверь. Вспыхивает ярко освещенный прямоугольник. Нас встречает громадный дворецкий. Полковник Бэрр быстро исчезает в доме. Я помогаю прихрамывающему доктору Богарту: у него слабые ноги, и он плетется как пьяный.
Теперь для истории — пишу в другом времени.
Мы вошли в холл как раз вовремя, чтобы стать свидетелями брачного танца полковника Бэрра (или мадам Джумел?).
В конце длинного зала в свете люстр стояла мадам собственной персоной, на ней было, вероятно, парижское бальное платье. Я бы сказал, чересчур роскошное. Величественная женщина с громадными глазницами и маленькими серыми глазками, маленьким ртом и квадратной челюстью. Увешана драгоценностями. Да, платье, конечно, было бальное (его прислали из Франции, сказала она нам позже): в провинциальном Нью-Йорке еще не знали этой моды, а может, знали, да не одобрили. Скорее первое. Я редко бываю в обществе богачей.
— Полковник Бэрр! Я не ждала вас, сэр! — Наверное, это были первые слова, с которыми мадам к нему обратилась. Они еще отдавались эхом в зале, когда я дотащил доктора Богарта до ливрейного лакея, не обратившего на нас ни малейшего внимания: как и все мы, он не отрывал глаз от хозяйки дома, которая стояла, будто готовясь бежать, — одной рукой держалась за перила, другую прижимала к сердцу.
— Моя дорогая, тому, о чем я предупредил вас вчера, суждено свершиться. — Бэрр вприпрыжку покрыл расстояние, отделявшее его от прекрасной Элизы, которая, выбрав между отступлением в громадную гостиную за ее спиной или в безопасность комнат наверху, уже ступила на первую ступеньку лестницы, по-прежнему держась за перила и за сердце.
— О чем вы, полковник? Я не припоминаю, чтобы вы меня предупреждали.
— Мадам. — Полковник взял ее за руку, которая должна была защитить сердце. Она будто нехотя уступила. — Как и обещал, я приехал со священником. Доктором Богартом.
— Великая честь, миссис Джумел… — начал доктор Богарт.
Бэрр не дал ему договорить.
— И со свидетелем. Из моей конторы. Чарльз Скайлер…
Знатное нью-йоркское имя на мгновение отвлекло мадам.
— Скайлер?
Прежде чем я успел объяснить, что я не из тех Скайлеров[5], Бэрр полностью завладел положением, как и ее рукой, которую он исхитрился поднести к губам, продолжая говорить своим низким, хорошо поставленным, гипнотическим голосом.
— Доктор Богарт — мой старинный друг, священнослужитель, известный всем нам во времена Революции. Патриот, человек святой и правдивый… — Доктор Богарт оцепенело внимал этому панегирику. — Близкий друг генерала Вашингтона — а ведь у него не было друзей — согласился обвенчать нас. Сегодня. Сейчас.
— Полковник Бэрр! — Мадам Джумел не уступила бы лучшим актрисам Парк-тиэтр. Она попыталась высвободить руку, что ей не удалось, попыталась подняться выше по ступенькам, ее удержали. Она воззвала к помощи дворецкого, лакея, но верные слуги ответили нервными смешками и отвели глаза. Примерно через восемь минут, если верить часам, стоявшим в холле (подаренным ей Наполеоном Бонапартом, сказала она нам позже), Элиза Боуэн-Джумел согласилась стать мадам Аарон Бэрр.
Теперь, изрядно раскрасневшаяся, мадам приказала подать виски себе и нам мадеру. Затем, словно по заранее условленному сигналу, к нам присоединились Нелсон Чейз с супругой Мэри Элизой, племянницей мадам Джумел (правда, поговаривали, будто она плод одного из прежних союзов мадам). Нелсон Чейз — толстый и глупый молодой человек; он совершенно без ума от полковника Бэрра. Больше года он связан с нашей конторой и делает вид, что занимается юриспруденцией. С Мэри Элизой я раньше не был знаком; она приятная, не хорошенькая, но очаровательная. Нет нужды объяснять, что она не блистает, но может ли какая-нибудь женщина блистать в присутствии великолепной мадам Джумел?
Полковник и мадам (язык не поворачивается назвать ее мадам Бэрр) обвенчались в маленькой гостиной слева от главной залы. Нелсон все твердил: «Потрясающе, потрясающе!» Мне кажется, он нашел верное слово. За короткой церемонией последовал великолепный ужин в столовой. Очевидно, догадливый повар мадам предвосхитил то, чего не предвидела его хозяйка: что она уступит неожиданному, хотя и заранее объявленному натиску полковника.
Я впервые увидел полковника Бэрра «в обществе». До сих пор я видел его только в конторе — и, разумеется, в суде. Он ведет теперь не так уж много дел: некоторые судьи все еще чувствуют себя обязанными мстить за смерть Александра Гамильтона, грубя его убийце. Когда я последний раз видел полковника в суде, судья раскопал — если сам не выдумал — какой-то невразумительный закон штата. «Неужели вы не знаете этого закона, мистер Бэрр? — рычал судья. — Вы не знаете?»
Когда судья наконец умолк, Бэрр ответил сладчайшим голосом: «Нет, ваша честь, я не знаю. Но я слышу».
В этот вечер я впервые лицезрел того легендарного Аарона Бэрра, некогда законодателя нью-йоркских мод, близкого друга германских князей, льва лондонских салонов, человека, которого Джереми Бэнтам считал верхом совершенства. Прислушиваясь к речам полковника, я понимал, как ему удалось покорить три поколения и европейцев, и американцев, как он завораживал и мужчин, и женщин, подобно дьяволу — нет, скорее, Фаусту, для которого все чудесное происходит, чтобы исчезнуть в полночь. О, чего бы я ни отдал, только бы заглянуть в текст той сатанинской сделки и увидеть, какие пункты внес туда дьявол и принял Бэрр, зная, что они не будут иметь юридической силы. И подписал элегантным росчерком. Я не завидую дьяволу, когда он потребует Аарона Бэрра в суд.
Один тост следовал за другим. У меня до сих пор болит голова; перед сном меня путь не вырвало, но я удержался, боясь потревожить любовников. Мадам умеренно накачалась виски. Нелсон был здорово пьян, чем шокировал свою жену, но никого другого.
— Я клялась, что никогда больше не выйду замуж. — Мадам нежно улыбнулась племяннице. — Правда, petite[6]?
— Разумеется, tante[7]!
Тетушка и племянница провели много лет в Париже, где племянницу отдали в школу.
— Когда мой дорогой Стивен…
— Истинный джентльмен, мадам. — Полковник безукоризненно отреагировал на упоминание о своем предшественнике, источнике его нынешнего богатства. — Я полагаю, он был самым достойным человеком своего поколения в этом городе. — Он вовремя остановился, едва не добавив: «в виноторговле». Мадам презирает торговлю.
Она громоподобно высморкалась.
— Никогда себе не прошу, что позволила le pauvre [8], такому старому и слабому, поехать в той колымаге. Когда он tombé[9]… как это сказать?.. свалился оттуда и его принесли ко мне, я считала moi-même[10] виноватой. Ночи напролет я просиживала у его постели, ухаживала за ним, молилась… — Мадам определенно предполагала, что до всех нас дошел слух о том, что однажды темной ночью она сорвала бинты со своего мужа и он умер от потери крови. Зловещие истории липнут к ее имени — как, впрочем, и к имени полковника.
— …и вот, несмотря на мои клятвы, меня победил полковник Бэрр… — Резкий, со смешным акцентом голос мадам властвовал в комнате. — Мужчина, с которым я познакомилась, когда была еще молоденькой девушкой.
— Ребенком, мадам. — Бэрр посмотрел на нее, и я обнаружил нечто новое в его улыбающихся глазах: взгляд собственника, он наконец осознал, что женат на самой богатой женщине города Нью-Йорка.
Только теперь до меня дошло то, что происходило последние три месяца. Я-то удивлялся, почему полковник так часто бросал все дела и отправлялся в дальнюю дорогу на Холмы для обсуждения юридического положения мадам (сейчас у нее три дела в суде). Теперь понятно, о чем полковник часами говорил с этим дубиной Нелсоном Чейзом в своем кабинете и почему оба умолкали, когда в дверь входил я или партнер Бэрра мистер Крафт. И наконец, прояснилось все насчет денег.
У полковника хороший доход от юридической практики (по моим понятиям, так даже потрясающий!). Но почему-то к концу месяца ему никогда не хватает денег для оплаты счетов. Во-первых, у него громадные долги еще от старых времен. Во-вторых, нет человека его щедрее. На покрытом сукном столе в его кабинете норманские сооружения из юридических справочников, в центре которых он складывает деньги по мере их поступления, и всем их раздает, кто ни попросит, будь то ветераны Революции, старые вдовы, юные протеже — все и вся, кроме, разумеется, кредиторов. И хотя ему постоянно не хватает денег, он все еще мечтает об империи. В прошлом месяце он поделился со мной своим последним проектом.
— Всего за пятьдесят тысяч долларов можно купить целое княжество на территории Техас[11] и в течение года заселить его немцами, дать им только денег на проезд. — Глаза полковника расширились при мысли об этих пространствах, заселенных немцами. — Чарли, ты понимаешь, что через двадцать лет это капиталовложение превратится в миллионы? — Я не решился вставить, что через двадцать лет ему будет девяносто семь.
На прошлой неделе я подслушал, как он совершенно серьезно обсуждал свой техасский проект с банкиром, и мне показалось, что Бэрр сошел с ума: я знал, что у него не то что пятидесяти тысяч, но даже пятидесяти долларов нет. Теперь, разумеется, деньги у него есть, и, таким образом, Аарон Бэрр, который мог стать третьим президентом Соединенных Штатов или первым императором Мексики, собирается в последние годы своей жизни сделаться по меньшей мере великим князем техасским.
— Рассказать им, где мы познакомились, полковник? — Мадам обмахивалась веером. Ночь была душная, и ее светлая кожа пошла пятнами от жары и виски.
Почтенные новобрачные в унисон произнесли какое-то невразумительное французское слово. Я попросил Бэрра сказать мне его по буквам. «Chenelette Dusseaussoir».
Мадам объяснила:
— Кондитерская лавка, прямо напротив гостиницы «Сити». В те дни все туда ходили. Я никогда не ела такой ромовой бабы, конечно, если не считать Парижа.
— В каком году это было? — Нелсон Чейз состроил свои свиноподобные черты в некую гримасу, долженствующую, по его мнению, свидетельствовать о живом интересе.
— В тысяча семьсот девяносто девятом, — сказал Бэрр.
— В девяностом, — сказала мадам.
Ни один из супругов не пожелал устранить это существенное расхождение, поскольку их воспоминания двигались параллельными путями.
— Я только-только приехала в Нью-Йорк из Провиденса. Конечно, у меня были родственники. И я знала toute la famille[12]. О, это было чудесное время! Для Америки, я хочу сказать. — Это прозвучало фальшиво. — Мой настоящий дом — Франция. Не правда ли, Мэри Элиза?
— Mais oui, tante[13].
Какая послушная девочка. И фигурка у нее прекрасная.
— Мы вернулись только из-за императора. — Мадам понеслась на всех парусах, лакей едва успевал подливать ей виски. Глаза Бэрра блестели, как у белки, ждущей орешка.
— Когда мы с милым Стивеном прибыли во Францию, в Рошфор, на нашем корабле «Элиза» (это в мою честь), император был в гавани. — Мадам обращалась ко мне, поскольку остальные уже не раз слышали эту историю. — Мы дали бой у Ватерлоо и потерпели поражение.
Мадам говорила то как янки из Новой Англии, то с акцентом французских эмигрантов.
— Наш император находился на борту своего корабля, но гавань блокировали anglais[14]. Что было делать? Мы строили тысячи планов. Наконец мой муж и маршал Бертран — человек старой закалки, позвольте вам заметить, верный, достойный, — решили, что император тайно поднимется на борт «Элизы» и мы под американским флагом минуем английскую эскадру и привезем его в Новый Орлеан, где он будет в безопасности, пока Франция, пока весь мир не призовет его вернуться на законное место! Знаете, полковник Бэрр, у него были такие же глаза, как у вас. Горящие, властные.
— Мне говорили об этом, мадам. — Бэрра нимало не смутило замечание о сходстве. В конце концов, оба были авантюристы, сначала преуспевшие, затем потерпевшие крах. Разница заключалась только в масштабах предприятия.
— Однако les sales anglais[15] схватили его, отправили на остров Святой Елены и убили величайшего из людей, живших на земле, моего кумира. — В глазах мадам стояли слезы. Что-то локоны по обеим сторонам ее лица чересчур уж симметричны. Наверное, носит парик.
— Перед отъездом император подарил тетушке свою походную коляску и дорожный сундук. — Мэри Элиза говорила тоном музейного экскурсовода, в сотый раз рассказывающего про зуб мамонта. — В нем среди прочего были часы.
— Вот эти часы! — Мадам показала вычурные часы с портретом Наполеона под циферблатом и сделала затем беглый обзор других вещей Наполеона, лично преподнесенных ей императором.
Я не удержался от бестактного вопроса:
— Вы в самом деле видели Наполеона?
— Видела ли я его?! — отозвавшийся глубоким эхом крик. Бэрр бросил на меня стремительный взгляд, заставивший меня умолкнуть до конца вечера. — Да только им я и жила! За это король Луи-Филипп и выгнал меня из Франции…
И так далее.
Потом полковник сделал мне выговор. Мы стояли на — площадке второго этажа.
— У мадам живое воображение, — начал полковник.
— Извините меня, сэр.
— Ничего. Не беда. На самом деле императора она не видела, как и я, но все остальное правда. Бежать на американском корабле — это был последний шанс Наполеона. И так случилось, что этим кораблем оказалась «Элиза». Но боги от него отвернулись.
Бэрр показал мне маленькую комнату в конце короткого коридора.
— Здесь находился кабинет генерала Вашингтона в 1776 году. Он прожил в этом доме всего три месяца, но успел сдать Нью-Йорк англичанам. Несмотря на его некомпетентность, боги его всегда поддерживали. Видимо, прав Кромвель: кто не знает, куда идет, уходит дальше всех. Талейран часто повторял мне, что великого человека вечно подстерегает случай. Он сам, наверное, не был великим человеком, поскольку сохранял свое положение, тщательно рассчитывая каждый шаг, никогда не выказывая подлинных чувств. Вот, поучись, Чарли.
— Извините меня, полковник. За мой вопрос…
— Выкинь это из головы, мой мальчик. Да поможет тебе бог. А сейчас, — он потирал руки, изображая восторг, — я отправляюсь на ложе Гименея.
Мы пожелали друг другу доброй ночи, и он постучался в дверь напротив кабинета Вашингтона. Голос мадам, сипловатый от выпитого виски, ответил:
— Entrez, mon mari[16]. — И полковник Бэрр исчез за дверью.
ГЛАВА ТРЕТЬЯ
— Чарли, это не для «Ивнинг пост!» — Леггет посмотрел на меня, как пишут в английских романах, с довольной усмешкой.
— Слишком длинно? — Я принес ему описание свадьбы на двух страницах — все, что я успел наскоро набросать на обратном пути в Нью-Йорк. Ранним утром новобрачные в желтом экипаже мадам, запряженном шестеркой лошадей, отправились с визитом в Хартфорд, штат Коннектикут, к племяннику полковника, губернатору Эдвардсу. Итак, я стараюсь, как настоящий журналист, не упустить ни одной детали.
Леггет вздохнул.
— Наша цель — подорвать Банк мистера Бидла, развивать свободную торговлю, отменить рабство, создать профсоюзы. Свадьба отставной шлюхи с изменником нас не интересует.
Хотя я привычен к злобному стилю Леггета, я считаю себя обязанным защитить полковника или по крайней мере мою собственную трактовку бракосочетания.
— Насколько нам известно, Аарон Бэрр не изменник. Мадам Джумел не шлюха, а респектабельная и богатая вдова, чем бы она ни была когда-то. И это чертовски интересно. Два самых известных человека в Нью-Йорке сочетались браком.
Леггет только засопел в знак отвращения. Ему всего тридцать два года (он на семь лет старше меня), но его можно принять за моего отца. Мы познакомились, когда я был еще в Колумбийском колледже, а он писал театральные рецензии для «Миррор» и пытался стать актером, как его друг Эдвин Форрест. На сцене он провалился. И все же он актер, только сцена-то посерьезнее, чем Бауэри-тиэтр. Он стал величиной в журналистике, признанным авторитетом в политике и литературе.
Прелюдией к не оконченной еще драме Леггета было его увольнение из флота за дуэль. Во время военно-морского трибунала он оскорбил своего командира целым каскадом цитат из Шекспира. После этого ему пришлось брать Нью-Йорк штурмом. Провалившись на сцене, он наделал много шума книгой под названием «Ружье», затем попытался издавать собственный журнал «Критик», но успеха не имел. Теперь он редактор «Ивнинг пост» и пользуется большим авторитетом в городе. Его пера, не говоря уже о дуэлянтских пистолетах, или, точнее, малайской трости, которой он однажды отделал редактора конкурирующего издания, побаиваются все. Но, увы, он явно идет к гибели: некогда могучее тело подорвано сперва желтой лихорадкой во время службы на флоте, затем чахоткой.
Когда мне было семнадцать, я боготворил Леггета. Теперь он мне немного надоел. Да и себе самому тоже. Однако я продолжаю бывать у него, а он по-прежнему поощряет меня и мне надоедает. Он знает, что я не в ладах с юриспруденцией, что я стремлюсь освободиться, заняться литературным трудом. Увы, хорошо платят только политическим обозревателям, а меня не интересует политика (хотя до недавнего времени она не занимала и Леггета). Я мечтаю о карьере Вашингтона Ирвинга, пишу мелочи, печатаюсь время от времени, но мне почти никогда ничего не платят. И вот в прошлом месяце Леггет предложил мне при случае написать что-нибудь для «Ивнинг пост». Он добавил: «Тебе стоит использовать свою близость к Аарону Бэрру».
«В каком смысле?»
Но Леггет не сказал ничего, кроме: «Делай заметки. Записывай все. Изучи его пороки…»
Рассказ о свадьбе полковника Бэрра, на мой взгляд, как раз то, что нужно Леггету. Выходит, я ошибался.
— Хорошо, Чарли, я покажу это мистеру Брайанту. Пусть сам решает. Я против.
Леггет скрылся в соседней комнате. Я слышал приглушенные голоса. Но вот он вернулся, затворил за собой дверь.
— Твоя проза удостоится полного внимания мистера Брайанта.
— Спасибо, спасибо. — Я попытался воспроизвести язвительную интонацию полковника Бэрра.
Леггет положил ноги на стол, бесцеремонно сдвинув бумаги и книги. Грязным носовым платком он начал вытирать чернила со среднего пальца правой руки.
— Чарли, ты все еще ведешь беспутную жизнь?
— Я изучаю право.
— Хороший ответ. Я тебя здорово вышколил. — Он усмехнулся, потом долго и мучительно кашлял в перепачканный чернилами платок, и я отвернулся, чтобы не видеть то, что должно было, видимо, появиться, — яркую артериальную кровь.
Кашель прекратился, красивое изможденное лицо посерело и покрылось капельками пота; Леггет заговорил тихим, усталым голосом:
— Разумеется, я имел в виду заведение мадам Таунсенд.
— Раз в неделю. Не чаще. С мальчишеством покончено.
— Чтоб силы все растратить и одиноким умереть! — В глазах его сверкнул блеск. — Расскажи мне о новеньких подопечных мадам Таунсенд.
— Три очень молоденькие ирландки, только-только появились, совсем свеженькие…
— Хватит! Я женатый человек, Чарли. С меня довольно.
— Зачем тогда спрашивать?
— Я должен заткнуть уши, как Одиссей. Не пой мне больше песен моей юности, сирена! Довольно с меня ирландских прелестей…
В кабинет вошел мистер Брайант. Хрупкий человек с тонкими губами и баками; на вид ему лет сорок, за типичной сдержанностью выходца из Новой Англии не сразу заметишь, какое удовлетворение ему доставляет репутация первого поэта Америки (Леггет склонен считать себя поэтом номер два, особенно в присутствии Фицгрина Халлека[17]). Однако при мне мистер Брайант никогда еще не спускался до такой тривиальной темы, как поэзия. При мне он всего лишь заместитель редактора «Ивнинг пост», по уши погруженный только в политику. Кстати, он, вероятно, единственный человек в Нью-Йорке, который все еще пишет гусиным пером. Даже полковник Бэрр предпочитает традиционному перу современную сталь.
— Чрезвычайно интересно, мистер Скайлер. — Я вскочил на ноги. Судя по тому, что Брайант не предложил мне сесть, интервью предполагалось короткое. — Разумеется, мы отметим… счастливое событие. Мы же газета. Но чтобы сообщить новость и угодить публике, достаточно будет одной фразы.
— Видишь? — Леггет наслаждался моим провалом.
Я был вне себя.
— Меня, очевидно, ввели в заблуждение. Я думал, что вас интересует полковник Бэрр.
— Вероятно, мистера Леггета он интересует больше, чем меня. — Редакторы неприязненно взглянули друг на друга.
Но я упорствовал.
— По предложению мистера Леггета я описал свадьбу, которая, согласитесь, не лишена интереса.
Брайант взял примирительный тон.
— Согласен, полковник Бэрр — один из самых интересных людей в этом городе, в Соединенных Штатах…
— Если бы только Чарли сумел вызвать его на откровенный разговор о его жизни, связях, особенно нынешних.
— Ну, насчет откровенности полковника я сомневаюсь. — Брайант придерживался общепринятого мнения о полковнике.
Однако у Леггета было что-то еще на уме.
— Как тебе известно, Чарли, мы поддерживаем президента Джексона. Вице-президент же — фигура загадочная…
— По-моему, ничуть, — отрезал Брайант.
— А я нахожу его странным. По-моему, он мошенник. Без принципов. И я хотел бы знать то, что хотят знать все: каковы отношения между вице-президентом Ван Бюреном и Аароном Бэрром.
— Разумеется, мистера Леггета и меня интересуют политические отношения. — Брайант бросил на Леггета предостерегающий взгляд, но тот сделал вид, что его не заметил.
— Нет! — вскипел Леггет. — Их отношения вообще. Он повернулся ко мне. — Я неспроста просил тебя делать заметки, задавать полковнику вопросы. Нам важно знать, насколько они близки, эти двое.
— Полковник восхищается Ван Бюреном. — Я попытался припомнить, что вообще говорил Бэрр о вице-президенте. — Но я бы не сказал, что они «близки».
Но Леггет стоял на своем.
— Они близки, ты просто не знаешь. Двадцать лет назад, вернувшись из Европы, Бэрр отправился прямым ходом в Олбани, именно к Ван Бюрену, и остановился у него в доме. Остановился у олбанского наместника. А ведь Аарона Бэрра все еще обвиняли на Западе в предательстве. А штат Нью-Джерси обвинял его в убийстве Гамильтона.
Все это не совсем верно, но Леггета занимает общая картина, ему не до унылых частностей. Потому-то он и преуспевающий журналист.
— Надо выяснить: почему умный и осторожный Мартин Ван Бюрен водит дружбу с такой опасной, компрометирующей личностью.
— Разумеется, они всегда были близки политически. — Величественная бесстрастность Брайанта ярко контрастировала с горячностью его молодого коллеги. — Полковник Бэрр — основатель Таммани-холла. Мартин Ван Бюрен сейчас фактический хозяин Таммани. У них общие… идеалы.
— Идеалы! — Леггет широко раскинул руки, будто шел на распятие. — Идеалов у них вообще нет. Власть — только одно это им надо. Бэрр, конечно, теперь уже не в счет. Он — история. Но Мэтти Ван не может нас не волновать. Эдакий колдун! Наш собственный Мерлин, который направлял генерала Джексона в первый срок его президентства, сейчас руководит им второй срок и так же точно, как то, что в Олбани процветает взяточничество, попытается в тридцать шестом году занять его место, если мы ему не помешаем.
— А зачем нам ему мешать? Позиции, которые он занимает по большинству вопросов…
Но Брайанту не по силам тягаться с Леггетом, когда он воспламеняется нравственными идеалами.
— K черту позиции! Мэтти пойдет на все, чтобы его кандидатуру выдвинули и чтобы победить. Он идеальный политик! На первый взгляд. Но уверяю вас, только копните этого розового голландского херувима, и за ангельской улыбкой вы обнаружите нечто непостижимое, бесчестное, бэрроподобное.
Я не мог понять, куда Леггет клонит.
— Не думаете же вы, что человек не может быть президентом только потому, что он водит дружбу с полковником Бэрром?
— Нет, вряд ли Леггет так думает. — В эту минуту Брайант был особенно похож на ветхозаветного пророка. — А теперь разрешите откланяться, мистер Скайлер. — И он исчез.
— Чарли. — К Леггету вернулся его обычный тон школьного учителя. — Сейчас я лишу тебя невинности. Мартин Ван Бюрен — незаконный сын Аарона Бэрра.
Я утратил дар речи.
— Я не верю. И кстати, откуда это может быть известно?
— Известно, что полковник обычно останавливался в таверне Ван Бюренов в Киндерхуке, что вверх по Гудзону. И многие подозревают, что он наградил ребенком Мэри, жену хозяина, украсив превосходными рогами ее мужа Абрахама.
— Многие подозревают! — Я презрительно фыркнул.
— Кроме подозрений, существует масса косвенных свидетельств. Полковник Бэрр всегда был дружен со всей семьей, а особенно с молодым Мэтти, нежным, большеглазым, высоколобым Мэтти, — знакомые черты?
Что правда, то правда: они похожи.
— Но ведь Ван Бюрен блондин, а Бэрр темноволос…
— У него была еще мать. — Леггет с легкостью отмел в сторону мой контраргумент. Но конечно, быть может, все это только сплетни. А может, и нет. Точно известно, что в очень юном возрасте Мэтти приехал из Киндерхука в Нью-Йорк и сразу же начал работать в юридической конторе у одного человека, близкого к Бэрру…
— Предположим, что Бэрр его отец. Что из того?
Леггет снизошел до объяснения.
— Ты только подумай, что это тебе сулит. Тебе лично. Написать памфлет — нет, даже книгу, доказать, что Мартин Ван Бюрен — сын Аарона Бэрра. Это же принесет тебе целое состояние.
— Юридические доказательства… — начал я, но Леггет меня не слушал.
— Но еще поважнее твоего состояния, Чарли, судьба республики. Джексон начал великие реформы. Мы начинаем двигаться в направлении демократии. Ван Бюрен повернет это движение вспять. Так давайте же помешаем ему стать президентом.
— Доказав, что он незаконнорожденный?
— Американцы — люди строгой морали. Но еще губительнее родственных — его политические связи с Бэрром, особенно в последние годы. Если мы сможем доказать факт секретных встреч, темных планов, бесчестных комбинаций — тогда, клянусь, Ван Бюрен не сядет в кресло генерала Джексона.
— Так, значит, ты поддерживаешь кандидатуру Генри Клея?
— Нет. Я предпочитаю другого сенатора от Кентукки, Ричарда Джонсона. Несмотря на его penchant[18] к негритянкам, Джонсон будет продолжать джексоновские реформы. А Ван Бюрен — нет. — Леггет перешел на заговорщический шепот. — Ты, должно быть, заметил наши расхождения с Брайантом. Он верит Ван Бюрену. Я не верю. Мне нравится Джонсон. Ему — нет.
Я никогда не видел Леггета таким возбужденным. Глаза блестели, щеки слегка раскраснелись. Наступила тишина, которую прервала песенка торговца моллюсками с Пайн-стрит, воспевавшего свой товар:
Прекрасны моллюски Снега белее Со скал Рокавэя!(Я записываю все песенки, какие ни услышу, — пригодятся для статьи.)
Я бросил пробный шар:
— Во-первых, не думаю, что полковник Бэрр сгорает от нетерпения рассказать мне всю правду…
— Ты видишь его каждый день. Он тебя любит.
— Мой отец был его другом, но вряд ли это…
— Бэрр стар. Он весь в прошлом.
— В прошлом? В этот самый момент он собирается заселить Техас немцами.
— Великий боже! — На Леггета это произвело впечатление. — Все равно, только ты можешь все узнать. Разве ты не говорил мне, что он пишет историю своей жизни?
— Полковник как-то обмолвился об этом. Но что-то не верится. Время от времени он вспоминает, что хотел диктовать мне, но…
— Так ты подтолкни его! Заведи разговор о старых временах, о Киндерхуке, о тех днях, что он провел в ассамблее, одновременно ухлестывая за мадам Ван Бюрен…
— Боюсь, что ему куда важней рассказать «подлинную» историю Революции.
— Ты совсем не способен на хитрость?
— Вы не знаете полковника Бэрра. Предположим, я даже смогу выудить из него правду, все равно он не даст мне этим воспользоваться. Он лучший адвокат штата, а есть преступление, именуемое клеветой.
Леггет не замедлил с ответом.
— До выборов еще целых три года. Через три года он умрет, а по законам штата Нью-Йорк невозможно оклеветать мертвого.
— А Ван Бюрен?
— Доказать, что человек незаконнорожденный, не клевета. — Леггет встал. — Чарли, похоже, мы нашли способ преградить Мэтти Вану путь в Белый дом и открыть путь демократии.
Я тоже поднялся.
— «Ивнинг пост» это напечатает?
Леггет засмеялся и тут же закашлялся.
— Конечно, нет! Но не волнуйся. Я найду тебе издателя. — Он неуклюже проковылял мимо меня к двери, точь-в-точь разболтанный скелет. — Я говорю совершенно серьезно, Чарли. — Он взял мою руку своей сухой горячей рукой. — Разве часто бывает возможность изменить историю своей страны?
Леггет задел не ту струну. Наступила моя очередь заговорить снисходительным тоном.
— Я так и скажу полковнику Бэрру. Самим фактом своего существования он не раз переделывал жизнь многих американцев, но незаметно, чтобы он этим чего-нибудь добился.
— Оставь иронию мне, дорогой Чарли. А ты делай историю.
Предаю ли я полковника? До некоторой степени да. Могу ли я повредить ему? Нет. Да пусть кто-нибудь в анонимном памфлете изобразит его самим дьяволом, он и то не расстроится. О нем и похуже вещи писали, и отнюдь не анонимные авторы, а такие, как Джефферсон и Гамильтон. К тому же, если он последователен, он вряд ли будет возражать против того, чтоб мир узнал, что он отец Ван Бюрена. Полковник часто повторяет: «Всякий раз, когда женщина оказывает мне честь, утверждая, что я отец ее ребенка, я воспринимаю это как комплимент и отметаю любые сомнения, какие у меня могут быть на этот счет».
С другой стороны, конечно, полковник очень огорчится, если Ван Бюрен провалится на выборах из-за родства с ним. Но у меня нет выхода. Леггет предложил мне способ избавиться от тяжелой кабалы — заработать литературным трудом. Я принимаю предложение. Тем более — признаюсь — мне приятно будет провести самого ловкого пройдоху нашего времени. Мне дорог полковник, но собственная жизнь еще дороже.
ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ
— Пришлось вернуться из Коннектикута. Дела… — Полковник утопал в клубах дыма от своей длиннющей сигары. Кабинет Бэрра. Описываю: сквозь рваные велюровые шторы и пыльные окна в комнату проникает зеленоватый свет летнего дня; посетитель попадает как бы в ад или, вернее, в подводное царство и плавает там, различая взглядом книжный шкаф, набитый юридическими справочниками, письменный стол под зеленым сукном, портрет пышной темноволосой девушки — Теодосии, дочери полковника (согласно легенде, пираты заставили ее идти с завязанными глазами по доске, пока она не упала в море). Бэрр мне про нее еще не рассказывал, но он вообще редко вспоминает прошлое, если только не загорится желанием разоблачить кого-нибудь из знаменитых современников.
— Я всю ночь провел в кабинете. Столько работы. — Он взглядом пригласил меня сесть в кресло для посетителей.
— А мадам Бэрр?..
— Мадам на Холмах, где ж ей быть? Однако позже она приедет в город. Чарли, где техасские документы?
Я достал их из шкафа.
— Сегодня мы покупаем земли! — Сияя от счастья, Бэрр разложил на столе бумаги. — Тысяча иммигрантов уже готовы к отплытию из Бремена. — Он развернул карту территорий Техас и Луизиана. — Когда-то я знал там каждый уголок. — Сильным красивым указательным пальцем (у него вовсе не старческие руки) он проследил путь Миссисипи до Нового Орлеана.
— Дикая, пустующая, прекрасная земля! — Он вдруг с силой прижал палец к карте. — Вот здесь мистер Джефферсон арестовал меня. — Бэрр просиял мальчишеской улыбкой. — Он утверждал, что с отрядом в сорок пять человек я собирался отделить западную часть Соединенных Штатов от Великой Виргинии — так иногда называли союз штатов те из нас, кого не приводили в восторг мистер Джефферсон и его хунта.
— А что на самом деле вы собирались предпринять с теми сорока пятью?
Бэрр замкнулся. Иначе не передать выражение его лица, когда он уходит в себя. Однако вежливость ему никогда не изменяет, он просто игнорирует дерзость собеседника.
— Вот куда мы посадим наших немцев. — Он обвел пальцем территорию к западу от реки Сабин. — Полно воды. Отличные пастбища. И документы на аренду земли в порядке.
Ну и фантазии! А впрочем, кто его знает?
— И что всего важнее, мадам готова вложить деньги. — Он сдвинул очки на лоб. — Удивительная женщина, Чарли. Поистине удивительная.
— Мне так неприятно, что я спросил ее про Наполеона.
— Боюсь, что к старости люди начинают верить, что прошлое было таким, каким ему следовало быть.
— Вы этим не страдаете, полковник.
— Но я же и не старый, Чарли. — Его темные глаза широко раскрылись; тот же прием, что у Тайрона Пауэра, только в отличие от романтического ирландского актера Бэрр подтрунивает над самим собой. — Но мне особенно повезло. Или не повезло — как посмотреть. Я не только знаю, каким следовало быть моему прошлому, я знаю, каким оно было на самом деле. — Какая-то странная вдруг гримаса. Что это? Затаенная боль? Или мне показалось? Но вот он снова стал самим собой. — И кроме меня, этого не знает никто. В конечном счете это только к лучшему.
— Почему же к лучшему, я так не думаю. Вы обязаны рассказать миру свою версию истории. — Я произнес фразу, заготовленную после разговора с Леггетом, затверженную в уме, и проклинал себя за то, что это было заметно.
Бэрр улыбнулся.
— А вдруг моя версия не самая точная? Но ты мни льстишь. И мне это приятно! — Он пнул кожаный сундук под столом. — Там у меня хранится целая история: письма, газеты, тетради, начало мемуаров. О, у меня талант по части начинаний, Чарли, настоящий талант. — В голосе его прозвучала столь несвойственная ему горечь. Но тут же он заговорил быстро, почти весело. — Впрочем, разве не лучше хорошо начать, чем не начинать вовсе? И какое начало! Я был не только сыном знаменитейшего богослова, но и внуком еще более знаменитого богослова, самого Джонатана Эдвардса [19], пророка, который — как это говорится? — ходил по путям господним. Нет, привычный глагол не в состоянии передать поступь великого пуританина. Джонатан Эдвардс бежал по путям господним — и перегнал нас всех. Да и самого бога, пожалуй. Уж меня-то — безусловно. Я не знал этого святого из Стокбриджа, но воспитывался под сенью его имени, и меня бросало в дрожь, пока я не прочитал Вольтера, пока не понял, что человека и в этом мире ждет слава, если он не смалодушничает и смело пойдет к своей цели. Подобно Наполеону. Вот почему я примкнул к Революции и стал героем.
Он замолчал. Раскурил потухшую сигару.
— Так начинали многие. Но кто же ее обрел, ту славу? Только не я, как известно. — Он пустил кольца дыма мне в лицо. — В конце концов лавры достались землемеру из Виргинии, который стал «отцом» своей страны. Но будем справедливы. Коль скоро генерал Вашингтон не смог ничего произвести во плоти, вполне уместно поставить ему в заслугу зачатие хоть этого союза. Мул-производитель, так сказать, чьим противоестественным потомством стали Штаты. В конечном счете не проворным досталась победа[20], а бесплодным. — Шутка показалась Бэрру забавной. Я был слегка шокирован. Как и все, я считаю Вашингтона человеком скучным, но безупречным.
Бэрр вручил мне несколько пожелтевших от времени страниц.
— Недавно я наткнулся на это описание моих приключений во время Революции. Думаю, оно тебя позабавит.
Я взял рукопись, весьма польщенный доверием полковника, хотя Революция для меня далека, как Троянская война, но только еще непонятней, поскольку ее уцелевшие участники ни в чем не приходят к единогласию.
Леггет как-то предложил собрать всех, кто уверяет, будто сражался за независимость, в Воксхолл-гарденс и расстрелять — да вот беда, они даже в громадном Вокс-холле не поместятся. Каждый шестидесятилетний американец клянется, что был барабанщиком; семидесятилетний — полковником или генералом.
— Мэтт Дэвис собирается после моей смерти написать мою биографию. Но он и сам немолод. — Полковник довольно усмехнулся при мысли о бренности старого друга.
Мэттью Л. Дэвис — редактор газеты, один из вождей Таммапи, стойкий бэррит, как пресса до сих пор называет изначальных республиканцев — сторонников полковника; многие употребляют это слово, но понятия не имеют о его происхождении; они бы очень удивились, узнав, что основатель рода бэрритов держит контору на Рид-стрит и сам бэрритом не является, поскольку эта фракция в настоящее время находится в оппозиции к Ван Бюрену, в то время как их герой, чьим именем она нареклась, его поддерживает (потому что Ван Бюрен его сын?).
— Мэтт, конечно, напишет обо мне хорошо. Но раз я еще здесь, я нисколько не буду возражать, если ты посмотришь мои записки. Тем более, что ты неисправимый бумагомаратель. Да и как знать, может быть, мы сумеем что-нибудь нацарапать вместе.
В смежной комнате хлопнула дверь. Нелсон Чейз явился на работу. Я встал, чтобы тоже приступить к своим обязанностям.
— Почему Дэвис настроен против Ван Бюрена?
— Разве?
— Но он же недавно написал…
— Политика, Чарли, политика. С виду противники, а на деле часто тайные союзники. Все равно Ван Бюрен будет избран президентом в тридцать шестом году. И Таммани его поддержит — об этом я и сообщил вице-президенту в последний раз, когда мы с ним виделись.
— Полковник Бэрр! — Дверь отворилась, и в кабинет ворвался свежий воздух, так что я даже закашлялся, настолько я привык к дьявольскому дыму. Унылое лицо Нелсона Чейза повисло где-то в отдалении, подобно тыквенному фонарю. — Мадам… ваша супруга… мадам Бэрр внизу, в своем экипаже.
Полковник на мгновение остолбенел. Потом вскочил на ноги.
— Чарли, спустись и скажи ей, что я встречу ее, как мы условились, у Тонтина, в пять часов. Скажи, что сейчас я занят. Хотя не надо. Скажи лучше, что меня здесь нет. Что я в суде.
— Сегодня нет судебных заседаний, полковник, — начал Нелсон Чейз. Но полковник Бэрр был уже на ногах, и, когда он надевал высокую черную шляпу, я заметил, как оттопыривается его камзол спереди, как раз напротив сердца. Он скрылся через заднюю дверь, и я мог уже не кривя душой сказать, что «полковник Бэрр только что отбыл из конторы».
Мадам смотрела на меня в окно золотой кареты.
— Куда он уехал? — Ее голос гремел по всей улице до самой водонапорной башни.
— Я точно не знаю, мадам. Кажется, он сказал, что у него назначена встреча…
— Прошу вас в карету, мистер Скайлер. Чарли. Нет, я буду звать вас Шарло. В карету. Я хочу с вами поговорить.
— Но, мадам… — При слове «карета» один из лакеев, ужасный черный верзила в ливрее, спрыгнул на землю, отворил дверцу и запихнул меня в карету, как мешок с яблоками, прыгнул на козлы, и, прежде чем я смог что-либо возразить, мы уже двигались в сторону Боулинг-грин.
Мадам взяла мою руку в свои, дохнула мне в лицо выпитой за завтраком мадерой.
— Шарло, он ограбил меня!
Я ошалело посмотрел на нее, стараясь не дышать, пока она не отстранилась от меня, откинувшись на бархатные подушки.
— Я вышла замуж за вора! — Мадам прижала к груди ридикюль, как будто я посягал на одну из этих двух ценностей, и обрушилась на меня водопадом офранцуженного английского. Она объяснила, что у нее были акции платного моста возле Хартфорда. В экстазе медового месяца в доме губернатора Эдвардса полковник уговорил ее продать эти акции. Мадам в роли молодой жены бывшего вице-президента была так доверчива, так полна любви и так безмятежна, что разрешила полковнику продать акции и самому получить за них деньги — около шести тысяч долларов, которые по его настоянию были зашиты в подкладку его камзола. «Для верности», — сказал он.
— «Ma foi[21], — сказала я ему. — Лучше зашить деньги в мою нижнюю юбку. Все-таки акции-то были мои, non[22]?» Мы были в нашей спальне в доме du Gouverneur[23], и я не хотела устраивать сцен. Naturellement[24]. И что же он на это сказал? Гори он синим пламенем в аду! Он сказал: «Я ваш повелитель, мадам. Ваш супруг, и по закону все ваше принадлежит мне!» По закону! — Маленькие, налитые кровью глаза взметнулись в громадных глазницах: очень легко представить, какой у нее череп. — Знаю я этот закон вдоль и поперек, пусть только вздумает до суда довести, я найму в этом городе сотню адвокатов и побью его в любом суде! — Она приказала вознице остановиться прямо напротив Касл-гарден.
— То-то вчера после ужина он сказал, что ему нездоровится! И что хочет лечь пораньше. А сегодня утром я поняла, что ночью он нанял фермерскую повозку и улизнул из дома. Я в город — поздно! Плакали мои денежки, и сердце мое разбито!
Кучер открыл дверцу и помог мадам вылезти.
— Мы погуляем. — Она твердо взяла меня за руку и шумно втянула в себя воздух.
Люблю Бэтери в разгар лета: пышная зелень, розы в цвету, парусники скользят по серой глади реки, и бледные муслиновые платья девушек развеваются, как флаги, а воздух напоен ароматом цветов и моря.
Мы двинулись по направлению к круглому красно-кирпичному пирожному — Касл-гарден, старому форту, откуда несколько недель назад я лицезрел прибывшего на корабле самого президента. Худой, тщедушный, с гривой белых спутанных волос, генерал Джексон сошел по трапу на берег; он шел медленно, опираясь на чью-то руку, плечо — что подвернется. Говорят, он не дотянет до конца своего срока.
Полковник Бэрр стоял рядом со мной в начале Бродвея; вокруг орала пьяная толпа — такое множество людей не собиралось и на дюжину праздников Четвертого июля[25].
— Даже Вашингтону не устраивали такого приема, — заметил полковник.
— Что сделал бы президент, если бы звал, что вы здесь? — спросил я.
— Наверное, перекрестился бы от дурного глаза, — засмеялся Бэрр. — Как-никак я олицетворяю его сомнительное прошлое. Он хотел мне помочь покорить Мексику. А теперь посмотри на него! — Бэрр говорил дружелюбно, без ожесточения, как о взрослом, отдалившемся сыне. Затем, когда президент скрылся в толпе, мы не без злорадства увидели, как рухнул перекидной мостик и несколько знатных особ очутились в реке.
Мадам попросила меня купить мороженого у ирландки. Ирландская девушка. И зачем я про это пишу? Зачем даже думаю? Но вот подумал. И все еще думаю. Н-да, благими намерениями вымощена дорога в ад. Конечно, я сегодня вечером пойду к мадам Таунсенд. До чего ж я безволен.
— Я многим обязана полковнику. — Мадам прогуливалась под вязами. Гуляющие шарахались от нее в сторону: женщина-фрегат среди моря цветов и зелени Бэтери. — В свое время он мне очень помог, я ведь не всегда была — как это сказать по-английски? — bienvenue[26]. — Когда напряжение падает, мадам вдруг изменяет английский. А когда повышается, она снова говорливая Элиза Боуэн из Провиденса, штат Род-Айленд.
— Когда вы познакомились с полковником? — Выудить такую мелочь, как факт, у этих реликвий прошлого почти невозможно.
— Такой красавец! — Она причмокнула: мороженое слегка окрасило едва различимые усики над неестественно красной верхней губой. — Я впервые увидела его, когда генерала Вашингтона привели к присяге. На Брод-стрит. На балконе. Так и вижу генерала на этом балконе. Такая благородная, властная фигура, чуть-чуть, правда, широковатая derrière[27]. — Мадам хихикнула при воспоминании о чем-то явно не связанном с инаугурацией. Да, но как она там оказалась? Вашингтон стал президентом в 1789 году. Если ей сейчас пятьдесят восемь, тогда ей было тринадцать. Что ж, возможно.
— Полковник Бэрр был на приеме, и я с ним танцевала. Затем, сразу после него — о l’ironie, о ирония судьбы! — я танцевала с Гамильтоном. Как это странно, однако, если вдуматься. Я обожала их обоих, но оба были небольшого росточка, а я всегда была неравнодушна к высоким мужчинам.
Мадам окинула взглядом мою отнюдь не внушительную фигуру. Она кокетливо улыбнулась.
— Но свою страсть, adoration[28] я всегда приберегала для мужчины невысокого роста, но выдающихся качеств. — Comme l’Empereur. Vive Napoléon![29] — вскричала она вдруг, и от нее шарахнулась группа квакеров из северной части штата — все благонравие городка Пэкипси запечатлелось на их скучных лицах.
Мадам облизнула губы, слизала мороженое.
— Мы виделись все эти годы. Но не часто. Полковник Бэрр был занят политикой и юриспруденцией, у меня были свои дела. Но как же мы все опечалились, когда он позволял этому противному Джефферсону занять президентский пост, законно принадлежавший полковнику. У полковника были нужные голоса, но он не мог нарушить слово. Он был слишком честен… — Мадам насупилась, вспомнив, как честный Бэрр украл ее деньги.
— Нет! Не честен! Слаб! Бонапарт проявил бы твердость и стал президентом, а если бы этот якобинец Джефферсон встал на его пути, он завладел бы Капитолием силой оружия! А я бы стала — кем? Этой австрийской сукой Марией-Луизой? Но бросила бы я самого блистательного мужчину на свете?! Pauvre homme[30]! Почему мужчины так слабы? А женщины так сильны?
Мадам швырнула меня на скамейку, затем сама шумно села, словно рухнул праздничный шатер. Красные птички над нами засуетились в ветках.
— Шарло, вы должны быть моим другом.
— Но я и так ваш друг…
— Полковник вас обожает, считает умницей.
— Ну что вы…
— А с виду про вас не скажешь, что вы умница. У вас слишком широко расставлены глаза. Вы гораздо умнее Нелсона Чейза, который женился на моей adorable[31] племяннице, наврав, что у него есть деньги. Но это давняя история. Если он, правда, осчастливит ее, я готова платить. Почему бы нет? Мне нравится вносить немножко douceur [32] жизнь других людей.
Мы смотрели, как английские моряки с ленточками и их покладистые девицы шли, покачиваясь, по зеленой набережной Бэтери. Когда солнце достигает зенита, я не могу думать ни о чем, кроме Розанны Таунсенд и утех ее заведения.
— Шарло, полковник хочет меня разорить. — Мадам даже не дала мне ответить. — Нет, нет. Это не жестокость. Он неспособен на низость. Но у него мания величия. Он запустит руки в мое маленькое состояние. — Маленькое состояние! — И он разорит меня, он растранжирит мои деньги на заселение Техаса немцами. А я ненавижу немцев, и мне плевать на Техас.
— Полковник часто действует сгоряча.
— Вы должны поговорить с ним. Я знаю, вас он слушает. Он сказал мне, что вы пишете его biographie[33], желаю вам удачи, mon petit[34]! Не хотела бы я копаться в его жизни. — Она схватила меня за руку. — Убедите его, что гусыня только тогда несет золотые яйца, когда с ней обращаются прилично. Уговорите его насчет техасского капиталовложения. Скажите, пусть вернет деньги, я не потребую процентов. Я даже что-нибудь ему подарю. Например, новое помещение для его конторы. Je redoute[35]Рид-стрит. Я безрассудно щедра, когда со мной обращаются по-хорошему. Вы должны быть моим союзником, Шарло.
Я обещал ей помочь. Пока я клялся в верности, одна из прелестных красных птичек оставила зеленоватое пятно на плече мадам. Не ведая о таком благословении, она позволила мне проводить ее до золотой кареты.
С нами поздоровался Сэм Свортвут. Он таможенный инспектор нью-йоркского порта. Президент Джексон назначил его на эту должность всем на удивление, ведь Свортвут убежденный бэррит.
Мадам радостно приветствовала Свортвута. Инспектор тоже был сама приветливость и простоватая прямота.
— Что ж, наконец-то вы окрутили старика.
— Ну что вы говорите, Сэм! Это он меня окрутил. Чего ж тут удивляться? Разве я не богатая вдовушка? — А ведь, наверное, над ней потешалось целое поколение американцев, вдруг мелькнуло у меня в голове. Куда девались французская претенциозность, притворная сухость: она хихикала, точно девица, по выходе из монастыря встретившаяся со своим возлюбленным. А Свортвут вовсю строил из себя разбитного парня, несмотря на пропитой голос, тусклые глаза и жидкие волосы, зачесанные вперед, как у римлянина.
— Когда вы пригласите меня в свой дом?
— Назовите день, милый Сэм. Мой добрый друг! — Эта декларация адресовалась мне, как медному резонатору. — И преданный полковнику душой и телом.
— Особенно телом, Лиза. Душа — дело темное. — Они оглушительно хохотали, я ничего не понял, да и кто мог это понять, кроме их распутного, аморального поколения. Свортвут часто заходит в контору поболтать с полковником за закрытой дверью. У них столько секретов, у этих старых авантюристов.
Свортвут повернулся ко мне.
— Засвидетельствуйте полковнику мое глубочайшее почтение. Скажите, что я скоро наведаюсь. Скажите, что я не люблю Клея, да для него это, наверное, не секрет. Ну, а когда же вы сами начнете заниматься юридической практикой?
— Видимо, скоро, — ответил я, как обычно.
— У вас лучший учитель в мире, Чарли. Если бы полковник мог учиться у самого себя, он был бы сейчас императором Мексики, а мир был бы гораздо лучше — по крайней мере для нас с вами, Лиза. — Стареющий сатир торжественно поцеловал мадам ручку и отправился на набережную к торговке яблоками.
— Он такой преданный, такой верный! — Настроение у мадам заметно улучшилось, супруг был временно прощен. — Кстати, никто в наше время, за исключением l’Empereur, не умел так располагать к себе и сохранять преданность стольких людей, как полковник Бэрр.
Когда мы садились в карету, я понял, каково быть президентом: на нас все пялили глаза.
— Я думаю, — сказала мадам, упиваясь тем эффектом, который производила карета, — может, нарисовать на дверцах вице-президентскую печать? А есть печать у вице-президента?
Я ответил, что вряд ли бывшему вице-президенту позволят пользоваться эмблемой его бывшей должности. Но мадам меня не слушала; она рассказывала о карете, которую подарил ей император в Ла-Рошели. По-видимому, императорский герб на дверце превратил всех французских полицейских в ее лакеев и французских солдат — в ее личных телохранителей.
— Он был галантен, что и говорить. — Я думал, она о Бонапарте, но она имела в виду Бэрра.
— Конечно, он преклоняется перед вами, мадам. — Почему бы им не помириться, подумал я. Птичкин след высох на ее шелковом плече.
Мадам — то есть Элиза Боуэн — хмыкнула.
— Он ни перед кем не преклоняется, Чарли. И никого не любит. И никогда не любил. Кроме Теодосии…
— Первой жены?
— Нет, не той пожилой женщины, которую рак свел в могилу. Я про молоденькую Теодосию. Он любил только свою дочь, и никого больше!
Мадам неожиданно омрачилась, на лице появилось выражение ужаса и недоумения.
— Странная эта история, Аарон Бэрр и его дочь, но не нашего ума дело. В конце концов, что было, Того уж не вернешь. Бедный Аарон, мне иногда кажется, что он утонул с ней вместе и то, что осталось — и что досталось нам — только призрак, выброшенный волной на берег.
ГЛАВА ПЯТАЯ
В полночь на площади Файв-пойнтс светло, как днем. Каждую неделю я зарекаюсь туда ходить и вот все равно иду снова. Правда, на этот раз меня сюда привела серьезная цель. Розанна Таунсенд родилась в долине Гудзона неподалеку от Киндерхука. И могла кое-что знать про полковника Бэрра и Ван Бюрена. Но я лгу, конечно. Весь день я думал о муслиновых платьях на Бэтери. Плевать мне было на Ван Бюрена.
Там, где сходятся пять улиц, можно лицезреть худших обитателей этого мира — пьяниц, шлюх, жуликов, завсегдатаев игорных домов, наемных убийц. Вряд ли еще в каком-нибудь городе на земле есть такой отвратительный район. Конечно, других городов я не видел, если не считать Олбани, и, может быть, только султанская Блистательная Порта еще хуже в полночный час, чем Кросс-стрит, но я в этом сомневаюсь.
Я заходил в один бар за другим, пил очень мало — наблюдал, слушал политические сплетни, упрямо оттягивал наслаждение. На углу Энтони-стрит я устроил себе обед из моллюсков. Как всегда, у меня кружилась голова от шума, запахов, светящихся окон баров — и, разумеется, муслиновых платьев.
В полночь я подошел к дому 41 по Томас-стрит (у меня перехватывает дыхание даже сейчас, когда я пишу в своей тетради этот адрес: просто не понимаю, как вел я затворническую жизнь, когда не знал еще этого старого кирпичного дома с облезлыми зелеными ставнями и голландским фронтоном).
Я постучался. Тишина. Потом из глубины дома послышался женский голос. Дверь отворилась. На меня смотрело черное лицо.
— О, это вы. — Я проскользнул в парадное. Негритянка захлопнула дверь и задвинула засов.
— Мадам Таунсенд свободна?
— Вы не хотите сразу подняться наверх и посмотреть, что у нас припасено? — Конечно, я хотел, да еще как. Но меня влекла особая миссия. Не одно сластолюбие было у меня на уме. Теперь-то со всем этим покончено, никогда больше ноги моей не будет в доме 41 по Томас-стрит. Торжественно клянусь.
Убедившись, что я настолько извращен, что хочу сперва посидеть с хозяйкой дома, негритянка провела меня в гостиную, где мадам Таунсенд удобно расположилась в шезлонге со своим неизменным чайником. Она беспрерывно пьет чай: кофе — напиток тяжелый, а от чая легкость в теле, любит она повторять.
Как всегда, она читает толстенную книгу.
— Кажется, это что-то фривольное, мистер Скайлер. — Она отложила книгу и в знак приветствия подняла руку. — «Путь паломника»[36]. — Обычно она читает философские трактаты, сборники проповедей. — Я не религиозна, и не думайте. Но должен же во воем быть какой-то смысл. Какой-то великий замысел. — Она прочертила в воздухе дугу длинной желтой рукой. — Я ищу смысл.
Мадам Таунсенд пригласила меня сесть рядом, в кресло с высокой прямой спинкой, как раз напротив газового фонаря. У нее аристократическая внешность: длинный нос, вечно удивленное лицо. Волосы выкрашены в неестественно рыжий цвет — дань профессии, которой она не стыдится и не гордится.
— Мистер Беньян действует глубоко угнетающе, но, надеюсь, к концу его сочинения я увижу Град божий или хоть его набережную. Согласна, это легкое чтение, но как приятно после Фомы Аквинского.
Она предложила мне чаю. Я отказался.
— Вам нужно жениться, мистер Скайлер. Вы слишком молоды — или стары — для подобных развлечений. — И она мрачно ткнула пальцем в потолок.
— Когда же и ходить сюда, как не в двадцать пять?
Она покачала головой.
— В двадцать пять — самое время жениться. Мое заведение хорошо для почтенных мужей или же для тренировки молоденьких мальчиков. Для молодого человека в расцвете лет это совсем неподходящее место — ему следует обзаводиться семьей, так сказать, строить корабль зрелости. — Мадам Таунсенд любит пышный слог, и хотя на бумаге это выглядит не очень убедительно, но звучит достаточно громко.
— Я слишком беден, чтобы жениться.
— Женитесь на наследнице.
Об этом уже говорено-переговорено. Я переменил тему. Спросил, нет ли на Томас-стрит новеньких. Есть, оказывается.
— Из Коннектикута на меня свалилось прямо сокровище. Там хорошенькие девушки растут, как лук на грядке. Не знаю почему. В воздухе дело, что ли? Говорит, будто ей семнадцать. Но может быть, и меньше. Говорит, что она девственница, во всяком случае была до сегодняшнего дня. Наверное, преувеличивает от скромности, но не сильно.
Пока мадам Таунсенд говорила, я все больше волновался. Должно быть, я глубоко порочен, раз меня тянет к совсем молоденьким, девушкам en fleur[37], как сказал бы полковник Бэрр; это и его вкус — во всяком случае, в старости, в молодые годы его явно тянуло к женщинам старше его.
— Вы представите меня этой — коннектикутской луковке?
Мадам Таунсенд назначила цену. Я предложил свою. Мы поторговались. Мы с ней всегда торгуемся, когда у нее есть что-то особенное.
Сойдясь в цене и заплатив, я, к ее изумлению, не бросился наверх.
— Идите же, мистер Скайлер. Ее зовут Элен Джуэт. Последняя комната слева по коридору. Или вы хотите, чтобы я вас официально представила?
К ее вящему изумлению, я опросил чаю. Пока она наливала, я поинтересовался, знакома ли она с полковников Бэрром (она понятия не имеет, где я работаю и чем занимаюсь). Улыбка обнажила подлинную слоновую кость искусственных зубов.
— Полковник Бэрр! Какой мужнина! Наверное, в дни моей молодости другого такого красавца у нас в городе не было. Такие черные глаза! А как любил женщин! Поистине любил. Что вы, он беседовал с ними часами — при его-то занятости. Не то что генерал Гамильтон, у того никогда не было времени поговорить с простыми смертными. У него ни на что не было времени. Бросался на девицу, она глазом моргнуть не успевала, как он уже натягивал брюки и бежал к двери. Он был тоже очень красивый, генерал Гамильтон, но настоящий лис. Понимаете? У него были какие-то оранжевые волосы и веснушки, а это не каждому нравится. Мне, например, не нравится. — Ее красивые ноздри на мгновение раздулись. — И от него всегда жутко пахло лисицей, меня просто тошнило.
— Так вы знали обоих?
Мадам Таунсенд глухо засмеялась.
— Да, и даже в библейском смысле слова обоих познала. О, эта парочка перепробовала всех веселых девушек в городе, а я тогда была веселая. Ну, с вашего позволения я позвоню…
— А мадам Джумел?
— Элиза Боуэн? — Красивая голова затряслась от негодования. — Терпеть не могла эту шлюху. Ее всегда брали французы. Не знаю уж, в ком тут дело, в ней или в них. Она долго жила с морским капитаном на Уильям-стрит и притворялась, будто знать не знает, что бывают женщины вроде меня, но мы-то все про нее знали. Не за тридевять земель от нее жили, знаете, да и не сто лет тому назад все это было. Но Лиза, говорят, далеко пошла. Всегда, всегда любила деньги и хотела стать знатной дамой. Деньги она заполучила. А вот насчет положения в обществе, это еще неизвестно. За деньги не все можно купить, даже в Нью-Йорке.
Я попытался снова навести ее на разговор о полковнике Бэрре. Но она его очень давно не видела.
— Я не вылезаю с Томас-стрит, а он к нам не ходит. Кажется, один раз я встретила его в театре, когда он вернулся из Европы, должно быть, году в двенадцатом или тринадцатом. А может, это был и не он. Он был мой герой. Хотя я до сих пор в душе федералистка.
— Вы сами-то из Киндерхука?
Лицо у мадам Таунсенд стало еще более удивленным, нем обычно.
— Я вам об этом говорила? — Но ответа она не стала слушать: она прощала себе невежливость. — Нет, из Клаверака. Это недалеко.
— А семью Ван Бюренов вы знали?
Она явно пыталась найти связующую нить, но не желала унижаться до расспросов. Она предпочитает отвечать.
— Была раза два в их таверне. Но сына не помню. Скорее всего, он уже был в Нью-Йорке. Потом в семнадцать лет я тоже приехала в этот город в надежде найти свое место в этом Содоме и Гоморре. Мне, как милтоновскому сатане, лучше царствовать на Томас-стрит, чем служить в Клавераке.
— Вы слышали, что полковник Бэрр приходится отцом Мартину Ван Бюрену?
— Мало ли что услышишь. Но стоит ли верить? Я знаю, вообще-то у полковника есть сын, рожденный, как говорится, под розовым кустом. Он серебряных дел мастер, живет в Бауэри. Аарон Колумб Бэрр. Мать была француженка, полковник сделал ей сына, когда жил в Париже. Очаровательный юноша. Приходил сюда один раз клиентом и задержался, чтобы поправить серебряный поднос, которым я трахнула по голове одну сифилитичку. Будь я помоложе и в настроении, я бы сама обслужила мосье Колумба Бэрра, потому что он прелестный юноша, во всяком случае тогда был. Его я тоже сто лет не видела.
Приглушенные голоса наверху.
Громко хлопает дверь.
Мужской кашель.
Мадам Таунсенд берет «Путь паломника».
— Идите к мисс Джуэт, — командует она.
Мисс Джуэт стоит возле открытого окна; у нее за спиной грязный, залитый лунным светом двор, где за шаткой оградой содержится корова мадам Таунсенд. Я в своей любимой комнате. Именно тут я впервые воспользовался гостеприимством мадам Таунсенд.
Элен Джуэт протягивает мне руку. Она нисколько не нервничает, только очень печальна…
Я пишу эти заметки в конторе; сейчас утро, и я должен засвидетельствовать, что никогда еще я не испытывал такого удовольствия. Серые глаза, восхитительная кожа, чистое тело — и полное отсутствие запаха дешевых духов, из-за которого занятие любовью со многими девицами напоминает схватку бордов в парфюмерной лавке.
Мы с ней потом поговорили.
— Мне бы хотелось стать портнихой. — Речь у нее вполне городская. — Но понимаете, в Нью-Хейвене нет никаких перспектив. Две француженки обшивают всех и больше никого к делу не подпускают. Вот я и приехала сюда, встретила девушку, которая знакома с мадам Таунсенд, так здесь и очутилась. — Она улыбнулась; с виду совсем бесхитростная. — Через несколько лет я скоплю денег и открою мастерскую. Знаете, нужно не так уж много. А мадам Таунсенд говорит, что пока я могу шить ей и девочкам.
Я не стал ее разубеждать: девочки здесь редко надевают что-нибудь, кроме комбинации (отсюда их отпускают нечасто), а сама мадам не вылезает из выцветшей темно-зеленой бумазейной хламиды.
— Вам поправилось? — Ей, кажется, и в самом деле было любопытно.
— Да, очень.
— Вот и хорошо.
— Ты была девушкой, когда сюда попала?
Она снова улыбнулась, покачала головой.
— Нет. Но я никогда не была с незнакомым мужчиной, как сейчас.
— Тебе это нравится?
— Сама не знаю. — И она засмеялась. — А вы прямо как херувим из церковных гимнов. — Ее слова так меня взволновали, что я готов был начать все сначала, но шаги негритянки за дверью означали, что мое время истекло. Я сказал, что скоро снова приду. Приду ли? Да, конечно.
Выйдя из комнаты и направившись к лестнице, я услышал кашель. Распахнулась дверь, и я увидел Леггета, он обеими руками прикрывал рот, за его спиной, в постели, была напуганная голая девица.
Служанка в сердцах захлопнула дверь.
Леггет в последний раз громоподобно кашлянул, вытер губы тыльной стороной руки, открыл глаза, увидел меня и сказал:
— Выброшенные деньги. Я чуть не умер и отнюдь не от нежной страсти. Тут такая пылища. Я говорю Розанне: «Лучше десять раз схватить триппер, чем задохнуться от пыли под вашими одеялами!»
Пошатываясь, он взял меня за руку, и мы спустились по лестнице. Дверь в гостиную была закрыта. Мадам Таунсенд сейчас не принимала никого, кроме Джона Беньяна.
Мы с Леггетом окунулись в теплую ночь — вернее, утро — и зашагали к Файв-пойнтс, в таверну на Кросс-стрит.
Когда мы вошли, бармен, к удовольствию посетителей, гонялся за свиньей по засыпанному опилками полу.
Леггета немедленно узнали. Рабочий люд так же его боготворит, как богатеи ненавидят. Пока мы пробирались к нашему столику в конце зала, его швыряло из стороны в сторону от дружеских похлопываний по плечу.
Леггет заказал два пива, вытащил из кармана гранки и начал править редакционную статью, между делом расспрашивая меня про новую девушку из Коннектикута. Я отвечал невразумительно, чтобы он не соблазнился. Он кивал, кашлял, читал, делал пометки в гранках и тем выводил меня из себя.
— Ты в самом деле можешь читать и говорить одновременно?
— Конечно.
Но когда подали пиво, он отложил гранки.
— За счет заведения, мистер Леггет! — Сверху нам улыбалось ирландское лицо хозяина. Нижние слои нью-йоркского населения, может, и не читают неистовых статей Леггета — как, впрочем, и ничего другого, — но молва разнесла, что он гроза их работодателей. Во всяком случае, человек, который способен отдубасить редактора за клевету (что Леггет недавно сделал), — для них настоящий герой.
— Что нового о полковнике Бэрре?
Я рассказал Леггету про разговор с мадам и добавил:
— Собираю материал. — На самом-то деле я только занес в свою тетрадь кое-какие факты, разбавив их многочисленными личными отступлениями. Но, как в показаниях преступника, одно тянет за собой другое. Сначала показания многословны, односторонни, повторяются; затем постепенно картина проясняется, ложь выходит наружу, истина обнажается. Я верю, что если фиксировать все, что я знаю о полковнике Бэрре, то в конце концов я заставлю загадочного сфинкса привстать и показать, мужчина он или женщина, зверь или человек, или неведомый гибрид, лежащий на моем пути. Кто он такой, Аарон Бэрр, и опять-таки, почему он меня так занимает?
— Ты знаешь, что меня интересует, Чарли. Связи с Ван Бюреном.
— Не могу же я в лоб спросить об этом полковника.
— Конечно, нет. Но есть люди, которые знают.
— Кто? Мэттью Дэвис?
Леггет скривился.
— Знать-то он знает, да вряд ли скажет. Предан Таммани-холл до мозга костей и тайно работает на Генри Клея. Ясно одно: уж если выбирать между Клеем и Ван Бюреном…
Выборы приводят Леггета в восторг. Для него жизни нет без предвыборных кампаний и стычек. Его всерьез занимают такие проблемы, как черные рабы на Юге и эксплуатация рабочих в городе. Я ему завидую. Ему никогда не бывает скучно; он всегда начеку, вечно мечет чернильные молнии во власть предержащих, он весь огонь и натиск.
Я не такой, меня влечет прошлое, тайное, я отдаюсь мечтам о власти и в мечтах с превеликой легкостью ниспровергаю классы, народы, авторитеты. Меня восхищает Бонапарт. И Бэрр. Для Леггета они мерзавцы. Конечно, мерзавцы. Ну и что? Я и одного такого за десять Эндрю Джексоновские не отдам.
Наверное, просто любовь к рискованной игре привлекает стольких американцев к политике. Клянутся в верности демократии, а сами лезут из кожи вон, чтобы сделать побольше денег и выбиться из общей массы. Впрочем, это безразличие к идее вполне естественно. Однако я предпочитаю такого человека, как Бэрр, который, не получив власти общепринятым путем, нарушает правила игры — или пытается, хватает корону — или пытается, а когда ему это не удается…
Но что я, в сущности, знаю об Аарон Бэрре? Или о себе самом? Вот я на досуге делаю какие-то заметки, пытаюсь влезть в его шкуру и, сидя за конторкой на Рид-стрит, жду, когда он и прочие явятся на работу в это жаркое августовское утро. Ни ветерка.
Только что я попробовал открыть сундук под круглым столом, но он заперт.
Да, так о чем же еще мы говорили с Леггетом?
— Если с Мэттью Дэвис ом не выйдет, я прощупаю Сэма Свортвута.
Леггет не проявил энтузиазма.
— Им выгодно замалчивать эту связь и незачем ее открывать. Сэм недолюбливает Ван Бюрена, но не настолько, чтобы предать Бэрра и тем более — президента. Конечно, он много знает о приключениях Бэрра на Западе.
Пора было уходить. Выйдя из бара, мы увидели, как двое мужчин сцепились около деревянной водокачки. Небольшой, коренастый дубасил нескладного верзилу, нелепо размахивающего руками.
— Погасите огни! — взвыл молодой человек, и мы узнали самый прекрасный голос в нашем городе: Эдвин Форрест по заслугам вздул Уильяма де ла Туш Клэнси, тори и педераста.
— Погасите же наконец огни! — Голос Форреста гремел на Файв-пойнтс, как медная труба в судный день. Он самый лучший Отелло и в большинстве классических ролей превосходит всех актеров Англии (какую бы чушь ни писала о нем госпожа Троллоп). Если он не сопьется и не сядет за убийство, то станет лучшим актером мира. Ему всего двадцать семь.
Леггет кинулся их разнимать, отшвырнул Форреста ко входу в бар, а едва державшемуся на ногах Клэнси дал такого пипка, что тот долетел чуть не до угла Энтони-стрит.
— Успокойся, Эд, — сказал Леггет, — это же не Дездемона.
— Возможно, — зловеще пробормотал Форрест, с трудом выпрямляясь; его бычье, довольно смазливое лицо раскраснелось от виски.
Клэнси тем временем снова стал самим собой, презрительным и гордым, несмотря на перепачканное грязью лицо и разорванную рубашку.
— Отведи этого мясника в постельку, Леггет! — Он шипел, как злобная гусыня.
— Только не в твою постельку! — прогремел Эдвин Форрест, опираясь на Леггета. Подонки из Бауэри были в восторге от перебранки. А также от того, что двое их любимцев сплотились против заклятого врага — ведь Клэнси ненавидит нашу демократию, даже вигов считает радикалами, семью Адамсов находит вульгарной, а Даниэля Уэбстера зовет sans-culotte[38]. Его журнал «Америка» клевещет на все американское. У него богатая жена и пятеро детей, а он все равно закоренелый гомосексуалист и вечно охотится за провинциалами, новичками в этом городе.
Леггет успокаивал своего друга, спрашивал, из-за чего случилась драка. Но Форрест только улыбался (он лучше всех актеров, каких я до сих пор видел, и я часто разыгрываю перед зеркалом последнюю сцену из его «Спартака»), он положил руку Леггету на плечо, и тот увел его.
— Нет, если так, — шептал он словами Яго, — то я желаю знать… — Я вздрогнул: какой потрясающий голос! Вздрагиваю и сейчас, когда описываю эту сцену (я тоже, как Леггет, когда-то хотел стать актером). Наверное, рухнувшие мечты Леггета объясняют его дружбу с Форрестом — что жизнь писателя по сравнению с жизнью актера!
Однако пора открыть рукопись, которую вручил мне полковник Бэрр.
Сверху на первом листе надпись:
«Отчет о военной службе подполковника Аарона Бэрра во времена Славной Революции». Слово «Славной» явно было вписано уже потом.
«Нижеследующим отчетом, а также прилагаемыми показаниями еще живых свидетелей подполковник Аарон Бэрр почтительнейше просит конгресс в соответствии с недавним законодательством (документы прилагаются) о возмещении расходов, понесенных им во время справедливой войны против британской тирании. Совершено в Нью-Йорке, января 1. 1825».
Ищу, где же приложения. Их нет.
На полях нацарапано: «Чарли, петиция в конгресс не очень-то искренняя. Когда три года назад я лежал, прикованный к постели, я перечитал эту геройскую сказку и решил, что надо рассказать подлинную историю тех дней. Правда не повредит, как говорится. Разумеется, это неверно: именно правда и поражает нас, как гром, ниспосланный богом, к которому регулярно приобщался мой дедушка. Кстати, я всегда считал, что, если бог существует, он отнюдь не так плох, как его малюют. Но, увы, мое мнение, как всегда, не совпадает с общепринятым.
Пусть тебя позабавят эти рассказы о событиях прошлого. Сам-то я немало позабавился, когда писал все это, будучи в сенате и на короткое время получив доступ к нашим военным архивам».
Переписываю текст целиком, вставляя примечания и отступления.
Кембридж, Квебек
Я был девятнадцатилетним студентом юридической школы Тэппинга Рива в городе Литчфилд, штат Коннектикут, в тот день, когда американские колонисты впервые сошлись с английскими солдатами в битве при Лексингтоне. На следующий день (20 апреля 1775 года) в Литчфилде звонили «победные» колокола. Долгожданная битва за независимость Америки началась, и я был готов к ней.
Вообще-то я был готов только к приключениям. В отличие от Гамильтона я не принимал участия во всевозможных дебатах, которые предшествовали Революции — этим неточным словом люди называют политическое отделение американских колоний от британской короны. Воспитанный в семье проповедников, я никогда не увлекался никакой политической риторикой, разве что изредка своей собственной.
Пока не начались настоящие бои, я отдавал все свое время юриспруденции и некой Долли Куинси из Фэйрфилда. Обручившись с Джоном Хэнкоком, делегатом Континентального конгресса от Массачусетса, Долли осталась моей доброй подругой и весьма тактично играла роль Зрелой Женщины, которая должна держать на почтительном расстоянии пылкого юнца.
Мы с Долли стояли в небольшой толпе возле литчфилдской таверны и слушали ножовщика, который бежал из занятого англичанами Бостона. Он уверял, что был при Лексингтоне. Конечно, он привел множество кровавых подробностей, но я уже не помню ни слова. Помню, как мы шли по грязному пустырю и молчаливая Долли крепко держала меня за руку. Помню нарциссы в цвету, гусыню с гусятами, скользивших по поверхности холодного еще пруда.
— Джон будет доволен. — Долли собирала цветы. — Он всегда хотел войны. По-моему, он сумасшедший.
— Вы тори? — поддел я ее. Но она была серьезна, военная лихорадка ее не заразила.
— Я боюсь. Что с нами со всеми будет? — Я до сих пор точно помню ее интонацию, выражение красивых, чуть косящих глаз. Так началась долгая война; колокола звонили, нарциссы цвели.
В июле благодаря посредничеству друга (Долли) я получил письмо от Джона Хэнкока, теперь уже президента Континентального конгресса. Он рекомендовал моего друга Матиаса Огдена и меня вниманию только что назначенного главнокомандующего континентальной армии генерала Джорджа Вашингтона из Виргинии.
Должен заметить, что Долли поразилась, когда узнала, что выбор пал на Вашингтона.
— Командовать армией должен был Хэнкок. Ничего не понимаю.
Но тогда никто не понимал, как удалось Вашингтону и его виргинским конфедератам прибрать к рукам руководство, в сущности, армией Новой Англии. Действуя сообща, в полном согласии и всегда проявляя редкую преданность друг другу, виргинцы оттерли не только Джона Хэнкока, но и таких талантливых командиров, как Гейтс, Ли и Артемас Уорд. А вот Джон Адамс предал своего земляка из Новой Англии Джона Хэнкока. Выходцам из Новой Англии и Нью-Йорка не хватало личной преданности друг другу, настоящей политической линии, и они с самого начала отдали американскую республику виргинской хунте, а та со вкусом правила нами едва ли не полстолетия подряд.
В июле, через неделю после того, как генерал Вашингтон принял командование, Мэтт Огден и я прибыли в Кембридж, полный офицеров и претендентов на офицерские должности.
Письмо Джона Хэнкока было, как положено, вручено генерал-адъютанту Гейтсу, тот был приветлив, однако нервничал. Он обещал мне свидание с генералом Вашингтоном, но я ни разу не поговорил с ним за два месяца, которые провел в Кембридже. Мэтта Огдена, однако, немедленно произвели в офицеры.
Вечерами я торчал в кабаках, заводя знакомство с офицерами, а днем — в лагере, наблюдал, как 17 000 будущих солдат располагались на берегу Чарльз-ривер. Особенно поражали меня парни с границы — из тех лесных областей, что считались тогда Западом. На них были обтрепанные охотничьи куртки, и жили они, как дикие звери, под открытым небом. Они не утруждали себя рытьем нужников, вокруг них всегда стояла жуткая вонь.
Ну а тем, кто предпочитал крышу над головой, приходилось изобретать себе жилище. Несколько офицеров раздобыли настоящие палатки, даже английского производства. Другие сооружали дома из парусины, из наскоро сбитых досок, из торфа. Получился хаос, какой бывает после стихийного бедствия наподобие лиссабонского землетрясения, и, как всегда после катастроф, многие находили утешение в варварстве — пьянстве, воровстве, драках.
Я обходил одну роту за другой, присматривался. Одно было ясно: кое-кто из офицеров добивался повиновения без особых усилий, тогда как другие — и таких большинство — кричали и угрожали — и без толку.
Однажды в конце июля я наблюдал, как муштруют роту нью-йоркских оборванцев, когда верхом на вороном коне подъехал генерал Вашингтон. Впервые я видел его вблизи. На нем была недавно утвержденная сине-желтая армейская форма, бледно-голубая лента на груди символизировала его положение командующего; генералы ниже рангом носили пурпурные ленты, штабные офицеры — зеленые и так далее.
Когда генерал проезжал мимо, я отдал ему честь. Я все еще был в гражданском платье, но тогда многие в армии так ходили.
Генерал ответил на приветствие, а я разглядывал его лицо: желтая, изъеденная оспой кожа слегка припудрена, серые глаза тонули в глазницах и казались безжизненными, выражение лица было мрачным и как будто отсутствующим. Он показался мне старым как господь бог. А ведь ему было только сорок три!
Генерал медленно подъехал к парусиновой палатке, у входа в которую двое пьяных пытались убить друг друга, к удовольствию множества столь же пьяных зрителей.
Я последовал за генералом, мне было интересно, что он предпримет. Другой бы проехал мимо, отвернувшись. С американским солдатом и с трезвым-то не сладить, а пьяный он просто страшен.
— Прекратить! — Глубокий голос гремел как гром. На мгновение среди зрителей пробежал шепоток смутного пьяного интереса. Затем взоры всех снова обратились к дерущимся. Один пьяный с воплем пытался задушить другого, а тот, похоже, откусил у своего врага чуть не половину уха.
Вашингтон сперва застыл, как одна из тех конных статуй, что ныне украшают проспекты республики. Конь и всадник оставались неподвижны. Но вот стало ясно, что приказ не выполняется. Тогда он величественно спешился и, точно во главе торжественной процессии, приблизился к рычащим, барахтающимся в грязи драчунам. У него были женские бедра, ягодицы и бюст, но двигался он с поразительной быстротой. Он навалился на обоих. Одной громадной ручищей схватил за глотку душителя, другой вцепился в патлы людоеда. Рывком поставил обоих на ноги, приподнял и встряхнул, будто двух крыс. Его широкое желтое лицо стало кирпично-красным под слоем пудры, и он не переставая сыпал страшными ругательствами. Если его не слышали в Бостоне, то уж весь лагерь-то слышал безусловно. Адъютанты поспешили на помощь командующему. Сержант посадил ошеломленных драчунов под арест. Гуляки попытались даже встать по стойке «смирно», когда Вашингтон садился в седло с величественностью, истинно поразительной, и только те, кто стоял рядом, вроде меня, видели, как дрожит на поводьях его рука. Наверное, он сам втайне ужаснулся. Ведь в общем-то, у него не было опыта современной войны, а подвиги в стычках с индейцами существовали лишь в легендах, которые он сам неустанно распространял вместе с виргинцами. Но ладно уж, бог с ними, с подвигами, он хоть выглядел как генерал.
Президент конгресса Хэнкок забавно описал мне первое появление Вашингтона в Филадельфии. Делегат от Виргинии на только что созванном конгрессе упорно щеголял в сине-красной форме, которую носил во время стычек с индейцами лет двенадцати назад. Это был явный намек. Но несмотря на его отличною военную выправку, кое-кто из делегатов обратил внимание, что из-за склонности к полноте он стал несколько великоват для своей формы.
«Мы все ждали, — рассказывал Хэнкок, — что вот-вот лопнут швы, когда он после обеда в кабачке Барнеса, покачиваясь, направлялся к своей многострадальной лошади».
Хэнкок сошел в могилу, не перенеся того, что Вашингтона, а не его назначили командующим континентальной армией. Обидно, когда славу выхватывают у тебя из-под носа, а в то лето она была так близка. При Лексингтоне и Банкер-хилл мы устояли против лучшей армии в мире. Правда, англичане находились за 3000 миль от дома и были вынуждены воевать на пересеченной местности, где главное их достижение — четкий строй — оказалось неприменимо против самой страшной для них стратегии, снайперского огня невидимых стрелков.
Несмотря на нашу простодушную самоуверенность в Кембридже, сам Вашингтон, должно быть, сомневался, можно ли создать армию из столь неподходящего человеческого материала. На берегах Чарльз-ривер собрались воры, головорезы, одичавшие лесные бродяги, убийцы, негры, сбежавшие от своих хозяев на Юге, европейские авантюристы… сброд, а не солдаты.
До Англии никому не было дела. Большинство завербовалось ради денег, а их платили сразу. От бескорыстных патриотов Вашингтону тоже было мало проку, особенно от выходцев из Новой Англии, они все до единого мнили себя генералами и не хотели служить рядовыми. Но мы рассчитывали на короткую войну.
Когда Вашингтон отъехал, ко мне повернулся крепко сбитый молодой человек и что-то сказал относительно языка его превосходительства. Мы оба засмеялись, и вместе пошли к реке.
— Я капитан Джеймс Уилкинсон из Мэриленда, — представился он. Я сгорал от зависти. Я — многоопытный девятнадцатилетний мужчина, а этот восемнадцатилетний мальчик со щеками, еще не знавшими прикосновения бритвы, — капитан! Джеймс вступил в армию в Джорджтауне, до того учился на врача.
— Но хочу уже увидеть битву. Только где? Когда? — Он показал в сторону Бостона — английской штаб-квартиры. Покачал головой. — Веселенькое положение!
У нас сразу установились дружеские отношения, и Джейми всегда говорил, что в тот день он нашел самого лучшего друга. Но лучше бы мне стать тогда его врагом!
— Индейские башмаки, кому индейские башмаки? — Бледный толстяк с границы сидел, скрестив ноги, в пыли, разложив перед толпой бездельников несколько пар грубых мокасин. В те первые дни, пока Джордж Вашингтон не навел дисциплину, лагерь слегка смахивал на ярмарку.
Какой-то босой фермер купил себе пару, а торговец все приговаривал:
— Этим ботинкам сносу не будет, увидите. Сам их шил. И кожу сам дубил.
Мокасины переходили из рук в руки, а кругом посмеивались. Мы не понимали почему. Покуда не узнали о происхождении мокасин.
— Я застрелил двоих молодцов по дороге сюда из Франкфорта, где я живу. Застрелил, а потом гляжу на этих верзил и думаю себе: да разве это можно, чтоб такой прекрасный товар задарма пропадал. Содрал я у них шкуру с задниц, высушил на солнце. Сам-то я дубильщик. Ну, вот и сшил прекрасные башмаки, коровьим не уступят. Видите? — Он поднял один мокасин. — Тут еще щетинка осталась, так что не сомневайтесь. Настоящая индейская шкура, даю гарантию.
На мосту через Чарльз-ривер мы увидели генерала Вашингтона с адъютантами. Генерал смотрел на противоположный берег, где купались голые солдаты. Они весело гоготали и выставлялись напоказ любопытным кембриджским дамам.
— Не сделать ему армии из этого сброда. — Уилкинсон полагал, что анархический сброд пересилит Вашингтона. Но Уилкинсон ошибался. В считанные минуты купальщиков под дулами мушкетов доставили с противоположного берега. На следующий день разжаловали одного полковника и пятерых капитанов. Еще через день в центре лагеря поставили хитроумное сооружение «козлы», к ним привязывали нарушителей дисциплины и пороли. Вашингтон прибирал армию к рукам.
На следующей неделе в лагере вспыхнула эпидемия оспы и дизентерии. Вашингтон считал, что дизентерия вызвана свежим сидром. Но сидр продолжали пить, и продолжали мучительно умирать от кровавых кишечных спазм.
Я слег на две недели в лихорадке. Мэтт и Джейми выхаживали меня, как могли; я чувствовал себя несчастным, как никогда. Я сбежал из дому, чтобы воевать, но из этого ничего не получилось.
— Это все из-за твоего роста. — Мэтт кормил меня капустным супом. — На вид ты десятилетний мальчик! — Он преувеличивал, но я и вправду казался моложе других офицеров, в том числе Джейми, который выглядел солидней благодаря раннему брюшку. И все равно, чем я не воин? Я отлично стрелял, умел обращаться с лошадьми, и я был уверен — с солдатами сумею тоже. К тому же наверняка у меня был прирожденный педагогический дар. И потом, я жаждал славы, а это, что ни говорите, возвеличивает и самых тщедушных.
Лежа без сна — меня мучили жар и духота, — я услышал, как Мэтт говорит кому-то за стеной:
— Нам потребуется по меньшей мере тысяча добровольцев.
— Ну и что, — раздался юный голос. — Я, например, не собираюсь до конца дней торчать в Кембридже.
Нам казалось странным, что Вашингтон занят только муштрой и нужниками. А ведь мы каждый день видели из нашего лагеря, как строится в Бостоне английская армия: грозные алые игрушечные солдатики в зеленой дали.
Мы не знали, что Вашингтон медлил потому, что у него было мало пороха, совсем не было артиллерии, а войска были не обучены. Вашингтон смотрел на войну просто и всегда одинаково: ничего не предпринимать, пока не будешь сильнее противника вдвое. Вот он и ждал, когда конгресс пришлет ему людей и боеприпасы. Силы англичан находились далеко от дома, в колониях в то время насчитывалось около двух миллионов американцев, так что мы должны были их непременно победить. Но Вашингтона вечно преследовала проблема обеспечения армии. Богачи придерживались проанглийской ориентации, а беднякам было безразлично, платят американские купцы налоги далекому острову или нет. Честно говоря, кроме горстки честолюбивых адвокатов, «патриотов» в 1775 году было очень мало. К тому времени, когда долгая смертоубийственная война подошла к концу, их и вовсе не осталось. Лучшие погибли, другие устали.
Но сейчас по крайней мере для кое-кого хоть скучное время миновало. Со свечой в руке Мэтт присел на край моей взмокшей от пота Постели и сообщил:
— Мы идем походом на Канаду.
Я удивился.
— Почему не на Бостон? Это гораздо ближе, и там большая часть английской армии.
— Вашингтон опасается, что англичане выступят из Канады и отрежут Новую Англию от других колоний. Вот он и хочет их предупредить. Требуется батальон добровольцев и по крайней мере три роты стрелков.
В ту ночь мою лихорадку как рукой сняло. Шестого сентября я записался в роту подполковника Кристофера Грина. Тринадцатого сентября отряд подполковника Грина вышел из Кембриджа на Ньюберипорт. Новоиспеченный ретивый солдат, я шел пешком. Мэтт благоразумно воспользовался повозкой.
Шестнадцатого сентября наш отряд в количестве тысячи ста человек — главным образом виргинцы и кентуккцы, а также рота ньюйоркцев (как обычно, потребовавших платы вперед) — был построен по стойке «смирно» перед своим командиром, полковником Бенедиктом Арнольдом, первым героем Революции.
Как сейчас помню Арнольда в тот день, его высокую, могучую фигуру на фоне ясного неба. Черные как смоль волосы; лицо странно темное, точно намазанное ореховым маслом; удивительные глаза, как у зверя или доисторической птицы: светлые, как лед, немигающие — индейцы прозвали его Черным Орлом. Не знающий усталости, храбрый, мудрый лишь на поле боя, он был неотразим и вздорен.
Арнольд сказал нам несколько слов. Затем представил офицеров. Среди них был Дэн Морган из Виргинии, в куртке с бахромой, гроза индейцев; сорокалетний Морган оказался старшим из офицеров. Его уважали, но он не вызывал трепета, как Вашингтон. Сам Арнольд был как атлет среди подростков, первый актер среди статистов, а больше ни у кого из наших офицеров не было военной выправки, кроме подполковника Роджера Иноса, из-за которого мы потеряли Канаду.
До мая 1775 года Бенедикт Арнольд держал аптеку в Нью-Хейвене. Когда до него дошла весть о битве при Лексингтоне, он закрыл аптеку, собрал роту солдат и предоставил себя в распоряжение штата Массачусетс. Он начал с того, что предложил захватить у англичан форт Тикондерога, чтобы открыть дорогу в Канаду. Он овладел Тикондерогой, но ему пришлось разделить лавры с Итеном Алленом (скандалистом, который потом попал в английский плен, к вящему облегчению для американского командования). Аллен и Арнольд сразу не поладили. К тому же массачусетская ассамблея заявила, что ее не интересует Канада; видимо, форт Тикондерога захватили, только чтобы добыть столь необходимую артиллерию. Арнольд объявил, что его не хотят использовать и предают, и в августе сложил полномочия в городке Уотертаун. Вашингтон немедленно произвел его в полковники, а далее — «Его превосходительство оказал мне честь, приняв мой план завоевания Канады».
Арнольд обратился к своим офицерам с амвона церкви в Ньюберипорте. «Надеюсь, что наше промедление ничего не испортило. Я хотел идти сразу на Канаду, после того как взял Тикондерогу». Мэтт Огден и я переглянулись. То было наше первое соприкосновение с героем войны. Выходит, герой войны в одиночку стирает с лица земли города и творит историю. «Но это оказалось невозможным». У Арнольда хватило ума не заклеймить перед офицерами владык Массачусетса, которые его остановили.
Штабной капитан извлек карту Канады и водрузил ее на амвон. Мы подались вперед на жестких скамьях, и Арнольд объяснил нам дорогу. На следующий день нам предстояло погрузиться в одиннадцать грузовых судов и плыть в устье реки Кеннебек в Гардиньерстаун. Там нас должны ожидать двадцать четыре плоскодонки.
«На этих плоскодонках мы пойдем вверх по Кеннебеку». Толстый палец показывал путь по карте. «У истоков мы пройдем двенадцать миль по суше до Дэд-ривер. Другой отряд под командованием генерала Скайлера двинется из форта Тикондерога через форт Сент-Джон к Монреалю. Завладев Монреалем, генерал Скайлер присоединится к нам в Квебеке. Мои лучшие разведчики заверили меня, что во всей Канаде только семьсот английских солдат и никакого флота. Не позже пятнадцатого октября я начну осаду Квебека».
Я извлекаю эту речь из недр памяти, чтобы дать понятие о тщеславии иных наших командиров в первые дни сражений. И все же надо сказать, что Арнольду удалось убедить нас в том, что еще до первого снега мы станем освободителями Канады. Могли ли мы потерпеть поражение? Сами канадцы на нашей стороне. Франция только двенадцать лет назад уступила Канаду Англии, к великому огорчению (так нам говорили) французских колонистов, которые с нетерпением ожидали нашего прихода и «свободы». Боюсь, все мы поверили в эту чепуху.
Как выяснилось, французские колонисты любили нас гораздо меньше, чем англичан, которых они предпочитали своим продажным французским губернаторам. А главное, они отлично знали, как американцы ненавидят их церковь. Действительно, даже странно, как вообще мог Вашингтон надеяться на добрые чувства французских канадцев, когда буквально дня не проходило без того, чтобы наша пресса или конгресс не обрушивались на римскую католическую церковь и ее коварные замыслы прочив нашей чистой протестантской веры и наших утопающих в зелени деревень. Республика всегда проявляла безразличие к религии другого народа и его обычаям, и это послужило причиной многих бед, в чем пришлось убедиться Джефферсону, когда он беспечно и незаконно аннексировал Луизиану с ее католическим населением.
В Гардиньерстауне нас ждали пресловутые плоскодонки. Сколоченные в великой спешке из сырой сосны, они шли камнем ко дну, едва их грузили. С большим трудом мы кое-как их подправили. И вот ясным сентябрьским утром отплыли на завоевание Канады.
Подобно Наполеону Бонапарту, Бенедикт Арнольд был слишком велик, чтобы обращать внимание на погоду. Оба они отказывались понимать, что за осенью непременно следует зима, а в таких северных широтах, как Россия и Канада, зима неодолима. Никто не думал о том, что нас ждет впереди, — как стрекоза из басни, мы радовались теплым сентябрьским денечкам и мечтали о славе, озаренной северным сиянием.
Вскоре выяснилось, что у Арнольда неточная карта. Река Кеннебек оказалась куда своенравней и быстрей, чем мы полагали. Раз тридцать нам приходилось вылезать на берег и углубляться в леса, волоча на спинах проклятые плоскодонки. Состояние нашего духа падало. Ночи стояли холодные. Выли волки. Мы нигде не встречали людей, только в Форт-Уэстерн, мрачном пограничном пункте (теперь это Огаста в штате Мэн).
Огромный медведь сидел на цепи у частокола Форт-Уэстерн. Цепи протерли ему лапы до крови. Это зрелище осталось в моей памяти. И еще помню запах сырой хвои и черной земли. И блеск слюды на серых скалах. И ругань солдат, спасающих пороховницы на переправах и от холодных дождей.
По суше я обычно шел рядом с молодым Джонатаном Дейтоном (будущим спикером палаты представителей и сенатором от Нью-Джерси); мы делили с ним пищу, по ночам спали рядом у костра. Мэтт находился в роте, которая шла впереди.
По воде полковник Арнольд плыл с удобствами, в собственном челноке, управляемом двумя индейцами. Сначала все добродушно подшучивали над тем, как ловко наш командир всегда находит хижину поселенца для ночлега и избегает удовольствия спать с нами вместе al fresco[39]. Но когда разразилась беда, шутки сменились проклятиями и лишь сила, исходившая от этой незаурядной личности, удержала людей от мятежа.
Восьмого октября мы достигли истоков Кеннебека. Мы были измучены, но знали, что должны поспешить к обжитой земле, потому что огненно-красные и ярко-желтые листья уже бурели и опадали и в северном ветре веяло запахом снега. Стрекозам стало не до песен.
У нас ушло восемь дней, чтобы посуху добраться до Мертвой реки, вполне заслужившей свое название. Угрюмая, стремительная черная река извивалась в первобытном лесу, который, вероятно, не изменился от сотворения мира. Река была глубокая, отталкиваться шестами стало невозможно, и мы тащили плоскодонки канатами, впрягаясь в них, как лошади. Ньюйоркцы поговаривали о том, что через десять недель Новый год — конец срока их вербовки.
В ночь на двадцать четвертое октября Мертвая река разлилась. Мы потеряли половину провианта и плоскодонок, а заодно почти все свое мужество. Я провел ночь с Джонатаном Дейтоном на дереве. На рассвете мы с удивлением увидели громадное озеро, разлившееся во все стороны среди темного хвойного леса. Когда вода начала спадать, мы слезли в жидкую грязь и стали размышлять о масштабах постигшего нас бедствия. Как только явился полковник Арнольд, повалил снег. Арнольд созвал совет прямо под деревьями. «Я предоставляю вам выбор: идти вперед или возвращаться», — сказал он.
Мы стали жарко спорить, едва различая друг друга за белой завесой метели. Однако Арнольд умело направлял спор и вынудил тех, кто стоял за возвращение, признать, что вряд ли кому из нас удастся вернуться живым теперь, когда потеряна половина провианта, плоскодонки разбросаны по лесу, а землю прямо на глазах устилает все более плотный снежный покров. Решено было идти вперед.
Тридцатого числа Арнольд отправился за провиантом в Сартиган, деревню, расположенную неподалеку, если верить злополучной карте.
«Больше мы его не увидим». Дейтон был убежден, что нас бросили на произвол судьбы. Еда кончилась. Люди уже съели собак, а теперь жевали ремни, мокасины, даже мыло. К счастью, из передового отряда прибыл Мэтт и привез остатки провианта: полфунта свинины и пять фунтов муки на человека — до того, как падет Квебек или полковник Арнольд достанет продовольствие.
Через три дня из мифического Сартигана прибыло продовольствие. То-то было радости. Даже снегопад прекратился по такому случаю.
А потом пришли плохие вести. Проводник-индеец сообщил, что наш арьергард под командованием подполковника Ипоса повернул назад, в Массачусетс, так что у нас оставалось только пятьсот боеспособных солдат.
Между седьмым и тринадцатым ноября наша «армия» стянулась в Пойнт-Левис на реке Св. Лаврентия напротив Квебека. Наконец-то мы оказались на цивилизованной земле; но положение было по-прежнему тревожное. Два британских корабля патрулировали реку, а в квебекской цитадели засело больше пятисот английских солдат под защитой фрегата и сторожевого корабля, насчитывавших вместе сорок два орудия. «Лучшие» разведчики Арнольда оказались не надежней его карты.
Ночью тринадцатого ноября англичане подожгли наши уцелевшие плоскодонки. Как ни странно, сырое дерево хорошо горело.
Мы заняли Волчью бухту под стенами Квебека. И здесь один охотник рассказал нам, что сменивший Скайлера генерал Монтгомери захватил английские форты Чэмбли и Сент-Джон. Теперь Монтгомери наступал на Монреаль. Арнольд на радостях отправил Мэтта под белым флагом в цитадель потребовать немедленной капитуляции Квебека.
«Скажите английскому командующему, что мы будем всемерно великодушны, если они сдадутся немедленно. И беспощадны, повторяю — беспощадны, если они не признают наш суверенитет над Канадой». Я не верил своим ушам. Бедняга Мэтт отправился выполнять приказание.
Мы смотрели, как Мэтт приближался к воротам цитадели, маленькая фигурка с грязной белой рубашкой на палке. Арнольд был вне себя от бешенства, а я забавлялся (увидев, что Мэтт не пострадал), когда англичане дали залп картечью и Мэтт скатился с холма к нам, в Волчью бухту.
«Я преподам этим мерзавцам урок, какого они никогда не забудут!» Темное лицо Арнольда почернело от гнева; зеленоватые, светлые глаза сверкали, как у кота ночью. Он тут же приказал Мэтту отправиться вниз по реке в Монреаль, разыскать Монтгомери, где бы он ни был, и «сказать ему, что он должен с нами соединиться. Сейчас же! Для совместной осады. Нам не нужен Монреаль. Нам нужен Квебек». Мэтт отбыл в тот же час.
Девятнадцатого ноября мы перебазировались миль на двадцать к западу в Пойнт-о-Тремблс и разбили лагерь. На следующий день пришел английский сторожевой корабль из Монреаля, на борту находился губернатор Канады сэр Гай Карлтон. Монреаль сдался Монтгомери! Мы ликовали.
«Лучше бы мы служили у Монтгомери». Дейтон пребывал в мрачном состоянии духа. Как большинство молодых офицеров, он во всем винил Арнольда. Теперь, оглядываясь назад, я думаю, что Арнольд составил неплохой план завоевания Канады. Такие удары умел мастерски наносить Бонапарт. Арнольд, разумеется, Бонапартом не был, но это был изобретательный и смелый генерал. К несчастью, ему не сопутствовало sine qua non[40] подлинно великого генерала — удача. К тому же он, как я уже говорил, не принял в расчет необычайно суровую канадскую зиму.
Утром тридцатого ноября, не получив никаких известий из Монреаля, Арнольд вручил мне письмо для генерала Монтгомери и приказал доставить его по реке. Я обрадовался.
Я отбыл из Пойнт-о-Тремблс на каноэ с проводником-индейцем. Английский корабль «Хорней» для порядка дал в нашу сторону один или два залпа, но в остальном мы беспрепятственно прошли вверх по течению мимо высокого скалистого обрыва, на котором расположен город Квебек. Даже холод казался приятным в то белесое утро, стояла тишина, только волны мягко били о березовый каркас каноэ.
Должен заметить, что я вовсе не переодевался французским монахом, чтобы добраться до Монреаля.
Понятия не имею, откуда пошла эта небылица, но ее напечатали, как и множество прочей чепухи. Не было и трагической любовной связи с индейской принцессой, которая будто бы имела место в Форт-Уастерн; княжна якобы была моей верной возлюбленной, пока не погибла, спасая мою жизнь во время штурма Квебека. Видимо, мне суждено быть героем всяческих выдумок, по большей части отвратительных. Я их не опровергаю. Люди верят тому, чему хотят верить. Просто мое имя каким-то мистическим способом похитил у меня и присвоил герою нескончаемого трехтомного романа сумасшедший автор, чье воображение никогда не спит, зато спит читатель, в тысячный раз перечитывая, как коварный Аарон Бэрр замыслил в одиночку расчленить Соединенные Штаты; думаю, слетать на Луну было бы и проще, и забавнее.
Мы были всего в трех часах пути от Пойнт-о-Тремблс, когда увидели на горизонте американскую флотилию, идущую с запада. На восходе солнца я лично вручил Ричарду Монтгомери послание Бенедикта Арнольда, в котором тот рекомендовал меня (без этого тогда не обходилось) как сына покойного ректора колледжа Нью-Джерси.
— Я послал полковнику Арнольду припасы. Верно, они уже доставлены, — сказал мне генерал.
Монтгомери отличался высоким ростом и благородной осанкой; на его красивом лице, правда, было какое-то глуповатое выражение — из-за низкого лба, убегающего назад от носа, как у тех английских собак, которых так долго тренировали на скорость бега, что они растеряли весь свой собачий ум.
Я не так давно знал Монтгомери, чтобы основательно судить о его уме, но его обаяние и храбрость не вызывали сомнения, и у нас сразу же сложились прекрасные отношения. Кстати, он немедленно произвел меня в капитаны своего штаба. Так я стал офицером.
После прибытия Монтгомери и трехсот солдат у нас оказалось в общей сложности около восьмисот боеспособных воинов для штурма самой укрепленной крепости в Северной Америке.
В течение декабря мне удалось убедить генерала Монтгомери, что нам лучше всего дождаться снежной бури (снег валил каждый третий день) и взобраться по лестницам на мыс Даймонд, самую высокую, а потому и наименее укрепленную точку цитадели. Три других отряда в это время атакуют форт, чтобы отвлечь на себя его защитников. С мыса Даймонд мы сможем проникнуть в цитадель и открыть ворота.
Две недели я обучал пятьдесят солдат искусству подъема по лестницам на высоченную стену. Увы, генерала Монтгомери переубедили два дружественных нам канадца; они уверяли, что если мы захватим берег со складами, то купеческие дома Квебека заставят сэра Гая капитулировать, чтобы только не потерять свои мастерские, склады, корабли. Я не одобрял этот план, и он действительно провалился.
Монтгомери назначил штурм на последний день года. У него не было выбора. На следующий день несколько сот ньюйоркцев, у которых кончался срок вербовки, собирались домой.
Арнольд атаковал с востока, Монтгомери — с запада. Отряды должны были соединиться в нижней части города и двинуться к цитадели. Сначала все нам благоприятствовало. Была полная луна. Английский гарнизон перепился в честь Нового года. Но как только мы пошли в наступление, северный ветер принес метель, она полностью сокрыла цитадель и набросила белый саван на равнину Абрахама. Возвращаться было поздно, и мы шли вперед, утешая себя мыслью, что если мы не видим врага, то и он нас не видит.
Я медленно продвигался рядом с Монтгомери по кромке берега. В двух шагах ничего не было видно. Снег залеплял глаза. Мы достигли первого ряда деревянных заграждений. Преодолели его. Затем второй. Мы прорвались и очутились перед первым блокгаузом. За ним прятались моряки. При виде нас они пустились наутек, бросив двенадцатифунтовую пушку.
Теперь мы находились в глубокой лощине, ведущей к нижней части города.
Монтгомери радовался: «Снег — наш союзник», — прошептал он и вдруг остановился как вкопанный. Он наткнулся на ледяные глыбы замерзшей реки.
«Убрать лед!» — скомандовал Монтгомери. Он сам вместе с нами разбивал лед, расчищая тропу. Затем отряд построился колонной. Впереди были Монтгомери, я и французский проводник. «Вперед, смельчаки! — крикнул Монтгомери. — Квебек наш!»
Высясь темной фигурой на фоне зловещей белизны, Монтгомери повернулся ко мне и крикнул: «Через две минуты будем в крепости».
Помню, у меня мелькнула мысль: нельзя искушать судьбу. Но не успел я ему ответить, как ноги мои оторвались от земли и меня завертело в снежном буране. Я уткнулся в плотный снег и услышал запоздалый грохот двенадцатифунтовой пушки: один из моряков, которые бросили блокгауз, вернулся, увидел впереди наши силуэты и выстрелил.
Я пришел в себя, поднялся на ноги, проверяя, не ранен ли, гадая, сумею ли я разглядеть кровь в этом бесцветном мире. Выяснив, что я цел и невредим, я поспешил к генералу Монтгомери. Он лежал в снегу с разбитой головой. Я попытался его поднять и не смог — он был мертв. Рядом лежали два его адъютанта и сержант, тоже мертвые. Француз проводник исчез. Я повернулся к отряду.
«Вперед! — крикнул я. — Город наш!» Но в этот самый момент некий офицер по фамилии Кэмпбелл настоял на проведении одного из тех диспутов, что столь дороги сердцу американского солдата. А как же? Когда ему демократически предоставляют выбор, американский солдат неизменно выбирает отступление.
Тщетны были мои мольбы, проклятия, угрозы. Я остался один в лощине возле тяжеленного тела моего командира; на снегу чернела, застывая, его кровь. Я совсем потерял голову и решил перенести останки Монтгомери на нашу сторону. Глупец, я, верно, надеялся его оживить. Но я не оттащил его и на дюжину ярдов, как угодил под огонь из блокгауза.
Я оставил тело врагам (не так давно они вернули его в Нью-Йорк для торжественного захоронения, на которое меня не пригласили). Кстати, на последней и заслуженно нашумевшей картине Трамбелла, запечатлевшей смерть генерала Монтгомери, меня нет и в помине, зато несколько офицеров, которые были тогда весьма далеко от этой ужасающей сцены, на полотне тут как тут, ибо стали, что называется, вездесущими.
Если бы люди пошли за мной и соединились с отрядом Арнольда (он ждал нас в нижней части города), Канада сегодня входила бы в Соединенные Штаты (как тебе повезло, Канада!). Но из-за безвременной гибели Монтгомери, трусости Кэмпбелла, дезертирства Иноса мы потерпели поражение. В 1812 году мы снова попытались захватить Канаду, и снова неудачно. Тут уж не зима была виновата, а наш собственный командир Джеймс Уилкинсон. Бедняга Джейми для канадцев дороже десятка буранов.
Двести наших солдат погибли во время этого несчастного штурма, и триста попали в плен. Остальных чуть не всех ранили, в том числе и полковника Арнольда, у которого была серьезно повреждена нога.
Меня произвели в майоры, и в колониях шла молва о моих подвигах. Мое имя даже упоминали в конгрессе, а Мэтт Огден счел нужным расхвалить меня самому Вашингтону, и, оценив мое юное дарование, он предложил мне место в своем штабе.
Я стал героем, а мне было всего двадцать лет. Примитивная гравюра на дереве изображает, как молодой Аарон Бэрр несет сквозь снежную бурю тело генерала Монтгомери; когда-то она поучала и вдохновляла целое поколение американских школьников. Погибни я тогда под Квебеком, кто бы меня помнил? Вероятно, никто.
ГЛАВА ШЕСТАЯ
Я говорю полковнику Бэрру, что мне очень понравился его рассказ о вторжении в Канаду, но он смотрит на меня с недоумением и ворошит угли на каминной решетке (да-да, в разгаре лета он часто греется у камина). «Мне всегда холодно, — любит он повторять. — Это все из-за генерала Вашингтона». Когда Бэрр улыбается, он похож на бюст Вольтера в кабинете Леггета. «Он недолюбливал меня и вечно гонял по болотам».
И наконец:
— Ах, да. Мои экзерсисы о днях минувших. Время от времени я и сейчас пописываю. Бессмысленное занятие. Никто не любит правды. К примеру, теперь нам говорят, что Бенедикт Арнольд был плохой генерал потому, что он был плохой человек. А ведь он был одним из лучших наших командиров. Получше Вашингтона, во всяком случае.
— Вот уж не сказал бы, прочтя ваши воспоминания.
Бэрр удивлен.
— Разве? Арнольд действовал блестяще! А вот Монтгомери совершил роковую ошибку под Квебеком. Арнольд одобрял мой стратегический план, который, я думаю, был хорош. А план Монтгомери — атаковать нижний город — никуда не годился. Арнольд отлично оценивал военную обстановку…
Нас прерывает Нелсон Чейз: у него послание от мадам. Полковник берет записку и хмурится. Полковник вообще расстроен последние дни. Дела в особняке идут не блестяще. Он обещал мне показать свои заметки о Вашингтоне, но всякий раз, когда я ему об этом напоминаю, говорит, что не помнит, куда их задевал.
ГЛАВА СЕДЬМАЯ
Я совсем обленился из-за жары. Август подходит к концу. Полковника Бэрра не бывает в конторе по нескольку дней кряду. Иногда он в особняке. Иногда в Джерси-Сити. Один раз по крайней мере он ездил в Принстонский колледж (его отец был ректором колледжа, когда он еще назывался Колледж штата Нью-Джерси).
Хотя полковник теперь особенно скрытничает, я думаю, что из аренды земель в Техасе ничего не вышло, и если это так, то он потерял все свои (вернее, супругины) денежки.
Нелсон Чейз рассказывает, что «на Холмах черт-те что творится!». Он все пытается выведать у меня что-нибудь о личной жизни полковника — тема неприличная, учитывая, что полковник недавно женился на тетушке Чейза, или кем она там ему доводится. Я отмалчиваюсь. Да я ничего и не знаю, кроме того, что мне пришлось отправить несколько писем Бэрра некой Джейн Макманус в Джерси-Сити. Honni soit qui mal y pense[41].
Вчера Бэрр провел весь вечер с миссис Томпкинс и пятилетней девочкой, явно его дочерью, хотя вряд ли, думается мне, от пожилой миссис Томпкинс.
Бэрр удивительно терпелив с детьми. Разговаривает с ними, как со взрослыми. Учит их. Играет с ними часами. Особенно с маленькими девочками, потому что «женщины добры, Чарли! Ей-богу!».
Сегодня в пять часов вечера я наконец получил записки полковника о Джордже Вашингтоне. «Это продолжение того, что ты уже читал. С кое-какими новыми пометками. Прекрасный портрет, хоть ты, конечно, найдешь его неузнаваемым».
Бэрр сегодня бледный и слабый. В суде утром судья целый час нападал на убийцу Александра Гамильтона. Когда тот наконец выдохся, Бэрр сказал любезнейшим тоном:
«Мне очень жаль, ваша честь, что вам нынче нездоровится».
Джордж Вашингтон
Ранней весной 1776 года я окончательно уверился в том, что полковник Арнольд сошел с ума. Дни напролет он гонял наше потрепанное воинство взад и вперед под стенами Квебека. Время от времени он развлекал англичан, требуя капитуляции. Я наотрез отказался доставить одно из таких требований.
Когда я собрался уезжать, Арнольд решительно воспротивился. Я сказал, что он может меня удержать только силой. Этого он делать не стал.
В середине июня я прибыл в штаб генерала Вашингтона в доме Мортиера в Ричмонд-хилл, милях в двух к северу от Нью-Йорка.
Я никогда еще не видывал такого красивого дома. Из окон открывался замечательный вид на реку Гудзон. Сады, павильоны, пруды, ручей (я потом его запрудил и превратил в небольшое озерцо). Истинный рай, думал я, подъезжая к парадному подъезду, где толпилось в ожидании приема несколько офицеров.
На балкончике над парадной дверью сидела мадам Вашингтон с вязаньем на коленях. У нее была кроткая, но какая-то застывшая улыбка и спокойные манеры. Лицо заурядное — во всяком случае, его нижняя часть, верхнюю она всегда прятала под широкими шляпками, как правило старомодными. Она была самой богатой вдовой Виргинии, когда на ней женился бедный, но честолюбивый сквайр Вашингтон.
Входя в высокий главный зал, я и не думал — хотя нет, на мгновение вообразил, — что в один прекрасный день стану хозяином Ричмонд-хилла.
Штабной капитан провел меня в боковую гостиную, где офицеры ожидали приема у генерала, который, как всегда по утрам, держал совет у себя в спальне наверху (я потом превратил ее в библиотеку, изгнав оттуда по возможности унылое привидение).
Среди незнакомых мне офицеров в гостиной находился капитан Александр Гамильтон из нью-йоркской артиллерии. В общем-то, мы так и не познакомились до конца июня. «Но я сразу узнал вас, — сказал он мне позже. — Мы все вас узнали. Как же я вам завидовал! — Когда хотел, Гамильтон умел быть необычайно любезным. — Передо мной был герой Квебека, с виду совсем мальчик, а я самый обычный офицер». В юности Гамильтон отличался необыкновенной привлекательностью: золотисто-рыжие волосы, яркие, хоть и водянистые, голубые глаза, небольшое, но сильное тело. И такая уж горькая — или славная! — наша судьба, что самой природой нам было назначено соперничать. Правда, сначала мы друг другу понравились. Мы были как братья (да, Каин и Авель сразу приходят на память, с той только разницей, что каждый из нас был в равной степени и Каином и Авелем). Я раскусил Гамильтона с первой же встречи. Подозреваю, что и он меня раскусил и не мог примириться с мыслью, что из нас двоих только я один располагал возможностью[42]и талантом получить вожделенное президентство. Он возненавидел меня за мой дар и мои преимущества. И все же мне иной раз любопытно, предвидел ли он мой провал, разглядел ли во мне — как я в нем — слабину. Праздные рассуждения. Мы были как братья, да, но так непохожи. Он был завистлив. Я — нет. Неудовлетворенное честолюбие не озлобило меня. Гамильтон же под конец проникся отвращением к тому американскому миру, созиданию которого я способствовал, а меня — вопреки здравому смыслу — воспринимал как живое воплощение уродливой реальности. Странно подумать, ведь не будь мы оба молодыми героями на заре новой нации, мы бы наверняка подружились. Но каждый сознавал, что наверху есть место только для одного. В итоге ни одному не суждено было занять верхнюю ступеньку. Я столкнул Гамильтона с горы, но и сам покатился вниз.
Когда я вошел, генерал Вашингтон стоял у письменного стола. В ответ на мое приветствие он обратил на меня строжайший взгляд. Он обожал торжественность.
— Майор Бэрр, мы рады принять вас в этом доме, пока вы не подыщете приличное жилье.
— Спасибо, генерал, почту за честь… — Я уж думал, как бы потактичнее попроситься на поле боя, когда Вашингтон начал говорить — официально и не очень уверенно. Любой разговор давался ему нелегко.
— Все о вас прекрасно отзываются, майор Бэрр. За исключением полковника Арнольда.
— Мы лишь в одном разошлись с полковником Арнольдом. Мне казалось бессмысленным слать оскорбительные послания английскому губернатору, не имея возможности нанести ему никакого ущерба.
— Почему мы не взяли Квебек?
— Могу я говорить откровенно?
Он ответил необычайно гладкой, очевидно заученной, фразой:
— Я всегда почитаю за правило излагать факты свободно и непредвзято.
— Мы потерпели поражение, генерал, потому что не последовали моему плану. — Я решил сражаться до конца.
— Вашему плану, сэр? — Унылые глазки в громадных глазницах смотрели на меня с удивлением.
Я подробно рассказал о своем замысле штурма мыса Даймонд при помощи лестниц. Это не произвело впечатления.
— Без сомнения, возобладали более мудрые головы.
— Одну из этих мудрых голов, сэр, раздробило ядром. Я был рядом с генералом Монтгомери, когда его убили. Другая мудрая голова командует сейчас разбитым, потрепанным отрядом.
— Как вы, однако, уверены, майор, в своих военных талантах.
— Нет, сэр. Но ведь другая стратегия привела к катастрофе. Я надеялся лишь повторить прием короля Фридриха при осаде Дрездена. — Молодой, самоуверенный, я пытался произвести впечатление на командующего не только своими военными способностями, но и обширными познаниями в современном военном искусстве. Как и многие молодые офицеры, я внимательно изучал кампании Фридриха Великого.
Генерал Вашингтон, однако, книг не читал; он знал о Фридрихе не больше, чем я о выращивании табака занятии, в котором он недавно провалился. Несмотря на богатство жены, Вашингтон испытывал некоторые финансовые затруднения в те дни, когда приступал к командованию армией. Фермерское дело ему не давалось; не помогла ни теория о том, что речная глина якобы лучшее удобрение (это не так!), ни изобретение особого плута (на манер Джефферсона!), который оказался таким тяжелым, что двум лошадям было не под силу его тащить даже по влажной земле.
Хотя Вашингтону вечно не хватало денег, он жил на широкую ногу. Некоторое время спустя мы все удивились (но и позабавились), когда его мать заявила, что сын Джордж начисто ее ограбил и, оставшись, мол, без средств к существованию; она вынуждена просить ассамблею Виргинии назначить ей пенсию. Я совершенно убежден в том, что Вашингтон тут не виноват. Он был заботливый сын, а мать доставила ему много хлопот. Когда разнеслась весть о «победе» ее сына у Трентона, — старая карга будто бы сказала: «Ему просто льстят». Ясно, она всегда недолюбливала сына, ну, и он в конце концов возненавидел ее. Странно — не любить собственную мать! Я бы обожал свою мать, если б она не сочла за благо умереть до того, как мы смогли с ней познакомиться.
Генерал Вашингтон позвонил в колокольчик. Вошел штабной полковник.
— Пожалуйста, введите майора Бэрра в круг его обязанностей. Он остановится здесь, пока не подыщет пристанище в городе. — Генерал повернулся ко мне. — Мне потребуется подробный рапорт о том, что произошло под Квебеком.
Прием окончился, генерал подошел к длинному, заваленному бумагами столу и начал что-то читать, видимо первое, что попалось на глаза. Со спины его геройская фигура была несколько обезображена горбом. Мы оба не знали, что, пока мы говорили, Монреаль был снова взят англичанами и, таким образом, наш канадский поход закончился провалом.
Устремленный к ратным подвигам, я по десять часов в день просиживал за письменным столом, переписывая письма Вашингтона конгрессу. Грамматические и орфографические ошибки (следствие плохого образования) не мешали генералу искусно льстить конгрессменам. Все же в политике он кое-чему выучился, недаром пятнадцать лет он был делегатом виргинской ассамблеи. В конечном счете его, наверное, следует признать великолепным политическим деятелем, лишенным способностей к военному делу. История, как водится, представила все как раз наоборот.
Через десять дней, в течение коих я главным образом обследовал тюки с одеялами-недомерками, доставляемыми из Франции, Джон Хэнкок наконец назначил меня адъютантом генерала Израэля Путнема… да, через голову генерала Вашингтона я обратился к президенту конгресса. Я хотел воевать, и у меня не было выбора. Я действительно написал Хэнкоку, что предпочту исчезнуть из армии, чем служить клерком у виргинского землемера.
О моих отношениях с Вашингтоном за те две недели в Ричмонд-хилле ходят легенды. Принято считать, что он был возмущен моим распутством. Думаю, он и правда возмутился бы, если б узнал, как вел себя я и многие офицеры в тех редких случаях, когда нам выпадала возможность побывать в Нью-Йорке. Но он ничего не знал. Верно одно — он был редкостный пуританин.
Вскоре после моего приезда одного солдата по фамилии Хики повесили за измену на радость 20 000 ньюйоркцев. Я не присутствовал при казни, но позабавился, прочитав воззвание Вашингтона к войскам. Если верить нашему командующему, уроженец Англии Хики перешел к англичанам не за деньги, но из-за неизменного пристрастия к развратным женщинам! Проповедь, достойная моего дедушки. Кстати говоря, рядовые платили Вашингтону неприязнью за его презрение. Зато молодые офицеры (по крайней мере за одним исключением) обожали своего командира. Но ведь не рядовые солдаты, а молодые офицеры в конечном счете определяют ход истории.
Никогда еще Нью-Йорк так не веселился — несмотря на то что 29 июня в гавань вошел английский флот. Набережная Бэтери подверглась регулярным бомбардировкам, не причинившим никакого вреда. Девушки визжали от восторга и опешили укрыться в наших объятиях.
3 июля английская армия под командованием генерала Хоу высадилась на Статен-Айленде — этом оплоте тори. Наше положение внушало тревогу, по все верили в Вашингтона. Ему перестали верить только тогда, когда он умудрился потерять и Лонг-Айленд, и Нью-Йорк.
Я уже говорил, что до 1776 года Вашингтону очень не хватало военного опыта. Много лет назад он участвовал в неудачных стычках с французами и их индейскими союзниками на реке Огайо. Слава пришла к нему в результате донесения виргинскому губернатору, где он назвал свист пуль, проносившихся у него над головой, «чарующим». Странное слово. Странный молодой человек.
Я считаю, что, если бы во главе армии поставили Гейтса или Ли, война кончилась бы по крайней мере тремя годами раньше. Оба были блистательными генералами. Оба понимали врага (Ли даже лично знал английских командиров). Оба одерживали настоящие победы над англичанами, что так и не суждено было Вашингтону. Но хотя Вашингтон не мог победить врага на поле боя, он с истинным талантом громил других генералов в конгрессе. В конце концов он достиг вершин, к чему, собственно, и стремился.
Вашингтон проявил совершенно неожиданное penchant[43] к шпионажу. Наша разведка почти всегда оказывалась лучше, чем у англичан. Увы, суждения Вашингтона иной раз шли вразрез с фактами. Например, как его ни убеждали, он отказывался верить, что англичане нападут на остров Нью-Йорк в том самом месте и в то самое время, когда и где это произошло. Но отдадим должное его выдержке. Хотя война из-за его полнейшей некомпетентности растянулась на долгие годы, я подозреваю, что только человек, соединявший решительность с полным отсутствием воображения, мог одержать победу.
Боюсь, что я недооценивал свой пост адъютанта Вашингтона. Мне не доставляло удовольствия переписывать письма в конгресс с требованием денег, которых вечно не хватало: американский солдат был таким же наемником, как и любой гессенец[44]. Плати ему наличными — или он не пойдет в бой. Мне также не доставляло удовольствия слушать разговоры других адъютантов, которые безбожно льстили Вашингтону, а он это явно приветствовал. Скорее, я был склонен оспаривать его суждения, как ни предупреждали меня, что независимость ума совсем не то качество, которое он ценит в подчиненных. Мы были счастливы избавиться друг от друга.
Гораздо больше мне повезло со старым, добрым Израэлем Путнемом, генералом, в штаб которого на углу Бэтери и Бродвея я прибыл в июле 1776 года. Бывший трактирщик был добродушен, как подобает представителю его профессии, и обладал живым, хотя и грубоватым умом. У него был один недостаток: он часто твердил одно и то же. Когда враг приближался, он неизменно поучал своих солдат не открывать огня, «пока не увидите белки их глаз!». Фраза эта стала знаменитой после сражения при Банкер-хилле, и с тех пор он часто ее повторял, развлекая всех, кроме тех офицеров, которые придерживались мнения, что огонь надо открывать задолго до того, как наши близорукие стрелки разглядят белки вражьих глаз.
9 июля я стоял рядом с генералом Путаемом в Боулинг-грин. По предложению Континентального конгресса наш адъютант зачитал войскам документ, только что полученный из Филадельфии.
Должен признаться, что я не расслышал ни слова из Декларации Независимости. В то время я едва знал имя автора этого величественного документа. Помню, кто-то заметил, что, коль скоро мистер Джефферсон так рьяно стремится бросить наши жизни на алтарь независимости, он мог бы и сам присоединиться к армии. Но мудрый Том предпочитал тихие радости местной политики в безопасной Виргинии неудобствам и опасностям войны.
В доме генерала Путнема жила хорошенькая девочка лет тринадцати. Меня обвинили в том, что я ее соблазнил. Маргарет Монкриф была дочерью английского майора и кузиной генерала Монтгомери (как в те дни все сплелось!). По дружбе с отцом генерал Путнем поселил ее в своем доме. Ну и характер был у девушки! Однажды она при мне оскорбила за обедом самого генерала Вашингтона.
Когда обед подходил к концу, был предложен тост то ли за свободу, то ли за победу — что-то в этом роде. Выпили все, кроме Маргарет.
— Вы не выпили ваш бокал. — Вашингтон обратил на ребенка холодный змеиный взгляд, который он обычно приберегал для солдат, наказанных поркой. («Дисциплина — душа армии» было его любимое изречение.) Противная девчонка, Маргарет была не лишена смелости. Она подняла бокал.
— Я предлагаю выпить за английского командующего — генерала Хоу.
Лицо Вашингтона пошло красными пятнами.
— Вы издеваетесь, над нами, мисс Монкриф… — начал Вашингтон, но тут же осекся, как всегда, не сумев облечь мысль в слова.
Добрый Путнем поспешил на помощь.
— Слова ребенка, генерал, могут нас позабавить, но не оскорбить.
Лицо Вашингтона приняло всегдашнее непроницаемое выражение. С чисто слоновьей галантностью он сказал:
— Что ж, мисс, я забуду вашу неучтивость при том условии, что вы предложите тост за меня или за генерала Путнема, когда будете обедать с сэром Уильямом Хоу.
Девочка мне совсем не нравилась. Я находил ее не по годам развитой и хитрой. Заметив, что она проводит многие часы на крыше с подзорной трубой, разглядывая английский лагерь, я сказал об этом генералу Путнему, но он пропустил мои слова мимо ушей. Потом она принялась рисовать цветы — она говорила, что посылает их в подарок своему отцу. Наблюдая ее однажды за этим занятием, я заметил:
— Вы верите в язык цветов?
Маргарет очень покраснела (в тринадцать лет у нее уже была пышная грудь) и заикаясь сказала:
— Да. То есть нет. В общем-то, нет.
Вдруг я ощутил тревогу, забыв про всякий флирт. Очевидно, при помощи языка цветов можно было передавать расположение войск. Она была шпионка.
Не без труда я убедил генерала Путаема увезти девочку подальше от будущего поля битвы (подозреваю, что добрый генерал знал это дитя лучше нас всех).
Маргарет отправили в Кингсбридж. Потом она вернулась к англичанам. Последующая ее жизнь была романтична и беспорядочна. Теперь она живет в Лондоне. Несколько лет она была возлюбленной королевского министра Чарльза Джеймса Фокса. Мне говорили, что именно мне она приписывает честь похищения ее невинности. Боюсь, что она ошибается.
К концу августа 1776 года генерал Хоу сосредоточил на Статен-Айленде около 34 000 солдат. Он намеревался захватить Нью-Йорк, господствовать над Гудзоном и рассечь колонии на две части. Могу сказать, что он рьяно взялся за дело.
Сразу после появления англичан генерал Путнем направил меня на наши передовые позиции на Бруклинских и Гарлемских холмах. Я еще не видывал такой небоеспособной армии, а ведь ей предстояло сразиться со свежими европейскими войсками. Хотя я и был всего-навсего младшим офицером, я со всей серьезностью отнесся к своей задаче — как можно точнее оценить наше положение. Мой мрачный рапорт генералу Путнему был послан командующему.
Через два дня я сопровождал Его превосходительство. Мы шли по Бэтери. Роскошный нью-йоркский августовский день. Настроение было подавленное. Пот, смешавшись с мелом, которым генерал припудривал волосы, стекал по его щекам, пылавшим от жары и беспокойства. Вид английского флота, выполнявшего прямо у нас перед носом сложные маневры, блеск надраенных орудий, белые паруса на фоне свинцового неба не располагали к веселью.
— Как вы думаете, сэр, к чему приведет атака неприятеля?
Я был захвачен врасплох: Вашингтон редко задавал такие вопросы старшим офицерам, а младшим — никогда.
— Я полагаю, сэр, что нас сомнут, — ответил я с глупой прямотой.
— Никогда! — Это «никогда» прогремело из хора обожателей, сопровождавших Вашингтона в течение всей Революции… нет, всю его долгую жизнь до самой могилы! Никого еще так не превозносили приближенные.
Я продолжал:
— Я убежден, сэр, что лучше всего придерживаться мудрого метода, который приносил вам удачу еще во времена Кембриджа. — Да, я тоже умел быть придворным.
— Что вы имеете в виду, сэр? — Наш недоверчивый предводитель уже тогда полагал, что я не очень-то верю легенде, которая, неизвестно почему, укреплялась из месяца в месяц независимо от того, побеждал он, терпел поражения или, что случалось чаще всего, бездействовал.
— Подражать Фабию Кунктатору. Избегать встречи лицом к лицу с превосходящими силами противника. Растягивать его коммуникации. Заманивать его все дальше в глубь континента, где преимущество окажется на нашей стороне. Сэр, я бы сегодня оставил Нью-Йорк. Отдайте генералу Хоу побережье. Он им все равно овладеет. Но, отступив сейчас, мы сохраним армию в целости, в ее нынешнем виде…
Я зашел слишком далеко. Один из адъютантов отчитал меня:
— Здесь собраны лучшие войска колоний, майор Бэрр. Лучшие командиры…
— Вы недооцениваете нас, майор. — Тон Вашингтона был необычно мягок. Кружевным носовым платком он вытер перепачканное мелом лицо; оспины были глубже всего возле рта.
— Вы сами меня спросили, сэр…
— Да. — Вашингтон повернулся спиной к гавани и принялся разглядывать старый законченный форт, который всегда доминировал над этим все еще небольшим голландским городком с розовыми кирпичными домами и стройными шпилями церквей. Но ведь в то время Джон Джекоб Астор еще прислуживал в мясной лавке в Вальдорфе, в Германии.
— Мы будем защищать город. — Свои ошибки Вашингтон всегда отстаивал с такой решительностью, что возражение показалось бы посягательством на священную скрижаль, только что принесенную с Синая.
— Сэр, я бы завтра же сжег город до основания и отступил в Нью-Джерси.
— Благодарю, майор. Передайте мои лучшие пожелания генералу Путнему. До свидания, сэр.
Должен сказать в защиту Вашингтона, что в то время мало кто из нас знал о воздействии на него мощных тайных сил. Есть свидетельства, что он намеревался уничтожить город, но его остановили местные купцы (все до единого проанглийски настроенные) и конгресс в Филадельфии, который запретил ему обстреливать город. И все же он — и никто другой — принял решение встретить противника в Бруклине и на Лонг-Айленде. Это была первая битва, данная Вашингтоном, но практически и последняя. Даже нынешние льстивые биографы признают его личную ответственность за разразившуюся катастрофу.
Вашингтон приказал разделить на две части армию, которая и целиком-то была неспособна сдержать одну английскую бригаду. Затем он счел должным ответить на целую серию ложных маневров англичан и гессенцев. В считанные часы он потерял управление армией и саму армию.
Отброшенный на главную оборонительную линию, на Бруклинские холмы, Вашингтон встал перед выбором: потерять всю армию на Лонг-Айленде или смириться с унизительным поражением, оставив Холмы и отступив на остров Нью-Йорк. Он выбрал унижение.
Не по сезону холодным и туманным вечером 29 августа я стоял на арбузной бахче у причала бруклинского парома и наблюдал за эвакуацией. Всю ночь лодки сновали взад и вперед между Нью-Йорком и Бруклином. Темные силуэты возникали и исчезали в молоке тумана. Раздавались только приглушенные стоны раненых, слышался шепот приказов да позвякивание уздечки коня генерала Вашингтона, руководившего этой, им же устроенной débâcle[45].
15 сентября 1776 года английский флот появился в Кип-бэй в четырех милях к северу от Бэтери. Как обычно, нас застали врасплох. В 11 часов утра началась мощная бомбардировка. Затем англичане и гессенцы высадились на берег. Наши войска поспешно бежали, несмотря на присутствие Вашингтона, который кричал на солдат как сумасшедший, сломал трость о голову командира бригады и зарубил саблей сержанта. Ничто не помогло. Плачущего от ярости, его увели под звуки английских горнов, издевательски трубивших охотничью песню: «Ату, ату, лиса удирает!»
Вашингтон отступил в глубь острова к дому Морриса на Гарлемских холмах (ныне дом полковника и миссис Аарон Бэрр, ci-devant Jumel[46]), который служил ему штабом вторую половину сентября. Вероятно, то было самое прискорбное для него время, кое в чем даже хуже зимовки в Вэлли-Фордж.
Я сижу сейчас в его бывшем кабинете и думаю, как он более полувека назад сочинял здесь длинные, неграмотные и неискренние письма в конгресс, пытаясь объяснить, как он такой дорогой ценой умудрился потерять Лонг-Айленд и город Нью-Йорк.
В ту пору я только один раз видел генерала Вашингтона в доме Морриса. Это было 22 сентября, когда я сопровождал генерала Путнема на совет старших офицеров. Нам было о чем поговорить. Накануне ночью почти треть Нью-Йорка была уничтожена пожаром.
— Кто-то оказал нам добрую услугу. — Вашингтон стоял у подножия лестницы со своим любимцем, молодым толстяком полковником Ноксом. Генерал Путнем не успел еще ответить, как Вашингтон повернулся ко мне, и я в первый и единственный раз удостоился его холодной темнозубой улыбки. — Вряд ли, сэр, это могли сделать вы.
— Только бы по вашему приказу, Ваше превосходительство.
Генерал Путнем и полковник Нокс понятия не имели, о чем идет речь.
Чарли, я пороюсь в своих сундуках и разыщу для тебя другие записки — если, конечно, тебе не слишком надоели эти старые истории.
Совсем недавно, вечером, когда я обхаживал мадам на этих самых ступеньках, я подумал о Вашингтоне. На мгновение я увидел его рядом с мадам, его мрачную улыбку, неизменную порошу пудры, ссыпавшейся с волос на желто-голубой мундир.
Да, духи живут среди нас! И что такое воспоминания, как не тени тех, что обратились в прах? Хотя что до улыбки, то она сохранилась не только в моей ясной, хоть и угасающей памяти, но и в выставленной где-то на обозрение отвратительной искусственной челюсти, почерневшей от мадеры.
ГЛАВА ВОСЬМАЯ
Что-то будет! Больше недели ни полковника, ни Нелсона Чейза не было в конторе. Господин Крафт и я по мере сил справляемся с работой. В числе моих недавних обязанностей был вчерашний прием партнеров полковника по «техасскому проекту». Как я и подозревал, в документах на аренду земли не все оказалось в порядке; никакие немцы не приедут. Полковник потерял все деньги. Партнеры вне себя от негодования. Я выпроваживаю их. «Полковника нет в городе». Что же мне еще говорить?
Сегодня поздним вечером под моими окнами остановилась громадная желтая карета, внушительная, как солнечная колесница. Кучер меня окликнул.
— Мадам ждет вас в гостинице «Сити».
Карета отъехала — без меня. Как видно, придется пройтись пешком.
У подножия подковообразной лестницы в главном зале стояли мадам и Нелсон Чейз. У обоих такой вид, будто они только что плакали. Гнев от печали сразу не отличишь.
Мадам ухватилась за мою руку так, будто вот-вот рухнет на пол.
— Он продал мою вторую карету и моих серых лошадей!
— Он исчез. — Нелсон Чейз шмыгал носом. Как оказалось, не от гнева и не от слез, а из-за сенной лихорадки.
Мадам повела нас в обеденную залу, приказала подать чаю и быстро долила в свою чашку рома из серебряной фляжки, украшенной наполеоновскими пчелами.
— Это невероятно! Incroyable, Chariot![47] — Ром немножко ее успокоил. — В понедельник он сказал мне, что поедет в Олбани. На лодке. Я говорю: «Нет, — как дура! — возьмите мою вторую карету». Он уезжает, машет мне шляпой из окна! Ma foi! Я готова убить его. Неделю от него нет вестей…
Чай с ромом, попав не в то горло, вызвал приступ кашля, и уже Нелсон прожужжал мне конец этой истории. Мадам увидела свою карету сегодня утром в Боулинг-грин. Она подумала, что полковник только что вернулся. Она спросила кучера — незнакомого, — и тот рассказал, что его хозяин, некто Дженнингс из Ньюберга, купил карету несколько дней назад у полковника Бэрра за пятьсот долларов.
— Она стоила тысячу! — Кашель сразу прекратился.
— Где он? — Чейз посмотрел на меня с таким видом, точно я обязан был это знать.
— Он сказал, что уезжает в Олбани. — Это была правда. — Но я ничего не знаю. — Тоже правда.
— Он не в Джерси-Сити. — Чейз бросил на меня многозначительный взгляд.
— О, мы все знаем про Джерси-Сити! — Мадам приложила палец с перстнем к носу, как это делают итальянские оперные певцы, и подмигнула до того непристойно, что сама мадам Таунсенд была бы шокирована. — Il у a une fille à Jersey City[48].
— Ее зовут Джейн Макманус. — Нелсон Чейз сидел мрачный как туча. — Подумайте, в его-то годы!
— Его годы тут ни при чем! — Гнев мадам, никогда долго не задерживавшийся на одном объекте, с быстротой молнии перекинулся на Нельсона Чейза.
— Я только хотел сказать…
— Полковник прежде всего — мужчина! Он полон огня! Марс и Аполлон соединились в нем! Пусть верность блюдут эти жалкие заурядные типы! — Мадам величественным жестом обвела комнату, полную нью-йоркских дам с поклонниками. Они с восхищением смотрели в нашу сторону. — Мне не нужен муж, которому не хватало бы puissance[49]! Пусть держит своих девочек в Джерси-Сити, он совсем еще не стар…
Я не верил своим ушам. Полковнику семьдесят семь. Чудо, что он еще в силе, но то, что мадам закрывает на нее глаза, просто не умещается у меня в голове.
— Дело не в девочках, Шарло. Но он ничего не смыслит в деньгах! Продать мою новую карету с лошадьми за полцены! Он меня разорит!
— Он уже потерял те деньги, что вы передали ему после продажи коннектикутских акций. — По каким-то своим соображениям Нелсон Чейз теперь разрушает брачный союз, которому сам способствовал.
— Он неисправим! Он успел промотать сотню состояний. Моего ему не видать! Так ему и скажите. Скажите, что, если он не вернет тысячу долларов, которые должен мне за карету и лошадей, я с ним разведусь.
— У нас хватает доказательств. — Нелсон Чейз расплылся в улыбке.
Я заверил их, что, как только увижу полковника, немедленно все ему передам. Затем проводил их до лестницы, ведущей к внутреннему подъезду для карет. Мадам пришла в доброе расположение духа, лицо ее пылало от рома.
— Скажите ему, Шарло, что я жду его с нетерпением.
— С тысячей долларов, — сказал Нелсон Чейз.
— Всей душой! — Слегка пошатываясь, мадам спускалась по лестнице в сопровождении Нелсона Чейза.
Я вернулся в главный зал. По пути я заглянул в просторную и комфортабельную обеденную комнату — оттуда всегда так аппетитно пахнет уксусом и жареным мясом. Иной раз полковник обедает здесь в углу, в одиночестве. Сегодня его нет.
Кто-то потянул меня за полу пиджака. Я оглянулся и увидел престарелого доктора Богарта. Он узнал меня, несмотря на затуманенные катарактой глаза.
— Садитесь, мой мальчик! Я всегда ужинаю в этот час. Один раз ем на заре и один раз — на закате. Что и вам советую. — Я сел рядом. Он жевал деснами вареный картофель.
— Я не видел нашего друга полковника с того великого дня. — Доктор Богарт мерзко захихикал. — Все счастливы, надеюсь?
— О да, сэр.
— Прелестная пара. Это самое меньшее, что она могла сделать для Аарона. Долг платежом красен.
— Чем же он ее осчастливил?
Но доктор Богарт гнул свое.
— Та свадьба — совсем другое дело, уж поверьте мне.
Ей-богу, мне было безразлично, но он стал рассказывать:
— Первая миссис Бэрр была очень простая женщина. Бедняжка Теодосия! Она была десятью годами старше Аарона и с ужасным шрамом на лбу. И больна раком. И пятеро детей от первого мужа. И ни единого пенни. Но Аарон ее обожал. И мы все. Моя родня жила неподалеку — в Парамусе.
— Где они познакомились? — Раз все равно надо его слушать, хоть узнаю факты по порядку.
— На войне. — У доктора Богарта был мутный взгляд, он ковырял вилкой картофель; прошлое постепенно всплывало в его памяти. — Полковник Бэрр был неподалеку, в графстве Орэндж на реке Рамапо. Я помню все это потому, знаете, что тоже был там. — Старческие глаза смотрели на меня, глаза, которые видели не только битвы, но и молодого Бэрра. — Он был просто писаный красавец. Стройный, гибкий. Крепкий, как ветка орешника. И разумеется, ум! Какой ум! Не было девушки, которая не была бы хоть чуточку в него влюблена.
Им повезло, подумал я, ведь он так живо откликался на эту любовь.
— Теодосия Прево — так ее звали. Она жила в Эрмитаже. Через дорогу от фермы Богартов. Муж ее, английский полковник, служил в Вест-Индии. По закону ее полагалось выслать как тори, но, поскольку она родилась в Америке, дружила с Джорджем Вашингтоном и Джемми Мэдисоном, ей разрешили остаться, и все ваши офицеры приезжали к ней с визитами. Однажды приезжал даже сам Вашингтон. Затем молодой полковник Бэрр — он был моложе всех в нашей армии — начал свои ночные налеты на англичан. Там до сих пор его вспоминают. То есть те, у кого память еще не отшибло… — Доктор Богарт потерял нить рассказа и тупо уставился в тарелку.
— Полковник Бэрр, — подсказал я, — Теодосия Прево.
Доктор Богарт вернулся из небытия, в которое столь часто проваливается старческий ум.
— Муж ее умер, война кончилась, и она вышла замуж за полковника в Парамусе. Ах, какие это были дни! — И доктор Богарт пространно заговорил о временах, когда небо было голубее, вода чище, картошка рассыпчатой, чем теперь. Знаю я эту басню. Старческая болтовня.
Я спросил о подвигах Бэрра во время Революции.
— С того самого дня, как приехал в Кембридж к генералу Вашингтону, он знал, чего он хочет. Приехал незаконно, сказал бы я, потому что не достиг еще совершеннолетия. Его опекун был вне себя от гнева. Ну, вы знаете. В два года Аарон остался сиротой. И вот его опекун, Эдвардс, послал курьера с письмом, требуя немедленного возвращения Бэрра домой на том основании, что он не только слишком юн, но, по мнению домашнего врача, слишком слаб для службы в армии.
Тонкие синие губы доктора Богарта сложились в тонкую синюю улыбку: он тоже пережил многих докторов.
— Так вот, Аарон сказал курьеру — пусть только попробует забрать его из лагеря, он прикажет его поверить. Тогда этот человек вручил ему второе письмо от опекуна — тот, без сомнения, знал своего подопечного, — и это письмо оказалось куда мягче, и в нем было даже немного денег. Так Аарон пошел на войну и стал одним из первых наших героев. После Квебека его имя было у всех на устах.
Доктор Богарт рассказывал бы еще, но тут рядом со мной нагло уселся Уильям де ла Туш Клэнси (может быть, я похож на деревенского мальчика из-за маленького роста?), и я быстро простился с доктором.
Клэнси зло посмотрел на меня. Видимо, вспомнил случай на Файв-пойнтс.
Сегодня днем я один в кабинете полковника. Я снова, как вор, попытался открыть сундук под письменным столом с зеленой обивкой. Мне это удалось. Полковник не до конца повернул ключ, и задвижка замка не плотно вошла на свое место.
В сундуке оказалось примерно то, что я и ожидал увидеть. Пачки писем. Вырезки из газет. Игрушки для внука, который умер вскоре после возвращения полковника из Европы в 1812 году. Я обратил внимание, что он то внука, то себя часто называет «шалопутом».
Тщетно искал я упоминания о Ван Бюрене. Правда, нужно не меньше месяца, чтобы разобраться во всех бумагах и письмах, не говоря уже о многостраничном дневнике, который полковник вел в Европе для своей дочери Теодосии. Так он и не попал в ее руки. После смерти ребенка Теодосия отплыла в Нью-Йорк. Корабль пропал, и дневник покоится на дне сундука, скорее всего никем не читанный. Думаю, полковнику и лучше, чтоб он никому не попал на глаза.
С поразительной откровенностью полковник пишет о своей бедности в Лондоне и Париже, о попытках добиться приема у Наполеона, занять денег, получить паспорт у американского консула, который его презирает и отказывает в том, что положено каждому гражданину. Но больше всего меня поразило, как полковник описывает все свои интимные связи, вставляя французские словечки, не всегда мне понятные, как особый язык, на котором они с дочерью переписывались.
Отдельные страницы из дневника, 2 мая 1811 года, Париж
Забыл рассказать тебе, что вчера ночью я снова бодрствовал, пока ночной страж не отбил два часа. Чай за обедом был слишком крепок, а я слишком слаб и не смог отказаться. Провалялся в постели, не выходил до трех. Позавтракал картофелем. Вареным.
Пошел в Тюильри полюбоваться на красивых женщин, увидел только одну — в экипаже, une duchesse au moins[50]. То, что выше пояса, прелестно и столь же пышно, как у миссис X. Из Хартфорда, помнишь?
Потом отправился в Пале-Ройяль посмотреть на filles[51](так здесь называют публичных женщин).
Прекрасный день. В галереях Пале-Ройяль щебечут filles.
Широкий выбор, как на Бэтери в такой же весенний день. Но в отличие от Бэтери за небольшую плату вы получаете все что угодно, и никаких разговоров о браке.
Меня очень привлекло смуглое создание, похожее на креолку жену красавчика Неда Ливингстона, с мушкой в уголке пухлого рта. «Bonjour, mademoiselle»[52]. Я был сама галантность. Раскланялся. Она окинула меня величественным взглядом. Я практиковался во французском. Она — в арифметике. Спустя несколько минут мы были уже en route[53] в ее atelier[54], состоящее из единственной комнаты на четвертом этаже ветхого дома позади Пале-Ройяль и, судя по звукам, виду (и запахам), часто посещаемого filles и их amis[55].
Довольно чисто (все-таки Франция). Сносное постельное белье. Настроение brio[56]. Она из Дижона в Бургундии. Брат (по ее словам) служит в иностранной миссии. В общем, все было очень приятно. Я следую совету Вандерлина, основанному на новейших медицинских теориях (de-partement de venise)[57] и после splendeurs de l’amour[58] требую vase de nuit[59] и писаю всласть.
* * *
Что все-таки представляет собой полковник? И что представляла собой его дочь Теодосия? Когда я читаю его письма к ней и ее ответы, я вспоминаю переписку лорда Честерфильда с сыном (если бы сын не уступал отцу — у Теодосии блестящий стиль, и она образованна), но, когда я читаю дневник, когда вижу, как они друг с другом интимно беседовали, я просто теряюсь.
Интересно, что будет с дневником? Наверное, мистер Дэвис его уничтожит. И самое милое дело, раз он берется защищать полковника.
ГЛАВА ДЕВЯТАЯ
Сегодня утром, когда я пришел в контору, полковник Бэрр уже сидел в кабинете.
— Очевидно, ты видел мадам. И знаешь все! — Он горестно развел руками. — Мы отдалились друг от друга. Но лишь временно. Следующие несколько дней я проведу у моего юного протеже в Бауэри. Многообещающий серебряных дел мастер, если такое уместно сказать о серебряных дел мастерах.
— Очевидно, это Аарон Колумб Бэрр. — Я поразился собственной наглости. Однако стиль полковника заразителен.
Меня вознаградил удивленный взгляд, какой я впервые уловил на этом старом мудром лице. Светлые брови взметнулись, едва не коснувшись оправы очков, которые, как всегда, сидели на лбу.
— Чарли, ты начинаешь меня интересовать. Ей-богу. — Он остановился, раздумывая, вероятно, как выразить этот интерес. — Уж не следил ли ты за мной ненароком? Как Нелсон Чейз?
— Нет, сэр. Я просто угадал. Кто-то говорил, что у вас есть сын, серебряных дел мастер.
— Да уж какой тут секрет. Ведь его матушка окрестила сына моим именем, мудро добавив «Колумб» в надежде, что когда-нибудь он, подобно Колумбу, откроет не только своего отца, но и Новый Свет — что он и сделал в возрасте восемнадцати лет. А теперь он собирается перевезти в Нью-Йорк свою матушку. — Полковник вздохнул. — Когда я с ней познакомился, она служила у часовщика на улице Ройяль. И прекрасно разбиралась в механизмах. Могла починить все что угодно — от часов до компаса. У меня нет ни малейшего желания ее видеть. Я попытаюсь уговорить Колумба, чтоб он не ввозил сюда maman.
Бэрр срезал кончик сигары.
— Я сказал ему, что его дом слишком мал для него самого с женой — очаровательное создание из Статсбурга — и двумя прелестными детишками, не говоря уже обо мне, старом «шалопуте», который навещает их время от времени. — Он зажег сигару и весь засветился нежностью: детей, я думаю, он любит даже больше, чем женщин.
— Ты еще увидишь Колумба. Он красивый парень и говорит по-английски с ужасным акцентом. Я уделял бедному мальчику недостаточно внимания. — Сигарный дым кривым ореолом окутал голову полковника. Он переменил тему. — Наш друг Нелсон Чейз устроил на меня настоящую охоту в Джерси-Сити. Вот почему я перебрался в Бауэри.
— Он работает на мадам. — Я, так сказать, продемонстрировал полковнику свою преданность.
Он кивнул.
— Как тебе известно, я часто навещаю милую девушку по имени Джейн Макманус. Ее общество мне мило, как и общество ее бабушки лет пятьдесят назад. Она тоже была из Джерси-Сити — очевидно, это место мистически притягивает меня. Ну, так вот, нас застала врасплох, мисс Джейн и меня, ее служанка, пучеглазое создание, подкупленное Нелсоном Чейзом. Она сама в этом призналась, когда я ее вздул. Мадам платила ей, чтобы она поймала нас во грехе и могла дать свидетельские показания, если мадам когда-нибудь придет в голову расторгнуть священные узы, которые нас с ней связывают. Девчонка нас-таки уличила. Мисс Джейн рыдает. А мадам постыдным способом добилась своего.
— Я полагаю, сэр, что мадам не против ваших… ваших…
— Привязанностей? — Молодые глаза блеснули иронией. Конечно же, люди правы: Аарон Бэрр действительно заключил сделку с дьяволом. Все легенды про него — чистая правда.
— Она огорчается из-за денег, которые вы потеряли на аренде техасских земель.
Полковник нахмурился. В чем бы ни состояла его сделка с дьяволом, вести денежные дела тот его не научил. Мэтью Дэвис рассказал мне однажды, что сразу после Революции полковник стал самым богатым нью-йоркским адвокатом и все до последнего пенни потерял на спекуляциях и промотал, ведя самый экстравагантный образ жизни.
— Конечно, я не должен был продавать наш экипаж без ее согласия. Я поступил неучтиво. Но предложение было такое заманчивое. А деньги так нужны. К тому же кучер Джейк, честный малый, сказал, что серые лошади не так уж и хороши. Ну, да ладно, дело сделано.
Внезапно налетевший ветер трижды простучал в пыльное стекло виноградной лозой и пурпурными листьями — так заколачивают крышку гроба. Почему я подумал об этом? Бэрр вечен. Но вечен он или нет, Бэрр невольно вздрогнул от этого звука.
— Мы должны соблюдать осторожность, Чарли.
— Да, сэр. Знают они, где вы остановились?
— Пока нет. Пускай немножко помучаются. Меня теперь занимает новая идея… — Полковник замолчал. Вечно он скрытничает, боится выболтать прежде времени свои планы. Отсюда все его несчастья. Никто не может его предостеречь.
— Ты должен посмотреть новую пьесу в Парк-тиэтр. Я был там вчера с Колумбом. Мелодрама, но не такая уж глупая. Мы занимали ложу, это стоило по семьдесят пять центов за место. Такое транжирство.
Полковник показывает на стол, где лежит стопка старых книг.
— Я купил их для тебя, Чарли. Кажется, они не новые. Это «Закат и падение Римской империи» Гиббона. Возьми. Читай. Просвещайся.
В кабинет вошел мистер Крафт с бумагами для старшего партнера и нарушил атмосферу интимности.
ГЛАВА ДЕСЯТАЯ
Ровно в шесть часов я постучал в дверь дома номер три по Бридж-стрит. Я нервничал даже еще сильнее, чем когда узнал, что Леггет договорился о встрече.
Дверь открыла очень полная женщина. Не спросив моего имени, она просто сказала:
— Он в большой гостиной. — И исчезла в задней части дома, откуда слышался женский смех. Гулкий шум доносился сверху, как будто там носились наперегонки дети. Великий человек не одинок в своей нью-йоркской резиденции, хоть он и холостяк.
У камина, под картиной, изображавшей мавританский замок (Альгамбра, что ли?), стоял Вашингтон Ирвинг. В книгах, которые я читал в школе, его изображали мечтательным стройным юношей. Увы, он уже не юноша. Теперь это солидный пожилой человек, с кривой, но приятной улыбкой. Глаза настороженные, выжидающие; он изучает вас всего, дюйм за дюймом, как художник, перед тем как сделать набросок. Он кажется застенчивым. Голос его сначала был таким тихим, что я почти ничего не расслышал. «Очень польщен… мистер Леггет… скоро уезжаю в Вашингтон… не привык… пожалуйста, садитесь… вам не жарко?»
Мы уселись перед камином в кресла с подлокотниками, почти касаясь друг друга коленями. По комнате гулял сквозняк. Он еще раз внимательно меня оглядел.
— Скайлер? Какой Скайлер?
— Не тот. — Пустившись в привычные объяснения, я почти успокоился. Я сказал, что мой отец держал трактир в Гринич-вилледж и никак не был связан со славными Скайлерами.
— Я неравнодушен к голландцам, — Ирвинг ничем не выдал своего разочарования, очевидно, утешаясь непреложностью моего голландского происхождения. С моими соломенными волосами и голубыми глазами я типичная карикатура на голландского увальня. Я весь в свою покойную мать из семьи Скермерхорн, опять-таки не из богачей Скермерхорнов.
Ирвинг попробовал заговорить со мной по-голландски и был разочарован, когда я не понял ни слова.
— Старый язык забывается. Теперь нас не отличить одного от другого. В начале этого месяца я был в Киндер-хуке, у… — последовала восхитительная пауза. Всем известно, что он навещал вице-президента Ван Бюрена. — … у старого друга голландской крови. И тщетно мы искали места, памятные нам по нашей юности. Голландцы теперь такие же, как все. Теряется колорит. — Ирвингу свойствен, видимо, меланхолический тон, каждая фраза к концу замирает.
— Таверна Ван Бюренов еще сохранилась в Киндер-хуке? — вставил я чересчур поспешно.
— Да, да. Вам она знакома? — Вежливый интерес, ничего больше.
— Я столько слышал о ней от полковника Бэрра. Я служу в его юридической конторе.
— Аарон Бэрр. — Ирвинг произнес это имя мягко, с чувством. Но я не мог понять, с каким именно. Нет, явно не враждебно. С удивлением, пожалуй. Или сожалением? — Да, мистер Леггет рассказывал, что вы интересуетесь карьерой полковника Бэрра. Мой брат когда-то, очень давно, издавал газету для полковника Бэрра. — Глаза Ирвинга закрылись. — Она называлась «Морнинг кроникл». Мой брат Питер и тогда был, да и теперь по уши погружен в политику. Он убежденный бэррит. Полковник Бэрр был вице-президентом, когда я впервые начал печатать мои, — глаза его широко раскрылись, — мелочи в этой газете.
Я сказал ему, что еще в школе читал заметки Джонатана Олдстайла[60].
Видимо, уже тогда люди с упоением вспоминали «добрые старые денечки» Нью-Йорка. Насколько я восхищаюсь произведениями Ирвинга, настолько же не разделяю его умилений голландскими причудами. Ни голландцы, ни шуточки по поводу голландцев не приводят меня в восторг.
— Любопытно, что в одной из последних мелочей, которые я напечатал в этой газете, я критиковал дуэли. Это было ровно за два года до… — Ирвинг развел руками. Он избегал моего взгляда и рассматривал мавританский замок над камином.
Сверху донесся отчаянный крик. Ирвинг испуганно вздрогнул, вздохнул.
— Дети, — сказал он и на мгновение утратил учтивость манер. Он явно непривычен к семейной жизни. Все-таки последние двадцать лет, проведенные в Испании и Англии, он прожил холостяком. Теперь он скорее англичанин — и из самых вежливых, — нежели американец. Он мог хоть сегодня выйти на сцену Парк-тиэтр и с превеликой легкостью сыграть роль дворецкого.
— Вы, очевидно, встречались с полковником Бэрром в Ричмонд-хилле?
Ирвинг улыбнулся.
— О, да. Но я не принадлежал к «маленькой шайке». Так называли себя почитатели полковника. И были преданы ему всем сердцем. Еще бы. Полковник Бэрр был нью-йоркским меценатом. Он любил артистов. Помогал им. Если хороший артист просил у него денег, он никогда не отказывал. И Теодосия тоже…
— Миссис Бэрр?
— Нет, к тому времени она уже умерла. Я имею в виду его дочь. Самая поразительная женщина, какую мне довелось встречать. — Ирвинг заговорил с неподдельной нежностью, его круглые глаза затуманились. — Красавица. Небольшого роста, смуглая, с греческим профилем. Говорила на многих языках. Знала науки. Читала Вольтера. Переписывалась с Джереми Бэнтамом. И при этом была такая женственная, любящая…
По всем рассказам Теодосия и в самом деле была верхом совершенства, но Ирвинг, мне кажется, по каким-то тайным причинам, известным ему одному, преувеличенно восхищается давно умершей красавицей в торжественных, отработанных фразах, а тем временем единственная слеза медленно катится по щеке в крепость высокого накрахмаленного воротника, чтобы исчезнуть во мраке под подбородком… Но я уже впал в его стиль.
— Мистер Ван Бюрен часто приезжал в Ричмонд-хилл?
Но вот был извлечен шелковый платок, он стер влажный след, оставленный слезой на гладкой пухлой щеке (я не могу забыть, что передо мной человек, написавший любимые рассказы моего детства).
— По-моему, нет. — Ирвинг насторожился. — Об их дружбе говорят много лишнего.
— Но разве полковник Бэрр не остановился у Ван Бюрена в Олбани, вернувшись из Европы?..
— Мистер Ван Бюрен был некогда его другом. И разумеется, навсегда сохранил дружеское расположение… Но между ними не существовало никаких политических связей. — Это прозвучало резковато. Об Ирвинге часто говорят как о вероятном государственном секретаре в кабинете Ван Бюрена. Кроме того, он искушенный дипломат, был некоторое время поверенным в делах американского посольства в Лондоне. Он служил там еще в прошлом году, когда Ван Бюрен прибыл в Лондон посланником президента Джексона, но сенат тут же оскорбительно отверг это назначение, подстрекаемый злобным вице-президентом Кэлхуном. Проницательный Ирвинг проявил, однако, большое внимание к дискредитированному послу, добился для него приема у короля и в большинстве лондонских салонов.
Ирвинг будто бы сказал тогда Ван Бюрену, что с отклонения сенатом его кандидатуры начнется его взлет. «Потому что, — сказал будто бы Ирвинг, — и в политике можно перегнуть палку. Теперь вы станете вице-президентом Джексона, и Кэлхуну конец».
Далекий от земных страстей Ирвинг оказался и добрым другом, и политическим пророком. Стоит ли удивляться, что эта парочка совершает теперь путешествия по Гудзону и созерцает голландские руины. Как будто сам Рип Ван Винкль восстал из мертвых и явился под ручку с будущим президентом.
— Вряд ли я чем-то буду вам полезен, мистер Скайлер. — Передо мной был уже настороженный дипломат. — Не скрою, мне было бы крайне интересно прочитать исследование о карьере полковника Бэрра. Но не кажется ли вам, что такое исследование, пожалуй, несколько преждевременно? Многие еще живы…
— Например, мистер Ван Бюрен.
— Но ведь говорят и другое, что президент Джексон был даже теснее связан с полковником Бэрром. — В мелодичном голосе Ирвинга зазвучали резкие нотки. — А также и сенатор Клей…
Но тут в дверь вломился блондин мощного телосложения.
— Мистер Ирвинг? О, извините. Вы не один. — Юноша в нерешительности остановился на пороге. Я поднялся.
— Это Джон Схелл, мистер Скайлер. — У юноши было убийственное рукопожатие. — Я познакомился с Джоном на корабле, по пути из Лондона. Он живет здесь, хочет прочувствовать нашу новую страну.
— Еще раз извините. — У молодого человека был сильный немецкий акцент. Он сдержанно поклонился и оставил нас одних.
Ирвинг продолжал:
— Я хотел сказать, что когда я увидел сенатора Клея вчера вечером в Парк-тиэтр…
— Вчера вечером? Полковник Бэрр тоже там был.
— Знаю. — Ирвинг улыбнулся. — Он рассказал вам, что произошло?
Я покачал головой.
— Генри Клей пришел около девяти. Почти все встали. И аплодировали. Аплодировали бурно. — Тонкая кривая усмешка. — Я еле усидел на месте во время этой демонстрации вигов.
Затем, в антракте, гуляя по фойе, я вдруг увидел, как полковник Бэрр — случайно, по-видимому, — столкнулся с Клеем нос к носу. Один тощий, с безумными глазами, ужасным рыбьим ртом, другой — как исчадие ада. Дьявол протянул руку, и мистер Клей отшатнулся — не найти другого слова, чтобы передать его чуть не обморочное состояние. Доброжелатели подхватили его и увели. Вряд ли хотя бы десять человек из тех, что стояли вокруг, узнали полковника Бэрра, а если кто и узнал, то едва ли вспомнил, что много лет назад Клей, честолюбивый молодой адвокат из Кентукки, успешно защищал Аарона Бэрра в суде против обвинения в измене — и этим чуть не погубил свою политическую карьеру в самом зародыше. О, многим видным деятелям сегодня лучше не вспоминать вашего Аарона Бэрра!
— В том числе и президенту?
— Я полагаю — да и вы, наверное, — что их отношения в свое время исчерпывающе объяснил генерал Джексон.
Более чем сдержанный ответ. Однако друг Ирвинга не станет нашим следующим президентом, если его не поддержит нынешний; поэтому Эндрю Джексон должен быть выше подозрений. Все они выше подозрений. Но все-таки находятся люди, которые убеждены, что вся эта компания была когда-то замешана в измене — Бэрр, Джексон, Клей. Сколько же на свете всяких секретов! И Вашингтон Ирвинг не намерен мне их открывать.
Шум из кухни в нижнем этаже напомнил нам, что наступает время ужина. Я встал.
— Вы никогда не встречаетесь с полковником Бэрром?
Ирвинг тяжело поднялся. Мы стукнулись коленями.
— Я видел его вчера вечером. Но мы не разговариваем. Да и зачем? Конечно, он был очень обаятелен когда-то. Но я полагаю — в общем и целом, — что он оказывает самому себе — да и всем нам — плохую услугу… — Снова уклончивая кривая улыбка, голос вдруг, и притом ненатурально, теплеет. — … тем, знаете ли, что он живет так нестерпимо долго — так неестественно долго, — постоянно напоминая нам о том, что следует забыть.
— А по-моему, это прекрасно, что он еще среди нас. И может рассказать, как все было на самом деле.
— На самом деле? Возможно. Но не лучше ли нам написать свою, приемлемую версию нашей истории, а грустные и менее поучительные детали забросить на чердак, где им и место?
Ирвинг проводил меня до парадной двери, перед ней стояла детская лошадка. Вместе мы убрали ее с дороги.
— Засвидетельствуйте мое почтение мистеру Леггету. Если увидите его, скажите, что я встречусь с ним в среду в гостинице «Вашингтон» для нашего еженедельного tête-à-tête. Вы, конечно, тоже придете? — Его рука вдруг отяжелела на моем плече, как окоченевшая рука покойника. — Мне жаль, что я не смог быть вам полезен. — Рука его упала и повисла вдоль тела. — У меня есть заметки, которые я делал, когда Бэрра судили в Ричмонде за измену. Если хотите, я приготовлю вам копию.
ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ
Сегодня утром мы с Крафтом работали над резюме очередного судебного дела. Полковник Бэрр предавался размышлениям у себя в кабинете. Кредиторы приходили и уходили — явно удрученные тем обстоятельством, что полковник снова без гроша: все в городе еще думают, что он хозяин джумеловского состояния. Как всегда — в том, что касается Бэрра, — все совершенно наоборот.
В полдень пришел Мэттью Л. Дэвис. Седой, худощавый, в очках и с загадочной улыбкой; типичный политический манипулятор и редактор газеты — он всегда издавал какую-нибудь воинствующую газету. Дэвис зашел в прокуренную берлогу и прикрыл за собой дверь. Через час полковник Бэрр пригласил меня.
Два старых заговорщика сидели над раскрытым сундуком.
— Чарли, передай Дэвису мои записки о Революции.
— Вы сняли с них копию? — У мистера Дэвиса самоуверенный тон человека из Таммани-холла.
— Да, сэр. — Я повернулся к полковнику Бэрру. — Надеюсь, вы не возражаете?
— Нет. Ничуть. Смотри, Мэтт! У тебя появился соперник! А какая прекрасная цель! У вас обоих. Восстановление доброго имени человека, которого порочили и Джефферсон, и Гамильтон. Немалая честь, если вдуматься. Во всем они расходились, кроме одного, — что я истинный враг их планов. — Он весело засмеялся. Хотя что тут смешного? — Если верно, что клевета разит вернее меча, то я, выходит дело, давным-давно коварно убит. Но может, вы, славные ребята, докажете, что, несмотря на все мои злодейства, я был по крайней мере хороший солдат. — Полковник неожиданно впал в элегический тон.
— Гамильтон был плохой солдат…
Но полковник оборвал Дэвиса:
— Нет, Мэтт. Генерал Гамильтон всегда был храбр — во всяком случае, при свидетелях.
Разговор перешел на темы Таммани-холла, которые меня нисколько не интересуют.
Дэвис весьма доволен, что иммигранты чуть ли не ежедневно прибывают большими партиями из Европы. Он надеется их завербовать и с их помощью победить на выборах.
У Бэрра иммигранты энтузиазма не вызывают.
— Они победят на выборах, но тебе от этого мало проку.
Дэвис не понял.
Бэрр объяснил свою мысль.
— Я не хочу уподобиться Гамильтону, который бледнел при одной мысли о жестокой римской церкви, или Джефферсону, который смертельно боялся иезуитов, но уверяю тебя, Мэтт, что когда этих католиков станет вдвое больше, чем коренного населения…
— Как их станет вдвое больше, если мы сделаем из них хороших американцев?
Смех Бэрра звучал, как басовая струна органа.
— Хороший американец не может быть одновременно римским католиком. Это противоречие. И когда их будет по двое на одного нашего, они начнут делить собственность. Вот посмотришь. А как же иначе? Ведь для истинной демократии нужен демос — то есть они, а не мы. — Бэрр повернулся ко мне. — Вот Чарли еще доживет до выборных судей[61].
Вошел секретарь Крафта с письмом для Бэрра.
— Анонимное, полковник. Автор молится о том, чтобы вы горели в аду, сэр. Мистер Крафт считает, что оно вас позабавит.
— Еще бы. — Полковник швырнул письмо в горящий камин. После ухода Дэвиса полковник Бэрр отправил меня с поручением в регистратуру. Мы условились встретиться в гостинице «Сити».
Переходя Уолл-стрит, я увидел возле почты своего отца. Он был хорошо одет и не пьян, хоть и не трезв.
— Чарли. — Он смотрел на меня отсутствующим взглядом. — Это ты, Чарли?
— Да. — Мы не виделись три года — с тех пор как он убил мою мать.
— Ты все в конторе у полковника Бэрра?
— А ты в таверне?
Вопросы, не требующие ответа.
— Я покупал марки. — Отец кивнул на почту, как бы призывая ее в свидетели.
— У меня назначена встреча с полковником Бэрром.
— Полковник, верно, уже очень старый?
— Да.
— Знаешь, я всегда голосовал за полковника.
Мы не смотрели друг другу в глаза. И расстались, не найдя, что еще сказать друг другу.
Полковник радостно приветствовал меня на углу Уолл-стрит и Бродвея. Я рассказал, кого встретил. Он знает, что мы с отцом далеки друг от друга, но не знает почему.
— Твой отец — очаровательный человек. У него лучшая таверна в Гринич-вилледж. Приятное место. — Полковник взял меня за руку. Мы перешли на другую сторону Бродвея, чтобы обойти толпу у входа в гостиницу «Сити».
— Клей, наверное, здесь остановился.
— Нет, он в гостинице «Америкэн».
Полковник искоса посмотрел на меня.
— Ты слышал о нашей вчерашней встрече?
— Мне уже рассказали.
— Только два человека на свете меня боятся. Один — нынешний президент, другой — тот, что метит на его место.
— И оба были с вами, когда… — Мне еще предстоит подобрать эвфемизм для обозначения деятельности Бэрра на Западе. Джефферсон называл ее изменой. Верховный судья Маршалл и присяжные обвинили его в правонарушении.
— Генри Клей забавный человек… — Полковник вдруг споткнулся, на его смуглом лице выступили капельки пота. — Что-то у меня с ногой. — На лице у него застыл ужас. — Совсем онемела. — Он пошатнулся. — Не могу идти. — Он стал падать. Я его удержал. Прислонил к стене.
— Я возьму экипаж.
Бэрр кивнул, глаза его закрылись, и он откинулся, точнее — рухнул на стену.
На Рид-стрит Крафт помог мне дотащить его наверх в маленькую комнату с кушеткой, где полковник иногда отдыхает. Послали за доктором. Очутившись на кушетке, Бэрр глубоко вздохнул и потерял сознание.
ГЛАВА ДВЕНАДЦАТАЯ
Я только что вернулся из особняка, где провел два дня. Все прощено. Мадам в своей стихии.
— Мой храбрый воин! Свет Америки! Наконец ты бросил якорь в спокойной гавани!
Мадам стоит возле пылающего камина у изголовья наполеоновской софы, на которой лежит полковник Бэрр. На нем стеганый халат. Лицо гладкое, и глаза лукавые, как у ребенка. Удивляя доктора (но не меня), он быстро оправляется от удара. Левая нога еще частично парализована, но он может уже кое-как передвигаться без посторонней помощи — в тех редких случаях, когда мадам ему это позволяет. Она проводит с ним дни и ночи, ей помогает племянница. Предателя Нелсона Чейза нигде не видно.
Я провел в особняке две ночи. С шестнадцати лет я жил в ночлежках, а потом в Колумбийском колледже, и теперь наслаждаюсь тем, что за мной ухаживают восемь слуг, а в моей спальне день и ночь горит камин. Ясно, почему все в Нью-Йорке только и думают о том, как бы разбогатеть.
Мадам развлекает нас рассказами о своей карьере. Однажды она послала за поварихой.
— Нора, расскажи им, как ты обедала с королевской особой.
Нора знает, что от нее требуется.
— Ну вот, была я в кухне, днем. Мадам уехала в город, а я готовила свинину с капустой…
— Пальчики оближешь! — Мадам любит выпивать под свинину с капустой. На софе возле меня Мэри Элиза занимается вышиванием, полковник свободно откинулся на подушках и ласково улыбается, губы сатира ничуть не поблекли от времени.
— …и вдруг входит приятный джентльмен, иностранец, небольшой такой, смуглый, с акцентом, как у официантов во французских тавернах на Бауэри. Он спрашивает: «Мадам у себя?» — а я ему: «Нет», он спрашивает: «Можно мне посмотреть дом?» — а я ему: «Можно». Ну, ходит он по дому, а потом заглядывает в кухню и говорит что-то вроде: «Теперь мне пора возвращаться в Джерси», а я говорю: «Вы бы поели на дорогу», а он говорит: «Свинина с капустой — мое любимое блюдо», и я сажаю его за стол…
— Там я их и застала! Обедали à deux[62]. Нора… et son majesté le Roi de l’Espagne[63].
Я ошалело смотрю на нее. Мадам поспешно переводит — для меня. Разумеется, это был Жозеф Бонапарт. Брат Наполеона, некогда король испанский, теперь живет в Нью-Джерси.
Мадам отсылает Нору.
— Le Roi такой же внушительный, как все Бонапарты.
Новые анекдоты. У меня уже болит голова.
— Я два года провел в Париже, — говорит полковник, — и только один-единственный раз француз пригласил меня к себе домой.
— Как странно! В Париже я каждый день ходила в гости и каждый день принимала у себя. — Очко в пользу мадам.
— Как могли они лишить себя вашего общества, моя дорогая Элиза? — Бэрр прикрыл глаза. — Но я был тогда позорно беден. Мой рацион состоял из двух фунтов винограда в день, потому что это было дешевле всего.
— Ссылка! До чего вас довела эта страна! — Мадам продолжает в том же духе, я поддакиваю. На столике возле своей постели я нахожу пакет и записку, написанную рукой полковника.
«Для Ч. С. Хотя наше веселое приключение на Бродвее имело — по положению на сегодняшний день (до обеда) — счастливый конец — или продолжение?.. Почему я ставлю такое количество тире? Как школьница. Тире — признак плохого стиля. Джефферсон метал их, как дротики, по странице. Да. Я теряю нить. Все же я полагаю, что мой ум никак не пострадал от припадка, а нога с каждым часом лучше. Тем не менее возможно, что я умру внезапно. Поэтому передаю тебе остаток моих записок о Революции. Они не окончены.
Когда я был в сенате, мне на короткое время предоставили свободный доступ ко всем официальным документам, относящимся к Революции. Со мной был клерк-переписчик, я работал с пяти до десяти утра в госдепартаменте. Мне удалось раскрыть немало секретов. Затем, на том смехотворном основании, что американский сенатор не должен иметь доступа к „переписке министров, находящихся в должности“, архив от меня припрятали. То, что мне удалось собрать из документов, потом погибло в море вместе с моей дочерью.
Иногда я пишу всего абзац, хотя мог бы рассказать куда больше. Иной раз восстанавливаю события по памяти. Не думаю, что я когда-нибудь допишу то, что начал. Может быть, тебе пригодятся эти фрагменты. Мэтт Дэвис знает, что они у тебя, и, если меня призовут свыше, передай ему все. Нерушимая договоренность, Чарли, ничего не попишешь!»
Я просматриваю записки. Тут есть и длинные. Есть и короткие. Калейдоскоп тех дней. Начинаю старательно переписывать.
Генерал Нокс
Из всех приближенных к Вашингтону людей Генри Нокс был самым преданным. Толстый, неповоротливый, хитрый — незаменимый для организации штаба, он был начисто лишен военного дарования и, хотя командовал нашей артиллерией с 1776 года и до завершения войны, так и не знал точно, с какого конца заряжают пушку. Зато из чего только он ни ухитрялся лить пушки — из церковных колоколов в Литчфилде, из остатков статуи Георга III в Боулинг-грин, а то просто крал их ночью у англичан.
Бывший книготорговец в Бостоне, Нокс был одним из немногих, кто знал книги (или хотя бы книжные переплеты) и с кем ладил Вашингтон. Он преданно служил в первом кабинете Вашингтона.
Я видел Нокса в деле — если можно так сказать — 15 сентября 1776 года, в тот день, когда континентальная армия потерпела сокрушительное поражение у Кип-бэй и бежала (или, по словам Вашингтона, «отступила») к деревне Гарлем. Я участвовал в рукопашной схватке вместе с двумя младшими офицерами. Мы поскакали в Ричмонд-хилл, думая найти там Вашингтона. Связь была полностью нарушена, если новые приказы и поступили, о них никто не знал. Сражались, как всегда — каждый за себя.
Покрыв половину пути, мы наткнулись на кое-как, в спешке сооруженное земляное укрепление, за которым укрылась целая бригада. Я предположил, что они либо не слыхали, либо не поняли приказа об отступлении к Гарлему.
— Кто здесь командует? — крикнул я часовому.
— Полковник Нокс! — последовал ответ. И тут же он сам, подобно жирному земляному червю, вылез из грязи. Я представился. Спросил, почему не отходит бригада.
— Невозможно, майор. Англичане перерезали остров. Но мы выполним свой долг. Мы будем удерживать форт до конца. — Молодой голос дрожал. Штабные офицеры нервно глядели на нас. Кому охота удерживать форт до конца, тем более если это не форт.
— Сэр, — сказал я уважительно, но настойчиво, — это укрепление не устоит и против одной гаубицы.
— Мы окопались, майор. — На мгновение мне пришло в голову, что Нокс не хочет быстро отвести бригаду просто потому, что он для этого слишком толст и неповоротлив.
Я обратился к капитану.
— У вас есть вода? Продовольствие?
— Нет, сэр, мы только что окопались.
— Тогда, полковник, я предлагаю вам подчиниться приказу Его превосходительства и отступить к Гарлему.
— Это невозможно! — Его всегда пронзительный голос перешел теперь в визг. — Англичане уже отрезали нас от Гарлема!
— Ничего подобного, сэр. — Офицеры Нокса окружили нас на прелестной осенней просеке, солнце сочилось сквозь желтые листья. Прохладный ветерок шумел ветками у нас над головами и доносил до моего носа запах — его ни с чем не спутаешь — напуганных мужчин: кому охота быть убитым. А смерть была совсем рядом.
— Моя разведка сообщает, что сегодня с трех часов пополудни англичане в полумиле от нас заняли позицию, протянувшуюся через остров Нью-Йорк. Прислушайтесь. Вы услышите, как они стреляют.
Нокс изо всех сил хорохорился перед офицерами своего штаба, но его слова не произвели никакого впечатления. Мы прислушались. С юга доносились отдельные мушкетные выстрелы. И все.
— Сэр, — сказал я, — я не могу определить, кто это стреляет, но я предлагаю вам уходить отсюда со всей поспешностью.
— Сэр, здесь я командую. — Круглое лицо надулось, как у лягушки в брачную пору.
Я обратился к офицерам.
— Джентльмены, если вы останетесь здесь, вы будете уничтожены врагом. У него больше людей и пушек. Тех, кто останется в живых, возьмут в плен и вздернут, как солдата Хики. — Я импровизировал, но ради благого дела. Офицеры заговорили все разом. Нокс не мог их перекричать. Стали голосовать. Бригада решила идти к Гарлему.
— Мы не можем идти! — бушевал Нокс. — Мы не знаем острова. Мы из Массачусетса.
— Я знаю здесь каждую тропку от Бауэри до Холмов. — Что правда, то правда: мальчиком я охотился на острове. — Я покажу дорогу.
Несмотря на протесты Нокса, бригада собралась и мы двинулись прямо на позиции английской пехоты, которая без единого выстрела бросилась от нас врассыпную, как от стаи диких зверей.
Две мили я проскакал впереди бригады. Нокс не разговаривал со мной, когда я вел людей через густые леса, глубокие болота и ручьи, столь характерные для острова, что теперь так любовно зовется Манхэттеном.
В одном месте нас обстреляли. Нокс растерялся. Но я не стал ждать, пока он отдаст какой-нибудь глупый приказ, и поскакал с двумя офицерами в направлении огня. На скалистом возвышении располагалась рота английских пехотинцев. С дикими криками мы помчались прямо на них, изображая авангард крупной части. Они убежали в лес. С полмили мы их преследовали, нескольких убили.
Солнце уже садилось, когда мы вернулись на дорогу и обнаружили, что бригада исчезла. Я боялся, что Нокс сдался первому же английскому патрулю, но, к счастью, он просто заблудился. Наконец мы нашли бригаду. Она торжественно шагала на запад.
Нокс был до смерти напуган, когда я сказал ему, что эта дорога в сторону заката неумолимо привела бы его в город Нью-Йорк и на английскую виселицу.
День угасал, когда мы увидели перед собой одинокий церковный шпиль деревни Гарлем, окруженной огнями американского лагеря. Нас встретили радостными криками. Полковник Нокс, введя бригаду в лагерь, не проронил ни слова.
Хотя о моем подвиге немедленно доложили Вашингтону, о нем никогда официально не упоминалось.
Через три месяца (в декабре 1776 года) полковника Нокса произвели в бригадные генералы и назначили командующим артиллерией.
Ночные налетчики
В июле 1777 года я был в Пикскилле с генералом Путнемом, когда поступил приказ генерала Вашингтона о моем производстве в подполковники. С большим запозданием, на мой взгляд. Об этом я и написал в письме Его превосходительству, отметив, что предпочтение отдавалось офицерам, которые были младше меня по званию в Квебеке и на Лонг-Айленде. Как и все, я тогда придавал этим вещам большое значение. В те дни все жаждали почестей.
Ответ Вашингтона был составлен в высокомерных выражениях и не касался существа дела. Однако уже тогда стало известно, что я в дружбе с командирами, которых он недолюбливал, особенно с блистательным, хотя и неуравновешенным генералом Чарльзом Ли, служившим ранее в польской армии. Вашингтон взял за правило неуклонно возвышать бездарности, которые, как Нокс, его боготворили, и безжалостно принижать людей, подобных Ли.
Меня назначили заместителем командира полка, расположенного на реке Рамапо в графстве Орэндж в Нью-Джерси. Полк был детищем богатого добродушного нью-йоркского купца Малколма. Этот джентльмен лишь хотел, чтобы ему отдавали должное как отцу полка, и держался подальше от административных или военных обязанностей. У нас с ним сложились прекраснейшие отношения. Он (по-отечески заботливо) уехал на двадцать миль от нашего лагеря, снял громадный дом и жил в нем счастливо со своей семьей, пока я командовал полком.
Солдаты отличались недисциплинированностью, потому что офицеры — нью-йоркские джентльмены — больше интересовались вечеринками, чем ученьями. Я был строг, но редко прибегал к порке. Всегда приходилось быть начеку. Спал одетый, если вообще удавалось спать. Про меня говорили, что я все насквозь вижу. И это в двадцать один год. Славное было время!
А между тем Вашингтон вел войну в своей загадочной манере. Проиграв сражение за Лонг-Айленд, он был захвачен врасплох у Кип-бэй и оставил Нью-Йорк англичанам. Затем он потерпел поражение под Уайт-плейнс, после чего бо́льшая часть континентальной армии разбрелась по домам. С теми, кто остался, Вашингтон поспешно переправился через реку Норт. И все же, даже если бы Вашингтон в августе 1776 года отдал англичанам всю территорию к востоку от Гудзона, он смог бы сохранить армию, окопавшись под Филадельфией, и удержать город. Вместо этого он за целый год только и сделал, что потерял остров и город Нью-Йорк, продемонстрировав, что у него нет ни средств, ни способностей победить англичан. К зиме 1777 года Революция, в сущности, кончилась: она просто выдохлась.
Многие молодые офицеры молили о смещении Вашингтона. Одни хотели Ли. Другие — Гейтса. Никто, кроме штабных подхалимов, не желал еще одной зимы под началом Вашингтона, неминуемо приближавшей нас к краху. Если бы англичане знали, до какой степени мы беспомощны и слабы, они тотчас навязали бы нам мир, тем более что руководство Вашингтона порождало тори тысячами, в том числе немало влиятельных, хотя и тайных — в самом конгрессе.
В сентябре 1777 года я всеми силами старался заставить врагов пожалеть о том, что они не американцы. Думаю, тут я преуспел. Что и говорить, они так и не сумели приспособиться к нашим по-индейски лихим наскокам под покровом темноты, основанным на внезапности. Мы знали дикие леса вокруг Парамуса. Они их не знали. Мы никогда не вступали с ними в сражение. Но мы всегда была тут как тут, готовые перестрелять их поодиночке.
Наши ночные налеты прогремели на весь Нью-Джерси, и уж один-то из молодых командиров определенно находил их приятным времяпрепровождением. Следует добавить, что тогда я встретил в Эрмитаже, великолепном доме недалеко от Парамуса, женщину, которой суждено было в один прекрасный день стать моей женой.
С какой радостью крался я, подобно индейцу, через темные сосновые леса, обходя вражеские пикеты, чтобы попасть на блестящий прием в Эрмитаже, а потом, по сигналу слуги, выпрыгивал в окно и исчезал, подобно тени после захода луны.
Зима 1777–1778 гг. Вэлли-Фордж
Ах, эти «кровавые следы на снегу» в Вэлли-Фордж? Ничто меня так не позабавило, как мемуары Джеймса Уилкинсона, изобретшего этот прелестный образ. Но в то время Джейми просто не мог писать правду, даже если бы это послужило к его выгоде. В Вэлли-Фордж ходили в лохмотьях, в разбитой обуви, но никакой крови на снегу я не припоминаю. Я вспоминаю бесчисленные неудачи, которые привели нас на продуваемые ветром склоны гор в Пенсильвании, где мы пережили самые мрачные часы войны.
В сентябре 1777 года англичане снова искусно запутали Вашингтона и заняли Филадельфию (конгресс лег бременем на Балтимор). Вопреки общепризнанной легенде филадельфийцы вовсе не возражали против присутствия в их городе английской армии: на самом деле многие из них надеялись, что скоро Вашингтона поймают и повесят, чем будет положен конец разрухе, до которой довело страну тщеславие нескольких жадных адвокатов, хитро прикрывавших свои личные планы туманными политическими теориями и возвышенными банальностями Джефферсона.
Незадолго до рождества 1777 года я прибыл с докладом к генералу Вашингтону в Вэлли-Фордж, милях в сорока от Вифлеема в Пенсильвании. У командующего, как обычно, была комфортабельная штаб-квартира (в феврале приехала и мадам Вашингтон, чтобы править при дворе).
Я ждал один в холодной приемной. Входили и выходили адъютанты, в их числе и генерал Нокс, уставившийся на меня рыбьими глазами с порога кабинета. Я узнал полковника Гамильтона, который рад был встрече со мной, увидел старого друга и соратника полковника Траупа, который сказал: «Заходите, ваш приход его развлечет. Его превосходительство гневается».
Я вошел в комнату, ранее служившую, видимо, столовой. Вашингтон стоял возле камина, повернувшись к двум джентльменам в штатском.
Не отрывая от них взгляда, он ответил на мое приветствие.
— Джентльмены, вы, без сомнения, узнаете полковника Бэрра, который сражался под Квебеком вместе с генералом Монтгомери. — Мое имя действительно было знакомо этим двум членам пенсильванской ассамблеи, по совместительству поставщикам армии — иными словами, жуликам. Один был крупный, другой небольшого роста. Их имена в истории Пенсильвании ныне окружены уважением, и я не хочу ставить в неловкое положение их потомков, которые, вне сомнения, чтут как благородных патриотов и злодея мощного сложения и его тщедушного сообщника.
Крупный сказал, как бы оправдываясь:
— Согласитесь, Ваше превосходительство, что это место идеально отвечает вашей цели. Обилие воды, мельница, лес можно пустить на постройку хижин. Новая партия гвоздей в вашем распоряжении…
— Надо полагать, пенсильванская ассамблея уже заплатила за эти гвозди. — Вряд ли стоило упрекать Вашингтона за дурное настроение; он хотел пойти на зимние квартиры в Уилмингтон в Делавэре, но пенсильванские делегаты в конгрессе пригрозили, что прекратят всякую финансовую поддержку конгресса и армии, если Вашингтон не останется в Пенсильвании. Итак, ради наживы кучки торговцев наша полуголодная армия разместилась на ветреном склоне горы и те немногие, кто держался на ногах, должны были построить лагерь и без продовольствия продержаться до весны.
Коротышка отвлек внимание Вашингтона от гвоздей.
— У нас под рукой все виды припасов. Или почти под рукой. Разумеется, вы ни в чем не будете испытывать недостатка. Благодарная колония… то есть штат…
Тут раздалось оглушительное карканье. Коротышка замолк. Унылое выражение на лице Вашингтона сменилось ужасом. Карканье стало громче. Тысяча, нет, две тысячи ворон оглашали криками зимнюю тишину. «Kapp, карр, карр!»
Вошел полковник Трауп.
— Это солдаты, Ваше превосходительство.
«Карр, карр, карр!»
— Они требуют пищи, Ваше превосходительство.
Вашингтон повернулся к пенсильванцам.
— В лагере осталось только двадцать пять баррелей муки. Солдаты бунтуют. Если завтра продовольствие не будет доставлено, никто не защитит вас от британского вешателя. И никто, джентльмены, не защитит вас от меня.
Полковник Трауп вытолкал потрясенных пенсильванцев за дверь.
Вашингтон повернулся ко мне.
— Я слышал о ваших ночных вылазках в Джерси. Мы их оценили.
— Спасибо, Ваше превосходительство. — Я подумал, не следует ли мне припасть на одно колено. С каждым годом, с каждым поражением церемонии при дворе Вашингтона делались все более торжественными. — Надеюсь, что смогу и здесь заняться тем же.
— В Пенсильвании? — Вашингтон показал перепачканной чернилами рукой на окно.
— Нет, сэр. На Статен-Айленде. Я знаю там каждый дюйм и уверен, что мы сможем весьма досадить англичанам. Главным образом ночными вылазками.
— Сколько вам потребуется людей?
— Двести человек, сэр. Из моего полка.
— Вы хотите сказать, из полка Малколма де Пейстера? — Так он поставил меня на место. Нам было суждено невзлюбить друг друга. Меня раздражал его медлительный ум, не говоря уже о его потрясающей способности терпеть поражения на поле боя. За три года он проиграл все сражения, выиграв лишь стычку под Трентоном, да и то случайно: гессенцы не выставили часовых в ночь атаки. К тому времени победа Гейтса у Саратоги и Ли у Чарльстона были единственными победами американцев. Естественно, многие офицеры желали смещения Вашингтона. Я им сочувствовал.
«Карр, карр, карр!»
Пока Вашингтон придумывал, под каким предлогом лучше оставить меня зимовать в бездействии, карканье продолжалось, и я видел, что оно его потрясло. В конце концов он отпустил меня с напутствием:
— Используйте людей Малколма для постройки хижин.
Так меня принудили к оседлости. Около штаба я встретил полковника Гамильтона. Он смотрел, как у подножья холма возле обтрепанных палаток каркали и хлопали в ладоши патриоты. Легко, конечно, юмористически описывать это на бумаге, но каково нам было смотреть на несчастных, именовавшихся американской армией. Карканье перемежалось скандированием: «Мяса, мяса!»
— Что-то надо делать, Бэрр. — Гамильтон против обыкновения начал разговор без галантных приветствий.
— Да, — согласился я. — Надо найти солдатам еду. И это не так уж трудно…
— Вы не знаете пенсильванцев. — Он покачал красивой головой; худенький, невысокий, в заплатанных штанах, как мы все.
— Я бы поехал в ближайший город и взял, что требуется.
Гамильтон посмотрел на меня с осуждением.
— Но тогда эти «бизнесмены» все до единого присягнут в верности королю.
На меня это не произвело впечатления.
— А мы их вздернем. — Мне нравилось шокировать Гамильтона или, верней, давать ему возможность притворяться шокированным. На самом деле он был гораздо более склонен к forse majeure[64], чем я. Не без ехидства я спросил, доволен ли он своим положением при штабе Вашингтона. Мне оно было бы непереносимо.
— Положение мое трудное, — ответил Гамильтон уклончиво. — Между дураками в конгрессе и предателями здесь — есть среди наших генералов и такие… — Он яростно обрушился на Гейтса. — Злобный интриган, постоянно обращается к конгрессу за спиной Его превосходительства, плетет заговор с офицерами прямо здесь, в лагере.
Так я впервые узнал о так называемом заговоре Конвея, целью которого было смещение Вашингтона и замена его Гейтсом. Хотя Гамильтон не был поклонником Вашингтона, он вознамерился возвыситься через его посредство и потому не принял участия в заговоре, которым руководил только что прибывший французский офицер Конвей. Умный, но вспыльчивый, Конвей каким-то образом убедил конгресс назначить его генерал-инспектором армии. Это был удар для Вашингтона. К счастью для Его превосходительства, это был удар и для всех старших офицеров армии, и их ожесточение по поводу незаслуженного возвышения Конвея позволило Вашингтону изолировать Конвея, сыграв на всеобщей зависти.
Но француз был неистощим. Переписка Конвея с Гейтсом убедила последнего (как будто его нужно было убеждать), что он один в состоянии нанести поражение англичанам. Да, то была необыкновенная зима! В бревенчатых хижинах в полураздетой и голодной армии плелись такие интриги, какие не снились и султанскому двору; сотни шифрованных писем летали во всех направлениях. И чуть не в центре всего этого находился — кто бы вы думали? — Джеймс Уилкинсон.
Я увидел Джеймса на рождество, когда он во всем великолепии проезжал мимо моей хижины. В октябре Гейтс послал его в конгресс с известием о нашей первой и единственной настоящей победе — капитуляции английского генерала Бургойна на севере. К доброму известию Гейтс приложил ходатайство о производстве гонца в бригадные генералы. По этой своеобразной логике, если бы Джейми привез печальное известие, его, очевидно, понизили бы до майора. Без колебаний и размышлений торжествующий конгресс согласился. Возвышение Конвея уже было достаточно нелепо, но после абсурдного повышения Уилкинсона не менее двадцати полковников отправили в конгресс протестующие письма. Я письма не посылал: Джейми оставался еще моим другом. А я все еще был его «идолом».
Мы обнялись, стоя в снегу. Безбородый юноша превратился в мужчину, который выглядел старше своих двадцати лет — счастливое обстоятельство, учитывая его нелепое возвышение. Взявшись за руки, мы отправились к нему. Он рассказал мне про отступление из Канады (он; присоединился к Арнольду через неделю после моего отъезда). Я рассказал ему про отступление с Лонг-Айленда.
Мы осторожно пробирались между пней, валунов, замерзших луж. Отовсюду несся стук топоров и солдатская ругань. Среди тысяч костров строились тысячи хижин. Там и сям взвивались оранжевые сполохи, глаза слезились от смолистого дыма.
Ветераны обычно вспоминают юность как бесконечное цветущее лето. Не знаю, как для других, но для меня то была бесконечная зима. Я и сейчас еще ежусь от холода, которого не забыли мои кости, мне все время хочется огня, жары; с содроганием вспоминаю я жестокие крутые горы Пенсильвании, где полуголодные люди теснились вокруг костров; кое-кому приходилось нагишом кутаться в одеяла, потому что так называемые поставщики крали все деньги, отпущенные на нас конгрессом. Мы чувствовали себя покинутыми. Да так оно и было. А где-то, между прочим, основатели страны преспокойно коротали зиму, и Джефферсон в Монтичелло в обстановке полного комфорта и безмятежности, зарывшись в свои книги, предавался утонченным размышлениям.
Джейми нашел отдельный флигель, тщательно промазанный глиной. В очаге горел огонь. Два офицера (старше нас лет на пять!) отдали честь и оставили нас одних.
Мы сели у огня и принялись с остервенением чесаться, чем занимались все, если поблизости не было либо начальства, либо подчиненных. Наверное, кроме Вашингтона и его супруги, мы все завшивели в Вэлли-Фордж.
— Бэрр, вы дурак, каких свет не видывал. — Это было сказано с любовью. — Вы были бы сейчас бригадным генералом, если бы остались при Вашингтоне. — Джейми угостил меня жареными хлебцами (тесто на воде, испеченное на горячем камне).
Я жадно ел.
— Психология писаря мне недоступна.
— Тогда придумали бы себе другие обязанности. Трауп или Гамильтон не занимаются перепиской писем.
— Я предпочитаю свой полк.
— А я предпочитаю штаб. — Никак я не мог привыкнуть к возмужавшему Джейми, то есть к его новому виду. Характер у него остался прежний — смесь вспыльчивого юноши и хитрого интригана (если прибегнуть к любимому словцу Вашингтона в Вэлли-Фордж). Я часто размышлял над тем, как это странно, что Джеймс Уилкинсон, прирожденный политик, поднялся на самую верхнюю ступеньку в американской армии, а я, прирожденный солдат, — к вершинам американской политики. Нам бы с ним поменяться жизнями.
Политик Уилкинсон быстро окунул солдата Бэрра в самую гущу сложной интриги.
— Гейтс должен принять армию. Больше некому.
Я обомлел. Я полагал, что Уилкинсон на стороне Вашингтона и против заговора.
— Большинство в конгрессе нас поддержит. — Джейми глубоко вобрал в себя воздух. — Но в данный момент никто не решается сместить полубога.
— Никто никогда и не решится. — Я был достаточно сведущ в революционных делах, чтобы понять: как ни плох Вашингтон, без него в Боулинг-грин красовалась бы статуя Георга III куда больших размеров.
В ту пору конгресс был поставлен перед истинной дилеммой. Всем уже стало ясно, что Вашингтон не может — и никогда не сможет — победить англичан. Скорей либо Гейтс, либо Ли. Но ни Гейтс, ни Ли и никто другой не пользовался достаточным авторитетом, чтобы сохранить остатки армии и одновременно держать в руках шайку жуликов и краснобаев, которая именовала себя конгрессом.
Я просмотрел все остальные записки полковника Бэрра, но нигде больше ничего не нашел про Уилкинсона или заговор Конвея.
Следующая запись рассказывает о том, как Вашингтон назначил Бэрра в мятежный полк в Вэлли-Фордж.
Инцидент в заливе
— Генерал Макдуггал заверил меня, что вы умеете наводить дисциплину, полковник Бэрр. Поэтому я вверяю вам командование этим самым беспокойным полком. — Вашингтон отдыхал у камина после обеда. Напротив сидела мадам Вашингтон. Милое и лукавое личико смотрело на нас из-под широкого чепца, вроде тех, какие носили девушки Литчфилда в то время, когда я учился там в юридической школе. У нее была беспокойная привычка кивать или качать головой без особой на то причины, как бы соглашаясь или возражая внутреннему голосу.
Несколько членов военного окружения генерала сидели в комнате и делали вид, что работают, просматривая депеши. Один Гамильтон просто читал книгу. У него была такая же страсть к чтению, как и у меня. Как и я, он часто читал книги по истории или философии. Однако втайне (если мне позволительно злословить на его счет и разоблачить его перед целым светом) Гамильтон обожал дамские романы, как я однажды убедился в нью-йоркской публичной библиотеке, когда увидел в его руке листочек — просьбу отложить для него роман «Эдвард Мортимер» (автор — дама) и «Любовь графа Палвиано и Элеоноры». Я был шокирован. Только в почтенном возрасте я унизился до чтения романов и глупых пьес — по-французски и по-английски.
Я старался держаться как можно непринужденнее вблизи полубога.
— Полк расположен в заливе. — То был путь, по которому могли подойти англичане, если бы решились на это. — Солдаты недисциплинированны. Часовых не выставляют. Вдобавок они подвержены панике и то и дело поднимают ложные тревоги.
Мадам Вашингтон отчаянно закивала головой, точно хотела сказать: чем больше ложных тревог, тем лучше.
— Я сделаю все, что в моих силах, Ваше превосходительство. — Только так следовало отвечать генералу Вашингтону.
Через десять дней я принял командование небоеспособной и разложившейся частью (раньше ею командовал бригадный генерал) и строжайшей круглосуточной муштрой довел кое-кого из них до бунта.
На десятый день утром я узнал, что кто-то поклялся убить меня на следующем построении. Днем я принял меры предосторожности. А в полночь приказал всем выйти и построиться.
Холодная ночь. Яркая луна. Барабанная дробь. Когда полк был построен, я начал смотр, глядя каждому в лицо. Когда я дошел до середины строя, один солдат рванулся вперед, показал на меня рукой и закричал:
— Пробил твой час!
Несколько мушкетов было направлено прямо на меня.
— Огонь! — скомандовал он. Раздались пустые щелчки: мушкеты были заблаговременно разряжены.
Я выхватил саблю и изо всех сил ударил солдата по руке, все еще вытянутой в мою сторону. Послышался глухой треск перерубаемой кости. Он закричал. Белые клубы дыхания закрыли его лицо. Рука, точно у сломанной куклы, безжизненно повисла вдоль тела.
— Станьте в строй, сэр. — Он повиновался, и я приказал полку разойтись. Руку ампутировали, солдата отправили домой. Ложных тревог больше не было.
Генерал Вашингтон, рассказывали мне, серьезно подумывал, не отдать ли меня под трибунал за то, что я покалечил солдата. Его отговорили.
Следует заметить, Вашингтон в конце концов принял мой план наскоков на Статен-Айленд и возложил эту задачу на пропойцу-генерала, шотландского пэра лорда Стирлинга. Не зная местности, он потерпел неудачу.
Монмусский суд
Хотя Революцию я вспоминаю как страшно холодное время, моя беда приключилась чуть ли не в самый жаркий день моей долгой жизни, 26 июня 1778 года. Чего не добился холод, едва не совершила убийственная жара. Я потерял здоровье на пять лет и после битвы у Монмусского суда не мог уже принести пользы в качестве боевого офицера.
В начале мая в Вэлли-Фордж состоялось большое празднество. Праздновали конец зимовки (и победу Вашингтона над заговорщиками) и весть о том, что французское правительство официально признало Соединенные Штаты Америки; а самое главное, французы не только послали свой флот нам на помощь, но и начали блокаду Ла-Манша. Теперь мы были уверены в победе.
Ясным майским утром Вашингтон принял парад армии. Огласил новость из Франции, распорядился дать тринадцать залпов, расходуя драгоценный порох; под навесами стояла обильная еда, солдатам выдали по четверти пинты рома, — одним словом, нам давали понять, что нам все по плечу. И не в последнюю очередь — победа.
Рядом с Вашингтоном находился генерал Ли, незадолго перед тем обмененный на английского генерала. Ли при таинственных обстоятельствах взяли в плен, когда он навещал какую-то даму в таверне: потому при таинственных, что все это, как некоторые подозревали, подстроил Вашингтон, чтобы устранить соперника. Ли был блистательный, тщеславный и обаятельный человек, и мы скоро подружились. Примечательный факт, не правда ли, что единственный генерал, с которым я был в дружеских отношениях, как раз и попал под трибунал. Я не умел с упорством Уилкинсона обхаживать тех командиров, которые помогли бы мне возвыситься. Но несмотря на его изворотливость, Уилкинсона в конце концов втянули в Вэлли-Фордж в такое множество заговоров и контрзаговоров, что генерал Гейтс однажды пригрозил вызвать его на дуэль, и Вашингтон, у которого был особый нюх на интриганов, услал его прочь, назначив генерал-экипировщиком армии. На этом посту Джейми сумел присвоить кое-какие деньги; при этом он совсем забыл о том, что должен еще и одевать армию, и его уволили.
Я употребляю слово «упорство», характеризуя стремление Уилкинсона добиться почестей, нет — местечка, путем обхаживания нужных людей. Однако Уилкинсон был недостаточно целеустремлен, если сравнивать его с Гамильтоном, который хотел только почестей как таковых, чего хотели и лучшие из нас.
Я часто думал, как трудно было Гамильтону служить человеку, умственные способности которого он презирал. Ну и несуразная была пара! Торжественный, медлительный генерал с достоинством шествовал по лагерю, а молодой, дерзкий адъютант трусил сзади, как рыжий терьер. Вашингтон просто обожал Гамильтона и, должно быть, не понимал, насколько обожаемый им юноша его недолюбливает. Однако у Вашингтона вообще не было близких друзей, ни мужчин, ни женщин (у него было много знакомых, но, насколько я знаю, в его жизни не было женщины, кроме жены соседа в Виргинии, да и то скорее сестры по духу, чем возлюбленной, если верить Джемми Мэдисону). Свои привязанности он сдерживал. Чинные отношения с супругой Мартой являли собой союз двух состояний, типичный для его тщеславия и холодной змеиной натуры.
К тому же с сорока трех лет Вашингтон не только играл роль американского бога, но этим богом был. И среди современников друзьям уже не оставалось места, поскольку каждый мог оказаться соперником. Он отдавал свою привязанность лишь тем молодым людям, которые не представляли угрозы его величию. Рядом со сверстниками и равными, вроде Чарльза Ли, он выглядел весьма забавно. Величественный Вашингтон превращался в неловкого придворного: запинался, тушевался, часто краснел, пока в нужный момент в темноте не сверкало лезвие ножа — и еще один соперник с изумлением обнаруживал, что скучный, заискивающий господин из Виргинии ловко с ним расправился.
Если страсть Вашингтона к Гамильтону явно не была взаимной, то это с лихвой уравновешивалось обожанием жизнерадостного молодого француза маркиза де Лафайета, присоединившегося к нашей Революции в Вэлли-Фордж. В числе нескольких тщеславных европейцев Лафайет приехал помочь нам сражаться с тиранией. Среди этих иностранцев только фон Штебен обладал военным талантом. Феноменальный лжец, пустивший слух о том, что он служил генерал-лейтенантом у Фридриха Великого, тогда как на самом деле дослужился лишь до капитана, фон Штебен проявил столь же феноменальные способности в обучении солдат.
Что же до Лафайета, то весь он светился юношеским энтузиазмом, очарованием и глупостью. Кстати, у него была необычная форма головы, я такой в жизни не видывал: она заострялась кверху, как ананас. Он боготворил Вашингтона, который настолько раскис от этого обожания, что чуть не позволил ему проиграть битву у Монмусского суда.
Думаю, мы являли собой странное зрелище. Вашингтон был в полной форме, а остальные, кроме Лафайета и еще нескольких иностранцев, — в лохмотьях. Приехал и Бенедикт Арнольд; он ковылял рядом с Вашингтоном, нашептывая что-то ему на ухо. Арнольда недавно обошли с повышением, что не улучшило его дурного нрава. Был тут и Гейтс, сдержанный после провала заговора. И разумеется, дородный лорд Стирлинг в сопровождении своего адъютанта Джеймса Монро, чьей главной обязанностью во время Революции было следить, чтобы содержимое кружки Его превосходительства не убывало, пока не наступало время укладывать генерала в постель. Какая же маленькая группка сражалась за Революцию, основала республику и правила солидной частью континента в течение четверти века! И как много будущих правителей собралось в Вэлли-Фордж; пили разбавленный ром в шалашах и поднимали тосты за французского короля.
Когда с празднеством покончили, я навестил генерала Ли и его поклонников в крестьянском доме. Нечесаный, плохо выбритый, со сверкающими глазами, Ли сидел, закинув нош на каминную решетку, немецкая овчарка (очень на него похожая) лежала у его ног, а он развлекал нас рассказом о своем филадельфийском пленении.
— Англичане были со мной необычайно обходительны. Особенно старшие офицеры. Хорошие ребята. Как они ненавидят войну! Считают, что во всем виноваты политики. Каждый вечер мы пили за то, чтобы поскорее закончить войну и вздернуть политиков, всех политиков, кроме Его превосходительства, — Ли подмигнул нам. Он произносил «Его превосходительство» так, что каждое, почтительное само по себе, слово звучало издевательством.
— Генерал Клинтон хочет сдать Филадельфию. И уйти в Нью-Йорк. Он пытается убедить лондонское министерство либо вообще оставить колонии — маловероятно, что такое случится, — либо на какое-то время удержать за собой Нью-Йорк. Он устал от войны. Как и все. Пусть себе уходит из Филадельфии, сказал я Его превосходительству, не надо ему мешать. Наоборот. Надо построить для англичан золотой мост, сказал я. Устлать их путь розами. Ведь это наша победа. Все кончено. Французы решили исход войны в нашу пользу, и в тот день, когда их флот появится на рейде Лонг-Айленда, англичане уйдут домой. Увы, Его превосходительство жаждет победы на поле брани. Я думаю, ему надоело раздувать свой успех во время перепалки в Трентоне. Хотя он уже и поверил, что сравнялся с Мальборо и Фридрихом, он все же подозревает, что, говоря об американских победах, все разумеют победы мои и Гейтса, но никак — никак! — не его победы. И как только англичане начнут отступление, он сунется в бой. Но каковы бы ни были наши преимущества, он все равно — как всегда — потерпит поражение.
Что ни говори, Ли как в воду глядел. В июне англичане под командованием генерала Клинтона эвакуировали Филадельфию и начали долгий марш к Нью-Йорку.
Я присутствовал на заседании штаба, когда Вашингтон изложил свой план атаки на неприятеля, пока он будет в походном порядке. Как всегда, он почти от всех добился согласия. Только Ли высказался за то, чтобы дать англичанам уйти. При всем моем уважении к Ли, стратегия Вашингтона в теории была вполне здравой. Но на деле — как всегда у нашего славного командующего — привела к катастрофе или, в данном случае, почти катастрофе.
Вашингтон допустил ошибку с самого начала. Ослепленный Лафайетовой жаждой славы (и не в последнюю очередь его восторгами по поводу сладкозвучных легенд о нашем командующем), Вашингтон сначала предложил, чтобы юноша француз повел в атаку полки генерала Ли. Естественно, Ли пришел в ярость. Тогда Вашингтон, как это умел он один, стал кое-как примирять противоречия. Если Лафайет атакует первым, Ли останется в стороне и лавры достанутся французу. Если же Лафайет не увенчает себя геройскими лаврами к тому моменту, когда подойдет Ли, командование перейдет к Ли. Идиотский компромисс, годный для конгресса, но отнюдь не для поля боя. И еще одна глупость: напоследок Вашингтон так перетасовал несколько рот, что многие дивизионные командиры понятия не имели, кем они командуют.
Но довольно о великом замысле.
Хотя я не был генералом, мне поручили командовать бригадой, в которую входил мой собственный полк и части двух других полков из Пенсильвании. У меня оказался отличный заместитель, подполковник Баннер, и, в общем я целом, я был доволен. Однако к утру 27 июля, когда я сел на коня без преувеличения под обжигающим дождем, я почуял беду. С солдатами так бывает. Воздух будто наэлектризован и за много часов предвещает победу, поражение или смерть.
Моя бригада входила в дивизию лорда Стирлинга, которая составляла левый фланг американцев, к западу от Монмусского суда, где окопалась английская армия. По приказу Стирлинга мы провели весь день и всю ночь 27 июля под открытым небом, и палящее солнце причинило нам больший ущерб, чем английские пушки. У всех слегка помутилось в голове. Многие теряли сознание, многих сразил солнечный удар. На нас тучами налетали джерсийские москиты — гигантские изобретательнейшие твари.
Перед восходом солнца 28 числа я вел свою бригаду по песчаной дороге к юго-западу от Монмусского суда. В голове у меня звенело. И все же сознание оставалось ясным, и я до сего дня помню хилые, как будто побелевшие от жары сосны, окаймлявшие дорогу, скорее — тропу; помню, как позади меня сержант насвистывал снова и снова две одни и те же фразы из песни «Все вверх тормашками летит», популярной в английской армии.
К полудню мы оказались на возвышенности к западу от оврага, на другой стороне которого авангард нашего крыла армии должен был, согласно замыслу, нанести первый удар. Я приказал остановиться в ожидании дальнейших приказаний.
Под нами лежало болото, кишащее москитами, через него был переброшен пешеходный мостик. По ту сторону болота был лес, где-то там засел противник. Я приказал солдатам занять боевую позицию. Это было нелегко, чуть не каждую минуту кто-нибудь падал в обморок. Термометр подполковника Баннера показывал девяносто четыре градуса[65].
Я предупреждал солдат, чтобы пили поменьше воды, но не мог уследить за всеми, и у многих раздулись животы и начались колики. Я тоже расстроил себе желудок, и целых пять лет потом мне не помогала и строжайшая диета.
Вскоре после полудня мы услышали первый глухой звук артиллерийского залпа. Со стороны Монмусского суда донеслось пять залпов. Потом наступила тишина. Прошел еще час. Я встревожился и послал лейтенанта к лорду Стирлингу за указаниями.
Примерно в три часа пополудни, когда солнце над сосновым лесом пекло, как раскаленное пушечное ядро, битва докатилась до нас. Справа, вне пределов видимости, трещали мушкетные выстрелы, свистели и рвались пушечные ядра. Дивизия Лафайета — Ли начала бой после странного бездействия.
Вдруг я увидел в лесу напротив алые вспышки. Лазутчики доложили, что английский отряд продвигается через лес, обходя передовые части генерала Ли с фланга.
Я дал приказ наступать. Солдаты гуськом начали переходить по мосту, я прикрывал их огнем. В считанные минуты бригада была бы на той стороне и в безопасности. Но вмешался рок.
Появился адъютант Вашингтона.
— Остановите этих людей, полковник! — Он смотрел на меня дикими глазами.
Я решил, что он сошел с ума.
— Я не могу их остановить. Они должны двигаться вперед, пока их не накрыл огонь англичан.
— Остановите их! Прикажите им повернуть назад! Это приказ генерала Вашингтона.
Я рванул коня, так что могло показаться, будто он отпрянул от выстрелов, притворился, что я ничего не слышал, и поскакал к мосту. Треть бригады была уже на другой стороне. Английские стрелки из-за сосен уже доставали американцев.
Адъютант следовал за мной.
— Полковник, именем командующего я приказываю вам отвести людей.
Обалдевший от жары адъютант слово в слово повторил приказ Вашингтона, вызванный незнанием обстановки и ужасом при мысли о новом поражении; мы, на краю болота, не знали, что генерал Ли внезапно начал отводить войска с позиции, причем многие солдаты поняли приказ об отходе как приказ об отступлении; а американскому солдату почему-то кажется, что отступать лучше всего бегом.
Вашингтон сам преградил им дорогу и, осыпав генерала Ли чудовищной бранью, приказал ему вернуться на поле боя. Помешкав, Вашингтон решил стоять на месте и приостановить наступление других наших частей. Так мы упустили инициативу из-за внезапного отхода Ли и отказа Вашингтона предпринять что-то серьезное. Возможная решительная победа обернулась всего лишь жалкой стычкой, в конечном счете даже выгодной для уступавших нам в численности англичан, которых при нормальном ходе событий мы бы уничтожили.
— Их перебьют! — закричал я адъютанту, но он стоял на своем: прав Вашингтон или неправ, ему надо подчиняться.
Мне пришлось остановить переход через болото. Надежно укрытый лесом, неприятель теперь методично расстреливал наших солдат по одному.
Я скакал по нашему краю болота, крича на солдат, чтобы они укрылись и ответили огнем на огонь противника, как вдруг почувствовал, что камнем лечу по воздуху. Мир перед моими глазами перевернулся вверх тормашками: помню, как сосны вокруг меня торчали верхушками вниз.
Я рухнул в песок, оглушенный, но не раненый; мой конь был убит.
Поднявшись на ноги, я увидел, что подполковник Баннер убит на мосту. Треть бригады полегла, столько же было раненых.
Ночь была такая же жаркая, как день. Медная луна висела над сосновым лесом, где спали измученные солдаты и, борясь со смертью, стонали раненые.
Я ухаживал за ранеными почти до самой зари, а потом рухнул прямо на землю и проспал, пока солнце не поднялось уже высоко и не высушило меня, как египетскую мумию. Пока я спал, меня до крови искусали москиты. Я еле передвигался.
В этом плачевном состоянии я, к своему огорчению, хотя и без особого удивления, узнал, что (как всегда, неведомо для Вашингтона, проспавшего ночь рядом с Лафайетом на подстилке под звездами) английская армия снялась с места и благополучно направляется к Статен-Айленду. План перехватить их полностью провалился, мы напрасно понесли тяжелые потери у Монмусского суда. Такова была «победа» Джорджа Вашингтона.
На известие об уходе английской армии Вашингтон, отозвался вполне в своем духе. Арестовав генерала Ли за ослушание, он приказал предать его военно-полевому суду. Я, в числе многих, открыто встал на сторону Ли. Вашингтон взял всех нас на заметку, и мало кто из сторонников Ли получил повышение.
Пока Ли находился под арестом, я довольно часто с ним переписывался. Однажды он написал, что, каким бы ни оказался приговор (его на год отстранили от должности), он намеревается уйти из армии и «удалиться на покой в Виргинию выращивать табак, что, как выяснилось, — лучший способ стать безукоризненным генералом».
Я хотел бы привести кое-какие сведения, полученные мною в Лондоне от постоянного служащего военного министерства. Правда, за их достоверность не поручусь. Во-первых, когда англичане взяли Чарльза Ли в плен, они грозили его повесить за дезертирство из английской армии. Чтобы спасти свою шею, Ли убедил их отпустить его на том условии, что он убедит Вашингтона не мешать отходу англичан к Нью-Йорку. Когда ему это не удалось, он отдал гибельный приказ об отступлении у Монмусского суда и спас английскую армию. По другим сведениям — и в них мне легче поверить, — в период администрации Адамса Александр Гамильтон был английским агентом номер семь, его услуги оплачивались Лондоном. Это подозревал Джефферсон, но Джефферсон в то время подозревал в предательстве всех своих противников, и к его обвинениям я никогда не относился серьезно.
Сломив Ли, Вашингтон в глазах штатов стал высшим военным гением. Хотя Вашингтону так и не было суждено разгромить английскую армию, он добился победы в куда более важной войне — в войне против своих соперников.
«Какая главная черта Вашингтона?» — спросил я однажды у Гамильтона, когда мы вместе работали над судебным делом. Улыбка мелькнула на лучезарном лице, злые голубые глаза сверкнули: «О Бэрр, себялюбие! Себялюбие! Что еще создает бога?»
Вест-Пойнт
Я взял на два дня отпуск по болезни и провел их около Парамуса в Эрмитаже с моей будущей женой Теодосией Прево. Затем, все еще больной, я принял предложение Вашингтона разведывать все возможное об английских речных перевозках.
С небольшой группкой мы патрулировали реку Норт вверх и вниз по течению от Вихока до Бергена и собирали сплетни, иной раз — полезные.
Затем на меня возложили задачу сопровождать на барже богатых тори от Фишкилла до занятого англичанами Нью-Йорка. Работа моя была бы куда приятнее, если бы не мучавшие меня безумные головные боли и расстройство желудка.
В октябре я попросил отпуск по болезни без сохранения жалованья. Я не хотел одалживаться у Вашингтона; мою просьбу он удовлетворил, но настаивал на том, чтобы за мной сохранилось жалованье. Я не счел это возможным и вернулся в свой полк в Вест-Пойнте, где какой-то местный фермер принял меня за сына полковника Бэрра.
Тут записи обрываются.
Вестчестерская линия
13 января 1779 года я прибыл в Уайт-плейнс, чтобы принять командование Вестчестерской линией, которая протянулась примерно на четырнадцать миль между рекой Гудзон и проливом Лонг-Айленд. За линией находились Нью-Йорк, английская армия и друзья англичан — американские тори.
Я должен был регулировать движение и сообщение между нью-йоркскими тори и вестчестерскими вигами. Подлинная моя задача состояла в том, чтобы прекратить грабеж гражданского населения. Мародерство стало основным занятием не только солдат, но и офицеров. В общем-то, мародерствовала половина населения Вестчестера. Тех, кто грабил тори и англичан, называли «живодерами». Тех, кто грабил нас, называли «ковбоями». К весне 1779 года с живодерами и ковбоями было в основном покончено, с моим здоровьем тоже.
10 марта я послал генералу Вашингтону прошение об отставке, и он принял ее, наложив следующую чувствительную резолюцию: он «не только сожалеет об отставке хорошего офицера, но и о причине, вынудившей его подать в отставку».
Через линию фронта
В конце мая 1779 года я навестил в Вест-Пойнте генерала Макдуггала. Несмотря на плохое здоровье, он был отличный офицер и красноречив, несмотря на заикание.
Мы сидели на дворе под высокими вязами, откуда открывался вид на Гудзон. Из большого дома, отданного под штаб, то и дело выходили адъютанты. В тот день поднялась серьезная паника: шеститысячная английская армия только что вышла из Нью-Йорка и заняла оба берега реки ниже Пикскилла. Вот уже несколько дней Макдуггал пытался сообщить об этом Вашингтону в Нью-Джерси. Но ни одному из посыльных так и не удалось к нему добраться.
Макдуггал метал громы и молнии по поводу ведения — или, скорее, неведения — войны.
— Ох, уж этот конгресс! — Он говорил с заметным шотландским акцентом. — И откуда только понабрали таких мерзавцев!
Этого мнения придерживалась вся армия. Все знали, что те немногие делегаты, которые утруждали себя присутствием на заседаниях Континентального конгресса, больше думали о спекуляции валютой, чем об интересах армии. Конгресс уже поверил, что война благополучно закончилась. Сам Вашингтон убедил их, что прибытие французского флота обеспечит нашу победу.
Французский флот действительно прибыл, и Вашингтон смог наконец нанести долгожданный удар по Нью-Йорку. Казалось бы, зажатые французским флотом и американской армией, англичане обречены — так все думали, во всяком случае, — но особый талант Вашингтона терпеть поражения вновь восторжествовал.
Начать с того, что никто не счел нужным ознакомить французского адмирала Д’Эстена с ловушками нью-йоркской гавани, и, когда настал час битвы, французский флот не смог миновать отмель у входа в нью-йоркскую гавань; тем временем на суше любимец Вашингтона, генерал Джон Салливан, проводя в жизнь стратегию своего господина, позорно отступил перед английским гарнизоном. Французский флот ни с чем отплыл на юг.
— Уверяю вас, Бэрр, если бы французский флот не курсировал в Ла-Манше, англичане гнали бы нас до самой Огайо.
Мы огорчились бы еще больше, если бы знали, что эта несуразная война продлится еще три года и Вашингтон будет избегать военных действий всеми возможными способами. Бездействие стало свойством его натуры, а кроме того, четырнадцатитысячную армию, которой он командовал во время знаменитой «победы» у Монмусского суда, почти полностью распустили из-за безденежья и таинственной веры конгресса в победу, которую якобы должен был нам неизбежно принести один лишь союз с Францией.
В конце войны, когда Вашингтон пришел в Виргинию для осады Йорктауна, под его командованием оставалось только 2500 солдат, а у французов под Йорктауном было 3000, не говоря уже о флоте в тридцать линейных кораблей. Так что в каком-то смысле конгресс оказался прав. Французы и в самом деле победили за нас англичан. Без них мы, конечно, остались бы английской колонией; мы давно уже забыли об этом грустном факте, точно так же, как и ныне пытаемся забыть, с какой легкостью небольшой английский отряд выгнал из Белого дома президента Мэдисона и поджег город Вашингтон[66]. К счастью, наш народ всегда предпочитал легенду реальности. Кому же это знать, как не мне, ведь я стал чуть ли не самой мрачной легендой республики и уже почти нереален.
Макдуггал выслушал то, что ему прошептал адъютант. Снова выругался.
— Вы поедете к Вашингтону, Бэрр. Вы знаете местность.
История с мулом. Вашингтон и Сент-Клер, Нью-Хейвен. Йель.
На этом обрывается рассказ полковника Бэрра. А вот другой отрывок, на другой бумаге, написанный недавно.
Бенедикт Арнольд. Запись 4 июня 1833 года
Осенью 1780 года я находился в Эрмитаже у миссис Прево, которая любезно взялась за нелегкий труд сохранить мою жизнь. По ее настоянию я выпивал в день галлон ключевой воды и от этого чувствовал себя еще хуже.
Как раз тогда всю страну взволновало предательство Бенедикта Арнольда. Некоторое время Арнольд был не у дел. Его несправедливо обошли с повышением. Из-за поврежденной ноги его сочли непригодным для командной должности. И Вашингтон назначил его военным губернатором Филадельфии — после того, как оттуда ушли англичане.
На этом посту Арнольд держал себя подобно римскому проконсулу, не хватало только ликторов по бокам. Властный, вздорный характер стал еще хуже из-за бесконечного пьянства. Тем не менее ему удалось жениться на самой красивой девушке в городе, на Пегги Шиппен, чья семья пригревала меня в дни сиротского детства. Как большинство мелких американских дворян, Шиппены были тори и настроены проанглийски. Когда англичане заняли Филадельфию, Пегги чуть не вышла замуж за красивого английского офицера, майора Андре.
Беспечный, продажный, грубый Арнольд все время вздорил не только с ассамблеей Пенсильвании, но и с конгрессом; хотя эта группа жуликов вполне могла признать Арнольда за своего, но с ней надо было держать ухо востро. Против него выдвигали разные обвинения. В конечном счете его оправдали, но сутяжничество еще больше его озлобило. Чтобы умиротворить Арнольда, Вашингтон предложил ему заманчивую боевую командную должность. Арнольд предложение отклонил: у него было плохо со здоровьем. Он брался за командование в Вест-Пойнте на Гудзоне — ничтожный пост для важного генерала. Пораженный Вашингтон указал Арнольду, что гарнизон Вест-Пойнта состоит из инвалидов и вся работа там — наблюдение за рекой и информационная служба. Но именно поэтому Арнольд и рвался получить назначение в Вест-Пойнт.
Оказывается, Арнольд стал английским шпионом о собирался сдать Вест-Пойнт врагу. Он бы в этом вполне преуспел, если бы мы не поймали английского шпиона, майора Андре, с компрометирующими Арнольда документами. Вашингтон, Лафайет и Гамильтон прибыли в Вест-Пойнт. Арнольд в панике бросил прекрасную Пегги на произвол судьбы и спрятался на борту английского корабля «Ястреб».
Пегги обезумела: она неистово кричала на Вашингтона, обвиняла его в убийстве ее ребенка, объявила, что отец ребенка — Гамильтон, к явному замешательству молодого сатира. Могу себе представить вдумчивый, унылый взгляд Его превосходительства, когда он взвешивал все за и против в этой щекотливой ситуации. В конце концов Вашингтон отправил Пегги под военным эскортом домой в Филадельфию. Вот и все, что было нам известно, когда мы сидели в Парамусе осенним вечером и услышали у подъезда стук конских копыт и шум прибывшего экипажа.
Слуги открыли дверь. Теодосия встревожилась. Я тоже. Не англичане ли это?
Из залы донесся пронзительный крик. В дверях появилась женщина в вуали.
— Утюг! Горячий утюг! — звенел ее Голос. Она качнулась. Теодосия бросилась поддержать давнюю свою подругу Пегги Шиппен-Арнольд.
Слуги и дети смотрели, широко открыв глаза, как Пегги пошатываясь подошла к дивану у камина.
— Мое дитя! Они убили мое дитя!
Но в комнату заглянула няня с ребенком и спокойно сказала:
— Ребенок у меня. Он хочет спать.
Теодосия велела слуге приготовить постели для матери и ребенка. В комнату вошел майор Фрэнкс из штаба Вашингтона и отдал мне честь.
— Мы рады принять вас всех. — Смущенная Теодосия распорядилась приготовить комнату майору. Тот поднялся наверх и шепнул мне на ходу:
— У нее снова припадок. Это пройдет.
Пегги тем временем расположилась у камина. Она была прелестна, несмотря на растрепанные волосы и горящий безумный взгляд. Теодосию она знала всю жизнь и относилась к ней, как к старшей сестре.
— Вот он, убийца! — Пегги показала на меня длинным пальцем. Это было необычайно эффектно. Потом я весьма успешно пользовался тем же жестом и тоном во время судов над убийцами.
Брови Пегги взметнулись.
— Утюг! Горячий! Горячий! Горячий, как пламя ада!
Это было слишком, даже в устах безумицы. Теодосия приложила палец к губам и выслала всех, кроме меня, из комнаты.
Пегги, не снимая вуали, долго рыдала. Затем быстро вытерла глаза и сказала:
— О боже, Теодосия, еще один такой день, и я правда сойду с ума. Здравствуйте, Аарон. Мы не виделись с тех пор, как…
— Вы были еще ребенком. Ну, что же с горячим утюгом? — спросил я, не сдержавшись.
— Заметно остыл, благодарю вас! — Пегги расхохоталась и стала прежней милейшей девушкой.
Теодосия была поражена еще больше, чем я.
— Ты правда здорова, Пегги?
— Конечно, здорова.
— Она просто устроила спектакль. — Я так и подозревал с минуты ее появления.
— Лучше спектакль, чем тюрьма. — Пегги холодно посмотрела на меня. — Как Аарон?
— В каком смысле? — Теодосия ничего не понимала в таких вещах.
Я кое-что понимал.
— Она имеет в виду, не расскажу ли я генералу Вашингтону, что она его одурачила. Нет, не расскажу. То есть не расскажу, если Пегги не попытается и нас одурачить.
— Никогда! Разве что будет необходимо. Вы не тори, нет?
Я сказал, что я не тори. Я был предан Революции с первого дня, значит, был настоящим вигом.
Пегги скорчила гримасу.
— А я возненавидела вашу «Революцию» с самого первого дня.
— Очевидно, генерал Арнольд тоже? — Это было дерзко, но и Пегги была сама дерзость.
— С первого ли дня, не знаю, — ответила она спокойно. — Мы встретились позже. Но я знаю, как плохо с ним обошелся конгресс и мистер Вашингтон, который… — Она вдруг расхохоталась, и я испугался, что она собирается осчастливить нас новой сценой сумасшествия, но она просто веселилась. — Видели бы вы Его превосходительство! Когда я поняла, что муж в опасности, я бросилась на постель. Мне нужно было убедить всех, что я ничего не знаю о том, что происходит. И я закричала, что полковник Вэрик хотел убить моего ребенка, и что раскаленный утюг жжет мне голову, и…
— Откуда ты взяла этот несчастный утюг? — полюбопытствовала Теодосия.
— Вычитала в каком-то рассказе про бедную женщину в Бедламе. Утюг! Горячий утюг! — Пегги кричала, пока мы не умолили ее замолчать. — Я притворилась, что не узнала генерала Вашингтона, а он напугался до смерти и послал за мистером Гамильтоном, эдаким молодым красавцем, гусаком…
— Пегги! — Теодосию, очевидно, смутило сравнение наших бесценных полковников с гусаками, пусть даже молодыми красавцами.
— О, настоящий гусак, поверь. С ним я вела себя по-другому. Мы были tête-à-tête. И я говорила с ним заговорщически. На мне была красивая кружевная ночная рубашка, из Лондона. Мне ее прислал прошлым летом майор Андре. — Пегги нахмурилась. — Его ведь не расстреляют?
Мы тогда не знали, что майора Андре уже повесили как шпиона.
— Думаю, что расстреляют. — Я сам не сознавал своей жестокости: потом мне рассказали, что Пегги и майор были любовниками до ее замужества, и что их связь продолжалась и позже, и что Пегги помогла Андре совратить мужа. Очутившись между женой, игравшей на его оскорбленном самолюбии, и майором Андре, предлагавшим ему деньги и повышение милостью короля (в английской армии), нестойкий человек перешел на сторону врага и, будучи хорошим командиром, причинил нам немалый ущерб на поле боя, прежде чем французы одержали для нас победу. Я уже говорил, что Арнольд был превосходный командир.
— Конечно, майора Андре можно обменять на генерала Арнольда. — Я не удержался от искушения поддразнить несчастную Пегги. Все-таки она была преданна и своему безумному супругу.
— Англичане никогда его не отдадут. Даже в обмен на майора.
Мы с Теодосией нередко вспоминали потом эту сцену, размышляя над сложнейшей дилеммой, перед которой очутилась Пегги. Жизнь давнего любовника и жизнь нового мужа вдруг оказались на разных чашах весов.
Пегги была необыкновенная умница. Тому свидетельство — быстрота, с какой она одурачила сразу Вашингтона, Гамильтона и Лафайета. Но уже тогда она была профессиональной шпионкой. Потом, в Лондоне, я узнал, что в 1782 году она получила около 400 фунтов от английского правительства за оказанные услуги. Главной из этих услуг было то, что она вышла замуж за Бенедикта Арнольда и превратила продажного мятежника в чудовищного предателя.
В ту ночь в Парамусе Пегги торжествовала и, верно, поздравляла себя с успехом. А ведь она погубила мужа, потому что англичане явно проигрывали войну. Но видимо, она была из тех лихорадочных натур, что чувствуют себя счастливыми лишь в отчаянном, лучше даже в обреченном положении, когда можно сыграть яркую роль, уподобляясь Жанне Д’Арк. Она страстно увлеклась политикой. Ее отец был филадельфийский судья-тори, и в его кругу она научилась лютой ненавистью ненавидеть всех, кто ставил под сомнение английское величие и права собственности.
Похожая на красивого мальчишку, поставив ножку на каминную решетку, Пегги рассказала о своем разговоре с полковником Гамильтоном в Вест-Пойнте.
— Я сказала, что ничего не знаю о деятельности мужа. И разрыдалась, правда негромко, прижимая его руку к своей груди. Он очень влюбчивый, да?
Я вежливо взглянул на нее. Я тогда не знал о «влюбчивости» Гамильтона. Потом-то он прогремел своим… чуть не написал «распутством», но мне ли клеймить главное наслаждение в жизни? Надо сказать, Гамильтон с женщинами вел себя глупо и слишком часто ставил в весьма затруднительное положение своих сторонников, не говоря уже о благородной многострадальной жене из семьи Скайлеров.
— Ну вот, я убедила его, что просто хочу вернуться домой в Филадельфию, к своей семье. И доверилась его милосердию. Он так растрогался, что нежно положил свою свободную руку мне на плечо…
— Пегги, выпороть тебя некому! — сказала Теодосия со свойственной ей прямотой; она лучше меня знала людей.
— Ну, почему ты сердишься?
Пегги нравилось подшучивать над подругой и хотелось расшевелить меня.
— Я сказала ему, что боюсь толпы. Что боюсь за свою жизнь. — Она нахмурилась. — И я сказала правду. Я действительно боюсь. Что сделают со мной виги в Пенсильвании?
— Будут приглашать тебя на все свои балы и попросят исполнить роль Офелии. — Теодосию все это развлекло гораздо меньше, чем меня.
— Полковник Гамильтон пообещал добиться для меня приема у генерала Вашингтона, и он не солгал. Потом у меня состоялся почти такой же разговор с маркизом де Лафайетом. По-французски!
Вошел слуга и вызвал хозяйку дома. Когда Теодосия вышла, Пегги потянулась, как кошка, перед камином.
И посмотрела мне прямо в глаза, как в детстве, когда хотела настоять на своем.
— Ну? — сказала она.
— Что «ну»? — Я не откликнулся на призыв.
Она подошла ко мне. Взяла мои руки в свои и посмотрела мне в глаза.
— Зря я столько болтала. Обычно я себе этого не позволяю.
— Нет, отчего же, все очень мило.
— Вы нас не одобряете?
— Нет.
— Я ненавижу врагов Англии! — В ее голосе была неподдельная страстность. — Во что ваш виргинский болван превращает наш мир!
Я уверил ее, что, когда война кончится, мир останется нашим, только без неприятной необходимости платить налоги Англия. Но она мне не поверила.
— Он будет не наш, его приберут к рукам лесные дикари и городской сброд. Они заберут все! — Пегги говорила, ну прямо как современные нью-йоркские дамы, осуждающие Эндрю Джексона. Только она-то не просто осуждала, она всем пожертвовала.
— Кто бы ни владел страной, Пегги, вам в ней не будет места. Англичане уйдут домой, и вы уедете с ними и не вернетесь.
— Я верю в победу. Но если мы не победим, конечно, я уеду. — Она стояла так близко, что я слышал запах ее дыхания, тот женский запах, оттенки которого я еще тогда научился соотносить с лунными фазами. Она попыталась привлечь меня к себе, но я высвободился.
— Я женюсь на Теодосии.
Пегги метнула в меня взбешенный взгляд и плюхнулась в кресло у камина.
— Она вам в матери годится!
— Не думаю, — Теодосия была старше меня на десять лет. Ее покойный муж служил полковником в английской армии. У нее не было состояния. Я понимал, что в глазах общества это для меня совершеннейший мезальянс. Но в Теодосии я нашел все, что мечтал найти в женщине, верней, почти все. Перед смертью же она подарила мне вторую Теодосию и — на короткое время — сделала мое счастье полным. Однако, признаюсь, в тот вечер мне не слишком польстила насмешка Пегги.
— Теперь вы предадите меня. — Ее лицо стало глупым от страха.
— Это невозможно. Вы же доверились мне.
Короче говоря, Бенедикт Арнольд оказался дураком, а Пегги — еще большей дурой. Опасаясь, как бы я ее не разоблачил, она быстро сочинила, будто я приставал к ней в Парамусе. Это в ее характере. Я же хранил ее секрет до сего дня.
Хочется думать, сдержанность — в моем характере.
1834
ГЛАВА ПЕРВАЯ
Около полудня дверь в контору распахнулась. Леденящий воздух наполнил комнату. Только что написанное резюме мистера Крафта спланировало к камину. Один из молодых клерков рванулся захлопнуть дверь, но обнаружил в ее проеме раскрасневшегося Аарона Бэрра с двумя плотного сложения мужчинами, у которых был довольно утомленный вид после долгой прогулки по холоду. Руки и щеки у них горели.
Полковник же просто выглядел посвежевшим.
— Вот и я! — приветствовал он нас. — Как видите, вернулся!
Бодр, как всегда; даже ходит без палки.
Бэрр провел людей к себе в кабинет, на ходу распоряжаясь, чтоб ему принесли нужные бумаги.
Мистер Крафт сдержанно ликовал.
— Им не сломить полковника. — Угрюмое лицо выражало мрачную многозначительность.
— Вы имеете в виду мадам и Нелсона Чейза?
Мистер Крафт покачал головой. Мрачное, многозначительное выражение лица у него, видимо, способ прикрывать неуместный восторг, хотя мне не часто приходилось наблюдать такое за пять лет совместной работы с ним. Он редко вступает со мной в разговоры, и то только о делах или о погоде. От погоды, по его мнению, многое зависит.
— Сама жизнь! — воскликнул мистер Крафт. То есть, по-видимому, «сама жизнь» не сломила Аарона Бэрра. Я не стал вдаваться в смысл высказывания.
— Постарайтесь изучить его… — мистер Крафт понизил голос, чтобы его не услышали клерки, — стиль. В свое время он был первым джентльменом Нью-Йорка. И одним из первых джентльменов в стране.
— Он был вице-президентом…
— Джентльменом, мистер Скайлер, а не чиновным жуликом! Его отец, его дед, его прадед — все предтечи были великими богословами и ректорами университетов. Вот почему ему так завидовал Гамильтон, этот… — зашептал он мне в ухо, — этот ублюдок из Вест-Индии! Как они все ему завидовали! Князи из грязи завидовали ему, Аарону Бэрру, нашему первому джентльмену.
Только теперь, после долгих лет совместной работы, мистер Крафт показал себя классическим нью-йоркским снобом. На меня его тирада не произвела впечатления, я всегда считал, что самое привлекательное в Александре Гамильтоне — его незаконнорожденность. И «богословы» на меня не действуют.
Из соседней комнаты послышались раздраженные голоса. Затем я услышал свое имя — полковник Бэрр звал меня. Я вошел.
— Я хочу, — резко заявил один из мужчин, — чтобы мне вернули мои деньги.
— А я больше всего на свете хочу выплатить вам деньги, — сказал полковник Бэрр учтивейшим тоном, отработанным пятью поколениями «богословов». — Но пока я не могу этого сделать. Мистер Скайлер, сейчас я займусь с вами. Джентльмены, всего вам наилучшего.
Полковник Бэрр в веселом расположении духа закрыл дверь за своими кредиторами.
— Сегодняшние занятия мы должны увенчать чем-нибудь поистине глубоким.
Он откусил кончик сигары.
— Ты читаешь Гиббона?
— Уже третий том, — соврал я.
— Вечером буду тебя по нему гонять. В Парк-тиэтр. Я купил билеты на неповторимую мисс Фанни Кембл и ее отца в пьеске под названием «Горбун».
Я выразил неподдельный восторг. Я уже видел мисс Кембл в этой роли в сентябре прошлого года, это был ее дебют, и она покорила город. На сцене она поразительна, хоть и некрасива. Считается, что она похожа на свою тетку миссис Сиддонс.
Полковник Бэрр закурил сигару и протанцевал какое-то замысловатое па.
— Свободен! — пропел он. — Свободен!
Затем он доверительно сообщил мне, что покинул Холмы «окончательно и бесповоротно».
— Золотое сердце у мадам. Ей-богу! Можно даже сказать, что то, чем набит ее кошелек, бьется в ее прекрасной, благородной груди. Тук-тук, это стучит золото, Чарли, ах, какой звук! Мир пляшет под этот перестук.
Еще одно па, и он оказался в своем кресле, за письменным столом. В камине горел огонь. Я вдруг подумал, что вижу счастливого человека. Но чему он так радуется?
— Мы не сошлись характерами и решили пожить врозь. Временное прекращение брака. Мне нужна городская жизнь. Мадам счастлива лишь в резиденции, принимая Бонапартов. Возможно, она попытается развестись со мной, хотя не думаю. Я обещал возместить ей потерю четырех кляч. Да, не забыть бы послать ей бочонок лососины. Она ее очень любит. Моя первая жена тоже ее любила.
Полковник закрыл глаза. Взгрустнулось? Предался воспоминаниям? Ничуть.
— Ты подготовил подробную справку по делу де Пейстеров?
— Я начал, только…
Сквозь дым сигары он послал мне типичный бэрровский афоризм:
— Великолепно, Чарли. Не делай сегодня того, что можно отложить на завтра, ибо кто знает, что еще может подвернуться.
Мисс Кембл была превосходна в роли Джулии. Ее отец эффектно играл Горбуна. Новые декорации поражали пышностью: золото и пурпур на кремовом фоне, портрет Шекспира над аркой просцениума, а по обеим сторонам сцены, там, где прежде были зеркала, — музы, Комедии и Трагедии.
Разочаровывала только публика. В полупустых ложах сидела знать, в том числе мы с полковником. Партер же кишел шумными пьяницами, завербованными на Файв-пойнтс, чтобы освистать не актеров, нет — это вызвало бы просто бунт, — но администратора, мистера Эдмунда Симпсона, который якобы предпочитает английских актеров американским — вот уж чепуха, ибо он больше всего носится с нашим собственным Эдвином Форрестом. И все из-за глупого соперничества между Парк-тиэтр и Бауэри-тиэтр. Тамошний администратор Том Хамблин и нанял этих хулиганов, чтобы они орали и блеяли, особенно во время оркестровых интерлюдий. Они заглушают весь оркестр, кроме тупицы по прозвищу Барабан. Между тактами мистер Барабан спит, не замечая ни грохота в партере, ни дирижера. Но он умудряется честно вести свою партию. Его барабан самый громкий в Нью-Йорке. Бауэри-тиэтр заручился и поддержкой «Ивнинг пост». Сам Леггет принялся нападать на Парк-тиэтр. Понятно, мистер Симпсон не пускает его в театр. А Бауэри-тиэтр в поисках дешевой популярности сменил название на «Америкэн тиэтр», полагая, что никто не посмеет нападать на то, что прикрыто звездно-полосатым покрывалом.
Во время антракта я стою с полковником Бэрром у выхода на Бродвей, к церкви св. Павла. Храм освещен. Служба? Меж золотым сиянием, льющимся из окон храма, и белесым отсветом из театрального вестибюля большие снежинки, словно пух, медленно кружась, падают на землю. Полковник, как всегда, делает вид, что внимательно меня слушает, не отрываясь смотрит на мои губы, будто ловит каждое слово. Это нужно ему для того, чтобы обезопасить себя от чьей-нибудь выходки.
— Она прекрасное животное, Чарли!
Мисс Кембл восхитила его, но найдется ли мужчина, которого оставит равнодушным ее сильный, женственный голос? Я написал статью об игре актрисы, статью предполагает опубликовать «Миррор».
— А я-то думал, полковник, что вы верите в женскую душу, а не в животное начало, — съязвил я.
— У души есть плотская оболочка. Кроме того, еще неизвестно, может быть, и у животных есть душа. Многие люди, несмотря на свою бессмертную душу, — настоящие звери.
Пока мы говорили, я оглядывал зал. Те, кто постарше, заметили полковника и смотрели на него как зачарованные, а некоторые даже с ужасом. Молодым не было до него никакого дела. Ложи в Парк-тиэтр в основном занимают богачи. Они ненавидят президента, обожают Клея и Уэстера. Я пишу сейчас о политике не потому, что меня занимает, как голосует публика, наполнившая Парк-тиэтр, а потому, что меня дважды толкнул бородач в очках с толстыми стеклами. Первый раз я просто отодвинулся. Второй раз, когда он наступил мне на ногу, я гневно повернулся и в ту же минуту узнал под темной окладистой фальшивой бородой Уильяма Леггета.
— Ну, чем я не пророк Исайя?
— Не знаю, как выглядел пророк Исайя.
Он здорово отдавил мне палец. Затем я представил его полковнику Бэрру. Тот был милостив и величав, как лорд Честерфильд в сопровождении пажа.
— Меня здесь нет, — прошептал Леггет. — Симпсон пригрозил мне дуэлью. Я буду драться тростью. Он — глаголом.
Леггет вдруг умолк: в доме повешенного не говорят о веревке.
Но полковник был невозмутим.
— Очень разумный выбор оружия. Лично я всегда ненавидел дуэли.
— Еще бы. Варварство. Но… — Леггет запнулся. Фальшивые бакенбарды сдвинулись, усы сползли на нижнюю губу.
— Но в давние варварские времена у нас не было выбора. Это считалось делом чести.
Леггет поправил бороду.
— Однако вам везло, полковник. Вы прекрасно стреляли, и поэтому в те варварские времена преимущество было всегда на вашей стороне.
Леггет хватил через край, но полковник обошелся с ним в своей обычной любезной манере.
— Я редко делаю попытки опровергнуть легенду. Да это и невозможно. Но вам я открою одну тайну.
Глаза у Леггета загорелись. Он наклонился к полковнику.
Бэрр выдержал таинственную паузу.
— Несмотря на годы, проведенные в армии, мистер Леггет, я с двадцати шагов не попаду и в амбарную дверь.
— Вы скромничаете, сэр.
Бэрр засмеялся.
— Вовсе нет. Просто мне, наверное, очень везло. Несколько лет назад в Ютике в одной компании меня попросили показать свое искусство. Я ссылался на нездоровье. Они настаивали на том, чтобы Аарон Бэрр продемонстрировал свою меткость. Я показал им зарубку на дереве поодаль. Хотите, мол, попаду в нее? Еще бы! — Глаза у Бэрра засверкали. — Так вот, почти не целясь, с первого же выстрела я попал в самую середину зарубки.
— Вот видите… — начал Леггет.
— Дело в том, — закончил Бэрр, — что мне повезло. Не более. Зрители были в восторге. Они приготовили еще одну мишень, но я отговорился. И в Ютике до сих пор есть люди, которые об заклад будут биться, что я самый меткий стрелок на свете.
— Но ведь вы и в других, не менее примечательных случаях попадали в цель?
Я чуть не задушил Леггета тут же в вестибюле.
На лице у полковника все еще была мягкая улыбка, но голос у него как-то поскучнел, хотя и не утратил дружелюбия.
— Мистер Леггет, главное различие между моим другом Гамильтоном и мной состояло в том, что в роковой момент у него дрогнула рука, со мной же этого не случается.
За зеленым суконным занавесом прозвенел колокольчик. Мы вернулись на свои места. Головорезы неистовствовали в партере. Барабан спал на своем табурете. Оркестр замер, масляная лампа померкла, и занавес поднялся. Но я думал не о спектакле, а об удивительной прямоте полковника Бэрра. Сегодня он впервые заговорил о дуэли.
После спектакля полковник колебался, засвидетельствовать ли ему свое почтение папаше Кемблу, которого он знал, дабы познакомиться с дочкой Кембл, с которой он знаком не был. В конце концов он решил не ходить за кулисы.
— Слишком поздно, да и потом мне нужно ехать в Джерси-Сити.
Я помог ему надеть пальто. Легкий снегопад сменился холодным сильным ветром, он дул с реки Норт и хлопал ставнями расположенного по соседству музея. На Бродвее скопились кареты, ожидающие театралов. Мы с полковником подошли к св. Павлу (служба кончилась). На углу Фултон-стрит мы почему-то увидели уже безбородого Леггета, а ведь его собирался подвезти какой-то приятель.
— Не понимаю, что произошло.
— Возможно, — сказал полковник ровным голосом, — он не узнал вас без бороды.
Леггет засмеялся, закашлялся.
— Без бороды на меня мог бы напасть какой-нибудь страшный глагол.
— Например, «умереть»? — спросил полковник. — Время для всех нас его заготовило.
— Ну, как тебе понравились Кемблы? — Я переменил тему.
Леггет сказал, что Кемблы ему очень понравились, а я сказал, что мне кажется позорным, что «Ивнинг пост» продолжает на них нападки из-за распри между администраторами.
Пока мы спорили, полковник быстрым шагом направился по Фултон-стрит к пристани. Мы поспешили за ним.
Узнав, что полковник едет в Джерси-Сити, Леггет удивился.
— Но ведь поздно. Паромы уже не ходят. И надвигается шторм.
Миновав мрачную громаду Вашингтонского рынка, мы вышли на Вест-стрит.
— Эфраим! — крикнул Бэрр.
— Здесь, полковник.
Мы спустились к небольшой лодке, где нас ждал сын одного из друзей полковника по Революции.
— Чудесный вечер, Эфраим.
— Лучше не бывает, полковник.
Эфраим стоял во весь свой огромный рост в темной лодке и тянул за причальный канат, пока лодка, подпрыгивая в бурлящей воде, не пристала к сходням.
— Боже праведный, ну и холод! — Леггет не мог справиться с ознобом.
Полковник оперся на руку Эфраима и ловко прыгнул в лодку. Эфраим отчалил, полковник нам помахал.
— Ну что, мальчики, теперь видите, в чем радость жизни?
— Я замерзаю. — Леггет до ушей закутался в плащ.
Полковник Бэрр услыхал его, несмотря на ветер.
— Нацепите бороду, мистер Леггет. Она вас согреет.
В следующее мгновение лодка с полковником растворилась в промозглой тьме, а мы с Леггетом галопом пронеслись до самой Томас-стрит, и мадам Таунсенд поила нас в гостиной яблочной настойкой «Округ Колумбия» до тех пор, пока мы не отогрелись.
Леггет с невольным восхищением говорил о полковнике Бэрре.
Мадам Таунсенд одарила нас загадочной улыбкой.
— Я весь вечер читала его дедушку. И вообще я часто читаю Джонатана Эдвардса. Люблю острые ощущения.
Мадам Таунсенд ищет в вере драматизма. Прежде чем мы смогли ее остановить, она вытащила том из стопки книг на полу около софы. Страницы были заложены бумажными полосками. Она сделала вид, будто открыла книгу наугад, и начала читать: «Дети кажутся нам существами невинными, но, если не пребывают во Христе, и они в глазах божьих всего лишь змееныши, молодые змееныши».
— Молодые змееныши, — повторила она с чувством.
Известно ее отвращение к детям. Однажды, когда на улице какой-то ребенок ухватил ее за юбку, она вырвалась и завопила: «Нечисть!» Можно было подумать, что она имела в виду свою юбку или свою душу. Но тем, кто ее хорошо знает, ясно, что она имела в виду ребенка.
«Станут ли дети… которые жили и умерли, не зная мучений до самых врат адовых, благодарить родителей за то, что те не предупредили их о том, что им угрожает?»
— Какая гадость, — сказал Леггет. — Если так воспитывать ребенка, он предаст и бога и людей.
— Ну, полковника не назовешь предателем бога и людей, — встал я на защиту Бэрра.
Но мадам Таунсенд не покончила еще с Джонатаном Эдвардсом. Она открыла толстенный том, сдула пыль со страницы, вызвав припадок кашля у Леггета, и стала неумолимо читать: «Да будет ведомо, что, ежели жизни наши не путешествие в рай, они путешествие в ад». Она долгим взглядом посмотрела на Леггета.
— Это не просто пыль, — сказала она театральным шепотом, — но прах от праха. — Он перестал кашлять. — «Есть два великих пристанища для всех, кто покидает этот мир: одно — рай, куда немногие, очень немногие попадают». Ах, мистер Леггет, обратите внимание на этих немногих.
— Я лучше обращу внимание на Черную Бесс.
— У нее сейчас месячные. Но у нас есть кое-кто получше: молоденькая, из Огайо. — Тон у нее стал деловитый. Потом она снова обратилась к книге: — «А другое — ад, где собирается большинство… большинство… большинство человечества. И лишь в одно из этих мест попадем мы в конце путешествия, это нам предначертано». — Она замолкла, книга мягко захлопнулась, в свете лампы взметнулся хоровод пылинок.
— Мне говорили, мистер Леггет, да и вас, мистер Скайлер, это касается (значит, и меня заодно туда же, в ад), что Джон Рэндольф из Роанока, а он лежал на смертном одре в цилиндре, вдруг сел и стал повторять: «О муки совести, муки совести!»
— Рэндольф был псих и евнух. А я ни то, ни другое, милейшая мадам Таунсенд.
Леггет горячился. Мне было не по себе. Мадам Таунсенд раздвинула высохшие губы в улыбке, обнажив желтые клыки, и позвонила прислуге.
— Джентльмены, мы вас порадуем кое-чем новеньким.
Но тут она вспомнила.
— А для вас, мистер Скайлер, у нас припасена «старая» новинка. Так наслаждайтесь же… в этом мире.
И когда появилась прислуга, чтобы проводить нас в преддверие ада, мадам Таунсенд снова раскрыла «Свободу воли» Джонатана Эдвардса (он-то, конечно, в нее не верил).
Элен очаровательна, но зиму она ненавидит. Ждет не дождется весны, хочет уйти от мадам Таунсенд. Я обещаю помочь ей найти работу, и не лгу, ибо — уже потом — я говорю, что наведу справки у друзей, у которых есть знакомые портные. Она сказала, что хочет посмотреть Вокс-холл-гарденс. Я обещаю повести ее туда, как только будет хорошая погода.
Почему никто из моих знакомых девушек, ну, не привлекает меня столь сильно, как она? Хотя я и знаю, что она точно так же привлекает (нет, не может быть, не точно так же) всех, кто согласен за это платить.
Но если рая нет, значит, нет и ада?
Мы с Леггетом покинули Томас-стрит в хорошем расположении духа. Он немного проводил меня. Яблочная настойка и девушки согрели нас, да и северный ветер утих.
— Вот не думал, что полковник так хорошо сохранился.
— Он — замечательный!
— Ты его любишь.
Это прозвучало почти упреком.
— Как тебе сказать? Наверное, люблю. Он ко мне внимателен. А кто сейчас внимателен к кому-нибудь, особенно к молодым людям?
— Тебе удалось что-нибудь обнаружить?
Признаюсь ему, что улов небогат. Про записки о Революции я умолчал.
— А как насчет мистера Ирвинга?
— Он не очень-то разговорчив, осторожничает. Особенно когда речь заходит о Ван Бюрене.
— Хитрый старый кот. Терпеть не могу его мещанские истории.
Нет, это уж слишком!
— Он лучший из наших писателей…
— Быть может, однако не бог весть что. Знаешь, мы только что договорились с Купером, он будет писать для «Ивнинг пост» под псевдонимом.
Месяц назад Джеймс Фенимор Купер возвратился в Нью-Йорк после многих лет, проведенных за границей. Его прибытие осталось почти незамеченным, Ирвинг в отличие от него взял город приступом. Но Ирвинг деликатен, а Купер рад ткнуть своих земляков носом в их недостатки. Чересчур уж он хлесткий для наших ура-патриотов.
— Ты знаешь, — сказал Леггет, — я тщательнейшим образом изучил строение головы полковника Бэрра и теперь совершенно уверен, что он отец Ван Бюрена.
Леггет помешался на новой науке — френологии. Если ей верить, то все черты характера можно определить по шишкам на голове. Он даже предложил мне написать о френологии для «Ивнинг пост». Но сейчас последнее слово за мной.
— Мне интересней изучать, что происходит внутри головы полковника. Это единственный способ узнать, кто он такой и кем он приходится Ван Бюрену.
— Ага, ты перенял стиль полковника. — Он попал в точку. — Надеюсь, и у тебя рука не дрогнет.
Леггет галопом понесся по улице, фальшивая борода выпала у него из кармана на заиндевевшие булыжники, где и осталась лежать, словно дохлая кошка.
ГЛАВА ВТОРАЯ
На дворе апрель. У меня все не было времени — нет, время-то было, но не было охоты — продолжать эту летопись.
Полковник живет то в Джерси-Сити, то в конторе. Насколько я могу судить, от мадам не было никаких вестей. Нелсон Чейз перешел в другую адвокатскую контору. Не знаю в какую. Говорят, он работает у Александра Гамильтона-младшего. «Чисто сработано», — сказал бы полковник.
У полковника превосходное настроение. Он взялся за несколько новых дел. Но стал рассеян. Недавно клиентка заплатила ему 50 долларов, он положил деньги в словарь. Уходя из конторы, он стал шарить у себя по карманам.
— Чарли, у меня нет денег. Ни цента. И банк закрыт. У тебя не найдется десяти долларов?
— Нет, сэр. Но у вас пятьдесят долларов в словаре.
Он вздрогнул, открыл словарь и вынул деньги, которые недавно туда положил.
— Ты мой благодетель. Прямо как с неба свалились.
За непринужденностью я разглядел растерянность: когда его блистательный ум бездействует, Бэрр — ничто. Но память полковника на прошлое остра, как всегда. Вскоре после Нового года (1834 год, по предсказанию цыганки, будет лучшим годом моей жизни; правда, она говорила то же и накануне 1833 года) полковник спросил, что я думаю о его записках о Революции.
— Что это такое — «Ослиная история»?
Бэрр тупо уставился на меня.
— «Ослиная история»? А-а. — Он засмеялся. — Я рассказываю ее только детям, а ты уже вышел из детского возраста. Это очень длинная история об осле, на котором я ехал от Вест-Пойнта до Ньюберга. Мне нужно было на юг. Осел хотел на север. Мы сошлись на западном направлении, пройдя через штольню. Если бы ты был моложе, я бы пустился в подробности и звукоподражание.
Потом он сказал, что собирается подиктовать мне свои воспоминания.
— Пока они еще живы в моей памяти.
Что ж, я готов, я жажду; но он никак не начнет, тянет.
Леггет пригласил меня на ленч в гостиницу «Вашингтон-холл». За нашим столом были Вашингтон Ирвинг, конгрессмен-литератор Гулиан К. Ферпланк (в данный момент кандидат в мэры от антитамманской группировки) и Фицгрин Халлек. Мистер Купер и мистер Брайант тоже хотели прийти, но не смогли.
— Купер не переносит Ирвинга, — шепнул мне на ухо Леггет, когда мы рассаживались, — а Ирвинг не переносит всех, но он великолепный актер.
— Я так хотел встретиться с моим старым другом Купером. — Ирвинг был сама искренность. — Он не только великий — он хороший человек.
Официант, подавая мясо, задел плечо Ирвинга, подливка капнула на рукав.
— Это вам не «Холланд-хаус», — сказал Халлек, имея в виду, наверное, какой-то роскошный английский ресторан.
— Еда отличная. — Ирвинг мрачно стирал подливку.
Ферпланк заговорил о нападках на Ирвинга в «Норт америкэн ревью». Ирвинг сделал вид, что не читал статьи.
— Они утверждают, что вы черните Америку и хвалите все английское. Надо же! И это вы, вы, которому Америка обязана всей своей литературой. Правда, чуточку за счет бедных голландцев, нас грешных…
Ферпланк — человек прямой и язвительный.
— Мне кларета. — Ирвингу наконец удалось привлечь внимание официанта, но он тотчас отпрянул, когда официант плеснул вино в пыльный бокал.
Ферпланк, наслаждаясь подробностями, рассказывал об ужасных нападках на Ирвинга. Но наш литературный лев лишь кивал головой и бормотал для истории:
— Я всегда представлял мою страну за границей. Но теперь я дома… я вижу перемены… успехи… и счастлив представлять их.
Сначала из его фраз стали выпадать глаголы, потом и существительные тоже. Наконец, он смолк окончательно, только потягивал вино, ловко отрезал индейку, и вид у него стал осоловелый.
Леггет задавал вопросы Ферпланку в связи с выборами на следующей неделе. Из-за того что Ферпланк выступал против Джексона, который хочет заменить Банк Соединенных Штатов местными банками, его выкинули из Таммани-холла, но подхватили виги (новое название для всех тех, кто не принадлежит к джексоновским демократам). Ферпланк думает, что его выберут мэром, хотя ему и в конгрессе неплохо.
Леггет обращается к Ирвингу почтительно, хотя и с некоторым вызовом:
— «Ивнинг пост» скоро начнет печатать мистера Купера. Когда же вы будете писать для нас?
Ирвинг заморгал. Прочистил горло.
— Поэзия мистера Брайанта, как мне кажется, уникальна. Выше поэзии Вордсворта. В ней нет вульгарности Байрона и туманности Кольриджа.
Наверное, все знаменитости такие. Они настолько привыкли к затверженным вопросам и ответам, что иногда, не слушая, отвечают невпопад.
Но Леггет не отставал.
— Мы подозреваем вас в демократизме, мистер Ирвинг.
Ирвинг ответил кривой улыбкой. В глубине души он стопроцентный тори. Это видно по его манерам, по любви к прошлому, к изысканному и традиционному, не говоря уж о его окружении: он дружит со всеми богатыми купцами в городе. Но демократия — веяние времени, если верить Леггету. Я-то лично думаю, что Ирвинг ненавидит то, что происходит, однако далее следует:
— Зиму я провел в Вашингтоне. Не выходил из Капитолия. Слышал все дебаты — удачные и неудачные. Какие у нас великие ораторы! Клей, Уэбстер, Кэлхун.
— Все тори, — не сдавался Леггет.
— Все блестящие мужи. Но, — Ирвинг огляделся по сторонам, не слышно ли его в зале (хотя что можно услышать в этом звоне посуды, криках официантов, пререканиях поваров на кухне?), — но заблуждающиеся, как мне думается.
Ирвинг с предельной осторожностью высказался против нуллификаторов.
— Южане, знаете ли, как понаблюдаешь за ними в конгрессе или побеседуешь с глазу на глаз, оказывается — как бы это сказать? — не лишены справедливости. — Ирвинг просто не способен обидеть кого-то из присутствующих. — И в то же время, — опередил он Леггета, — мне ясно, что, если они настоят на своем, наш общий союз развалится.
— А это плохо или хорошо?
Хотя Халлек и славится умом, сегодня он не в ударе. Исподтишка поглядывает на меня. Очевидно, не может взять в толк, как я сюда попал.
— Пожалуй, плохо. — Ирвинг говорит это сухо. — Но Югу, может быть, будет лучше без нас.
Леггет попытался выведать что-нибудь о Ван Бюрене, но Ирвинг сделал вид, что ничего не знает о планах вице-президента.
Фицгрин Халлек тихонько спросил меня, чем я занимаюсь.
— Работаю в адвокатской конторе.
— Все в адвокатских конторах. Но вы-то чем занимаетесь? Литературой или политикой?
— Политику я ненавижу! (А, была не была!)
— Это хорошо. — Халлек улыбнулся. — Я тоже. К тому же к народу я отношусь враждебно. Я считаю, что государственный корабль подобен обычному кораблю: если капитан хочет, чтобы плавание прошло благополучно, пусть не советуется с командой. Вот почему я за короля, любого короля, и чем деспотичнее, тем лучше. Я склоняюсь к римской церкви, потому что так спокойнее: священники целиком отвечают за ваше спасение — только за это им и платят.
Он продолжал в том же духе. Я нахожу Халлека занятным, и, хотя он вроде бы шутит, мне кажется, он вполне серьезен.
Когда мы вставали из-за стола, Халлек что-то сказал Ирвингу, и тот повернулся, посмотрел на меня и утвердительно кивнул. У двери ресторана я посторонился, чтобы пропустить знаменитостей. Но Ирвинг взял меня под руку и провел в фойе.
— Вы произвели сильное впечатление на бедного Халлека.
— Да? — пробормотал я, не понимая, почему Халлек «бедный».
— Вы так похожи на Джозефа Родмана Дрейка. Он был самым близким другом Халлека, жил с ним, работал. А потом вдруг умер. Это было почти пятнадцать лет назад, и Халлек до сих пор не может забыть его. Они были словно Дамон и Пифий, Ионафан и Давид…
Мы вышли на улицу. Халлек тряхнул мою руку и поспешил прочь.
Пока Ферпланк и Леггет говорили о политике, Ирвинг повернулся ко мне:
— Я не забыл вашего интереса к полковнику Бэрру. Хотите взглянуть на Ричмонд-хилл?
Я сказал, что очень хочу. Полковник Бэрр в Олбани, а мистер Крафт привык во второй половине дня обходиться без меня.
Я сел в открытую карету Ирвинга. Леггет и прочие нам помахали, а Леггет по-школярски подмигнул мне, будто меня вызвали к доске. Смущенный всеобщим вниманием, я сел на заднее сиденье. Великий человек кивнул джентльменам, приподнял шляпу, прощаясь с дамами, и карета затряслась по Уолл-стрит.
— Не был в Ричмонд-хилле двадцать лет. Но думаю… Кучер, стой! Стой! — Ирвинг, оказывается, умеет кричать. Кучер осадил лошадей вовремя: из остановившейся впереди кареты величественно ступил на тротуар мистер Астор в горностаях, поспевший из Европы как раз к похоронам жены. Он и сам-то чуть жив, но дела, кажется, у него идут неплохо. Ирвинг с удивительной легкостью спрыгнул на землю; я подумал было, не последовать ли мне его примеру, но остался в карете.
Они стояли в дверях Коммерческого банка, лицом друг к другу, а под ногами у них суетилось поросячье семейство. Мистер Астор слывет любителем литературы и меценатом. Леггет говорит, что он хочет купить наш город под благовидным предлогом. Для этого он нанял Фицгрина Халлека секретарем и компаньоном, и тот поселился в его доме. Работа Халлека — следить за тем, чтобы о мистере Асторе уважительно писали в газетах.
Попрощавшись с Астором, Ирвинг пошел к карете, медленно, как и подобает великому и грузному человеку.
— Мне нужен совет по финансовым вопросам. — Он откинулся на сиденье и вздохнул. — Я питаю слабость к денежным операциям. Результаты всегда убийственные. Бедный, верней, богатый мистер Астор пытается мне помочь. Вы знаете, он стал хозяином Ричмонд-хилла после того, как полковник Бэрр его потерял. Дело в том, что с разделения поместья на участки и началось процветание Астора в Нью-Йорке. Как, кажется, просто, а? Взял и нажил состояние.
Ирвинг много говорил о домах, о собственности и деньгах. Я слушал внимательно. Мне не верилось, что я единственный собеседник знаменитого человека, которого узнавали, с которым здоровались люди в городском парке, высыпавшие погреться на робком апрельском солнышке.
И хотя меня несколько разочаровал практический склад его ума, Ирвинг возмещал это рассказами о днях нынешних и минувших.
— Вот здесь мы, бывало, на уток охотились. Вон за теми домами и сейчас еще тянутся Лиспенардские луга. А за ними был Ричмонд-хилл.
Когда мы поравнялись с проемом между домами, Ирвинг вдруг заволновался.
— Вон он! Видите колодец?
Я не видел ничего, кроме пустого поля. Но Ирвинг силой воображения способен создавать ландшафты.
— Манхэттенский колодец! Ранней весной тысяча восьмисотого года некую Эльму Сэндс нашли мертвой на дне этого колодца. — Щеки его порозовели. Маленькие глазки сверкали. — Молодого Леви Викса обвинили в убийстве. Он заявил, что в убийстве невиновен, а виноват лишь в том, что пользовался добротой Эльмы Сэндс. Город волновался. Два самых блестящих адвоката того времени защищали Викса — Аарон Бэрр и Александр Гамильтон. Я был в зале суда во время выступления полковника Бэрра. Когда он закончил, присяжные и судьи — да и сам дьявол тоже — поверили, что Эльма Сэндс — безнравственная женщина, а Леви Викс чуть ли не юный Галахад.
— Ну, а как на самом-то деле? — Я знаю, как хороший адвокат может влиять на присяжных. Полуденное солнце превращается в полуночную луну, если полковник Бэрр решил, что такое превращение совершится в интересах клиента.
— Кто же знает? Викса освободили. Затем… — Ирвинг повернулся ко мне, и я заметил маленькие прожилки у него на носу. Он даже губы облизал, смакуя воспоминания. — Когда судья, Бэрр и Гамильтон разговаривали друг с другом у здания суда, к ним подошла родственница Эльмы Сэндс и сказала: «Будьте вы все трое прокляты за то, что сделали с памятью Эльмы Сэндс». Вскоре судья исчез из отеля, и больше его никогда не видели. Потом Бэрр убил Гамильтона, а сам вот живет и живет, — голос, чистый и мягкий, отчетливо выделял каждый слог, — под страшным знаком Каина. — Ненаписанный рассказ Вашингтона Ирвинга глубоко тронул меня. Надо спросить полковника, что это за история.
Город все больше и больше наступает на Лиспенардские луга и на земли Ричмонд-хилла (который теперь обрамляют улицы Вэрик и Шарлтон). Но здание осталось, хотя и слегка изменилось с тех пор, как я ребенком был в Гриниче и тут играл.
Недавно срыли холм, на котором стояло здание. Оно теперь на одном уровне с улицами и уже не возвышается лад Гудзоном. Просто большая старая постройка с флигелями. Вывеска над парадной дверью гласит: «Ричмонд-хилл тиэтр». На вывеске поменьше анонс: «„Виргиний, или Освободитель Рима“ с участием Ингерсола».
Ирвинг оглядел новые дома слева и справа. Грустна покачал головой.
— Я впервые переступил порог этого дома, когда полковник Бэрр был вице-президентом. Меня привел сюда мой брат Питер. Треть столетия назад.
Полузакрыв глаза, Ирвинг смотрел на фасад (никаких признаков жизни ни внутри, ни снаружи), словно силой воображения хотел вернуть молодого Бэрра и «маленькую шайку». Так, наверное, Ирвинг смотрел, когда его гений вызывал из Альгамбры дух Боабдиля. Мне нравится, как он пишет, что бы ни говорил Леггет. Как не ценить магию в наш скудный век?
Ирвинг подошел к парадной двери, постучал. Никакого ответа. Он открыл дверь, и мы вошли. Часть бывшего вестибюля была отгорожена и теперь служила фойе. Стены расцвечены афишами на дешевой бумаге.
Ирвинг открыл следующую дверь, и мы очутились в центре запущенного здания. Главную залу превратили в партер, в дальнем конце устроили сцену; на сцене намалевана декорация замка. На бывшей площадке второго этажа полукругом построили ложи.
— Это была Голубая комната, — Ирвинг указал в партер. — Знаете, впервые я увидел жалюзи у полковника Бэрра.
Он осторожно двигался между рядами скамей туда, где была когда-то Голубая комната.
— О! — Ликование. Он обнаружил под побелкой очертания замурованного камина. — Вот здесь он стоял, когда мы с братом пришли после ужина.
Ирвинг вдруг превратился в робкого юнца, несмело шагнул к побеленной стене. Я даже представил себе Аарона Бэрра у камина, подтянутого, темноволосого, элегантного (с сигарой в руке? Нет-нет, в присутствии дам — невозможно).
— Вот там, у ломберного столика, сидел Вандерлин, молодой художник, очень красивый, очень талантливый. Бэрр познакомился с ним, когда тот мальчишкой голодал в Кингстоне. Увидел одну его картину, объяснил, что для успеха в Нью-Йорке ему нужна только чистая рубашка. Однажды в этой самой комнате, — Ирвинг дал волю фантазии, но я слушал как завороженный, трудно представить себе старого Вандерлина молодым и голодающим, — слуга подал полковнику пакет. Он его открыл. Там была грубая, но чистая рубашка. Юноша прибыл. Бэрр заплатил за его обучение, отправил в Париж. — По настоянию полковника Бэрра Вандерлин написал миниатюру моей матери, она до сих пор у меня.
Ирвинг помолчал, взглянул на грязный пол.
— Помню красный турецкий ковер. Мебели было немного. Полковнику пришлось продать все имущество незадолго до отъезда в Вашингтон. Он всегда сидел в долгах.
Ирвинг взмахнул рукой.
— Подумать только, какие здесь бывали замечательные люди.
Я послушно посмотрел на сцену, на ложи, на ряды скамей.
— Во время Революции — Вашингтон. Адамс здесь жил, когда был вице-президентом. А гости! Талейран, Жером Бонапарт, король Луи-Филипп. — Ирвинг произносил знаменитые имена, словно ведьма, творящая заклинания, и мне казалось, что вот-вот на сцене появится сам генерал Вашингтон и запоет «Янки дудль».
— Я даже ущипнул себя тогда, в первый вечер, мне не верилось, что это не сон, что я тут, — Ирвинг передвинулся в нишу слева от камина. Там стояли стремянка и ведро с затвердевшими белилами. — Она сидела вот там. На изящной кушетке, вся в бархате.
Ирвинг на цыпочках приблизился к стремянке. Нежно улыбнулся ведру с белилами.
— Теодосия, — прошептал он, — вы все еще здесь?
Но Теодосия давным-давно нашла могилу на дне морском, и, кроме нас, в руинах Ричмонд-хилла никого не было, не считая пьяного швейцара, который вдруг появился из боковой двери.
— Что вы тут делаете?
— Простите, — начал Ирвинг. — Дверь была открыта. Я бывал здесь, когда это был частный дом.
— Не видишь, что ли? Тут театр. Читать не умеешь? Если хочешь войти, купи билет, как все.
Он надвигался на нас. И хотя Ирвинг всячески старался задобрить швейцара, тот и слушать не хотел про Аарона Бэрра и Вашингтона Ирвинга, он твердо знал, что перед ним воры. И он нас выпроводил.
Ирвинг ни на минуту не замолкал всю дорогу до самого города. Вероятно, Теодосия была несравненна. Образованная, умная, красивая, она играла роль хозяйки за столом отца, когда ей было всего четырнадцать лет. (Я бы, наверное, от такой девушки просто бегал.) И все попадали: под ее обаяние.
Когда Теодосии исполнилось не то десять, не то одиннадцать лет, у нее умерла мать и она осталась единственным близким отцу человеком.
— Он больше никогда никого не любил. — Ирвинг вторил мадам. Весь Нью-Йорк, кажется, такого мнения: о, какая романтика!
— Полковник пришел в отчаяние, когда она вышла замуж за мистера Олстона и тот увез ее в Южную Каролину, в такую даль. Мне кажется, они последний раз виделись в Ричмонде, в штате Виргиния, во время суда по обвинению его в государственной измене. Признаюсь, он был великолепен! Герой дня. Теодосия была рядом с ним словно… словно царственная супруга! А как мы все, молодые, ему поклонялись!
И так далее, в том же духе. И снова он пообещал найти свои записки о процессе.
Лишь упомянув имя Леггета, я сумел вернуть Ирвинга от блестящего прошлого к скучному, но важному для меня настоящему.
— Мистер Леггет — резкий молодой человек. Но образованный. Очень образованный. Конечно, его политические взгляды, так сказать… — Ирвинг сделал движение кистью, словно обмахивался веером.
— Я думаю, Леггет будет противником мистера Ван Бюрена.
— Два года в политике — большой срок. — Мечтательные волшебные интонации уступили место более трезвым, хотя не менее пленительным ноткам. Теперь понятно, почему не только Ван Бюрен, но и генерал Джексон восхищается Ирвингом. — Я убежден, что в конце концов «Ивнинг пост» выполнит свой долг, не так ли?
Я в этом не был убежден и заговорил о политических разногласиях. Ирвинг сделал вид, будто ничего в таких делах не понимает, и отделался замечанием, что демократы вряд ли кого-нибудь подыщут за два года.
— Полковник Бэрр очень хорошо отзывается о мистере Ван Бюрене.
— Вот как? — Ирвинг посмотрел на меня, и взгляд его, казалось, проникал не только через мою одежду, но забирался под кожу. На губах его застыло подобие улыбки.
— О да, — сказал я. — Он считает его чуть ли не своим сыном.
Дело сделано.
Ирвинг продолжал улыбаться, но он уже пересчитал мои ребра в лучах первоапрельского солнца.
— Я этой версии… не верю. — К моему облегчению, Ирвинг отвел глаза. — Мать мистера Ван Бюрена была наипорядочнейшая из женщин, да и намного старше полковника Бэрра…
— А он женился на женщине на десять лет старше. — Нападение — лучший способ защиты.
Ирвинга покоробило. Я был доволен. Наконец-то я поколебал его невозмутимую добропорядочность.
— Я знал ее, мистер Скайлер, и знаю, что она была неспособна на такое.
— И все же полковник взял мистера Ван Бюрена на службу, помогал ему, продвигал…
— Полковник Бэрр, вы знаете это лучше меня, — врожденный педагог. Он любит молодых. Любит учить их. Ведь не зря он сын и внук ректоров Принстонского колледжа.
Я вдруг испугался, что Ирвинг снова плюхнется в трясину прошлого, как огромное речное чудовище, и наговорит мне о Принстонском колледже с три короба.
Но к счастью, он почуял опасность и был лаконичен.
— Помочь карьере блестящего молодого человека — совершенно в духе полковника Бэрра.
— Когда полковник вернулся из Франции, мистер Ван Бюрен пригласил его остановиться у него в Олбани.
— Мистер Ван Бюрен добрый и щедрый человек, даже, говорят, чересчур.
— И полковник Бэрр помог ему в ассамблее. Не помню, что именно сделал полковник для молодого члена ассамблеи, но что-то важное.
Ирвинг встревожился.
— Полковник — старый человек, склонный, наверное, к преувеличениям.
— Нет. Он всегда точен. Он все еще прекрасный юрист. Он не закрывает глаза на факты. — Я не удержался и подпустил шпильку мастеру фантазии.
Ирвинг отпарировал мой выпад.
— При случае полковник Бэрр так же вольно обращался с истиной, как любой другой политик или авантюрист.
— Но раз он с восхищением говорит о мистере Ван Бюрене…
— Мой милый мальчик, кое-кто готов уничтожить мистера Ван Бюрена любым оружием. Почему бы не с помощью любви? Поцелуй в Гефсиманском саду. Долгие годы враги вице-президента распространяли слух, будто он родной сын полковника Бэрра и его побочный политический отпрыск. И то и другое — ложь.
Наконец-то я его расшевелил!
— Если так, зачем мистеру Ван Бюрену понадобилось встречаться с полковником прошлым летом?
— Ну, вот мы и приехали. Рид-стрит.
Карета остановилась. Ирвинг показал на водонапорную башню в дальнем конце улицы:
— Памятник полковнику Бэрру. Знаете, он основал Манхэттенскую водопроводную компанию для того, чтобы под шумок открыть банк.
— Но вода-то до сих пор идет.
Ирвинг рассмеялся.
— Да, а у банкиров есть Манхэттенский банк. Спасибо, я сегодня славно развлекся. Всегда приятно встретить молодого человека, который интересуется прошлым.
Я долго благодарил его за доброту. Он похлопал меня по колену.
— Ваше расследование может вас бог весть куда завести. Будьте осторожны. Вас подстерегают западни.
Пальцы Ирвинга так же жестко щипнули меня, как при нашей первой встрече. Он вперил в меня ясный, твердый взгляд.
— Надеюсь, никто не попытается опорочить былую случайную дружбу между полковником и вице-президентом. Ибо мистер Ван Бюрен, конечно, станет нашим следующим президентом и запомнит недругов так же хорошо, как помнит друзей.
Предупреждение-угроза оказалась больней, чем щипок.
Когда я вылезал из кареты, Вашингтон Ирвинг снова был само воплощенье застенчивой скромности.
— Счастлив был с вами познакомиться, мы еще куда-нибудь прокатимся… Милый голландец!
В этот вечер, ложась спать, я увидел у себя на ляжке темный синяк. Теперь-то у меня нет сомнений, что Ван Бюрен — незаконнорожденный, и, таким образом, выборы теперь зависят от Аарона Бэрра.
ГЛАВА ТРЕТЬЯ
Вот уже три дня на улицах беспорядки. Конечно же, мы переживаем что-то вроде революции. Никогда еще не было таких ожесточенных выборов.
Сегодня утром (третий и последний день выборов) полковник Бэрр дал мне кое-какой материал для Мэттью Дэвиса.
— Ничего серьезного, — он похлопал по папке в моих руках, — просто хитрость, хочу узнать, что происходит.
Полковник Бэрр поправил на шее шарф (в конторе жарко, погода стоит теплая). Он всегда возбужден во время выборов.
— В мое время все происходило просто. Всего тысяча избирателей участвовала в выборах.
— Не очень-то демократично, а?
— Не очень. Дело в том, что штат Нью-Йорк был частной собственностью трех семей. — Он процитировал: «У Клинтонов — власть, у Ливингстонов — количество, у Скайлеров — Гамильтон». А теперь любой мужчина, едва ему исполнится двадцать один год, может голосовать. Удивительно. — Бэрр задумчиво поглядел на золу в камине. — Никто, даже Джефферсон, не мечтал о такой демократии. Думаю, ничего хорошего из нее не выйдет. Но раньше было еще хуже, хотя, видит бог, все, что ни делается, — к лучшему…
С Дуэйн-стрит неслись крики.
— Вперед! На разведку! Надо видеть этих санкюлотов! Скажите Мэтту Дэвису, что душой я, как всегда, с ним. Но и только. Джексон — лучший из наших президентов… вот и все.
На Дуэйн-стрит я впервые увидел баталию и подумал: так ли было у Монмусского суда?
Все утро процессия вигов таскала по городу модель фрегата с надписью «Конституция», и вот наконец они опустили ее перед масонской ложей. А потом они вошли внутрь посовещаться. Около полудня банда пьяных ирландцев атаковала фрегат, но была рассеяна вигами.
Когда я прибыл на место происшествия, там толпилось несколько сотен злющих вигов (странная смесь работяг и богатых торговцев): подбитые глаза, проломленные головы; фрегат тем временем медленно плыл через улицу в безопасную гавань — во двор нью-йоркской городской больницы.
Я увидел мистера Дэвиса у входа в зал. С ним был крепкий мужчина с гневным лицом.
— Чарли Скайлер! Мой коллега-историк. — Одно стекло в очках мистера Дэвиса было разбито, и он выглядел из-за этого несколько странно, зато казался веселым.
— Дэвис, я настаиваю, вызовите мэра, — нервничал солидный мужчина. — Надо защищаться.
— Подумаешь, кучка подгулявших ребят! Зачем еще мэра вызывать!
Мистер Дэвис повернулся ко мне:
— Голосование идет как надо, Чарли! Мы получили большинство и, главное, обязательно изберем Ферпланка.
К нашим ногам угодил откуда-то брошенный булыжник. Солидный мужчина вскрикнул.
Мистер Дэвис и бровью не повел.
— Если сегодня мы изберем Ферпланка мэром, через два года мы изберем Генри Клея президентом.
На этой пророческой ноте демократия нас поглотила.
Размахивая дубинками, швыряя булыжники, несколько тысяч пьяных дикарей из Шестого округа заполнили Дуэйн-стрит.
Булыжник попал мне в плечо, меня отбросило к стене. Какой-то негодяй молотил солидного мужчину до тех пор, пока мистер Дэвис не поднял трость и со смачным хрустом не перебил негодяю нос. Затем Дэвис радостно нацелил трость в пах молодому парню с тяжелой дубиной. Парень согнулся пополам, сблевал пивом и остался с нами лишь во плоти, но не душою. Мистер Дэвис был явно в своей стихии. Чего не скажу о себе.
Увертываясь от ударов, я кое-как выбрался из гущи драки в тот момент, когда его честь мэр Гидеон Ли явился с парой вооруженных сторожей.
Мэр сурово возвышался во главе своего отряда.
— Прекратить! — крикнул он. Воцарилась тишина, и захватчики из Шестого округа обернулись, чтобы посмотреть, какое там еще им предстоит развлечение. — Я ваш мэр. Расходитесь по домам. Без шума. Это приказ.
Снайперски нацеленный булыжник снял цилиндр с головы мэра. Взяв палки наперевес, городские сторожа двинулись на толпу, а толпа пошла в контратаку.
Я со всех ног побежал во двор больницы и там увидел мистера Дэвиса и солидного джентльмена.
— Отчаянные ребята, наши друзья из Таммани.
Мистер Дэвис наслаждался беспорядками.
— Это, — он показал на бушующую вокруг битву, — начало конца мистера Ван Бюрена и рождение Генри Клея. Мой мальчик, мы действительно создали новую партию.
Мистера Дэвиса не поймешь. То он был лидером в Таммани, то поддерживал Джексона, то был союзником Ван Бюрена, и вот он порвал с ними со всеми из-за Банка (ему нравится Банк, им не нравится, ну и что дальше?). Теперь мистер Дэвис помог сколотить новую партию вигов, состоящую из богатейших и беднейших людей города. Две разные группы, и у них ничего общего, кроме поддержки Банка Соединенных Штатов, мистера Бидла и горячей симпатии к Генри Клею. Но бедным-то какое дело до Банка? А богатым — до Генри Клея? Ничего не поймешь!
Мы почтительно посторонились, пропуская двоих сторожей; они вносили в госпиталь потерявшего сознание мэра, продавленный цилиндр гордо покоился на его большом животе.
— Пойдем поищем, где поспокойнее.
Мистер Дэвис, бодрый, несмотря на урон, понесенный вигами, повел нас в неуютный «Бродвей-хаус». Его вместительный бар — неофициальная ставка партии вигов.
Мистер Дэвис развернул свой штаб в дальнем углу шумного прокуренного зала. Трезвых здесь почти не было; и голосуешь-то, чего греха таить, ради пьяного забвенья после голосования.
Темноволосый человек, трезвый как стеклышко, доложил мистеру Дэвису:
— Этих, из Четвертого округа, мы привели в чувство.
— Раненых нет?
— Убитых нет.
Когда он двинулся от нас, пальто на нем распахнулось и я увидел у него за поясом нож и дубинку, утыканную гвоздями.
Солидному человеку это не понравилось.
— Не следует им уподобляться.
— Защищаться-то надо.
Мистеру Дэвису подали чай, а нам пиво — мне и солидному человеку, который оказался пресловутым Мордекаем Ноем. Десять лет назад он стал первым — и единственным — евреем, удостоившимся поста нью-йоркского шерифа. Когда кто-то выразил недовольство тем, что еврей получил пост, который позволит ему вешать христиан, Ной якобы ответил: «Хороши христиане, если их надо вешать!»
Ной — существо удивительное. Он пишет мелодрамы для театра, редактирует газеты и является — или являлся — одним из лидеров Таммани: президент Мэдисон назначил его консулом в Тунис (во время стычек с пиратами), а президент Джексон — инспектором нью-йоркского порта, и только недавно он покинул этот пост, порвав с президентом из-за Банка. До последних выборов он был соредактором газеты «Курьер энд инквайерер», поддерживавшей Джексона до тех пор, пока не возникла «проблема Банка мистера Бидла». Тогда Ной и его газета развернулись на сто восемьдесят градусов и стали нападать на правительство. Во время выборов открылось, что Ной и второй редактор тайно получали деньги от мистера Бидла. Скандал был на руку властям и нанес урон мистеру Бидлу, развратителю прессы.
Сейчас Ной редактирует «Ивнинг стар», открыто поддерживая Банк и вигов. Отдав чуть не всю жизнь Таммани и рабочему люду, Ной переметнулся к богатею мистеру Бидлу и его ставленнику Генри Клею.
Леггет считает Ноя сумасшедшим: «Но яркая личность. Прирожденный актер. И конечно же, он король евреев — или думает, что король».
Леггет описал, как Ной, в короне и пурпуре, «завладел» островом Гранд на Ниагаре и провозгласил там город Арарат, убежище для всех евреев. Естественно, отцы города Буффало быстро положили этому конец.
Сегодня Ной, жалкий и издерганный, не очень-то похож на короля.
— Какая глупость! Закрыть предприятия и приказать рабочим голосовать за вигов.
— Не горюйте, Мордекай. Волна, которая выбросила на берег нас, смоет и нашего безбожника капитана. — Мистер Дэвис посмотрел на меня, словно хотел сгладить резкость. — Которому мы аплодируем. Что еще остается делать добрым демократам? Мы понимаем, что президент состарился на службе у народа и теперь — бедный старикан! — пляшет под дудку Ван Бюрена и других врагов народа. О, скоро наступят перемены!
Как ни стараюсь, никак не могу понять, почему людей вроде Дэвиса и Ноя волнует вопрос, кого выберут или не выберут в президенты или еще куда-то. Мне наплевать, кто будет правителем в Первом округе и президентом в Белом доме. Дело-то не в этом. Настоящего и активного сторонника Джексона в двадцать восьмом или тридцать втором привлекали денежки, или должность, или то и другое вместе. Сейчас половина деятелей из Таммани-холла — директора новых банков, которые возникли после того, как Джексон нанес удар Николасу Бидлу и Банку Соединенных Штатов. Кстати, никто — даже Леггет — еще не разъяснил, почему банк, находящийся под контролем федеральных властей, хуже, чем тысяча банков, которые никто не контролирует. И уж совершенно неясно, почему Банк считается «аристократическим», а банки — «демократическими». Ведь все вместе они будут обдирать бедных ничуть не хуже, чем их обдирал один из них.
— Не уверен. Совсем не уверен!
Рядом раздался взрыв. Окна в баре зазвенели.
— Прекрасно! Пусть Таммани сожжет город и тем прославится!
Мистер Дэвис ликовал. Я встревожился. И все кругом тоже. Стычки, мародерство и поджоги распространились по всему городу.
— Что же мне прислал полковник Бэрр? — Мистер Дэвис открыл портфель.
Наконец-то Ной обратил на меня внимание; спросил, действительно ли я посланец Аарона Бэрра.
— Не просто посланец, — ответил за меня мистер Дэвис, — но и летописец жизни человека, которого так обижают.
— Ей-богу, мне все больше нравится Бэрр. — Ной вдруг оживился. — Что вам известно о его делах на Западе?
И снова мистер Дэвис ответил за меня:
— По-моему, мы все знаем — полковник ни в чем не виноват.
— Да-да. Ну, а как насчет роли президента Джексона?
— Он в этом замешан не больше, чем…
— Не больше, чем… — я решил перейти в наступление в лучших традициях судопроизводства и одним ударом парализовал обвинителя, — Генри Клей.
Мистер Дэвис хмыкнул, то есть издал сухой шелестящий звук, словно потерли один о другой тома свода законов.
— А здорово он вас, Мордекай.
Ной был невозмутим.
— Клей просто защищал Бэрра в суде. Не более. А Джексон хотел ехать с ним в Мексику. Все об этом знают.
— Все, кроме двух его биографов. Нет, Мордекай, такая тактика нам ничего не даст. С Эндрю Джексоном нельзя так обращаться, его слишком любят. Кроме того, через два года, а то и раньше, он уже не будет президентом.
— Ну и что же, все равно я хочу рассказать народу о том, какой человек… Дэвис, вы только посмотрите…
Так Эдмунд Кин в роли Макбета смотрел на дух Банко. В бар вошел высокий улыбающийся человек. Подтянутый, аккуратный, но одет как мастеровой.
Мистер Дэвис потерял обычное самообладание.
— Давайте отвернемся, — сказал он явно с опозданием, так как высокий человек, щурясь в полумраке бара, уже шел к нашему столику. Дэвис мрачно представил меня Томасу Скидмору.
Пять лет назад Леггет дал мне почитать памфлет Скидмора «Права человека на собственность!». Но я его так и не прочитал. В те дни Скидмора считали антихристом, даже хуже — антисобственником! Механик-самоучка Скидмор выступал (блестяще, но безалаберно, если верить Леггету) за отмену тюремного наказания за неуплату долга, за отмену частной собственности на землю и за отмену прав наследования капитала. Он даже выступал за обложение налогом церквей и предлагал прочие меры, которые может породить лишь мозг сумасшедшего, задумавшего вызвать настоящую ненависть своих сограждан. Леггет в конце концов обрушился на него, назвав «апостолом системы общественного грабежа». И тем не менее Скидмор на целый сезон стал героем рабочего люда и грозой собственников.
— Мы овладеем городом. — Мистер Дэвис был вежлив, но холоден. Чего нельзя было сказать про Ноя. — Мы докажем, мистер Скидмор, что реформы возможны без уничтожения общества.
— Но в этом нет смысла. Никакого смысла. — Мягкий, грустный голос Скидмора противоречил резкости слов. — До тех пор пока каждому не обеспечат его долю, будет не общество, а тирания меньшинства.
— Именно так говорят представители Таммани в Шестом округе.
— Но, господа, они же только говорят, а мы делаем.
— Мы, мистер Скидмор? — Ной был очень резок.
Но Скидмор этого не замечал.
— Такая основополагающая идея, как истинное равенство, мистер Ной, не может быть нераздельным достоянием единственного ума, пусть даже самого радикального.
Мило кивнув, Скидмор направился к соседнему столику, где забулдыги глушили пиво. Усевшись, он вдруг громко сказал:
— Мистер Дэвис, партия вигов провалится. Потому что у других больше, чем у вас.
— Это что еще значит? — Ной повернулся к мистеру Дэвису: — Больше — чего?
Мистер Дэвис пожал плечами.
— Он отъявленный преступник!
Но я достаточно наслушался Леггета и тотчас нашелся:
— Он имеет в виду, что раз вы хотите, чтобы в мире была кучка богатых и множество бедных, то партия, в которой больше богатых, победит.
Впервые Ной удостоил мои слова вниманием, хоть и обращался к мистеру Дэвису, словно меня здесь и не было.
— Он прав, — сказал он.
— Чарли — умный парень.
— Тогда почему он работает у полковника Бэрра?
— И в самом деле, почему? — Мистер Дэвис кинул на меня взгляд, который означал: не верь ушам своим.
— Я восхищаюсь им как адвокатом.
Напрасно я приготовился к обороне.
— Чарли подбирается к золотой жиле. — Голос мистера Дэвиса звучал так торжественно, словно он только что дал взятку судье. — Он пишет истинную историю жизни полковника Бэрра, покуда я тут строчу официальные мемуары. Чарли положит меня на обе лопатки.
Так значит, мне предстоит конкуренция с Мэттью Л. Дэвисом? Что-то подозрительно.
— А вы уже договорились о публикации? — заинтересовался Ной.
— Да, — ответил за меня мистер Дэвис. — Чарли имеет дело с Уильямом Леггетом.
Мне стало не по себе. Откуда мистер Дэвис так быстро все узнает?
— Но я не пишу для «Ивнинг пост»…
— Леггет! — Ной стал нещадно костить Леггета. — Слава богу, Уэбб его отделал как следует! На улице! Тростью.
Я сказал, что было наоборот, Леггет избил Уэбба. Вдруг с улицы донесся цокот копыт, бряцанье оружия, крики: «Народное ополчение!»
— Будем надеяться, они доберутся до избирательных урн прежде, чем наши друзья из Таммани. — Мистер Дэвис впервые встревожился.
Однако, когда несколько мгновений спустя булыжник пробил окно прямо у него над головой, грохнул по столу, слегка качнул мою кружку и скатился на пол, он проявил большое самообладание. Мы с Ноем вскочили. А мистер Дэвис невозмутимо вычесывал осколки стекла из редких седых волос.
Красная рожа просунулась в разбитое окно и заорала: «Вот они, вот…»
Услышать, кто такие «они», нам не удалось, так как мистер Дэвис молниеносным движением взметнул трость и хрястнул по красной роже. «Вон отсюда, ублюдок!» — раздался звонкий голос бывшего великого вождя Таммани. Красная рожа исчезла.
Пивной зал ликовал. Мистер Дэвис принимал поклонение своих союзников с величественной, едва заметной улыбкой.
— Совсем как в прежние дни! — сказал он. — Когда Бэрр и Гамильтон сеяли раскол. Давненько у нас такого не бывало.
— Вы с ума сошли! Они сейчас спалят город! Они способны на все, лишь бы не проиграть выборы. — Ноя била дрожь.
— Ну что вы! — Мистер Дэвис собрал осколки оконного стекла в аккуратную кучку. Затем положил послание Бэрра в карман пальто, повернулся ко мне: — Полковник просит передать вам все записи, какие я только найду.
— Мне ничего не надо; неужели вы думаете, я собираюсь…
Чарли, Чарли! Читайте себе на здоровье, я пошлю вам все, что у меня есть.
Мистер Дэвис поднялся.
— И поторопитесь с публикацией.
Я поблагодарил мистера Дэвиса. Он такой любезный. Но ведь он сам уже несколько лет не может опубликовать собственную книгу и, возможно, рассчитывает, что мои усилия возбудят интерес публики к этой старой истории. Мои усилия? О чем это я?
Я уже убедил себя, будто действительно составляю жизнеописание полковника, а сам почти ничего не знаю. Но Леггет уверяет, что, если я докопаюсь до правды, это изменит историю. Хотя иногда я думаю: не все ли равно, кто будет президентом? Клей или Ван Бюрен? И мне-то какое до всего этого дело? Я же терпеть не могу политику и политиков. Моя тайная мечта — поселиться в Испании или Италии и писать рассказы, как Вашингтон Ирвинг. Этим трудом я рассчитываю заработать денег на путешествие. Надеюсь только, что полковника уже не будет в живых, когда выйдет моя книга. Нехорошо на такое надеяться. Но опубликовать книгу мне надо в течение полутора лет, не позже. До президентских выборов. Да, сложную я себе задал задачу.
ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ
Ферпланк не прошел в мэры, недобрал 179 голосов примерно из 35 000. Таммани-холл победил, но дорогой ценой, ибо виги заполучили совет общин города. Мистер Дэвис небось радуется. Полковник Бэрр тоже радуется. Нет, скорее развлекается.
— Это новые люди, Чарли. В один прекрасный день они захватят все.
— Мистер Дэвис считает, что Клей будет президентом.
— Бедный Мэтт! В больших делах ему не хватает мудрости, но он силен в мелочах. Ван Бюрена выдвинут, и он побьет Клея, побьет любого республиканца, нет-нет, вига. Пора привыкнуть называть их так. Все вверх тормашками! Те, кто за Революцию, были виги, а те, кто за Англию, — тори. Затем началась борьба за федеральную конституцию. В нашем штате губернатор Клинтон был за слабое федеральное правительство. Так вот, некоторые виги стали антифедералистами, а некоторые, как Гамильтон, стали федералистами. Затем тори-федералисты стали республиканцами. А теперь тори-федералисты-республиканцы называют себя вигами, хотя на самом деле они антивиги. Республиканцы же антифедералисты — теперь демократы-джексоновцы. О, магические названия.
— А кем были вы после Революции?
— Да никем. Хотя склонялся к антифедералистам, но не принимал участия в затянувшемся споре. Помню, впервые прочитал конституцию и решил — она и пятидесяти лет не протянет. Видно, ошибся в сроке. Но все равно я прав. Эта конституция не годится для такой страны. Между прочим, сегодня утром, сойдя с парома, я увидел на Вест-стрит труп человека. Его убили вчера вечером на избирательном участке, и никто даже не подумал убрать труп. «Рука твоя, о Анарх, вождь великий, над миром полог опускает, и мрак все поглощает». — Он так часто повторяет эти слова, что я выучил их наизусть.
— А вы за Ван Бюрена? — спросил я. Капля пота скатилась у меня по спине. Жарко сегодня.
— Да.
— Это из-за вашей старой связи?
Он закрыл глаза, опер маленькие ноги о край каминной решетки.
— Я стар, а потому умерен. Из всех стариков, каких я знаю, опасности и неожиданности любит только один Эндрю Джексон. Но думаю, что объяснить это может лишь медицина. У него высокое кровяное давление. Что до меля, мне по душе, как красиво действует Мэтти Ван. Он лишен свирепости, а Клей переменчив и нечестен.
— А мистер Дэвис знает, что вы отдаете предпочтение Ван Бюрену?
— О да. Но он на меня внимания не обращает. Он знает, что Аарон Бэрр — не тот, бывший, а теперешний — в бэрритах не числится.
ГЛАВА ПЯТАЯ
Город взбаламучен беспорядками. В некоторых домах нет ни единого целого окна. А кому до этого дело? Погода прекрасная, народное ополчение разошлось по домам, у ирландцев с похмелья раскалываются головы, а я отправляюсь с Элен Джуэт в Воксхолл-гарденс.
Мы доехали на извозчике до перекрестка Бауэри и Бродвея. Элен радовалась как ребенок. С тех пор как она поступила в заведение мадам Таунсенд, ей ни разу не удалось пройти больше, чем один-два квартала по Томас-стрит. На ней закрытое платье, и она ничем не отличается от тех дам, что распивают чаи в зале для дам гостиницы «Сити».
— Ах, я часами ей втолковывала, что у меня тут есть тетка и что один… ну, один гость с ней знаком и она часто обо мне спрашивает, а потом я ей говорю: «Мадам Таунсенд, надо мне доложиться тетушке, что я жива-здорова, а то вдруг она станет меня через полицию разыскивать?» — улыбка у Элен — как опрокинутый треугольник. — Ну, она меня и отпустила на денек, хотя ворчала и говорила, что бог, мол, правду видит. Видит он, как ты думаешь?
Я сказал, что сомневаюсь. Но заверил ее, что, если ад существует, там в один прекрасный день появится на редкость образованная леди, которая сведет с ума Сатану знанием Евангелия и теологии.
Вечер теплый, в парке много парочек. Казалось, никому нет дела до того, что Леггет называет «революцией».
Мы погуляли под цветными фонарями, усердно вдыхая в себя чистый загородный воздух, напоенный запахом гиацинтов, а затем устроились в беседке, довольно близко от оркестра, так что могли слушать музыку. Официант-негр принес нам ванильное мороженое и торт. Я почему-то очень нервничал, непонятно почему.
Элен вела себя странно, — совершенно неожиданно для меня, а может быть, и для себя самой. Сперва она была как собачонка, которую спустили с поводка: жадно вглядывалась и вслушивалась в то, что всем давно приелось. Особенно понравился ей странный человечек по прозвищу Пряник, который вечно носится по Бродвею с развевающимися полами, а из карманов у него сыплются пряники — единственная его пища. Никто не знает, кто он и где живет, потому что он ни с кем не разговаривает, а только носится взад-вперед, ест пряники да пьет воду из уличных колонок.
К тому времени, как мы устроились в беседке и стали слушать оркестр, Элен совсем притихла, даже погрустнела.
— Какая радость от прогулки, раз нужно возвращаться?
Кажется, я был к этому готов. Какая собака, вкусив свободы, сама вернется в конуру и сядет на цепь? Жестоко, наверное, показывать ей мир за стенами ее каморки на Томас-стрит. Или просто глупо? Скорее, и то и другое.
— Я думал, тебе… ну, что тебе там не так уж не нравится.
— Мне там мерзко.
Она неприятно крошит пирожное. Надеюсь, мне не придется дотрагиваться до ее липкой руки. В детстве мне как-то попал за шиворот мед. Мама говорила, я потом орал целый час.
— Воды горячей никогда нет. — Элен нахмурилась. — Меня не любит негритянка. Другим дают горячую воду два раза в день. Мне же — чуть теплую и только один раз. А зимой — ледяную. Я говорю мадам Таунсенд: так жить нельзя. Она мне толкует про силу духа и обещает сказать негритянке, а на другой день все то же самое: негритянка только улыбается, когда я спрашиваю, где моя горячая вода. Улыбается злорадно, сует мне кувшин, а вода на пол льется.
Элен смахнула крошки на землю.
— Вот видишь. Нам с тобой и поговорить-то не о чем.
Я сказал, что она все равно мне нравится, о чем бы она они говорила. И был искренен. Но ее этим не тронул. Вечер не удался.
— А с девушками ты о чем говоришь?
Элен пожала плечами.
— Да так. Ни о чем. Ну, о клиентах. Они, девушки, ужас что рассказывают.
— Например?
— Ну, ужас.
Не очень-то пространный ответ. Интересно, что они обо мне говорят?
— Ну, еще говорим о платьях, это мне интересно. Я им шью. Я люблю шить. А сюда народ приходит каждый вечер? — Она посмотрела кругом, и розово-желтые блики от фонарей заплясали в ее зрачках. Музыка стала медленнее, одинокий скрипач фальшиво играл печальную мелодию. И все равно мне было хорошо: гиацинты, цветные фонарики и скрытое темнотой обиженное хорошенькое личико пленницы, которую я освободил лишь на один вечер. Как в сказке про Золушку, ведь к полуночи ей нужно возвратиться на Томас-стрит к злой волшебнице Розанне Таунсенд. А почему бы не освободить ее навсегда? Поднатужиться, снять ей комнату. Она бы зарабатывала шитьем. Я поделился с ней своими мыслями.
Наконец-то Элен улыбнулась, повеселела.
— Это было бы чудесно!
Я встревожился. Одно дело говорить такое под фальшивое пиликанье скрипача, а другое — проснуться утром и увидеть, что рядом с тобой лежит еще кто-то, и это уже на всю жизнь.
То ли Элен угадала мой страх, то ли она и в самом деле необыкновенная.
— Нет, так нельзя. Мы же не обручены. — Она выпалила то, что думала. — Нет, я не из таких.
— Ну, а как же… как же у мадам Таунсенд?
— То дело другое. — Элен была тверда. — Ты ведь на мне не женишься? — Она рассмеялась, прежде чем я нашелся, что ответить. — Конечно же, нет. Да и какая из меня жена! С детьми я не умею обращаться. Я их боюсь. Так что у мадам Таунсенд мне не так уж плохо. Если бы только горничная была другая… — Лицо ее омрачилось, стало злым, но еще более привлекательным. — Но ты не забудешь, ты поищешь мне работу, чтобы я зарабатывала столько же, сколько сейчас, и открыла собственное дело, хотя где я еще заработаю сто долларов? Ну, буду откладывать, а то я все трачу. Не знаю на что. Мама говорит, я кончу свои дни в приюте для бедных, она, бедняжка, сама там живет.
— А отец?
Такого веселого смеха я не слышал с тех пор, как один из клиентов мадам Таунсенд перепрыгнул через забор на заднем дворе и рухнул в соседский свинарник.
— Отец? Спроси что-нибудь полегче. Я его и не знала. И мама небось тоже. Она пила, когда была молодая, и швеей работала. Кроила, только и всего, а не шила. У нее глаза были плохие. И таланта не было. Лучше ты расскажи про своих родителей; если хочешь, конечно.
Наконец мы перешли на личные темы, впервые за семнадцать встреч. Я веду им счет.
— Отец держал бар в Гринич-вилледж. Мама тоже там работала. Он, верно, такой же пьяница, как твоя мать.
— Небось богатые были? — Последовал долгий вздох.
— Нет, но бар был доходный.
— Ну, а братья, сестры?
— Все умерли. Их, кажется, было пять. Я единственный остался.
— Матери твоей небось нелегко приходилось.
— Еще бы. Отца она ненавидела. Чего уж хорошего.
Я рассказал Элен все, или почти все. Она слушала, как ребенок, которому читают книжку. Сколько я себя помню, мать с отцом всегда ссорились. Он — вечно пьяный, грубый. Она — вечно в слезах. Как-то вечером в ноябре он не впустил ее в дом. Гордость не позволила ей идти к соседям, и она провела ночь под навесом во дворе. Кончилось все простудой, жаром, пневмонией, гробом. Я тогда жил в городе, учился в Колумбийском колледже, и только через неделю узнал, что она умерла. Приехал домой, и мы с отцом подрались во дворе. Я избил его до крови. С тех нор в Гриниче моей нош не было.
Рассказывая ей эту историю, я чувствовал себя сильным, талантливым, сказочным королем. И все, в общем-то, было правда, хоть я и умолчал о том, что мой отец чуть не выбил мне глаз ножкой от стула.
— С тех пор ты его не видел? — В ее голосе — я был очень доволен — слышался благоговейный ужас.
— Недавно, на улице. Очень вежливо поговорили.
Убийца, убийца, убийца! В голове моей бьет барабан, когда я думаю о нем, пишу о нем, смотрю на миниатюру моей матери, выполненную Вандерлином на слоновой кости, — красивая женщина, не знавшая счастья.
Рука об руку мы с Элен шли по парку, она обсуждала туалеты.
— Видишь, какой рукав в сборочку? Такой за год не сошьешь! А материя! Французский муар! Ой, гляди-ка! Бельгийское кружево!
Она подробно объясняла мне все о покрое и сообщала цену каждого туалета.
Обходя беседку, мы наткнулись на парочку. Они отпрянули друг от друга. Один был Уильям де ла Туш Клэнси, другой — хорошо сложенный мальчик лет шестнадцати, одетый с потугами на элегантность. Однако грубые большие руки выдавали простолюдина.
— Ну-с! — Клэнси зашипел, как гусак.
Мальчик смутился. Еще бы! Кое-что так стыдно делать, что даже деньга не утешают.
— Ну-с, как поживает ваш друг-радикал мистер Леггет? — Ага, значит, Клэнси меня запомнил.
— Прекрасно. А как ваш друг мистер Эдвин Форрест? — Это была наглость.
— Я вас где-то видел, мисс. — Мальчик смотрел на Элен, но она обратила на него такой невидящий взгляд, что он сделал бы честь любой даме из общества.
— Я работаю у Джозефа Хоукси, мисс. Он друг мадам Таунсенд. Вы, наверное, его знаете.
Элен и бровью не повела.
— Нам пора, — повернулась она ко мне. — Нас ждут друзья.
Но Клэнси хотелось сравнять счет.
— Таунсенд? Таунсенд? Вы имеете в виду Таунсендов, которые живут в Грамерси-парк?
— Нет, мистер Клэнси. Та дама живет на Томас-стрит. — Мальчик, видимо, готовил отпор на тот случай, если Элен вздумает обмолвиться, что он тоже отдается за деньги.
— Боюсь, я никого не знаю в этой интересной части города, если не считать моего старого друга достопочтенного мистера Хоукси, у которого работает Ричард.
— Неполный рабочий день?
Я не удержался и от этого выпада. В свете фонаря я увидел, как лицо мальчика побагровело от ярости.
— Я не расслышал вашего имени… — Клэнси обратился к Элен, но мы уже отошли.
К моему удивлению, Элен расхохоталась:
— Обязательно всем расскажу. Давай возьмем извозчика. Скорей! А я все думала, что-то он странный, этот мистер Хоукси. Теперь все ясно. Хорошенькие же у него подмастерья! Правду мальчик сказал. Я его уже видела. Иной раз остановится и пялится на наш дом. Ну, думаю, денег у него нет или храбрости не хватает войти, а выходит, просто охоты нет! На кой мы ему сдались? Ну и денек! Ты прелесть, Чарли! — Она поцеловала меня в щеку, как сестра.
Я опешил от такой непосредственности. Хоть я и провел много приятных вечеров в заведениях, вроде дома мадам Таунсенд, а все еще наивный простак! Ну и ну, такое мне и в голову не приходило. Я-то воображал, какое грустное будет у нас расставание.
ГЛАВА ШЕСТАЯ
Я прочитал сотни страниц воспоминаний М. Л. Дэвиса об Аароне Бэрре и не почерпнул из них ничего нового. Вот что примерно он сообщает:
«После того как англичане покинули Нью-Йорк, юристов-тори лишили адвокатской практики, и это открыло возможности для юристов-вигов, особенно героев Революции. Но в штате Нью-Йорк действует правило: для того чтоб открыть практику, адвокат должен сперва три года преподавать право. Бэрр заторопился. Он поехал в Олбани, представился трем судьям Верховного суда штата, заставил их сделать для него исключение (особенно помог ему судья Роберт Ейтс), и 19 января 1782 года его зачислили в коллегию адвокатов. Среди его первых клиентов были его старый командир полковник Малколм, де Пейстеры из Олбани и Роберт Ливингстон.
Двенадцатого апреля 1782 года он стал советником юстиции.
Шестого июля 1782 года он обвенчался с Теодосией Прево в Парамусе, в штате Нью-Джерси. Ему было двадцать шесть лет. Ей — тридцать шесть.
21 июня 1783 года в Олбани у них родилась дочь Теодосия. В ноябре, вскоре после того, как английская армия покинула Нью-Йорк, туда переехали Бэрры.
Сначала Бэрры жили у Ферпланка, за два дома до ратуши. Потом они перебрались на угол Мейден-лейн и Нассау-стрит (задний двор там славился виноградом и беседками, а дом — пьянчугой-горничной по имени Ханна). В 1791 году они переехали в дом номер четыре на Бродвее. Для летней резиденции полковник снял особняк в Ричмонд-хилле.
В роли адвоката полковник Бэрр преуспел с самого начала.
Со своим первым партнером Уильямом Т. Брумом он сколотил и стал проматывать свое первое состояние. Адвокатом он был — и остается — безупречным. И все же он презирает собственную профессию. „Закон, — любит он говорить, — есть нечто, смело введенное и ловко поддерживаемое“.
Соперничество Бэрра с Гамильтоном началось уже в те дни. Оно было неизбежно. Оба герои, оба честолюбивы, оба юристы. Считалось, что Гамильтон более глубок, философичен, но и многословен: он губил блестящую защиту, чересчур ее растягивая.
Бэрр был в суде эффектней, находчивей; к тому же Бэрр выделялся среди той плеяды общественных деятелей нелюбовью к краснобайству; морализировал он разве что ради блестящего парадокса. Истово правоверные считали его порочным, ибо, кто не проповедует добро, тот плох. Но присяжные часто бывали благодарны полковнику за то, что он не читал им проповедей. Ни Бэрр, ни Гамильтон не родились ораторами, как Клей или Уэбстер. Они не увлекали толпу, зато прекрасно управлялись с присяжными.
Несмотря на соперничество, Бэрр и Гамильтон иногда работали вместе. Однажды честолюбивый, раздражительный Гамильтон настоял на том, чтобы Бэрр выступил до него. Бэрр безропотно согласился и ничтоже сумняшеся использовал все аргументы, которых ждал от Гамильтона. Тот пришел в ярость и в своей речи был краток и грубоват, что было ему несвойственно».
Вот вам факты, а мистер Дэвис просто-напросто их перечисляет, то и дело приклеивая банальности к восковому чучелу полковника. Только что я отослал ему рукопись с благодарственным письмом. Ладно, пора браться за работу всерьез: докопаться до истины, а если не удастся, то хоть извлечь пользу для себя.
Да, в рукописи Дэвиса есть одна важная деталь. Он воспроизводит письмо, написанное полковником Бэрром из поместья Ван Нессов в округе Колумбия. Текст письма (какому-то полковнику Клейпулу) не представляет интереса. Важны дата и место.
Дом Ван Нессов, где гостил Бэрр, всего в нескольких милях от Киндерхука, где 5 декабря 1782 года родился Мартин Ван Бюрен.
Письмо датировано 11 марта 1782 года (да-с, я отсчитал срок, на пальцах).
Последняя строчка загадочна: «Я развлекаюсь как могу в этом захолустье. Ты понимаешь, что я имею в виду».
ГЛАВА СЕДЬМАЯ
Леггет мне рассказал последний анекдот о Ван Бюрене. Один сенатор заключил пари с другим сенатором, что заставит Ван Бюрена публично себя скомпрометировать.
«Мэтт, — сказал сенатор, — говорят, солнце встает на востоке. А вы как думаете?» — «Я слыхал про это, сенатор, но сам я встаю после рассвета, и у меня нет своего мнения на этот счет».
ГЛАВА ВОСЬМАЯ
Мы с полковником Бэрром с детским восторгом наблюдали, как сносили целый квартал на Бродвее, точно напротив Парк-тиэтр. Мы были не одни. Казалось, полгорода пришло сюда посмотреть, как огромный железный шар, подвешенный к подъемному крану, проломил стену первого дома. Мистер Астор намеревается построить на этом месте отель, который затмит гостиницу «Сити». Ясно, ему это удастся. Ему всегда все удается.
— Потрясающе! — Полковник захлопал в ладоши, когда узкое на голландский манер здание рухнуло с глухим грохотом. Рассеялось громадное облако серой пыли, и публика начала расходиться.
Мы с полковником перешли на другую сторону и направились в городской сад. Нам надо было в контору, но полковнику работать не хотелось. И мы уселись на скамью под кустом сирени.
Бэрр умиротворенно посапывал, созерцая ухоженный парк.
— Раньше это называлось «Полями». — Он указал на возвышение, где стояла и ратуша. — А вот там была виселица. Но не просто виселица. О нет! Ньюйоркцы всегда любили экзотические удовольствия. Так вот, наша виселица была сконструирована в виде китайской пагоды. Да к тому же красивой. И сколько там несчастных перевешали! В первый год федеральной власти, когда Нью-Йорк был столицей, в день вешали по пять человек. Публика ликовала. Президент Вашингтон тоже не оставался равнодушным.
— Тогда было столько же убийц, как сейчас?
— Убийц? Да нет. В те дни мы вешали только взломщиков. Убийств тогда, пожалуй, не было совсем.
— Мне так хочется побольше расспросить про те времена.
— Ну конечно. — Бэрр рисовал тростью в пыли у своих ног солнце. Государственный герб мексиканской империи?
— Я начал читать книжку мистера Дэвиса.
— Про нее мне лучше не говори.
— Не буду.
— Верно, мне следует высказаться самому?
— Пожалуй, выбора у вас нет.
Полковник издал тихий стон.
— Ты знаешь, Чарли, я допустил большую ошибку. То есть из всех моих ошибок самая большая та, что я решил, будто человеку нельзя повредить ложью. Поэтому я никогда не опровергал клевету. Я просто полагал, что на свете достаточно порядочных людей, которые знают меня, и время все поставит на свои места. Но я ошибался. С друзьями расстаются, они умирают. А клевета никогда не умирает, никогда!
Бэрр проговорил это с удивлением. Я не заметил горечи в его словах.
— Когда была жива дочь, я делал все, чтобы обелить свое имя ради нее, ради внука. Но потом… — он снял шляпу, словно стоял над могилой, нет, над бездной морской, — долгие годы мне было все безразлично. И вдруг твой интерес… — Он взглянул на меня (наверняка все знает!) и улыбнулся. — Если хочешь, я даже рад пополнить твое образование, хотя предпочел бы любую другую тему, а не историю своей карьеры, несмотря на всю ее поучительность. Итак, мы будем беседовать, и, если тебя это забавляет, записывай все, что я скажу, стенографируй, твой лаконический стиль только украсит мой рассказ.
Кажется, я начал подгонять полковника, но время поджимает, а материала много. Леггет хочет, чтобы прояснилась связь полковника с Ван Бюреном, насколько это возможно для анонимного памфлета. Позже, уже под собственной фамилией, я напишу всю биографию, предвосхитив мистера Дэвиса. Планы эти увлекают меня, хотя Леггет полон дурных предчувствий.
— Ты благосклонен к Бэрру и по сей причине провалишься, ибо американский читатель терпеть не может неожиданностей. Он знает, что его страна — самая великая страна на земле, Вашингтон — самый великий из когда-либо живших людей, Бэрр — самый плохой, и иного не позволено. Стало быть, никаких фактов. Если хочешь завоевать внимание читателя, надо ему льстить. Разделять его предрассудки. Говорить ему о вещах, о которых он давно знает. И он оценит твою мудрость.
— Тогда объясни успех «Ивнинг пост». Вы каждый день нападаете на предрассудки собственных рекламодателей…
— И каждый день мы теряем рекламодателей из-за того, что Брайант называет моей свирепостью. И к тому же я рискую получить нож под ребро. Не обольщайся моим «успехом». Гляди в оба.
ГЛАВА ДЕВЯТАЯ
Нам с полковником понадобилось несколько дней, чтобы приспособиться к совместной работе. Он не привык к диктовке и отнюдь не полагается на память. «Я ведь юрист. А посему мне нужны доказательства — книги, письма, газеты, чтоб было от чего отталкиваться».
Сперва у нас мало что получалось. Полковнику не удавалось соединять отдельные эпизоды. Он все время отклонялся от темы. Но теперь (в середине мая) мы работаем хорошо и от серии анекдотов и всяких историй перешли к последовательному повествованию, поток его несет нас от года к году, и я уже не сомневаюсь, что раз я снял подробную карту леса, то непременно найду зверя, как бы ни было замаскировано его логовище!
ГЛАВА ДЕСЯТАЯ
Полковник сегодня что-то особенно нервничает. «Я как актер, не выучивший роли». Он сидит, разложив перед собой на столе письма и вырезки из старых газет и открытую, испещренную пометками «Жизнь Александра Гамильтона», недавно опубликованную сыном Гамильтона, Джоном.
— Иногда, Чарли, я жалею, что нет рядом со мной, в моем доме, сына. Сыновняя любовь всегда приносит радость. Естественно, я полагаю, что, каким бы ни уродился мой сын, он писал бы лучше этого субъекта, объединившего в своем стиле многословие отца и запутанность мыслей своего деда Скайлера. Ну да ладно, буду сам себе сыном, с твоей помощью.
Полковник кладет ноги на каминную решетку, закрывает глаза, словно ожидая, когда поднимется занавес и вновь начнется давно разыгранный спектакле.
— Ты опрашивал меня о Гамильтоне. — Я спрашивал его о Ван Бюрене. — Ну что ж, я расскажу тебе несколько эпизодов. — Он откашливается. — Ноябрь…
Полковник на мгновенье приоткрывает глаза, бросает взгляд на газетную вырезку.
— Ноября, двадцать пятого дня, тысяча семьсот восемьдесят третьего года. Я только что приехал в Нью-Йорк из Олбани с женой и дочерью. Американские штаты заключили мир с Англией. Англичане готовились покинуть нашу страну. Генерал Вашингтон собирался совершить триумфальный въезд в город…
Ниже следует запись воспоминаний полковника, но не в том виде, как он мне диктовал, а в окончательном, с учетом поправок, внесенных его собственной рукой.
Воспоминания Аарона Бэрра — I
Примерно в полдень я приехал со своей женой Теодосией в таверну «Кейпс» на Бродвее. На улицах было полно ветеранов, пьяных, но счастливых. Нью-Йорк в те дни не был большим городом, но жители, несмотря на заметную примесь голландской крови, отличались живостью, как и сейчас. В прихожей толпились бывшие офицеры с черно-белыми кокардами и веточками лавра — знаками храбрости и патриотизма. Я почти всех их знал, хотя с женами знаком не был. Особенно хорошо помню генерала Мандуггала, он был заика и от радости совсем уж невнятно лопотал по-шотландски.
Теодосия пряталась за меня, стесняясь чужих. Но вот Элизабет Гамильтон крепко взяла ее за руку, как это умеют делать Скайлеры, и представила нескольким дамам. В юности Элизабет отличалась красотой; пожалуй, только слишком выдавались скулы. Мне говорили, будто Гамильтон рассказывал ей про все свои измены. Если так, у них было о чем поболтать.
Меня приветствовал мой старый друг Трауп; он тоже теперь занимался адвокатской практикой (за две недели в городе у меня скопилось столько дел, что я едва справлялся с ними).
— Великий день! — согласились мы с ним, хотя война закончилась не вчера, уже прошло какое-то время. Сегодняшней церемонией мы были обязаны медлительности сэра Гая Карлтона, английского военачальника в Нью-Йорке. Он все находил предлоги не отправляться восвояси: то погода не позволяла, то корабли нуждались в ремонте, то Его превосходительство плохо себя чувствовал. Но вот, слава богу, все это кончилось.
Пока мы ждали в таверне, солдаты сэра Гая медленно грузились на корабли у причала Бэтери. Наконец-то генерал Вашингтон мог «триумфально» войти в город, который он семь лет назад сдал англичанам и так и не сумел вернуть силой оружия.
В длинный зал быстрым шагом вошел Гамильтон, щеки у него пылали. Он тепло поздоровался с Траупом и со мной. Хоть мы соперничали в адвокатуре и каждый стремился быть первым в городе, в те дни мы с ним приятельствовали.
Какой живой, умный, милейший человечек был Гамильтон! Он умел очернить противника во имя высокой морали — настоящий дар! Его коварство поражало не меньше, чем блеск его ума.
— Он на Чатам-стрит, у водокачки, — сказал Гамильтон. Мы поняли, о ком идет речь. — Губернатор Клинтон сопроводит его сюда.
Мы поздравляли друг друга с тем, что славный генерал Вашингтон скоро окажется среди нас. В торжественные минуты людей подстерегает смешное. Я лишь однажды видел императора Наполеона: он поднимался по мраморным ступеням парижского театра с торжественной элегантностью, которую перенял от актера Тальмы. И вдруг, на самом верху лестницы, когда все мы согнулись в низком поклоне, он оглушительно пукнул.
Сегодняшнюю комедию подготовили двое английских солдат. Они потихоньку смазали жиром флагшток на причале Бэтери. И наш знаменосец, карабкаясь по флагштоку, рухнул вместе с флагом на землю, чем глубоко уязвил генерала Вашингтона.
Полковник (а с нынешнего дня генерал) Малколм подошел к нам. Подобно многим старшим офицерам, не побывавшим в бою, этому доброму человеку хотелось говорить лишь о войне. Но молодежь — а мы с Гамильтоном и Траупом считали, что наконец обрели молодость, — говорила лишь о настоящем и будущем.
— Как там ваши богатые и сиятельные друзья? — поддел я Гамильтона. Гамильтон представлял интересы доброй половины богатых тори Нью-Йорка.
— Им тоже тяжело.
— Надеюсь, я смогу быть им полезным. — Трауп нуждался в клиентах.
— Что ж, буду направлять к вам богатых вдовушек. — Пристрастие Гамильтона к богатым и сиятельным, без сомнения, объяснялось его незаконным и низким происхождением.
За пять лет до принятия конституции и создания федерального правительства разделение в нашем правящем классе было уже очевидно. Тори, сопротивлявшимся Революции, пришлось принять новые американские порядки. Но хотя армия англичан уже покинула Бэтери, тори никак не хотели расстаться со своим политическим идеалом — принципом английского правления. Они мечтали о правительстве, в котором привилегии правителей будут так же четко сформулированы, как обязанности подданных. Другими словами, они хотели воссоздать английскую систему правления. Гамильтон так упивался всем английским, что на его месте я бы на всех парусах отправился вслед за сэром Гаем в Англию, занялся бы там политикой и стал премьер-министром. Но Гамильтон решил остаться и бороться не только с вредной идеей демократии, но и с самым хитрым ее защитником — Томасом Джефферсоном, который вскоре стал посланником в Париже: конгресс загнал его туда, поскольку он провалился на посту губернатора Виргинии.
Мы услышали возгласы приветствия и поспешили к окнам. Полубог — нет, бог! — Вашингтон сходил с коня. В толпе махали шляпами. Он снял свою шляпу и сунул ее под мышку. Затем, сопровождаемый губернатором Клинтоном, Его сиятельство вошел в таверну. Между прочим, став президентом, Вашингтон пожелал, чтобы к нему обращались «Ваше сиятельство». Сенат не возражал. Палата представителей возражала и обратила внимание другой палаты на конституцию, по которой глава правительства назывался просто президентом. Договорились до того, что спикер — глупейший мистер Муленберг — намекнул даже, что генералу, возможно, хотелось бы, чтобы его величали «Ваше высочество и сиятельство». Мелкое подхалимство Муленберга не очень польстило величайшему человеку, в мире, который, как я подозреваю, вовсе не прочь был бы стать и королем, имей он сына — принца виргинского, который наследовал бы престол.
Но я забегаю вперед. Итак, знаменитейший из смертных входил в дверь таверны «Кейпс».
Мы стали в два ряда. Вашингтон медленно двигался между нами, поворачиваясь то в одну, то в другую сторону, и неподвижный, холодный взгляд озарялся неуверенной, почти мальчишеской улыбкой, когда он решал отметить благосклонностью того или иного подданного.
Поравнявшись с Гамильтоном, стоявшим рядом со мной, генерал остановился. Он вдруг повеселел, оживился, на мгновение лицо его мутным зеркалом отразило блеск Гамильтона.
— Мальчик мой. — Экая отеческая манера!
— Сегодня ваш день, генерал. Страна — ваша.
— Наш день, сэр. — И лицо его помрачнело, ибо он повернулся ко мне и увидел себя совсем в ином зеркале.
— Полковник Бэрр. Надеюсь, здоровье ваше поправилось?
Я укрепил в нем эту надежду и представил ему его старого друга, а мою новую жену. Теодосия сделала глубокий реверанс, словно перед королем.
Вашингтон, улыбнувшись, наклонился и взял ее под локоть.
— Полковник Бэрр, как и все мы… — По своему обыкновению, он не находил нужных слов. Я смутился. Теодосия побледнела. Гамильтон сделал то, для чего его предназначали небеса.
— …околдован хозяйкой Эрмитажа, — сказал он.
— Именно. — Вашингтон двинулся дальше, а Гамильтон подмигнул мне, верней, стрельнул в меня ясным голубым взглядом. Но что на самом деле думал он о Вашингтоне? Мы к этому подходим.
ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ
Полковник Бэрр в восторге от наших занятий, особенно когда перечитывает то, что надиктовал, и вносит изменения в текст.
— Все равно что готовить речь — защитительную, конечно!
Он все еще читает и делает пометки на полях «Жизни Александра Гамильтона». Старое соперничество не дает ему покоя.
— Вот как, — говорит он, — оказывается, мой друг Гамильтон считал, что у меня были «сомнения» по поводу конституции. Наконец-то он попал в точку. Я сомневался — и сомневаюсь до сих пор. Я тебе уже говорил, я знал, что в своем первоначальном варианте конституция не просуществует и пятидесяти лет. Так и вышло. Бесконечные поправки продолжают изменять ее суть — и все же недостаточно.
Он открыл том сочинений Гамильтона, полистал.
— Никто не скажет, что конституцию писали простаки. Я знал их почти всех: очень способные, ловкие адвокаты и не одного клиента спасли от верной петли. Законченные циники. Вот послушай Гамильтона.
Бэрр начал читать:
— «Люди всегда будут преследовать свои интересы. Человеческую природу изменить так же трудно, как противиться мощному потоку эгоистических страстей. Мудрый законодатель незаметно изменит русло и направит поток, если возможно, на общее благо». Мне нравится это «если возможно». А что делать мудрому законодателю, если это невозможно? Боюсь, он станет тоже думать только о своем благе.
Полковник вдруг рассмеялся и вспомнил, как однажды Гамильтон произносил предвыборную речь перед группой мастеровых.
— Увы, Гамильтон всегда обращался с низшими, подчеркивая, что они низшие… Кому такое приятно? Боюсь, толпа издевалась над ним. Взбешенный, в отчаянии он крикнул: «Вы сами свой злейший враг!» Что бы сказал он теперь? Ведь «быдло» (так он называл народ) управляет. Или мы только льстим ему, делая вид, будто оно управляет?
Он отложил книгу. Начал работать.
Воспоминания Аарона Бэрра — II
В 1787 году я не принимал никакого участия в дебатах, не высказывался ни за ни против конституции. Как прочие, я читал «Публия» в газетах. Как и прочие, я очень скоро сообразил, когда за «Публием» скрывался Гамильтон, когда Джей, когда Мэдисон. Как и прочие, я знал Гоббса и его непоколебимую веру (разделяемую Гамильтоном), что любая форма правления, даже тирания, лучше анархии. Читал я и Монтескье, чьи труды оказали большое влияние на трех «Публиев». Но в глубине души мне, скорее, нравилась свободная конфедерация штатов, которая существовала в период между 1783 и 1787 годами. В конце концов, Нью-Йорком вполне сносно управляла фракция губернатора Клинтона. И если кое-где в других штатах дела обстояли неважно — это уж их дело; пусть бы сами о себе заботились, а не полагались на кучку умников-адвокатов из Филадельфии. Словом, некоторая доля анархичности — не такая уж плохая штука.
Вопреки принятому мнению движение за конституцию и прочное федеральное правительство началось не с Гамильтона, а с генерала Вашингтона. Его обычно изображают добропорядочным тугодумом, этаким Цинциннатом, который счастлив лишь на своей ферме, когда толкает тяжеленный плуг собственного изобретения. Да, конечно, он был человек достойный (хотя и крайне тщеславный) и тугодум. Но не было его умней, когда дело касалось бизнеса и коммерции. Из соображений чисто практических он решил создать сильное центральное правительство и его возглавить. С самого начала он был законченным федералистом, и Гамильтон был ему нужен куда больше, чем он Гамильтону, чтоб обеспечить безопасность своих капиталовложений в земельную собственность.
Джефферсон мне рассказывал, что, несмотря на бесчисленные жалобы Вашингтона о тяжком бремени общественной деятельности, тот после Революции умирал от тоски. «Они из меня кабатчика делают!» — ворчал он, когда очередная партия любопытных сваливалась на него в Маунт Вернон. Когда Вашингтона избрали, он, как всегда, сидел без денег и перво-наперво взял аванс из государственной казны в счет будущего жалованья.
Помню одну неофициальную встречу с Вашингтоном после Революции. Это было в октябре 1791 года, вскоре после того, как я, в качестве сенатора от штата Нью-Йорк, прибыл в Филадельфию. В то время я мечтал написать подлинную историю Революции. Я вставал каждый день в пять утра и отправлялся в государственный департамент в сопровождении писаря. Вместе с ним до десяти часов мы просматривали и переписывали документы, а потом я шел на заседание сената.
Желая разобраться в некоторых военных вопросах, я попросил аудиенции у Его сиятельства. Согласие я получал так быстро, что мае следовало бы насторожиться. Ведь я занял место гамильтоновского тестя в сенате. Но началась Французская революция, и я, признаюсь, решил, что настала новая эра в истории человечества. Потом-то я понял, конечно, что на старую дурную эру всего лишь напялили маску и в улыбке вот-вот обнажатся окровавленные клыки. Но в 1791 году я, как и Джефферсон, был предан другой Революции и посему меня кляла федералистская фракция.
Президент принял меня в роскошном кабинете. Он совершенно переделал дом Морриса, превратив его в королевский дворец. Почтительный молодой секретарь, склонясь, распахнул дверь, и я вошел.
Вашингтон стоял у камина, словно позируя для портрета. Чересчур знаменитое желтое лицо сильно состарилось. К тому же Вашингтона замучили фурункулы. Он торжественно меня приветствовал и остался в той же позе, так что мы стояли перед камином, словно две непарные каминные подставки.
Я задавал ему вопросы о Революции, он давал уклончивые ответы. Как вопросы, так и ответы я забыл. Помню только его холодное благоволение.
— Вы предприняли весьма полезное дело, сенатор Бэрр. — Ему не льстили мои вопросы, они подчеркивали его поражения. Секретарь подал ему депеши, он взглянул на них, отпустил секретаря и пригласил меня сесть. Медленно, осторожно, морщась от боли, Вашингтон устроился в троноподобном кресле, выставив громадную ягодицу: проклятый фурункул выскочил прямо на этом чувствительном месте. Я выразил ему сочувствие в связи с вестями с Запада, где его любимец, генерал Сент-Клер, потерял чуть не тысячу солдат в боях с индейцами.
Вашингтон остался холоден и мрачен.
— Я готовлю послание конгрессу в связи с этим трагическим событием. Я совершенно уверен, что, если мы не уничтожим воинственные дикарские племена, мы потеряем все наши новые земли к западу от Огайо. — Он говорил голосом ожившей статуи.
Тут он подвинулся в кресле. Вскрикнул от боли, грубо выругался. Поняв, что в моих глазах он уже не царственная особа, а просто плантатор из Виргинии с нарывом на заду, он сказал:
— Разваливаюсь, а?
— По-моему, вы полны сил, сэр.
— B моей семье долго не живут. Я не жалуюсь. Судьба. Но не думал я, что конец окажется таким унизительным.
В первый и единственный раз он заговорил со мной почти как простой смертный — необычная снисходительность, ведь я был не влюбленный в него субалтерн, а сенатор-антифедералист и меня терпеть не мог его любимый Гамильтон.
— Слава — хорошее лекарство, сэр.
— Паллиатив. — Бледная, холодная улыбка приоткрыла плохие зубы. — Но конечно, я не соглашусь на второй срок.
Как мы теперь видим, все президенты говорят одно и то же. Но тогда никто еще не понимал, что это болезнь исполнительной власти; тогда все только начиналась.
— Полковник Бэрр, мне не нравится дух раскола. Я не могу понять, почему люди благородного происхождения, с общими интересами так жестоко ссорятся друг с другом, в то время как им необходимо объединяться перед лицом толпы. — Меня тронула его откровенность и необычная — в нем — непринужденность обращения с человеком, которого он не имел оснований ни приближать, ни любить.
— Разногласия, сэр, могут объясняться честным стремлением понять, как управлять лучше…
— Мне стало известно, полковник Бэрр, что вы восхищаетесь кое-чем из того, что происходит сейчас во Франции.
— Я думаю, сэр, причины их революции понятны и принципы, которые они утверждают, прекрасны.
— И тем не менее, если бы не король Луи, англичане все еще были бы на этих берегах.
— Согласен, с ним обошлись скверно.
Вашингтон говорил, не обращаясь ко мне, словно меня здесь и не было. Он глох и половины того, что ему говорили, не слышал.
— Когда мне доложили о предательстве некоего капитана Даниэля Шейса — я когда-то знал его, он негодяй, — я понял, что нам нужно твердое правительство, способное защитить нашу собственность. Мистер Гамильтон со мной согласился, и мы созвали конституционное собрание, на котором — не скрою, преодолев себя, — я председательствовал. Я считаю это собрание, сэр, самым значительным этапом в своей карьере. Ибо, если бы мы не придумали федерального правительства, они отняли бы у нас все. — Лицо его вдруг густо покраснело. Руки, протянутые к камину, задрожали. — Массачусетское отребье разделило бы всю собственность среди недостойных. Даже ваши французы не заходят так далеко. Я тогда сказал, что это неестественно. Это надо пресечь. Не для того мы воевали с заморским деспотом и выиграли войну, чтобы страдать от собственного народа, сделавшего ради победы, разрешите вам заметить, куда меньше тех джентльменов, которые отдали все во имя нашей независимости. И мы во что бы то ни стало сохраним наши завоевания, полковник Бэрр. Уверен, что вы согласитесь со мной.
Я меньше всего ожидал, что генерал Вашингтон ударится в политическую теорию. Ни Гоббса, ни Монтескье, ни Платона, ни других книг подобного рода он не читал. Но он умел складывать и вычитать по бухгалтерской книге, оценивать имущество, орлиным оком замечать в зерне — своем зерне — вредителя и орлом же бросаться на него и убивать.
— Конечно, я не поддерживал капитана Шейса. Я не признаю безнравственного раздела собственности, но…
— Рад это слышать. — Он меня прощупывал. Бог знает, что Гамильтон наплел обо мне Его сиятельству.
— …но я за более рыхлую федеральную структуру.
— Да, вы вроде моего старого друга губернатора Клинтона. Такие дружеские разногласия естественны в здоровом обществе.
В комнату неслышно вошел секретарь и что-то шепнул генералу в здоровое ухо.
— Пусть войдут. — Вашингтон со стоном поднялся с кресла. Несколько ливрейных лакеев-негров вошли в комнату, неся подносы с образцами столовой утвари. Вашингтон приказал разложить ножи, вилки, расставить тарелки. — Не выскажете ли вы нам свое мнение, полковник Бэрр? Я слышал, вы обставили Ричмонд-хилл с неслыханной роскошью.
— Да, сэр. Но должен предупредить вас, роскошь дорого обходится.
— Увы, не могу с вами не согласиться.
Итак, полчаса мы с президентом рассматривали столовую утварь, пытаясь отыскать поистине демократическое равновесие между слишком простой «республиканской» посудой и чересчур богатой «королевской».
Никогда не встречал я человека, который придавал бы такое значение внешним признакам богатства, как Вашингтон. Но в этом-то и заключался его гений. Он и проявлялся именно в этом «вживании в роль», а создать иллюзию величия невозможно, не вникнув скрупулезно в детали. Значительная часть его президентского времени уходила на придумывание монограмм для ливрей и королевских карет, не говоря уже об изобретении с помощью Гамильтона сложнейших правил дворцового этикета.
Между прочим, именно тогда законодатели в Пенсильвании приняли закон, по которому каждый, кто ввезет в штат взрослых рабов-негров, обязан освободить их по прошествии шести месяцев. И хотя неясно было, считать или не считать президента жителем Пенсильвании только потому, что столица расположена в этом штате, Вашингтон счел за благо собственных рабов быстренько увезти в Виргинию, дабы они не заразились идеями свободы, которую он вовсе не намеревался им предоставлять. Настоящий виргинец!
Расстались мы друзьями. На другой день, когда я пришел в государственный департамент поработать в архиве, смущенный клерк сказал мне, что государственному секретарю Джефферсону пришлось закрыть мне доступ к архивным материалам; предлог был сомнительный: некоторые материалы могут коснуться текущих дел исполнительной власти, и таким образом равновесие между властью законодательной и исполнительной может нарушиться. И хотя Гамильтон любил хвастаться, что это он запретил мне пользоваться архивом, Джефферсон доверительно мне сообщил, что на самом деле запрет исходил от президента Вашингтона, которому не хотелось, чтобы я чересчур вникал в его военный послужной список. Но напрасно Вашингтон меня боялся. Правда, я изобразил бы его как скверного военачальника, коим он и являлся, но и показал бы, что он был главным создателем Союза; я показал бы, как он своей исключительно мощной волей и с мудростью змия превратил рыхлую и ненадежную конфедерацию суверенных штатов в существующее по сей день сильное федеральное государство и отлил его по мрачному образу Римской империи и по собственному своему подобию.
ГЛАВА ДВЕНАДЦАТАЯ
Прошло несколько дней. Полковник Бэрр просматривает мои записи. Вносит поправки.
— Бедный Гамильтон. Как он жаждал безраздельной славы! У него в архиве нашли записку, в которой он клянется, будто написал свыше шестидесяти статей для «Федералиста», а ведь он написал самое большее пятьдесят. Он посягал на лавры Джемми Мэдисона.
Бэрр выпускает в меня три голубоватых кольца дыма и вдруг загорается злорадством.
— Ну, а теперь возьмемся за мистера Джефферсона. Вот его иногда называют «Великим Уравнителем» общества. А уравнял-то он всего-навсего одного меня!
Воспоминания Аарона Бэрра — III
Я был самым упрямым из всех политических руководителей новой республики. Вашингтон, Адамс и Джефферсон всю жизнь прослужили в конгрессах и ассамблеях или имели с ними дела в роли губернаторов и генералов. Подвизаясь на поприще политики, Гамильтон с самого начала возмечтал превратить Соединенные Штаты в некий аристократический пруд, на глади которого он станет плавать и сверкать. Меня же больше занимали моя жена и дочь, ну и еще юриспруденция, дававшая мне возможность их содержать.
Но спустя шесть месяцев после того, как я обосновался в Нью-Йорке (апрель 1784 года), меня избрали в ассамблею. «Это поможет вам в юридической карьере», — сказал мне Гамильтон, который мечтал об избрании в ассамблею, но мудро не выдвинул своей кандидатуры перед нашими немногочисленными избирателями (из 13 000 мужчин, живших в Нью-Йорке, только 1300 обладали имущественным избирательным цензом). Я вспомнил Гамильтона несколько лет назад, когда право голоса распространили на всех граждан мужского пола в возрасте от двадцати одного года. Доживи Гамильтон до наших дней, его хватил бы апоплексический удар от такого демократизма и сам канцлер Кент показался бы ему санкюлотом!
По истечении первого срока полномочий я так истосковался по семье, что не выставил своей кандидатуры для переизбрания. В 1788 году меня снова выдвинули кандидатом в ассамблею от антифедералистов и, к моему большому облегчению, забаллотировали. Я оставался довольно безразличным к делам общественным и почти не принимал участия в выработке конституции.
Моя политическая карьера началась в 1789 году, по всем правилам, когда мою кандидатуру выдвинули на пост губернатора. По дружбе я поддержал кандидата федералистов, старого приятеля судью Ейтса. Я предупредил Клинтона, что многим обязан судье и, хоть всегда прежде я голосовал за Клинтона, на сей раз мне придется голосовать против.
— Понимаю, понимаю. — Губернатор улыбнулся ясной улыбкой, которая обычно предвещала политическую расправу. Но со мной незачем было расправляться, ибо я не претендовал ни на какой политический пост. На сей раз я встал над схваткой: если жаждешь лавров победителя, лучше места не придумаешь.
Клинтона переизбрали ничтожным большинством голосов. Чтобы залучить меня в свой клан, он предложил мне пост прокурора штата — эта должность была мне не нужна. На меня надавили. Трауп сказал: «Вы будете опорой своим коллегам в штате. Вы об этом не пожалеете». Иными словами, не забывай своих федералистских коллег-юристов.
Как выяснилось, я никому не принес пользы на этом посту, где мне в основном приходилось глядеть в оба, как бы меня не вовлекли в земельные спекуляции, которыми занимались люди Клинтона. Не углубляясь в скучные детали, скажу только, что администрация штата в то время была так же поражена коррупцией, как и сейчас. В этом явно повинен гнилостный воздух Олбани.
А мой друг Гамильтон уходил ввысь, как ракета. Республика, конгресс, президент и премьер-министр де-факто воплотились в особе Гамильтона. В Нью-Йорке он превзошел себя, заставив штат ратифицировать конституцию и приведя в ярость губернатора Клинтона. Затем Гамильтон назначил первыми двумя сенаторами — тестя, генерала Скайлера, и старого друга из Массачусетса Руфуса Кинга, чем обозлил своих союзников Ливингстонов, лишив их исконного, по их мнению, места в сенате. Гнев Ливингстонов потом обернулся пагубой для Гамильтона и благодатью для меня.
В первые месяцы правления Вашингтона я много разъезжал по штату Нью-Йорк и иногда останавливался в Клермонте — поместье Ливингстонов на Гудзоне, — где проводила дни великая, вышедшая из милости семья, мрачно мечтая о мести моему другу Гамильтону, ловко лишившему ее высокого положения в республике.
Там-то, в гостиной Клермонта, меня и посвятили в самые дерзкие планы Ливингстонов. Мои отношения с канцлером Ливингстоном всегда были добрые, но не близкие. Во-первых, он был совершенно глух. Во-вторых, смотрел на мир сверху вниз, но ведь он и был наверху, а мир — внизу.
По просьбе канцлера мы — двенадцать человек — встретились в один из тех серебристых октябрьских дней, когда листва в Клермонте пылает желто-красным пламенем и пугливые олени, бросая фиолетовые тени на лужайку, следят, как мы следим за ними.
Канцлер, к счастью, сразу перешел к делу.
— Срок полномочий сенатора Скайлера истекает четвертого марта. Не вижу никаких причин, полковник Бэрр, почему бы вам не занять его место.
Настоящий политик, как и настоящий генерал, никогда не выказывает удивления. Я знал, что намечается альянс между антифедералистами (иначе говоря, антигамильтоновцами) и фракцией Ливингстона. Губернатор Клинтон не раз хвалил канцлера на званых обедах: «Удивительно глубокий человек, такой образованный!»
И мне предстояло воплотить в жизнь сей новый альянс. Я испытал скорее любопытство, чем удивление.
— Я вовсе не уверен, канцлер, что стремлюсь стать сенатором.
Это была правда. В те дни функции сената оставались загадкой для всех, включая его председателя Джона Адамса, который был просто не в состоянии измерить всю глубину обязанностей вице-президента. «Что же мне дальше-то делать?» — раздавался, бывало, с председательского места его беспомощный крик. Что тут ответить? «Председательствуй» и еще: «Жди смерти президента или пенсии». Место же в палате представителей куда приятней, ибо палата контролирует казну. Джемми Мэдисон всегда предпочитал палату представителей.
Канцлер стал резок, едва понял смысл моего ответа.
— У нас есть голоса в сенате. Губернатор Клинтон заверяет меня, что вы получите голоса в ассамблее, это его вотчина. Не вижу для вас причин отказываться.
Ну а я видел причину. Какую цену они запросят? Торг велся по всем тонким правилам политики.
— Интересно, — сказал я, — почему вы выбрали именно меня?
— Вы самая подходящая кандидатура!
Это крикнул один из родственников Ливингстона со стороны жены. Не помню, кто именно. Но разве их всех упомнишь?
— Вы самый приемлемый кандидат. — Канцлер смягчился. — Вы поддержали нашего друга судью Ейтса и показали независимость ума. И хоть вы не вполне антифедералист, отношения между вами и нашим губернатором отличные. Он даже говорил мне, что вы самая светлая голова среди всех юристов штата.
— Вряд ли было тактично говорить так в вашем присутствии, господин канцлер.
Такт — не главная черта этого достойного человека. Но у него есть свои добродетели, хоть он и не вполне джентльмен.
Как упорно Ливингстоны использовали это слово, дабы выпятить немногих, рожденных джентльменами, и унизить серую толпу, из нищих, опасных рядов которой Александр Гамильтон вспрыгнул на высокий сверкающий насест.
«Ведь женитьбы на Элизабет Скайлер недостаточно! — говаривала хозяйка Клермонта. — Жена не может совершенно переделать мужа».
То есть «узаконить» его, сделать «своим».
Вся ирония в том, что Гамильтон поклонялся аристократам, а они никогда не воспринимали его всерьез, только использовали. Он бы стал президентом, обратись он к народу, из которого вышел, к мастеровым, у которых были голоса, к кабацкому люду, который признал бы в нем своего человека, вознесшегося благодаря уму и хитрости. Но Гамильтон не хотел иметь ничего общего с бедняками, с низшим сословием. Он отказался от своих корней и якшался лишь с людьми благородного рождения и богачами, им он служил верой и правдой, перестав быть самим собой.
— Мне казалось, господин канцлер, что вы больше других можете претендовать на место в сенате.
— Без сомнения. — Канцлер предпочитал говорить без обиняков. — Но в данный момент невозможно избрать никого из Ливингстонов. А вас — можно. Все уже подготовлено. Так вы согласны? — Он выжидательно приставил ладонь к уху.
— Да! — заорал я. — Но не беру на себя обязательств ни перед какой фракцией.
Канцлер в раздумье смотрел на пыльные семейные портреты. Ливингстоны — и не без оснований — считают Нью-Йорк даром короля Карла, своей собственностью, на которую вечно посягает не только демократия, но, что еще страшнее, семья Скайлеров. Тогдашние Ливингстоны предпочли бы навозную телегу и гильотину, лишь бы не играть второй скрипки.
— Разумеется, — сказал канцлер.
И таким образом, из-за соперничества между двумя глупыми гордыми кланами меня избрали в январе тысяча семьсот девяносто первого года третьим сенатором Соединенных Штатов от Нью-Йорка.
Я не гнался за этой должностью, не хотел ее — и это придавало мне силы. Хотя я и был антифедералистом, у меня сложились прекрасные отношения со многими лидерами федералистов, и потому можно было действовать в высшей степени свободно. Мне не исполнилось еще и тридцати пяти, и я представлял важный штат. Пришлось покориться судьбе. Я стану президентом — должность, для которой (мне твердо представлялось) я, как никто, подхожу по характеру и жизненному опыту, не то зачем бы судьбе так высоко меня возносить? От меня требовалось только одно — подниматься. Гамильтона я не боялся. Видел его недостатки. А человека, которого мне следовало бояться, считал своим другом. Я позволил Джефферсону меня обмануть — и потерял все.
Воспоминания Аарона Бэрра — IV
Томас Джефферсон написал, что познакомился со мной только в сенате в Филадельфии (столица двигалась все дальше на юг благодаря виргинской хунте). Не будучи врагом истины, Джефферсон, однако, не отстаивал ее чересчур рьяно, если она противоречила его версии. Мы познакомились гораздо раньше.
Так как конгресс не заседал до осени 1791 года, я провел лето дома, зная, что нам с женой предстоит долгая разлука. Дом в Филадельфии купить было трудно, и жена моя все хворала.
В то лето Джефферсон и Мэдисон совершили свое знаменитое турне по штатам Нью-Йорк и Новая Англия. Их якобы интересовала ботаника, а также зловредные повадки гессенской мухи.
На самом же деле они хотели укрепить свои позиции против Гамильтона, который подчинил себе президента, конгресс и кабинет. Не имея опоры в кабинете, Джефферсон боролся за сохранение республики, которую Гамильтон стремился превратить — как утверждал Джефферсон — в скверную копию британской системы с палатой общин, палатой лордов и короной.
Примерно в середине июня Генриетта Колден пригласила меня на обед в узком кругу в честь государственного секретаря. Жена была больна, и я пошел один.
Генриетта тогда пользовалась успехом. Жизнерадостная, умная, она действовала как шампанское даже на самых мрачных гостей. Подозревали, что вдовец Джефферсон не просто друг вдовы Колден и что раньше она была любовницей Гамильтона. Но какая миловидная женщина в Нью-Йорке не вызывала более или менее серьезное внимание Гамильтона? Он был на редкость любвеобилен.
В пестрой гостиной Генриетты собралось несколько мужчин и женщин. Когда обо мне доложили, она схватила меня за руку, подвела к самому высокому мужчине в комнате.
— Наш новый сенатор! — воскликнула она, предполагая, что высокого мужчину не надо представлять, а с меня достанет и титула.
Большая вялая рука дотронулась до моей руки. Обычно я не обращаю внимания на рост, но рядом с Джефферсоном я всегда боялся вывернуть шею, потому что мне — как и всякому, кроме тех немногих, кто был одного с ним роста, — приходилось задирать голову, чтобы заглянуть в веснушчатое лисье лицо с умными карими глазами и тонкогубой улыбкой.
— Полковник Бэрр, какая честь! — Голос у него оказался тихий, и в нем проступало коварство. Даже стоя с ним лицом к лицу (верней, к груди), приходилось напрягать слух, чтобы его услышать, особенно когда он Погружался в раздумье и слова текли, словно из неистощимого источника. В этом словесном потоке слушатель — а иногда и он сам — мог разобрать кое-что интересное. Да, Джефферсон был самый очаровательный человек из всех, кого я знал, но и самый коварный. Будь в нем чуть поменьше очарования философа, его политическое коварство, наверное, не так бы поражало.
Мы любезно раскланялись.
— Мистер Мэдисон заболел! — весело объявила гостям Генриетта.
— Придется вам терпеть меня, — Джефферсон с обожанием взглянул на нее. — Мистер Гамильтон утверждает, что все виргинцы на одно лицо.
Генриетта пришла на защиту Гамильтона. В политике она совсем не разбиралась, зато в политиках — прекрасно.
Джефферсон подробно рассказывал о недавней поездке в Новую Англию.
— Это была ботаническая экскурсия, — сказал он совершенно серьезно. — Мы с мистером Мэдисоном просто в восторге от того, что там узнали, особенно интересны половые инстинкты гессенской мухи.
Джефферсон прикинулся, будто его интересуют мои взгляды. Расспрашивал о губернаторе Клинтоне, с которым однажды встретился в Олбани. Дал понять, что знает все подробности моего избрания в ассамблею. Расспрашивал о моих отношениях с семьей Ливингстонов. Канцлер сидел на другом конце стола, но мои комплименты в его адрес, без сомнения, ему передали.
По-моему, Джефферсон писал куда хуже, чем говорил, хотя и не менее многословно. Джефферсон обо всем имел свое мнение и неодолимо стремился выражать оное, касалось ли оно цвета кожи у негров (результат, по его теории, особенно вирулентной формы проказы) или возведения стен. Его нескромные эпистолярные труды когда-нибудь приведут в восторг или повергнут в смятение историков. Но письма его ко мне (большинство погибло во время кораблекрушения) являют образцы остроумия и здравого смысла.
К сожалению, Джефферсон не всегда чувствовал, когда нужно промолчать. За несколько месяцев до нашей встречи у миссис Колден вышла книга Тома Пейна «Права человека» с хвалебным отзывом Джефферсона на обложке. А так как английское правительство совсем недавно обвинило автора в государственной измене, то американскому государственному секретарю не подобало хвалить предателя, да к тому же еще и рассуждать о том, как опасно для Соединенных Штатов то, что Пейн окрестил «ересью».
Гамильтоновская газета «Юнайтед Стейтс» незамедлительно опубликовала нападки на Джефферсона, подписанные неким «Публиколой». Думали, что это псевдоним Джона Адамса. Но «Публиколой» оказался сын вице-президента — Джон Куинси Адамс.
— Понять не могу, почему мистер Адамс так расстроился, — прикинулся наивным Джефферсон.
— Возможно, потому, что он сам еретик.
Эту реплику подал Филип Френо, который тогда писал разгромные статьи против Адамса и Гамильтона для «Дейли адвертайзер».
Потом я узнал, что Джефферсон специально просил Генриетту пригласить его на обед. Френо уважал идеи, а не личности; он был не из тех, кем любил окружать себя Джефферсон. Но через два месяца после этого обеда Френо стал получать приличное жалованье референта по иностранным языкам в джефферсоновском государственном департаменте в Филадельфии и редактировать выпускаемую Джефферсоном антиправительственную газету под названием «Нэшнл газетт». Это многих возмутило. Обычно государственные деньги не тратят на жалованье редактору, который проводит политику, способствующую уничижению этого государства. Справедливо, хоть и злобно, Гамильтон предложил Джефферсону и Френо подать в отставку, ежели они не одобряют правительства, которое платит им жалованье. Время от времени Джефферсон делал заявления о том, что ничего общего не имеет с газетой Френо; причем он, счастливец, искренне верил в каждое из своих переменчивых суждений.
Специально для наших ушей Джефферсон сочинил причину ссоры с Адамсом.
— Признаюсь, когда я написал о «ереси» в письме, на публикование которого я вовсе не давал согласия издателю… — Правда это или вранье? У Джефферсона никогда не поймешь. — …я имел в виду ересь, к которой склоняется мистер Адамс. Он закоренелый монархист, и сам мне в том не раз признавался.
Два года спустя в разговоре со мной Адамс все это отрицал:
— Я никогда в жизни серьезно не разговаривал с мистером Джефферсоном. Даже будь я тайным монархистом, я никогда бы не доверился мистеру Джефферсону. К тому же он прекрасно знает, что я вовсе не тот, за кого он меня выдает, что он сам создал мой искаженный образ, точно так же, как образ ублюдка-полукровки. Мистер Джефферсон прекрасно понимает, что самый верный способ возвеличить себя — это натравить народ на нас с Гамильтоном и создать впечатление, будто мы хотим короля, в то время как мы мечтаем лишь о сильном федеральном правительстве. — То есть о таком, какое несколько лет спустя и создал сам Джефферсон.
Канцлер Ливингстон сказал, что государственный секретарь, видимо, преувеличивает. Неужели мистер Адамс такой уж монархист?
Блестящие карие глаза округлились, как у ребенка, а голос стал таким тихим, что нам пришлось перегнуться через стол над нашими фужерами, чтобы расслышать странную угрозу:
— Поверьте, джентльмены, здесь, в этой стране, существует заговор в самых высоких кругах против наших институтов. Англия хочет изменить их по своему образу и подобию. Однажды в моем присутствии Гамильтон сказал, что наша конституция «ни то ни се». О да, в своем презрении к республике он не уступит Катилине!
Я не подозревал тогда, что во чреве времени вызреет мысль наречь меня именем классического предателя и что Джефферсон радостно исполнит обязанности повитухи при этих неестественных родах. Но я, в неведении будущего, с восторгом внимал, как прекрасный тихий голос рассказывает о том, что Гамильтон выдаст тайны Казначейства друзьям-спекулянтам в надежде создать монархию при помощи английского золота. Теперь такие разговоры вспоминаются как чистое безумие. Но в то время это звучало вполне убедительно.
Беседа, по всей видимости, произвела большое впечатление на Френо. На меня тоже. Джефферсон завораживал меня, чего я не испытывал ни с одним другим человеком. И даже когда я узнал, как небрежно он обращается с истиной, я не мог противостоять его приглушенному голосу, его ясным детским глазам, его фанатическим идеям, его махровой клевете. Без сомнения, в нем было что-то колдовское.
Канцлер съязвил по поводу известного высказывания Джефферсона во время бунта Шейса, что иногда лучшим удобрением для древа свободы служит кровь. Джефферсон ответил вполне серьезно:
— Я лишь хотел сказать, что мы сможем себя поздравить, если за двести лет у нас произойдет всего лишь один такой бунт. Надо отдать нам должное: мы исправляем нравы, не дожидаясь бунтов.
— Как бы там ни было, вы теперь герой всех «шейсовцев».
В глубине души канцлер был федералист, хоть ему приходилось изображать республиканца. Не будь он обойден с назначением на пост верховного судьи, он счел бы идеи — а то и общество — Джефферсона весьма нежелательными.
— Мы видели много этих бедняг в Новой Англии.
Джефферсон изобразил на лице грусть.
— Шейс сбил их с пути истинного. Они не поверили, что в наших силах все…
— Например, сорок процентов годовых? Или убийственные налоги? Или набитые битком долговые тюрьмы? Или…
Френо приковал взор к Джефферсону и напоминал врача, который гадает, выдержит ли больной лошадиную дозу лекарства.
— Конечно, многие их жалобы оправданны. Согласитесь, как это ужасно — бросать в тюрьму за долги.
Еще бы! Единственное, что объединяло меня, Джефферсона и Гамильтона, — это долги. Все мы жили не по средствам, на широкую ногу. Гамильтон умер, оставив долги. Джефферсон умер нищим в разваливающемся Монтичелло. К счастью, в отличие от мелких фермеров или мастеровых нас нельзя было упрятать в долговую тюрьму. Всегда кто-нибудь вызывался оплатить наши долговые обязательства, а позорные условия займа ловко прятались за затейливыми росчерками богатых магнатов, склонных искать дружбы с государственными деятелями.
Френо еще увеличил дозу.
— В Массачусетсе девяносто процентов заключенных сидят за долги. Так вот, сэр, будь я бедняком в этом штате, я бы пошел за Даниэлем Шейсом.
— Мистер Френо! — возмутился канцлер. — Конечно же, вы не разделяете взглядов этого человека? Конечно же, вы не хотите, чтобы всю собственность поровну поделили между гражданами?
За столом наступила напряженная тишина. Из гостиной доносился резкий, неприятный смех приятнейшей миссис Колден.
Джефферсон поник, сгорбился, наклонил голову, закрыл веснушчатыми руками нижнюю часть лица. Он не вмешивался в разговор.
Френо решил снять напряжение:
— Я разрешил бы вашей семье оставить за собой Клермонт, канцлер. А вот мистеру Джефферсону пришлось бы расстаться с Монтичелло, ибо он верит в демократию, а вы нет.
Джефферсон засмеялся, пожалуй, чересчур весело. Остальные сделали вид, будто им понравилась шутка. Через два года такая шутка была бы уже невозможна: эксцессы Французской революции превратили к тому времени мечту Даниэля Шейса в кошмарный сон. После парижской бойни никому в Штатах уже не пришло бы в голову предлагать раздел богатства.
После ужина мы с Джефферсоном вышли на Ганноверскую площадь. На западе проглядывала ущербная луна. В ее неверном свете Джефферсон высился надо мной, как дерево или крутой утес (стой и жди, что на тебя вот-вот обрушится лавина). Он страдал мигренями и все недоумевал, отчего бы это.
— Возможно, — сказал я в ответ на привычную жалобу, — это из-за вашего роста. Вы слишком близко к небу, к грому и молнии.
Вместо того чтобы улыбнуться моей шутке, он помрачнел.
Джефферсон шел развинченной походкой, вообще в ту пору он напоминал французского щеголя. Одевался нарядно. Длинную фигуру всегда украшали серебро и кружева, а на пальце он носил огромный золотистый топаз. Позже, сделавшись президентом и вождем демократии, он стал носить в президентском дворце старые шлепанцы и старушечьи кофты. Подобно Наполеону, актер он был великолепный, только еще утонченней, да и вообще он был куда удачливей корсиканца.
— Вот вы говорите Монтескье, — сказал Джефферсон, беря меня за руку. — В своей предвзятости он похож на англичан. Хотя в основных вопросах он проявляет мудрость. Вы с ним чем-то похожи. Он близок мне, и, конечно же, он подлинный республиканец.
На Бродвее мы обошли спящих свиней, улицы были пустынны.
Я упоминаю об отношении Джефферсона к «Духу законов» Монтескье лишь потому, что двадцать лет спустя Джефферсон жестоко на него обрушился за то, что тот доказывал, будто настоящая республика с демократическим порядком возможна лишь в малой стране. Естественно, такая «идеальная» форма правления не подходит для империи, которую Джефферсон подарил нам, незаконно присвоив Луизиану, тем самым удвоив территорию Соединенных Штатов и положив раз и навсегда конец надежде, что наша страна станет республикой, о которой мечтал барон де Монтескье и которую провозгласил Джефферсон. Чтобы обелить себя, Джефферсон восстал против своего старого идола и низверг его за «ересь» (любимое словечко Джефферсона). Но еретиком-то был сам Джефферсон, а Монтескье — истинным поборником демократии.
Я перевел разговор на политические темы. Было уже ясно, что Вашингтона сменит Адамс. Ну, а потом? Я боялся, как бы Адамса не сменил Гамильтон. Или Джефферсон. Больше некому. Я не исключал возможности, что стану лидером антифедералистов, по у меня хватало здравого смысла догадаться, что виргинец Джефферсон будет первым кандидатом в президенты после того, как Адамс ублажит Массачусетс. Независимо от того, что сулило будущее, Джефферсон нуждался во мне в ту летнюю ночь, когда мы, спотыкаясь, брели по какому-то мусору, обходя спящих свиней, ведь их визг разбудил бы и мертвого.
— По всей видимости, мы обречены на политический разброд, — меланхолически заявил Джефферсон. — Виноват во всем Гамильтон. Он насквозь испорчен.
Я промолчал, хотя питал к Гамильтону самые дружеские чувства. (Даже тогда я не знал, до чего доходил он в своей клевете.) Джефферсон же не питал иллюзий насчет нашего врага.
— Он во что бы то ни стало хочет превратить республику в монархию.
— А сам — выступить в роли Александра Великого?
Джефферсон не отличался чувством юмора.
— Нет, я думаю, королем он сделает Адамса, а сам займет пост премьер-министра, вероятно, станет новым Уолполом. Предупреждаю вас, полковник Бэрр, Гамильтон — воплощение предательства!
Я сменил тему разговора:
— Что вы думаете о губернаторе Клинтоне из Олбани?
Джефферсон был одержим, когда дело касалось монархизма, а этот порок он приписывал всем, кто стоял на его пути. Джефферсон возомнил, будто лишь он представляет демократию и что все мы, от Вашингтона до Адамса и Гамильтона, только и мечтаем о коронах и о том, как бы выбить его из седла. Я выбрал Джорджа Клинтона как совершенно безопасную тему. Он был не монархистом, а просто абсолютным властителем Нью-Йорка и врагом федералистов.
Джефферсон даже замурлыкал, когда стал рассказывать о своей встрече с Клинтоном.
— Энергичный человек, не правда ли? А эти его странные теории относительно гессенской мухи! Прямо скажем, ваш губернатор не блещет ученостью, но святая простота его даже привлекательна. Знаете, он очень доволен, что вас избрали.
— Да, я знаю.
Ночной дилижанс чуть не переехал нас около церкви св. Троицы.
— Должен признаться, я так же рад неудаче сенатора Скайлера, как и тому, что столь выдающийся поборник демократии, как вы, пополнит наши ряды в Филадельфии. — Когда Джефферсон нуждался в чьей-нибудь поддержке, он беззастенчиво льстил. — Гамильтон может потерять большинство в сенате.
— Но его поддерживает президент.
Джефферсон вздохнул:
— Наш досточтимый президент думает, что Гамильтон самый умный человек на свете.
— Будем надеяться, господин Джефферсон, что президент ошибается.
Даже в темноте я почувствовал, как уставились на меня его ясные глаза, сверху вниз. Он ответил не сразу.
— Возможно, — сказал он после долгого молчания, — следовало бы организовать сеть клубов или обществ для тех, кто предан демократии.
— Есть общество св. Таммани.
«Таммани» образовалось четыре года назад как патриотический клуб, где крупные нью-йоркские зеленщики и мебельщики изображали политических деятелей.
— Но члены Таммани в основном федералисты. — Охота за страшной гессенской мухой не совсем отвлекла Джефферсона от политической реальности небольшого, но важного нью-йоркского избирательного округа.
— Нашим друзьям следовало бы организовать демократические общества, особенно теперь, когда так популярна Французская революция.
Я с ним согласился. Прощаясь, Джефферсон обхватил мою руку обеими ладонями.
— Дорогой полковник Бэрр, нам еще так много нужно сделать. Провести столько боев, искоренить столько ереси. Надо держаться друг за друга.
— Можете во всем на меня положиться, — сказал я. Я говорил искренне. А он? Трудно сказать. Джефферсон был беспощаден, он хотел создать новый мир, мир вольных фермеров, живущих в богатых поместьях, где работают рабы. Удивительно, как он умел свести воедино вопиющие противоречия. Но ведь на словах — если не на деле — Джефферсон был удивительно человечен, поразительно расплывчат, насквозь бесчестен, и все это так ненавязчиво. Он так страстно обманывал самого себя, что Джефферсон-президент и Джефферсон-человек (не говоря уже о Джефферсоне — авторе запутанных сентенций и бредовых метафор) стал совершенно непонятен даже для почитателей. Провозгласив неотъемлемые права человека для всех (кроме рабов, индейцев, женщин и неимущих), Джефферсон пытался силой захватить обе Флориды и мечтал завоевать Кубу и, тайно купив Луизиану, направил военного губернатора в Новый Орлеан против воли его жителей.
Наконец, во время второго срока своего президентства Джефферсон, увидев, что не смог создать на земле рай, о котором мечтал, с подозрительной легкостью согласился на гамильтоновский порядок и, как усердный федералист, стал взимать налоги и создавать флот (по дешевке; его знаменитые канонерки пришлось снять с вооружения) и разрабатывать политический курс для Запада и Юга с рассудочностью и изобретательностью, достойными Бонапарта. Не будь Джефферсон лицемером, я восхищался бы им. Что ни говори, он был самым удачливым строителем империи в наше столетие и преуспел там, где Бонапарт терпел неудачи. Но Бонапарт никогда не скрывал своих мотивов, а Джефферсон всегда был бесчестен. И вот откровенность потерпела крах, бесчестие восторжествовало. Но не буду, не буду читать проповедь.
В начале октября 1791 года я прибыл в Филадельфию и поселился на Второй Южной улице, в доме № 130, у двух пожилых вдов, матери и дочери, глухих, как тетерки. Достойные женщины в первый же день любезно предложили мне не напрягать моих сенаторских голосовых связок, когда я пытался с ними общаться. И так как я был их единственный постоялец, в доме на Второй Южной улице царила мертвая тишина, и я преотлично высыпался в своей спальне.
Двадцать четвертого октября собралась вторая сессия конгресса, а на другой день президент Вашингтон, запинаясь, прочитал нам послание, подготовленное для него Гамильтоном. Помню, я подивился, какой здоровый вид у президента: его лицо, обычно землистое, ярко раскраснелось. Но меня просветил сенатор Джеймс Монро от штата Виргиния.
— Последнее время, перед тем как появиться на публике, он малюет себя, словно вывеску на кабаке. Дома ему можно дать лет сто.
Монро уже тогда откровенно презирал отца нации. Со своей стороны Вашингтон терпеть не мог сенатора от своего родного штата, считая его завзятым якобинцем.
Сенат поручил мне ответить на президентское послание. Сочинив высокопарную чепуху (главной темой на сессии была угроза индейских племен), я отправился с остальными членами конгресса в особняк Морриса на Хай-стрит (особняк этот без всякой иронии называли «дворцом»).
Мы предстали перед великим человеком словно школьники. В роскошных одеждах, держа в руках шляпу с кокардой, при шпаге, почему-то сильно нарумяненный, Джордж Вашингтон стоял у камина, Джефферсон стоял справа от него, Гамильтон — слева. Гамильтон выглядел моськой рядом с двумя гигантами, каждый из которых был более шести футов ростом (обеспечивает ли такая высота величие?). Монро тоже был высок, хоть вечно сутулился.
Вице-президент Адамс пробормотал несколько слов (вот он был маленький и толстый). Медленно, осторожно президент склонил голову (волосы его, только что напудренные, словно нимб, обрамили легендарную голову).
Я ответил на его послание от имени конгресса, и он произнес несколько ответных фраз. Гамильтон не спускал с меня глаз, и на губах его играла странная, возможно невольная, улыбка. Но вот распахнулись двери, и в глубине зала появилась леди Вашингтон в окружении филадельфийских дам. Белые слуги в пурпурных дворцовых ливреях обнесли нас, верноподданных простолюдинов, сливовым тортом и вином.
Я оказался рядом с одержимым республиканцем — сенатором Маклеем (который потерял свое место в сенате в марте, но все еще находился в Филадельфии). Он пылал такой злобой против монархии, что Джефферсон рядом с ним казался просто дилетантом.
— Посмотрите на короля Джорджа! — Маклей с презрением указал на президента, перед которым в глубоком реверансе склонялись дамы. — Если бы народ это увидел…
— Народ был бы в восторге. — По моему убеждению, народ вовсе не демократичен; лишь аристократы-рабовладельцы, вроде Джефферсона, позволяют себе верить в демократию.
— Зато я не в восторге. — Маклей с отвращением наблюдал, как Вашингтон наклоном головы приветствовал проходящих перед ним мужчин. — Заметьте, он никогда не подает руки. Считает это вульгарным.
Тут ко мне подошла красавица миссис Бингэм (кузина Пегги Шиппен-Арнольд).
— Так мы вас ждем. После всей этой церемонии. — Миссис Бингэм повела рукой в сторону пышной леди Вашингтон не без легкой снисходительности. Двор Вашингтона был предметом насмешек высшего филадельфийского общества, особенно его королевы миссис Бингэм. Ее дом-дворец на Третьей улице был самым изысканным в Соединенных Штатах.
— И вас тоже, мистер Гамильтон. — Изящно одетая миниатюрная фигурка вдруг выросла рядом со мной.
Я протянул ему руку, но тотчас сообразил, что министр финансов, верно, следует привычкам патрона. Он картинно поклонился мне, опустив руки.
— Рад вас видеть, полковник Бэрр.
Мы играли в дружбу.
— Сожалею, что мне приходится заменять здесь генерала Скайлера.
— То были не последние выборы. — Странная улыбка Гамильтона, казалось, приклеилась к губам. — Надеюсь, мы с вами сможем избежать духа фракционизма.
— Я ни к какой фракции не принадлежу. — Я выпалил правду. — Меня избрали и федералисты и республиканцы.
— Знаю. И вряд ли они могли сделать более тонкий выбор.
Интересно, что он имел в виду? Я решил сыграть сцену до конца и не уступать ему в светскости.
— Но я не вижу тут таких уж глубоких противоречий.
— Просто вы недавно приехали. — Улыбка исчезла (следом за миссис Бингэм), ее сменила непритворная озабоченность. — Джефферсон задался целью: подорвать правительство изнутри. — Гамильтон выложил это одним духом. Его трагедия, равно как и его дар, в том, что он был человеком страстного интеллекта и главным оружием своим считал язык. Когда он волновался, то не умел промолчать и просто себя губил.
— Я знаю, вы встречались с Джефферсоном и Мэдисоном в Нью-Йорке…
— Только с мистером Джефферсоном. Боюсь, вам рассказал об этом…
— Гессенская муха! — В глазах Гамильтона вдруг блеснул добрый юмор. Он был так же изменчив, как погода на тропическом острове в Вест-Индии, откуда он был родом. — Я уверен, что Джефферсон сделал все возможное, дабы убедить вас, будто я хочу надеть на голову генерала корону.
— Нет, на свою. — Уж если разговор переходит в перепалку, я не сдамся.
Но не тут-то было. Лицо его вновь стало озабоченным.
— Я думаю, Бэрр, Джефферсон не в своем уме. По крайней мере в этом вопросе. Во-первых, он слишком долго пробыл во Франции и привязался к этой нации, как влюбленная женщина. И он — на расстоянии — счел весьма соблазнительной их теперешнюю форму анархии. Сомневаюсь, чтобы он когда-либо согласился отдать народу даже свою ферму в Виргинии. О Бэрр, поверьте, он настоящий лицемер!
Мне стало неловко от этой неожиданной вспышки, особенно потому, что Джефферсон сонно наблюдал за нами из дальнего угла залы; но я не смог остановить Гамильтона.
— Вы знаете, какие страшные трудности были у нас на последней сессии конгресса из-за моего плана по созданию Банка. — Я сказал, что, конечно, знаю. Разногласия по поводу Банка Соединенных Штатов являлись камнем преткновения в отношениях между двумя фракциями, которые сделались — и навсегда — двумя политическими партиями. Северные штаты, заинтересованные в торговле и мануфактурах, стояли за Банк. Аграрные южные штаты выступали категорически против: у фермеров вечно не хватает наличных, и они все до единого боятся банков, векселей и просроченных закладных.
Гамильтон не зря обижался на Джефферсона, а по страстности своей натуры он не мог сдержаться, не поведать обиды мне, потенциальному противнику, но, с его точки зрения, и потенциальному союзнику — сенатору от штата, поддерживающего торговлю и мануфактуры.
— Три года назад, когда Джефферсон стал государственным секретарем, мы договорились о том, чтобы федеральное правительство взяло на себя долги штатов. Так как Виргиния выплатила свой долг почти полностью, виргинцы в конгрессе были против. Это и заставило меня обратиться к Джефферсону. Мы стояли у президентского дома в Нью-Йорке. Я чуть не встал на колени, умоляя Джефферсона помочь мне изменить решение виргинцев. Предупредил его, что другие штаты выйдут из союза, если мы не поможем им уплатить долги. Он сказал, что со всем согласен, более того, согласился, что эта мера в интересах всех штатов. И предложил мне обо всем рассказать Мэдисону у него на обеде. Я повторил Мэдисону все, что говорил Джефферсону. Но Мэдисон отнесся к моему плану без энтузиазма, и — удивительно! — Джефферсон все время пытался сменить тему разговора. Заговорил о климате. О флоре. О фауне. О красоте природы в Виргинии. Я сделал вид, будто с захватывающим интересом слушаю его лекцию о строении тела опоссума. У опоссума, как выяснилось, есть в желудке сумка. Так вот, Джефферсон очень волновался по поводу этой сумки. Наконец я понял, куда гнет наш мудрый философ. Он хотел сделать новую столицу в Виргинии, на берегу реки Потомак, неподалеку от Джорджтауна. Если я помогу ему в этом, он и Мэдисон поддержат меня в вопросе покрытия долгов. Я согласился. У меня не оставалось выбора. Вот почему мой законопроект о покрытии долгов штатов так быстро прошел через конгресс, и вот почему через девять лет столица нашей страны окажется в Виргинии, если, конечно, нерасторопные фермеры соберутся выстроить город за этот срок.
Я тогда очень сомневался в правдивости Гамильтона. Позже я обнаружил, что он говорил правду. В таких вещах он всегда был правдив. В отличие от Джефферсона Гамильтон никогда не лгал, когда речь шла о делах; лгал он, только когда речь шла о людях.
— Мне кажется, — я соображал на ходу, что сказать дальше, — если Джефферсон так легко идет на это, вы и дальше поддерживайте в нем интерес…
— К сожалению, он только что открыл для себя народ. Быдло привлекает его. Он готов всех уравнять. И не потому, что питает такую большую любовь к его величеству народу, а потому, что он демагог и думает, что легче всего поднять народ против нас с президентом, обозвав нас «монархистами». Но если он преуспеет, я ему не завидую. Без Вашингтона нет Соединенных Штатов. Без Соединенных Штатов нет Джефферсона. Он не ведает, что творит.
Я нашел единственное возражение:
— Нельзя недооценивать усердие Джефферсона, ведь он фанатически следует своим принципам…
— Принципам! Почитали бы, какое письмо он недавно написал одному своему парижскому другу.
(В те времена лучшим способом широкой огласки была частная переписка, а не газеты. Мы писали шифром, а письма все равно перехватывали и расшифровывали. Гамильтон и Джефферсон тратили уйму времени, читая частную переписку друг друга).
— В одном письме Джефферсон советует некоему мистеру Шорту положить деньги в Банк. В тот самый Банк, который Джефферсон публично называет угрозой для республики! Поистине двуликий Янус! Вы знаете, почему он так хочет войны в Европе? Потому что война поднимет цену на пшеницу, а он ее выращивает. И еще он дал указания управляющему на ферме посеять коноплю, хлопок и лен, чтобы получать большие барыши у себя дома, когда в Европе начнется война. Вот так-то Джефферсон способствует войне, которая — он эдак и выразился — «поможет промышленности в Америке»!
Не знаю, есть ли тут доля правды. Однако примечательно, что сам Гамильтон в это верил. Ну и фанатики! Хотя я считаю Гамильтона более благородным из них двоих. Он, без сомнения, более реалистически относился к жизни. Выучившись коммерции у евреев в Вест-Индии, он понимал значение денег и торговли, как никто в то время, за исключением Галлатэна. Сам Гамильтон был, вероятно, честен, хотя и окружил себя ворами, вроде его близкого друга, помощника министра финансов Уильяма Дуэра. Гамильтон не мешал Дуэру продавать секреты казны спекулянтам, пока тот не сел в тюрьму. А в общем, Гамильтон плохо разбирался в людях. Он жил в миро теорий. Этим он отличался от Джефферсона, который, хоть как будто и не от мира сего, понимал человеческую натуру лучше, чем кто-либо из известных мне политических деятелей. Если бы из них двоих склеить одного, нами правил бы король-философ, эдакий Платон, а я бы куда раньше отправился в Мексику, в мои Сиракузы!
О чем мы еще говорили — не помню. Гамильтону отчаянно нужны были голоса в сенате, особенно сейчас, когда он потерял Скайлера. Он рассчитывал, что я буду нейтрален и разумен на предстоящих сессиях. Мы надолго оказались союзниками.
Выходя из «дворца», я в дверях столкнулся с Адамсом, которого за глаза называли Его Округлость. Толстый, шарообразный, бестактный, с носом, как клюв попугая, с холодным пронзительным взглядом, он был внушителен, хоть и комичен, и славился своими нелепыми оговорками: в бытность президентом, выступая перед враждебным республиканским конгрессом, он сказал, например, что имел честь был представленным английскому королю. Людей он не понимал, но в идеях разбирался прекрасно.
Когда мы ждали карету (таков уж претенциозный ритуал Филадельфии: несмотря на небольшие расстояния, здесь все держали свой выезд или нанимали кареты, чтобы доехать от Зала конгресса до «дворца», до меблированных комнат), Адамс сказал:
— Вашу семью чтут в Новой Англии, сенатор. — Типичный Адамс! — Ваш дедушка, Джонатан Эдвардс, как бы воспитал наш дух.
— Значит, и я неплохо понимаю Новую Англию.
Несмотря на всю прямолинейность, Адамс в отличие от Джефферсона не чуждался иронии.
— О, еще бы. Ведь вы сверстник мистера Гамильтона. Я видел, как вы с ним сейчас разговаривали.
— Да, мы почти ровесники. Но и только.
— Фракция! Здесь прямо-таки воняет политическим фракционизмом!
Это услышал проходивший мимо Фишер Эймс, рискнувший демократически пуститься домой пешком.
— Кое-кому, — бросил на ходу Эймс, — эта вонь кажется ароматом роз.
К Адамсу подошла жена, которая всегда была со мной любезна. Она говорила о Гамильтоне не без симпатии.
— Мне хочется опекать его, быть ему матерью.
Вид у миссис Адамс был далеко не материнский.
— Зато у меня нет ни малейшего желания заменить ему отца, да и кого заменять-то! — На Адамса явно повлиял пуританизм моего дедушки. Джон Адамс вообще не был похож на нашего современника — пережиток старой Новой Англии, гневный бог, полный мыслей о вездесущем грехе и страшных карах. Правда, ум Адамса, несмотря на шоры, отличался глубиной. То, что он знал, он знал хорошо. К сожалению, то, чего он не знал, он считал несуществующим.
Незаконнорожденность Гамильтона раздражала Адамса еще до того, как начались раздоры. Миссис Адамс укоряла супруга. Но Адамс уже сел на своего конька:
— Придет время, и мир еще раскусит этого молодого человека, которого ты хочешь по-матерински опекать, и поймет, что он — сирота от природы.
— Смилуйся, Джон!
— Я просто размышляю. Гамильтону необходимы отцы и матери, он жаждет их и приобретает на ходу. Президент не усыновлял его, он сам сделал президента своим приемным отцом. Он привязывался к людям старше его с детства, с тех самых пор, как стал сиротой, парией в респектабельном обществе, которое отвергло его, и недаром. Сенатор Бэрр, мир жесток, но справедлив.
Подъехала карета вице-президента, жестоко, но справедливо обдав нас грязью.
Когда лакей сошел с облучка, Адамс повернулся ко мне и сказал:
— Полагаю, сэр, что от вашего участия сессия конгресса только выиграет.
— Так же, сэр, как и от того, что вы председательствуете в нашей палате.
Ледяной взгляд широко раскрытых глаз вонзился мне в лицо.
— Боюсь, что этот конгресс будет не лучше первого — разгул фракционизма. Боюсь и тех его членов, которые слишком привязаны к злостной Французской революции.
— Что до меня, то я боюсь воякой чрезмерной привязанности.
Адамс пропустил мимо ушей эту двусмысленность.
— Нам угрожает правительство профессиональных чиновников…
— Поехали, Джон. — Миссис Адамс заторопилась, засмущалась.
Но Адамса не так-то легко было остановить.
— …партийных бюрократов, а не государственных деятелей.
— Иногда трудно провести грань.
— Мне — не трудно.
Миссис Адамс с силой потянула своего супруга за руку, пытаясь втащить его в карету.
— Можете ли вы заметить перемену с самого начала, мистер Адамс? И понять, к лучшему она или нет?
— Когда не к лучшему…
Но миссис Адамс и лакей силой затолкали вице-президента в карету. Лакей захлопнул дверцу кареты, и последнее слово осталось за мной.
— Новые обстоятельства, мистер Адамс, требуют новых людей и новых идей.
Карета рванула с места. Я услышал, как Адамс раздраженно говорит жене:
— Ишь, какой гладкий!
Мне стало немного не по себе. Ведь он сказал правду. Я потолстел от всех этих вечеринок. И дал себе слово завтра же начать новую жизнь.
Пока я ждал кареты, подошел Джеймс Монро. Он слышал конец разговора и скорчил гримасу:
— Эти старые тори — сильные враги.
— Так надо поскорее их убрать! — Я неожиданно приобретал союзника.
— А возможно это? Без кровопролития?
— Возможно и нужно, иначе мы сваляем дурака.
— Вы что, пророк?
— Нет, сэр, просто я вижу, с кем имею дело. Они не верят народу. Нам потребуется лишь довести до сведения народа, с каким презрением к нему относятся его хозяева, а дальше уж дело за ним.
Я сел в наемную карету.
— Вы с Джефферсоном? — крикнул Монро мне вслед.
— В таком-то деле кто же из республиканцев не с ним? — На этой двусмысленной, как сказал бы Гамильтон, фразе мы и расстались с Монро, а он все кричал мне вслед, чтобы я опасался «шулеров» — филадельфийских торговцев. На ступенях «дворца» Вашингтона я сделал первые шаги к президентству.
ГЛАВА ТРИНАДЦАТАЯ
В то утро полковник Бэрр был в веселом расположении духа из-за газетного отчета о недавнем выступлении Генри Клея в сенате.
— Думаю, оконные стекла дрожали, когда мистер Клей низвергал Эндрю Джексона. Затем он повернулся к председательствующему вице-президенту. Взывал, чтобы тот привел в чувство своего друга президента. Вот, послушайте: «Умолите его остановиться… — Бэрр чудесно передал гнусавость Клея. — …остановиться и понять, что есть предел человеческому терпению и нельзя доводить до безумия и отчаяния храбрый, щедрый и патриотический народ».
Бэрру удалось даже передать рыдание в голосе, к которому Клей иногда так искусно прибегает в своих кодах.
— Затем мистер Ван Бюрен передал председательские полномочия одному из сенаторов и направился вдоль прохода туда, где, с мольбой распростерши руки, все еще стоял Генри Клей, и у всех на глазах спросил тихо и вкрадчиво: «Мистер Клей, не угостите ли меня понюшкой вашего чудесного маккобойского табака?» — Хохот Бэрра разнесся по душному кабинету.
— Прямо слышу ваш голос, полковник.
— Я никогда не мог с таким блеском разрядить атмосферу. К тому же в первые дни существования сената у нас не было зрителей. Заседания шли при закрытых дверях, пока я не настоял, чтобы пускали публику. Наши дебаты тотчас стали интересней. Ничто так не улучшает речь сенаторов, как присутствие зрителей.
Дверь распахнулась, и, как всегда без стука, вошел Сэм Свортвут.
— Полковник, победа ваша!
— Вы преувеличиваете, мальчик мой.
— Я проходил мимо и решил принести вам вести прямо из порта. Лафайет умер.
— Нельзя сказать, что он ушел безвременно. Надо сдержать свое горе. — Глаза полковника, естественно, не увлажнились. — Ему было, кажется, около восьмидесяти?
— Семьдесят семь. Моложе вас, полковник.
— В таком случае я дрожу от холодного недоброго ветра из Франции. Бедняга! Столько еще мог сделать. Надеюсь, он уже на небесах с генералом Вашингтоном и они, бок о бок, возлежат на облаках, осененные звездами вечности, мечтая о великих баталиях.
— Новости из Вашингтона. — Свортвут принял заговорщический вид. Я вышел.
Позже, когда полковник возобновил диктовку, в мыслях у него была Франция.
Воспоминания Аарона Бэрра — V
Тем, кто живет в 1834 году, трудно понять, до какой степени на жизнь и политику первых дней республики влияла Европа, особенно Франция и Англия. Никому это не нравилось; даже тори со всей своей любовью к королю не хотели, чтобы мы впутывались в дела Европы. К сожалению, мы не могли выбирать.
Вначале Франция была нашим главным союзником. Ведь если бы не французский флот, в Бэтери до сих пор стоял бы английский гарнизон. Но революция во Франции повергла в уныние наших тори — или федералистов, как их потом называли; просто ирония судьбы, ведь они противились созданию федерального правительства и предпочитали короля. Но когда мы навязали им независимость, тори понадобилось сильное федеральное правительство, чтобы лучше защищать собственность и держать народ в повиновении.
Но и мы, республиканцы, мало чем от них отличались. Ни Джефферсона, ни меня не беспокоили ограничения избирательного права в нашей конституции. Я вспоминаю, что в 1789 году из более чем 300 000 жителей штата Нью-Йорк только 12 000 имели право участвовать в выборах губернатора. Стоит ли говорить, что никто не мог непосредственно участвовать в выборах президента. Считалось чересчур опасным предоставить эту привилегию небольшой кучке имущих избирателей. Они могли голосовать за выборщиков штата, а те в свою очередь выбирали президента.
Между первым и вторым конгрессом проявился «дух фракционизма», как называл его Адамс. Гамильтон был монархистом не более, чем Джефферсон, но он видел будущее Америки в развитии промышленности и торговли, а это в свою очередь требовало банков, налогов, городов, армии и флота. Джефферсону весь континент виделся как своего рода Виргиния, населенная честными фермерами, пожинающими плоды негритянского труда. Джефферсон не хотел ни городов, ни банков, ни промышленности, ни налогов. Джефферсон был не прав, а Гамильтон прав. Хуже того, Джефферсон был непрактичен.
Раздоры в кабинете Вашингтона усугублялись Французской революцией. Когда в 1789 году пала Бастилия, даже федералисты сначала ликовали. Хотя каждый американец был в большом долгу перед Людовиком XVI, все мы считали, что для него же лучше быть королем в республике. Боюсь, что в то время мы были простоваты, и все, что происходило в Париже, казалось нам своеобразным галльским повторением нашего собственного славного опыта.
Как-то в апреле 1793 года мы узнали о казни Людовика XVI. Республиканский дух восторжествовал. Все посрезали косички и завели прически а-ля Брут. На смену коротким штанам пришли брюки. Все называли друг друга «гражданин» и «гражданка», а невоспитанность, подмечаемая многочисленными туристами на наших берегах (грубость детей, наглость торговцев и слуг), явилась к нам в ту же весну, что и французский посол гражданин Женэ. Вежливость в низших сословиях вдруг стала считаться проявлением раболепия. А ведь до приезда Женэ американцы считались самыми вежливыми людьми в мире — вроде англичан, но только мягче и независимей. После Женэ они стали такими, какими мы их видим сегодня, — грубыми, надутыми и завистливыми.
В день казни короля и королевы их портреты висели на стенах сенатской палаты (и все отмечали сходство миссис Бингэм с Марией-Антуанеттой, в том числе сама миссис Бингэм). После казни многие республиканцы — включая Френо — требовали, чтобы портреты сняли. Как относился к портретам Джефферсон, неизвестно, но от казни он был в восторге.
— В конце концов, — сказал он мне, — никогда еще такой успех не достигался такой малой кровью.
Я сказал, что, судя по всему, успех стоил очень большой крови.
Но Джефферсон не сдавался.
— По мне, лучше пусть гибнет полмира, только не революция. В конце концов, если бы в каждой стране осталось по Адаму и Еве, по одному свободному Адаму и по одной свободной Еве, мир стал бы лучше, чем сейчас.
Я не верил своим ушам. Либо Джефферсон — фанатичный дурак, либо воплощение зла.
Так как Франция воевала с Англией, Австрией, Россией, Сардинией и Нидерландами, президент Вашингтон мудро решил, что мы должны сохранять строгий нейтралитет. Это привело в ярость и республиканцев, и федералистов. Первые жаждали войны с Англией, вторые — с Францией. В результате стало возможно провести четкое различие между двумя политическими партиями: республиканская партия была профранцузской, антианглийской и выступала за равенство; федералистская партия была полной противоположностью.
В руководство республиканской партии входили Джефферсон, Мэдисон, Клинтон и я. Федералистов возглавляли Гамильтон, Адамс, Клей, Нокс и — оставаясь в тени — сам Вашингтон.
В четверг, 16 мая 1793 года, гражданин Эдмон Женэ прибыл в Филадельфию вручить верительные грамоты президенту. Американский народ поверил ему еще раньше. Прибыв несколькими неделями ранее в Чарльстон, штат Южная Каролина, он начал триумфальное путешествие в нашу столицу и по пути приветствовал на прекрасном английском языке ликующие толпы.
Филадельфийцы собрались у причала Грейс, приветствовать Женэ. По ошибке посол попал на другой причал и произнес страстную речь перед дюжиной перепуганных бездельников, которых он принял за представителей республиканцев. Но в последующие несколько дней ему было сторицей воздано за комедийный дебют.
Послу дали роскошный обед в гостинице «Эллер». Из-за нейтралитета те, кто занимал государственные посты, присутствовали ex officio[67]. Естественно, республиканская фракция конгресса пришла в полном составе.
Мы с Монро сидели рядом в конце длинного стола в главном конференц-зале. Признаюсь, мы все гадали, явится ли Джефферсон — защитник прав человека, или Джефферсон, подписавший Декларацию нейтралитета, проявит осмотрительность. Апостол демократии мудро не явился.
Вино лилось рекой, гражданин Женэ, веселый толстяк лет тридцати, чем-то напоминающий молодого Бенедикта Арнольда, обходил стол под руку с губернатором Мифлином, который торжественно представил нас с Монро поборнику свободы, равенства и братства.
— Я скоро буду в вашем штате, сенатор Бэрр. — Гражданин держал обе мои руки в своих. Говорил он весьма театрально. — Придется потрудиться там на благо свободы.
— У вас будет широкое поле деятельности, гражданин Женэ.
— Я очень хочу познакомиться с вашим губернатором Клинтоном.
— Уверен, он захочет познакомиться с вами. — Как оказалось, я в некотором роде предвосхитил события. За год жирондистов (а к ним принадлежал Женэ) уничтожили якобинцы, и новое правительство решило отозвать Женэ в Париж, чтобы отрубить ему голову. Не пожелав расстаться с этим редким украшением, Женэ женился на дочери губернатора Клинтона и поселился на Лонг-Айленде; при помощи ее денег он стал богатым фермером, коим и остался по сей день.
— Бэрр, я презираю французов! — бушевал неотесанный Клинтон. — Нация парикмахеров и учителей танцев! Подумать только, моя дочь, моя родная дочь подцепила картавого, нищего, общипанного французского петуха и вышла за него замуж!
Но в тот вечер в гостинице «Эллер» клинтоновский общипанный петух выступал сущим павлином. По меньшей мере двадцать раз пили за него и за его страну. Я даже произнес тост за «французскую и американскую республики — да будут они едины в деле свободы».
На Женэ водрузили фригийский колпак. Воя «Марсельезу», он пустил колпак по кругу. Каждый на мгновение водружал его на голову, а Филип Френо запевал гимн собственного сочинения, в котором прославлялись права человека, но мотив до неловкости смахивал на «Боже, храни короля».
Обычно мрачный, Монро был в восторге от вечера. Когда мы вместе выходили из «Эллера», он сказал:
— Хотел бы я послушать, что будут докладывать завтра Гамильтону и президенту о сегодняшнем вечере. — Монро говорил почти весело.
— А я хотел бы посмотреть, как Джефферсон будет представлять Женэ Его сиятельству.
Мы находились как раз против Рикетс-сэркус, когда полдюжины свирепых французских матросов налетели на нас с ножами из темной аллеи.
— Вы англичане! — крикнул один. Другой приставил мне нож к горлу. — Мы убиваем всех англичан!
— Вы убиваете американского сенатора, — сказал я по-французски, — и вас повесят.
— Ты говоришь по-французски как англичанин!
Один матрос полез ко мне в кармашек для часов.
К счастью, тут к нам подошла большая группа гостей из «Эллера», и матросы разбежались.
Мы с Монро разозлились и перепугались. Я хотел арестовать негодяев. Мы были почти уверены, что они с «Embuscade», который пришвартовался у причала на Маркет-стрит.
— Не надо. — Монро был осторожней меня. — Лучше не поднимать шума. Зачем играть на руку Гамильтону?
И мы не стали поднимать шум.
В то лето в Филадельфии царил настоящий террор, и дело Французской революции сильно от этого пострадало. В безбожном союзе с беженцами из Санто-Доминго (которых изгнали их рабы-негры) французская матросня грабила филадельфийцев во имя свободы. Был момент, когда казалось, что бандиты в союзе с недовольными свергнут правительство и отрубят голову Вашингтону. И хотя опасность была не так велика, как изображали Гамильтон и Адамс, Женэ удалось настолько подорвать популярность президента среди низших сословий, что Его сиятельство часто — неслыханное lèse-majesté[68] — освистывали в театре и на улицах. При всем своем глубоком, чуть ли не молитвенном благоговении пред собственной особой Вашингтон сумел сдержаться и предоставил петушку самому себя погубить.
ГЛАВА ЧЕТЫРНАДЦАТАЯ
Я встретился с мистером Дэвисом совершенно случайно в вестибюле гостиницы «Сити», где я ждал — как выяснилось, понапрасну — задолжавшего клиента фирмы. С деньгами теперь туго. Я уже два месяца не получаю жалованья. Потому-то я весь месяц и не появлялся у мадам Таунсенд.
Мистер Дэвис пригласил меня в бар, и бармен через свое оконце подал нам некое зелье из рома. В послеобеденные часы бар гостиницы «Сити» похож на клуб и у постоянных посетителей свои столики. Должен сказать, мне нравится эта прокуренная комната, где витает дух богатства и тайны, где преуспевающие дельцы чуть не шепотом говорят о деньгах и приглушенный гул голосов то и дело прерывается стуком ломика, которым бармен крошит лед.
Мистер Дэвис знал половину присутствующих, и его тепло приветствовали. Другая половина, надо полагать, тоже его знает, но не подает виду. Политические раздоры особенно обострились после апрельских волнений.
— Мы победим, Чарли. Тут нет сомнения.
Мистер Дэвис посмотрел на меня сквозь очки, которые увеличивают его большие честные глаза. Правда, через увеличительное стекло все глаза кажутся честными. Я Мэтту Дэвису не верю ни на йоту.
— Вы ведь внесете свой вклад, не правда ли?
Я заинтересовался и, как всегда, не смог этого скрыть. Из меня не получился бы заговорщик; начинаю думать, что и юрист из меня плохой.
— Мы ждем вашей книжицы, — подмигнул мне мистер Дэвис.
Я не успел спросить его, что, собственно, он имеет в виду и знает ли он о моей договоренности с Леггетом, — он переменил тему. Он стал расхваливать Генри Клея, которого якобы хорошо знал и считал верным последователем Джефферсона. Я перебил его:
— Когда начались разногласия между Джефферсоном и полковником Бэрром?
— Во время выборов тысяча семьсот девяносто второго года. — Тут-то я сообразил, что в повествовании полковника Бэрра — вроде бы подробном — деликатно опущены события тысяча семьсот девяносто второго года, когда Джорджа Вашингтона и Джорджа Адамса переизбрали на новый срок президентом и вице-президентом, а Джон Джей проиграл губернаторство Нью-Йорка Джорджу Клинтону. — Весь штат, вся страна в те дни благодаря Гамильтону были одержимы идеей Банка. Но ко времени выборов началась депрессия. Друг Гамильтона Дуэр обанкротился и попал в тюрьму. Федералисты пришли в отчаяние. Многие хотели, чтобы Бэрр стал их кандидатом. Гамильтон это пресек. Он убедил Джона Джея, верховного судью, участвовать в предвыборной кампании. Тот принял предложение и чуть не победил.
— С помощью Таммани-холла?
— Мы не могли ничем помочь. Мы оставались тайным обществом. Не упомню и двадцати смельчаков в тогдашних избирательных комитетах, да и те поровну разделились между Клинтоном и Джеем.
В бар вошел Нелсон Чейз. Увидел меня. Остановился. Потом подошел к нашему столику.
— У меня есть поручение к полковнику Бэрру. Где мне его найти?
Я вовсе не собирался говорить ему, что в настоящий момент полковник в Бауэри с Аароном Колумбом Бэрром.
— В Джерси-Сити, — сказал я.
Нелсон Чейз поблагодарил меня и ушел. Мистер Дэвис кивнул, мое вранье пришлось ему по душе. Он продолжал:
— Надо отдать должное Бэрру — через год после его избрания в сенат многие республиканцы уже смотрели на него как на будущего президента. Джефферсон сочинил план, как подорвать авторитет Адамса на посту вице-президента. Пусть единогласно переизбирают Вашингтона, но необходимо провалить или по крайней мере обкорнать Адамса. К удивлению Джефферсона, большинство проголосовало за полковника Бэрра, а вовсе не за него, Джефферсона. В конце концов состоялось совещание, на котором республиканское руководство, направляемое Джефферсоном, убедило Бэрра отдать свои голоса губернатору Клинтону при условии, что в тысяча семьсот девяносто шестом году Бэрр будет нашим кандидатом в вице-президенты.
— Когда Таммани-холл занялся политикой?
— Во время Французской революции. Ох, и кровожадными же якобинцами были мы в те времена! Гражданин Женэ стал нашим богом. Между прочим, прошлой весной в этом баре я его видел — располнел, состарился, разбогател! Из-за него-то храбрецы, которые не любили Французскую революцию, начали от нас отходить. К выборам тысяча восьмисотого года осталось всего-навсего около ста пятидесяти храбрецов, и те хотели, чтобы Джефферсон был президентом, а вице-президентом — Клинтон.
— А не полковник Бэрр?
— А не полковник Бэрр.
— Почему же все считают, что полковник создал Таммани?
— Потому что Таммани считают злом и Бэрра считают злом. Все зло едино. Вы же знаете людей.
Я не знаю людей; но начинаю узнавать.
Воспоминания Аарона Бэрра — VI
Джон Адамс сошел в могилу в полной уверенности, что летом 1793 года правительству не миновать гильотины. В самом деле, на торжествах 4 июля в Филадельфии прославляли гражданина Женэ и права человека вообще, и федералисты повсюду отступили на задний план.
В начале сентября 1793 года Джефферсон прислал мне в Ричмонд-хилл записку, в которой просил меня приехать в столицу, повидаться с ним. Я согласился, несмотря на эпидемию желтой лихорадки в Филадельфии. Но в те годы мы гордились своим хладнокровием. Пусть простые смертные боятся заразы и смерти; мы же, боги, их игнорировали. В результате бог Гамильтон лежал при смерти в тот день, когда я проезжал по улицам Филадельфии, не встречая ничего, кроме тяжелых телег. Возницы покрикивали: «Выносите покойников!» — и в голосах звучало отвращение — ибо лихорадка обезображивает трупы.
Я убежден, что есть взаимосвязь между температурой воздуха и желтой лихорадкой. Болезнь приходит только детом, причем в те годы, когда лето начинается с холода и сырости, а затем наступает засуха и невыносимая жара. Эпидемия всегда кончается с наступлением первых холодов. Каков бы ни был источник заразы (Джефферсон подозревал кофе, который грудами гнил на одной филадельфийской пристани), ее питает дождь, потом жара, и она передается от человека к человеку до тех пор, пока ей не кладет конец холодная погода. Умные люди при первых признаках эпидемии ищут убежища в сельской прохладе. Я же неразумно подвергался заразе в самый разгар эпидемии и ехал по улицам города, приложив ко рту платок, пропитанный камфарой (в то время мы считали ее лучшей профилактикой). К счастью, в городе мне не пришлось оставаться. Джефферсон снял летний дом у переправы Грейс на реке Скайлкилл, где лихорадка не так свирепствовала.
На крыше дома Джефферсона было что-то вроде балюстрады, и, вылезая из кареты, я увидел его там вместе с двумя мужчинами. Он махнул мне и исчез в комнатах.
В прохладной гостиной меня встретила дочь Джефферсона.
— Какой же вы смелый человек! Надеюсь, вы убедите отца уехать отсюда, пока мы все не заболели.
— Но ваш дом на возвышении.
В то время считали, что на холмах лихорадка не страшна — пока ею не заболевали. Тут нет правил, и нет еще средства от болезни. Кое-кто выздоравливает наперекор врачам, большинство умирает.
Джефферсон меня приветствовал, лицо у него пылало. Я подумал было, что это лихорадка, но оказалось, что белая веснушчатая кожа просто загорела. С ним были доктор Джеймс Хатчинсон (почти такой же толстый, как генерал Нокс) и Джонатан Сарджент — два известных республиканца.
— Еще один храбрец! — Джефферсон пребывал в хорошем расположении духа.
— Нет, просто фаталист.
— Это то же самое. Пойдемте, я покажу вам, что я недавно соорудил. — Джефферсон заставлял гостей осматривать его новые изобретения. Даже снимая дом на короткое время, он рьяно брался его совершенствовать. Я сделал вид, будто мне интересно.
Нас провели в небольшую комнату между двумя гостиными.
— Отойдите назад. — Мы отошли. — Теперь смотрите.
Джефферсон ухватился за конец каната, опускавшегося с потолка, и потянул. Раздался грохот, и тяжелая кровать приземлилась у ног изобретателя, едва не избавив нас от правления Джефферсона.
— О боже! — Американский Архимед пригорюнился. — Ничего не понимаю.
— Канаты слабые, — глубокомысленно заметил доктор Хатчинсон.
— Прекрасное изобретение, по крайней мере в принципе, — вежливо сказал я.
Я уже видел подобное сооружение в городском доме Джефферсона. Ночью кровать опускали на пол, днем ее подтягивали на канатах к потолку. Ума не приложу — зачем.
Некоторое время Джефферсон важно рассуждал о Ньютоновой теории притяжения и обратном квадратном корне, непосредственно объясняющем тот выдающийся факт, что тяжелая кровать, не прикрепленная толстыми канатами к потолку, неизбежно падает на пол.
Обед подали в три часа на лужайке, под сносной тенью высоких платанов. Несмотря на жару, мы воздали более чем должное чудесам джефферсоновской кухни и погреба, с которыми нас ознакомил мажордом по прозванию Крошка. У великого демократа всегда угощали по-царски.
Среди прочих гостей были Филип Френо и Джон Браун, сенатор от Кентукки. Настоящее собрание республиканцев с весьма интересной целью, по весьма интересному поводу.
Как всегда, Джефферсон долго говорил о чем угодно, только не о деле. Хотя мадера и считалась лучшим средством от лихорадки, белое холодное французское вино буквально лилось рекой, и мы чересчур много его выпили: словно персонажи Боккаччо, мы играли в «пир во время чумы» (и каждый гадал, кто же умрет первым).
Джефферсон сообщил нам новости о Гамильтоне:
— Он, верно, заболел несколько дней назад после обеда с президентом.
— Блюда со стола Короля Джорджа надо сначала дать попробовать слуге. — Френо особенно злобно нападал на Вашингтона в то лето — последнее лето «Нэшнл газетт». Через месяц газета прогорела.
— Мудрый поест, прежде чем отправляться на обед к Вашингтонам. — Джефферсон резвился вовсю. — Несмотря на монархические тенденции президента, стол у него республиканский. Так вот, Гамильтон вызвал не одного, а двух докторов, чтобы спасти свою драгоценную жизнь. — Джефферсон говорил презрительно. — Страшно боится умереть. Вообще трусливая натура. Боится ездить верхом, боится выходить в море, трусит в бою, ведь так, полковник Бэрр?
— Вообще-то в тех редких случаях, когда он бывал на поле брани, он проявил себя неплохим офицером…
— Но несравненно лучше он проявил себя в штабе, изображая Ионафана[69] при Вашингтоне в роли Давида. — Френо был так же безжалостен, как и Джефферсон, но еще ядовитее, ибо питал непомерную страсть к обобщениям, свойственную столь многим литераторам. Есть основания считать, что Френо все-таки верил в права человека. Хотя неприязнь Джефферсона к монархии была искренней, он знал, как и все, что ни один американец никогда не наденет корону; и он вечно обыгрывал эту тему лишь для того, чтоб очернить любого, кто имел несчастье стать между ним и тем троном, к которому он с самого начала стремился. Джефферсон все переводил на личности, Френо обо всем рассуждал отвлеченно. Естественно, каждый казался противоположностью тому, чем был на самом деле.
Они с таким презрением говорили о боевых качествах Гамильтона, что я невольно пришел на помощь сопернику:
— Гамильтон всегда был там же, где все мы. И принимал участие в битве за остров Нью-Йорк. И вместе со всеми нами терпел лишения в Вэлли-Фордж. Он был в Йорктауне. Он никогда не уклонялся от исполнения долга…
Я нечасто веду себя бестактно, но, пока я говорил, я почувствовал, что за столом как бы заметно похолодало.
Я взглянул на Джефферсона и увидел, что он покраснел, как всегда, когда ему бывало не по себе. Он, верно, решил, что я намекаю на неблаговидную роль, которую он сыграл в Революции. Это была единственная тема (кроме Гамильтона, а потом уже меня), простое упоминание которой туманило его разум — и не без причины. При подходе английской армии губернатор Джефферсон бежал в Монтичелло, бросив штат на произвол судьбы. В Монтичелло он думал только о том, как спасти свои книги. А когда первые английские подразделения подошли к Монтичелло, он с семьей пустился наутек. Вскоре фракция Патрика Генри в виргинской ассамблее потребовала расследования, но, к счастью для Джефферсона, гордые виргинцы ее желали, чтобы им напоминали о позоре штата, и незадачливый губернатор избежал суда. Правда, ему не удалось избежать издевательств, а это куда страшнее, чем формальное осуждение.
Доктор Хатчинсон заговорил о другом, о гражданине Женэ. Но кто о нем тогда не говорил?
Джефферсон опечалился — думаю, искренне.
— Страстный, достойный человек. — Джефферсон особенно оживлялся, когда, вот как сейчас, высекал на мраморе эпитафию современнику. — Конечно же, наша республика перед ним в неоплатном долгу.
— Но если он будет и дальше нападать на президента, он нас погубит. — Сенатор Браун, как все в западных штатах, слишком много пил.
— Знаю, знаю. Я пытался его сдержать. — Джефферсон улыбнулся. — Но он меня просто не слышал. — Мы засмеялись громче, чем того требовала шутка. Но Джефферсон ведь так редко говорил что-то ироническое или — упаси бог — самоуничижительное.
— У гражданина Женэ очень громкий голос. — Джефферсон подробно объяснил смысл своей шутки, смех за столом стал утихать. — Но у мистера Гамильтона он тоже громкий. Вы знаете, он хочет, чтобы мы выслали Женэ и закрыли демократические общества. Он выступил в кабинете с тремя длинными речами подряд. Выступал как прокурор в суде… Президент гневался, особенно когда генерал Нокс, ваш друг… — Он наклонил голову в мою сторону; он и впрямь был в ироническом расположении духа. Не иначе как его вдохновила эпидемия. — …показал президенту карикатуру вашей работы, — он уже обращался к Френо, — изображающую его в виде тирана, которому вот-вот отрубят голову. Я даже думал, что мы тут же лишимся великого человека и вы, Френо, войдете в историю как его убийца. Президент пришел в ярость, я никогда его таким не видел. На висках вздулись вены. Он бросил шляпу об пол. Клялся, что предпочел бы быть фермером, чем императором мира. Клялся, что не имеет ли малейшего желания быть королем и вообще править страной. Я думал, он умрет от ярости.
— Я зашел слишком далеко. — Френо потупил глаза.
На губах Джефферсона мелькнула хитрая улыбка.
— Президент особенно злится, что вы посылаете ему три экземпляра каждого номера. «Зачем же три? Этот тип за мальчишку-газетчика меня принимает?»
— Он неправильно относится к справедливой критике. — Френо был явно доволен собой.
— Ему придется выдержать еще более суровую критику, — заметил Сарджент, — если он останется креатурой Гамильтона и «банкитом». — Неуклюжее слово принадлежало Джефферсону. Легким кивком головы он признал свое авторство. Затем поделился с нами оригинальной идеей насчет того, как лучше всего уничтожить Банк Соединенных Штатов.
— Допустим, намечается открытие отделения Банка в Ричмонде, штат Виргиния, тогда губернатор штата должен обратиться к статье конституции, согласно которой все права, кроме недвусмысленно предоставленных федеральному правительству, принадлежат штатам. А раз право федерального правительства на учреждение Банка нигде не записано, только штаты и могут его учредить. Полковник Бэрр, вы самый опытный юрист за этим столом. Верно ли, что любое лицо, признающее иностранное законодательство в вопросах, относящихся к компетенции государства, совершает государственную измену?
Я ушам своим не верил.
— Вы утверждаете, что федеральное правительство — иностранное правительство?
— Именно.
— Иными словами, вы утверждаете, что суд штата должен судить за государственную измену всякого виргинца, который согласится стать директором, скажем, Банка Соединенных Штатов?
— Если он сделал это на территории Виргинии — да.
— И если суд признает его виновным в государственной измене…
— По нашей конституции, суд штата обязан признать его виновным.
— Тогда вы казните его как предателя штата Виргиния?
— Да, чем будет навсегда положен конец Банку мистера Гамильтона, ибо никто не согласится стать его директором, зная, что за это вешают. — Джефферсон был явно не Джонатан Свифт. Он говорил совершенно серьезно. Много лет спустя Мэдисон рассказывал мне, что Джефферсон и ему толковал о том же. Мэдисон пришел в такой же ужас, как я, и разубедил Джефферсона, а не то конституцию пришлось бы отменить задолго до истечения пятидесятилетнего срока, который я ей предсказывал!
Республиканские лизоблюды за столом сочли план превосходным. Френо высказался за то, чтобы немедленно приступить к его выполнению. Я мягко возражал, пока разговор не пошел по другому, более приятному руслу.
Мы наслаждались персиковым мороженым, налегали на охлажденное вино, наблюдали, как на лужайку ложатся длинные тени и вспыхивают в кустах светлячки, Джефферсон объяснил, почему он пригласил нас на обед.
— Я хотел сообщить добрым друзьям, что я вручил президенту прошение об отставке с поста государственного секретаря. — Хор ахов и охов. — Начиная с первого октября. Я сказал президенту, что не вижу далее возможности приносить пользу его кабинету.
— Теперь Гамильтон станет главой государства, — нарушил молчание сенатор Браун.
— Если, — с надеждой сказал доктор Хатчинсон, — не умрет в ближайшее время.
— На это нельзя рассчитывать. — Джонатан Сарджент смотрел на вещи мрачно.
Но Джефферсон приготовил нам еще один сюрприз:
— Президент приезжал сюда — в этот дом — на прошлой неделе. Заявил, что крайне огорчен моим решением. «Вы с Гамильтоном убедили меня против моего желания остаться на второй срок на посту президента. И вот — оставляете меня в одиночестве».
— Гамильтон тоже уходит в отставку? — Я не мог этому поверить.
— По истечении срока полномочий настоящего конгресса, как сказал президент.
Я сказал, что не верю, и оказался прав. Гамильтон оставался на своем посту еще два года, до начала 1795 года. Но в тот теплый вечер на берегу реки Скайлкилл Джефферсон был счастлив. Подобно Вашингтону, он жаловался на тяготы политической карьеры и, подобно Вашингтону, ни за что не хотел упускать власть. Но сейчас он понял, что исчерпал себя. Дело с Женэ совершенно его изнурило. Как потом мы узнали, Джефферсон уже попросил французов отозвать посла, направив им соответствующий документ — как мне говорили, шедевр дипломатии. С его помощью Джефферсон покидал свой пост в ореоле славы, сохраняя, с одной стороны, верность оголтелых республиканцев, которые боготворили Женэ и Революцию, а с другой — показывая федералистам, что он ставит интересы Соединенных Штатов выше интересов Франции. Талейран говорил, что, если бы он стал императором, он взял бы Джефферсона министром иностранных дел.
Пользуясь вечерней прохладой, мы решили погулять под деревьями и встали из-за стола. Дочь Джефферсона умоляла нас убедить государственного секретаря немедленно покинуть Филадельфию, но Джефферсон и слышать об этом не хотел.
— Я не хочу, — сказал он сурово, — создавать панику.
— Но президент уезжает на следующей неделе.
— А мы уедем через две недели, как собирались. Надо сохранять подобие правительства, хотя у меня остался всего один писарь. — Джефферсон взглянул на Френо и поспешно поправился: — Один писарь и один великолепный переводчик.
У воды, где растут ивы с могучими корнями, доктор Хатчинсон с грустью говорил об отставке Джефферсона.
— До следующих выборов три года, но Адамс и Гамильтон начнут править страной гораздо раньше. — Добрый доктор ужасно огорчался, глаза сверкали, лицо пылало.
Мы с сенатором Брауном тоже уговаривали Джефферсона не уходить с поста, но он был непоколебим. Он составил план, вернее, несколько планов развития нашей демократии. Сенатор Браун намекнул на самый смелый из планов.
— Ваш француз, верно, сейчас в Кентукки.
— Мой француз? — Джефферсон задумался. — Нет, он не мой. И если он потерпит неудачу, он окажется ничьим французом.
— В таком случае, — согласился сенатор Браун, — он станет мертвым французом.
Джефферсон, помедлив, повернулся к доктору Хатчинсону и ко мне:
— Вы слышали о таком ботанике: Андре Мишо?
Доктор Хатчинсон о нем слышал, хвалил недавнее выступление молодого человека перед философским обществом. Мишо, кажется, сделал интереснейшие открытия о лиственных деревьях.
— Гражданин Женэ просил меня послать Мишо в Кентукки с письмом губернатору, чтоб тот помог ему отобрать Новый Орлеан у испанцев.
— Наконец-то! — загорелся доктор Хатчинсон. — Вы, конечно, согласились?
В заходящих лучах солнца трудно было понять выражение лица Джефферсона.
— Я дал ему письмо.
Сенатор Браун всегда ставил точки над i.
— За три тысячи фунтов два наших генерала, Кларк и Логан, поднимут жителей пограничных районов и займут Новый Орлеан. И тогда мы наконец-то получим то, что должно нам принадлежать, — контроль над рекой Миссисипи.
Я тоже увлекся планом. Интересно, как Джефферсон собирается замести следы? Он сказал со всей откровенностью:
— Это будет — с виду — чисто французское мероприятие. Правительство гражданина Женэ обеспечит три тысячи фунтов…
— Но у нас мирные отношения с Испанией, — сказал я, мысля юридически, вместо того чтобы мыслить философски и таким образом завоевать мир.
— И мы их сохраним, — мягко сказал Джефферсон. — Я позаботился о том, чтобы людей готовили не на американской земле.
— А что, — спросил я, — если у них это получится? Если они возьмут Новый Орлеан?
— Тогда вся территория Луизианы присоединится к нашему союзу, хотя и сохранит определенную зависимость от Франции.
— Испанцы так слабы? — полюбопытствовал я; моя судьба тогда еще не связалась — нет, именно в ту минуту она и связалась с этой увлекательной частью мира.
— Так нам кажется.
— А что, если вы… если они потерпят неудачу?
— Я предупредил Мишо, что в таком случае — мы их не знаем. К счастью, этот молодой человек — стоик. — Голос Джефферсона начал сливаться с дуновением теплого ветра. Я уже не различал его лица. В доме зажигали огни.
— Да нет, о неудаче не может быть и речи, мистер Джефферсон. Вас поддержит все население Кентукки. — Сенатор Браун был склонен к преувеличениям в манере, свойственной жителю границы: они вам посулят все, что угодно, а дойдет до дела — всучат кувшин самогона.
— Будем надеяться. Ведь это моя последняя… акция на правительственном посту.
— Пока мы не сделаем вас президентом.
Доктор Хатчинсон взял Джефферсона под руку, и мы направились через лужайку к дому, а Джефферсон по пути объяснял нам, отчего светится светлячок.
Я оставил Джефферсона у подъездной аллеи.
— Спасибо, — сказал он, — что не побоялись заразиться и навестили меня в конце моей политической карьеры.
— Полагаю, это только ее начало.
— Нет, нет, нет. — И без того тихий голос совсем затих. — Но по-моему, нам надо внимательно следить за монократами[70], вам — в Нью-Йорке, мне — в Виргинии. Будем переписываться.
Появился доктор Хатчинсон и попросил меня довезти его до дома. Я согласился. Мы откланялись (руки во время эпидемии лихорадки не подавали).
Карета тронулась, Джефферсон помахал нам на прощание. В свете из окон он вдруг показался мне огромным вороньим пугалом. Так, наверное, выглядит смерть, подумал я и содрогнулся: кошмарная фигура, истонченные члены, шелестящий голос. Затем медленно, медленно увеличивающееся расстояние обратило чудище в чучело, в ничто, во тьму.
Доктор Хатчинсон рассыпался в похвалах.
— Невиданный разум! Такого еще не бывало! Даже Франклин ему уступает, а я его близко знал. Если кто может превратить нас в истинную республику, то только Джефферсон.
— Или в империю. То, что он затевает в Кентукки, — очень смело.
— Мир уважает именно смелость. Нам нужны новые территории.
— Но нужна ли нам… можем ли мы позволить себе войну с Испанией?
Доктор Хатчинсон рассмеялся.
— Джефферсон сказал мне, что на всякий случай у него есть превосходный предлог. Испанцы контролируют индейцев племени крик. Эти индейцы все время беспокоят наших поселенцев. Если индейцев из племени крик не приструнят испанские хозяева, Джефферсон будет угрожать Испании… — Доктор Хатчинсон вдруг запнулся. — Чересчур много выпил. Простите. Прошу вас, остановите карету.
Он вылез, и его вырвало. Я притих и держал у рта платок, пропитанный камфарой; я не сомневался, что скоро жизнь моя кончится и что видение Джефферсона в образе смерти — дурное предзнаменование.
Когда доктор Хатчинсон снова сел в карету, мы оба поняли, что он заразился желтой лихорадкой — этим объяснялся пунцовый цвет губ и остекленевшие глаза.
— Ох, и обкормил он нас, да еще в такую жару.
Я согласился.
В молчании мы доехали до дома доктора. Мы пожелали друг другу спокойной ночи. На следующий день доктор Хатчинсон умер.
Через несколько недель умер Джонатан Сарджент, приведя тем в восторг Джона Адамса, который всегда говорил, и, возможно, всерьез, что только желтая лихорадка спасла в то лето Соединенные Штаты от революции.
Экспедиция Мишо провалилась, но Джефферсон вышел сухим из воды. Он позаботился, чтобы во всем обвинили гражданина Женэ.
Забавно, что через несколько дней после нашего обеда, когда Джефферсон выражал решимость «не допускать никакой паники», он бежал в Монтичелло, предварительно заняв, как сообщил мне с восторгом Гамильтон, сто долларов на путевые расходы в ненавистном ему Банке Соединенных Штатов.
ГЛАВА ПЯТНАДЦАТАЯ
Мы с полковником Бэрром отправились обедать в гостиницу «Сити». Против обычая полковник занял место за столом, где всегда сидит старый холостяк Чарльз Болдуин. Толстый, краснолицый, шумный Болдуин развлекал дружков высказываниями, как он сам считал, в стиле Самюэля Джонсона.
— А, полковник Бэрр! Наш Фемистокл. Как поживаете, сэр? — Он повернулся к друзьям. — Принесла нелегкая!
Полковник Бэрр не повернул головы. Я делал вид, что занимаю его каким-то разговором, а он сделал вид, что внимательно слушает мою чепуху.
Но Болдуин не унимался. Раздирая жирную жареную утку и запихивая огромные куски в рот, заливая все это кларетом, он болтал (и глотал) без остановки:
— Надо же! Показывается среди честных людей! А руки-то у него — ну, как это? — обагрены!
Болдуин вдруг схватился за горло: хотел сделать вдох. Не смог. Уткнулся в тарелку с разодранной уткой.
Поднялась суета. В соседнем зале нашелся врач. Толстяк лежал на полу, прислонив голову к плевательнице, его старались привести в чувство.
Полковник брезгливо поднялся.
— Думаю, Чарли, бедный мистер Болдуин умер. — (Так оно и оказалось). — От обжорства. — Полковник задумчиво покачал головой. — Это урок для нас всех, — сказал он, ни к кому не обращаясь, и повел меня прочь от притихших соседей, словно хотел уберечь от заразы.
На улице мы вместо обеда поели устриц, и Бэрр мрачно острил по поводу неожиданной кончины Чарльза Болдуина. Старики безжалостны.
В тот же день, до начала нашей работы с Бэрром, я спросил об экспедиции Мишо.
— Ничего не вышло. — Полковник тщательно закрыл пыльное окно, чтобы по комнате не гулял освежающий ветерок. — Здесь что-то прохладно, а?
Он помешал в очаге кочергой. Я молча истекал потом.
— Видишь ли, Джефферсон мечтал аннексировать Канаду, Кубу, Мексику и Техас. Он, как и мы с Гамильтоном, благосклонно относился к идее доминиона в Южной Америке.
— А не трудно республике управлять такой большой территорией?
Бэрр улыбнулся.
— Республики так же быстро меняют форму, как империи. Смотри, что происходит во Франции Бонапарта. Единственным настоящим республиканцем среди нас был маленький Джемми Мэдисон. — Бэрр открыл толстую папку с бумагами. — О нем и пойдет сегодня речь. Я уже кое-что набросал.
Воспоминания Аарона Бэрра — VII
Я познакомился с Джемми Мэдисоном, когда мне было тринадцать лет, во время первого года обучения в колледже Нью-Джерси (я по-прежнему так называю нынешний Принстонский колледж). Шел 1769 год. Мэдисон был на пять лет старше меня, но он не такой скороспелый, как я (у меня-то и отец и дед были ректорами колледжа, и потому я поступил сразу на второй курс).
Я окончил колледж в 1772 году. Мэдисон — в 1771, но остался еще на один год, чтобы подготовиться к духовной карьере. Он происходил из богатой виргинской семьи и, насколько я знаю, получил только домашнее образование; в 1775 году он стал членом Комитета общественной безопасности от округа Орэндж. Год спустя он составил проект конституции штата, внеся в него «радикальную» статью, гарантирующую свободу вероисповедания. Ее немедленно отвергли виргинцы.
С 1780 по 1783 год Мэдисон был депутатом Континентального конгресса, где стал мастером парламентской борьбы и смог наконец использовать солидные, хотя и несколько беспорядочные познания в важном деле создания документа, являющего верх юридического искусства, — американской конституции. К счастью или к несчастью, документ этот в основном составлен Мэдисоном.
Мало того, что он ее сочинил, Мэдисон с редкой ловкостью умел отстаивать ее в так называемых статьях «Федералиста» и с редкой хитростью заставил-таки упрямых виргинцев согласиться на федеральную республику. Мэдисон пропагандировал свои идеи так блистательно и в результате так ожесточил своих врагов, что проиграл, когда выставил свою кандидатуру в качестве первого сенатора от штата Виргиния. Однако он сумел победить на выборах в палату представителей в 1789 году, обскакав Джеймса Монро.
На Мэдисона, маленького и невзрачного, никто не обращал внимания до тех пор, пока он не начинал говорить (едва слышно, почти как Джефферсон); затем, вслушиваясь, люди начинали понимать, какое величие заключено в хрупком теле. Но я, признаюсь, никогда не думал, что он станет президентом. И сам он, верно, не думал. Его возвысил Джефферсон.
Когда мне исполнилось тринадцать, а Мэдисону — восемнадцать, я был с него ростом. Когда мы оба стали взрослыми, он был меньше меня. Мы не очень дружили в Принстоне. Отчасти из-за того, что он, бледный, слабенький, увлекался богословием, а меня оно никогда не интересовало. И я любил жизнь, а он нет. Насколько мне известно, он не знал женщин, пока ему не перевалило за тридцать, и тогда в Нью-Йорке он влюбился в шестнадцатилетнюю девочку. В конце концов она его бросила и сошлась с молодым священником. С тех пор Мэдисон, уже закоренелый холостяк, впал в глубокую печаль.
После летней эпидемии 93-го года правительство снова собралось в Филадельфии. Похоронив чуть не 4000 человек, филадельфийское общество предавалось веселью. Театр, цирк и приемы у миссис Бингэм превращали город в некий провинциальный Вавилон, который возродился после гнева Иеговы ничуть не раскаявшимся; таким бы, вероятно, возродился и сам Вавилон.
18 мая 1794 года после долгой и тяжелой болезни, разрушившей ее разум и тело, умерла моя жена Теодосия. Она так страдала, что я был рад за нее, когда все кончилось; мы же с дочерью предавались горю и не могли поверить, что никогда уже ее не увидим.
В конце мая я занимался в Нью-Йорке делами покойной жены, а Джеймса Монро назначили посланником во Франции — пост, который Мэдисон и Монро упорно прочили мне. Президент сказал «нет», не вдаваясь в подробности; он решил назначить Мэдисона или Монро. Мэдисон отказался. Монро согласился. Позже новый посол объяснял мне, будто меня отвергли из региональных соображений. Пост в самом начале якобы предложили Роберту Ливингстону из Нью-Йорка. Когда тот отказался, президент не хотел предлагать его другому ньюйоркцу, чтобы не создалось впечатления, будто этот пост — привилегия Нью-Йорка. Монро хотел, чтобы я поверил такой чепухе.
Истина мне так и не открылась. Ведь прошло много лет, пока я узнал о том, что делал Монро, стараясь лишить меня голосов на Юге во время выборов вице-президента в 1792 году. Он утверждал, что я слишком молод. Не спорю, говорил правду, но зачем же тогда он согласился меня поддерживать?
В наши дни, когда сенаторы так великолепны, а послы так незаметны, трудно понять, что означал для нас посольский пост. Во-первых, он давал возможность не жить в Америке — неоцененное благо (которое публично отрицали все послы, от Франклина до Адамса, Монро и Джея), не уменьшаемое их торжественными патриотическими заверениями. Представлять американскую республику при иностранном дворе — редкое счастье. К тому же само существование Соединенных Штатов зависело от того, как натравить одну европейскую державу на другую. Быть одним из тридцати сенаторов значило присоединить свой голос к дружному хоровому «за» или «против». Представлять же республику во Франции означало олицетворять республику, и решения, принимаемые послом, могли влиять на судьбы мира — например, маневры Ливингстона увенчались тем, что Джефферсон купил Луизиану.
Я высказал Мэдисону свое глубокое разочарование, когда мы выходили из Зала конгресса на Честнат-стрит. Мы говорили с трудом. Боясь рецидивов лихорадки, мы держали у рта пропитанные камфарой платки.
Мэдисон расстроился из-за меня, но пытался меня успокоить.
— У Монро много дарований…
— Например? — Я забыл об этикете.
— Он изучал право с Джефферсоном. — Мэдисон всегда умел меня рассмешить.
— Ладно. Согласен, у него есть это сверхважное достоинство. Но он же ничего не знает о Франции…
— Увы, кое-что он о ней все-таки знает. Он в восторге от их революции даже больше, чем Джефферсон. Даже больше, чем они сами, я думаю. Он не сможет защищать наши интересы так, как защищали бы вы.
Не думаю, что Мэдисон мне просто льстил. Как бы там ни было, через два года Монро отозвали, почти с позором. В ярости на Вашингтона он разразился пренеприятнейшим памфлетом о правлении сего паладина. Вашингтон его так и не простил. Мне даже рассказывали, что генерал втайне читал и перечитывал оскорбительный памфлет, ругаясь вслух и делая пометки на полях.
Вдруг Джемми Мэдисон спросил меня тихим голосом:
— Бэрр, вас очень любят женщины. Скажите, почему?
— Потому что я обращаюсь с ними, как с мужчинами.
Джемми удивленно взглянул на меня.
— А как же, Бэрр, нужно, в таком случае, обращаться с мужчинами?
Мэдисон обладал добродушным, неназойливым остроумием в отличие от блестящего, но совершенно лишенного юмора Джефферсона, чьим орудием, желая того или нет, он являлся. Думаю, желая того. И по-моему, он играл вторую скрипку намного лучше, чем сам Джефферсон играл первую.
Я жил тогда в пансионате у квакерши миссис Джон Пейн. У миссис Пейн гостила ее дочь, миссис Тодд, овдовевшая полгода назад во время эпидемии желтой лихорадки. Миссис Тодд была хорошенькая, хотя и грубоватая молодая женщина, с густыми бровями, завлекательно хриплым смехом и чересчур пышным телом — на мой вкус, которому я подчиняюсь, хотя и не слепо.
По-моему, миссис Тодд с матерью имели на меня виды. Новоявленный вдовец, а она вдова. У нее маленький сын, у меня дочь. Я сенатор и, кажется, богат. Обе квакерши явно задались целью окрутить меня. Но не тут-то было. Тем не менее мне нравилась миссис Тодд, и я хотел ей чем-нибудь помочь.
После заседаний в сенате я пил кофе в гостиной с двумя женщинами; миссис Тодд расспрашивала меня о политике, и я рассказывал ей разные веселые истории, так как видел, что она интересуется не политикой, а политиками. Однако кое в чем она разбиралась. Ей нравилась политическая игра, у нее были даже кое-какие связи: мать ее состояла в родстве с Патриком Генри, а ее пятнадцатилетняя сестра убежала из дому и вышла замуж за племянника президента Вашингтона. Тем не менее и этих связей, и денег у женщин было недостаточно, чтоб их допускали по вторникам на приемы короля Джорджа и королевы Марты. Если миссис Тодд не сделает удачной партии, она обречена на безвестность и мало приятную бедность.
У дома миссис Бингэм я остановился.
— О, Бэрр! — Джемми поднял ко мне печальное лицо. — Опять бурный вечер!
— Составьте мне компанию. Заходите, миссис Бингэм будет в восторге.
Мэдисон покачал головой.
— Дамы никогда не приходят в восторг, если являюсь я.
— Жалуетесь?
— Еще как!
И тут-то меня осенило вдохновение.
— Приходите завтра вечером в пансион миссис Пейн. — Я дал ему адрес. — Я хочу вас кое с кем познакомить.
— Он что, метит на должность министра почт?
— Это она, и она хочет познакомиться с Джеймсом Мэдисоном.
Джемми бросил на меня недоверчивый взгляд.
— Мой дорогой Бэрр, ни одна женщина никогда не выражала желания познакомиться со мной, а уж в теперешнем моем солидном возрасте это тем более сомнительно.
Должен сознаться, в глубине души я с ним согласился. Сорокатрехлетний (мне он казался стариком), крошечного роста, он робел перед женщинами. Но я полагал, что миссис Тодд не придаст значения его внешности и манерам и, если даже не оценит глубину его интеллекта, у нее хватит ума сообразить, что самый влиятельный член палаты представителей (и хозяин замечательного поместья Монпелье) холост и одинок.
Тот вечер уже стал историей, и мне нечего добавить к общеизвестным фактам. Мой слуга Брукс приготовил ужин на четверых: для миссис Тодд, ее компаньонки миссис Ли, Мэдисона и меня. По преданию, Мэдисон просил меня представить его прекрасной миссис Тодд. Ничего подобного. Я просто сказал Мэдисону, что дама желает с ним познакомиться, а даме сказал, что он желает познакомиться с ней. Двойная любезная ложь явилась прекрасным началом, и, думаю, по сей день оба они понятия не имеют, что никто не просил меня устроить эту встречу. Я сделал доброе дело за Эроса.
Миссис Тодд вся сияла за столом, который Брукс с большим вкусом сервировал в парадной гостиной (мамашу Пейн представили гостю, и она ушла восвояси). Сначала Мэдисон робел, но вскоре миссис Тодд расшевелила его, подливая ему мой лучший кларет. В тот вечер она была просто цветущей молодой квакершей (когда еще станет Долли Мэдисон носить дорогие парижские туалеты, не говоря уж об экзотических тюрбанах, которые она в свое время введет в моду!).
Долли привела Мэдисона в восторг. Он спросил разрешения понюхать табак, и она великодушно разрешила. Когда же он вытер свой мышиный носик огромным кружевным платком, она спросила:
— А мне можно, мистер Мэдисон?
К удивлению Мэдисона, Долли взяла понюшку табаку (тогда неслыханный для девушки поступок) и, фыркнув, сказала:
— Это я против лихорадки.
Долли сочетала в себе смелость со скромностью, и ни один мужчина не мог устоять, когда она хотела его очаровать, а она всегда хотела. Много лет Долли, насколько позволяли обстоятельства, оставалась моим верным другом. И верным другом моей дочери.
Мэдисоны не худшая пара из когда-либо занимавших президентский дом. Недавно один наш общий знакомый видел их в Монпелье. Там они живут, стареют, угасают.
— Вы уж не разговаривайте, — сказал наш общий знакомый, не желая утруждать бледного, хрупкого, крошечного Мэдисона, вытянувшегося на диване. — Вас так скрутило.
Мэдисон ответил как ни в чем не бывало:
— Мой дорогой, пока я могу разговаривать, я всегда выкручусь.
ГЛАВА ШЕСТНАДЦАТАЯ
Уже больше недели мне не удается продолжить работу над воспоминаниями полковника Бэрра.
Двенадцатого июля мадам подала на развод и назвала некую миссис Макманус в качестве главной любовницы полковника. Для достоверности они приплела и другие измены. Мадам подала и особое заявление, в котором просила суд лишить полковника права на ее собственность. Она прямо-таки задавила полковника законом, а он в ответ, для самозащиты, называет имена ее любовников. От этой деятельности он так помолодел, что уже не заставляет топить камин.
— Она утверждает, будто я истратил тринадцать тысяч долларов ее денег! Если бы! — Перед полковником на зеленом сукне стола разложены законы о разводе всех штатов. — Я ни пенни ее денег не потратил. Наоборот. — Он, очевидно, забыл о деньгах, вырученных от продажи кареты и лошадей и от акций на платные мосты. Но я давно заметил, что, когда речь идет о деньгах — берет ли он их взаймы или отдает, — Бэрр теряет ощущение пропорций.
Особенно его разозлил выбор адвоката.
— Ну и такт проявила эта женщина! — Как известно всему Нью-Йорку, мадам выбрала адвокатом Александра Гамильтона-младшего. — Мне так и хочется к списку ее любовников приписать того самого покойника. Видит бог, она действительно, выражаясь языком Библии, познала папу Гамильтона.
— Когда? — У меня так и зачесались руки немедленно взяться за перо, но у него уже не осталось времени для прошлого.
— Мадам вела жизнь куда более бурную, чем я. Ничего, все тайное станет явным!
Я помог ему составить несколько обвинительных актов против жены, и он отправился в Джерси-Сити, оставив меня с мистером Крафтом, который только трясет головой да шепчет:
— Так вываляться в грязи!..
ГЛАВА СЕМНАДЦАТАЯ
Вчера вечером мы с Леггетом вывалялись в грязи.
Два дня лидеры аболиционистов подвергались атакам толпы. Леггет хочет знать, кто их подстрекает. Он подозревает вигов.
— Ты всегда подозреваешь вигов, — сказал я. В общем-то, движение за освобождение черных рабов на Юге очень непопулярно. Не потому, что ньюйоркцы так уж поддерживают институт рабства, но они не любят святош, которые хотят его отмены.
Мы стояли на Сентр-стрит, в сердце негритянского района, недалеко от Файв-пойнтс. Прямо перед нами высилась африканская епископальная церковь, и пастор, отец Питер Уильямс, вышел приветствовать Леггета.
Пастор боялся, что его церковь пострадает прежде всего. Маленький черный человек с вкрадчивым голосом и даром политика, естественно, испугался.
— Они нападут на нас, а не на белых радикалов.
— Но вы-то ведь тоже хотите отмены рабства на Юге? — Леггету по штату положено задавать вопросы.
— Да, хочу, мистер Леггет, но я не хочу стать жертвой насилия, а ведь этим все и кончится.
Наступали сумерки, стали зажигаться уличные фонари, по всей улице начали захлопывать ставни. Захлопывать — и тотчас приоткрывать, ибо черное население внимательно следило за врагом. А враг затаился поблизости. До нас доносился неровный бой барабана у Файв-пойнтс, голоса с ирландским акцентом, горланящие кровожадные песни.
В пятницу вечером был налет на часовню на Чатам-стрит, где в это время происходило собрание аболиционистов и замышлялось покушение на братьев Артура и Льюиса Таппэн — руководителей аболиционистского движения в Нью-Йорке. К счастью, Таппэнам удалось скрыться. Однако дом Льюиса Таппэна сожгли дотла.
Вчера вечером пошли слухи, что толпа собирается выкурить всех известных аболиционистов до единого и сжечь их дома и церкви (чересчур рьяные радетели о благе рабов — в большинстве своем священнослужители; я не разделяю энтузиазма Леггета по поводу их движения). Как потом выяснилось, толпа не зашла так далеко. Но налет на африканскую епископальную церковь был.
Полдюжины полицейских, которых вызвали охранять церковь, куда-то пропали, и уже знакомая толпа (я теперь различаю кое-какие ирландские рожи) с ревом понеслась на нас со стороны Файв-пойнтс.
Когда толпа штурмовала церковь, пастор исчез в переулке. Окна повыбили. Сорвали дверь. Скамьи выбросили из окон и сожгли на улице. Ну и ненавидят же они черных, эти белые бедняки!
В проемах церковных окон показались языки пламени. Громадный костер из церковных скамей отбрасывал жуткий отсвет на все и вся, включая нас с Леггетом, явно чуждых толпе, а следовательно — врагов. В одно мгновение нас опрокинула — другим словом не скажешь — дюжина обезумевших юнцов.
В грязи и окровавленных перьях (мы вывалялись в грязи как раз напротив лавки, торговавшей курами) мы пустились наутек: даже воинственному Леггету не хотелось связываться с толпой.
И так как мой пансион был ближе, мы бросились туда; принеся горячую воду, экономка стала божиться, что месяц назад ее тоже «сильничали» взбунтовавшиеся каменотесы, и слово «сильничали» в беззубых устах вызывало в памяти жуткий призрак похотливой сабинянки.
— Будь я мэром, я бы этих аболиционистов, которые город жгут, всех перестреляла. — Ненавидя аболиционистов, миссис Редман, как многие простолюдины, путала, кто кого преследует.
Мы с Леггетом сняли оперенные костюмы и отдали их чистить миссис Редман. Оставшись в одних рубашках, мы умылись.
Когда Леггет отмывал манишку, руки у него дрожали. У меня тоже. Он тяжело дышал, и кожа на коротких голых ногах была — как бы это сказать? — как у только что ощипанной курицы. Не могу забыть тех кур.
Я нашел немного голландского джина, и мы выпили за аболиционистов. Душная ночь полнилась визгом, и криками, и звоном стекла, а из открытого окна поверх темных крыш мы видели красивый розоватый отсвет от горящей в соседнем квартале церкви.
— Эдак весь город вымрет. — Я больше, чем Леггет, боюсь анархии.
— Вряд ли. — Леггет лежал на кровати в расстегнутой рубашке, волосатая мускулистая грудь вдруг взмокла от пота. Разорванные легкие уж не починить. Я поймал себя на том, что думаю о его скорой смерти, и смущенно отвел глаза. К счастью, он не знал, о чем я думаю. Он не обращает внимания на то, что харкает кровью, на приступы озноба, на нездоровый пот.
Я показал Леггету кое-что из этих страниц и сказал, что пишу, так сказать, мемуары полковника Бэрра, под его диктовку. Леггет пришел в восторг, увидев письмо, где подтверждался факт присутствия Бэрра около Киндер-хука, когда миссис Ван Бюрен забеременела будущим вице-президентом.
— Вот видишь, Чарли! Он там был! Тут доказательство. Чего же тебе еще?
Пришел мой черед смеяться над Леггетом.
— У нас, юристов, не так, как у вас, журналистов. Это не доказательство. Всего лишь косвенная улика.
— Зато какая! — Сам того не замечая, Леггет массировал грудь странными круговыми движения, словно помогая легким. — Письмо и несколько реминисценций полковника Бэрра относительно его протеже…
— Да он о нем почти не упоминает…
— Ну, тут уж ты виноват. Будь похитрей. Он хочет оправдаться, верно? Он чуть ли не прямо так говорит тебе и Дэвису. И уж конечно, он хочет, чтобы его до конца считали влиятельной фигурой. Вот пусть и расскажет тебе, как он помог Мэтти Вану начать политическую карьеру, как он… — Вдруг спазм, судорога пронизала все тело Леггета, и он запнулся на полуслове. Он задохнулся.
— Ничего, ничего, — пробормотал он наконец. — Я немного отдохну. — Он упал на подушки и всю ночь провел в забытьи.
Я свернулся в кресле калачиком, не зная, найду ли утром своего гостя живым.
Меня разбудил Леггет. Он уже оделся и выглядел совершенно здоровым.
— Утро уже. Жена будет волноваться. Спасибо за ночлег. Начинай работать над памфлетом. Немедленно. Он нам необходим до съезда, до октября. Если чувствуешь, что один не справишься, давай я тебе помогу.
Леггет ушел. Уже июль. Как закончить через три месяца, ведь я еще так мало знаю!
ГЛАВА ВОСЕМНАДЦАТАЯ
Полковник уже сомневается, стоит ли ему возбуждать встречный иск.
— Наверное, это не очень-то по-джентльменски.
Я ничего ему не советую. Да он и не ждет от меня совета, он часто разговаривает сам с собой, а мое дело — молчать и слушать.
— Но это заявление — ну и наглость! Я, видите ли, хотел забрать ее деньги! По себе судит. Сама грабила всех, кого могла. И меня. И Гамильтона. И мы никогда — я никогда ничего назад не требовал.
— А Гамильтон?
Полковник не слышал моего вопроса.
— Когда ее выгнал первый любовник, я просто подарил ей деньги, чтобы спасти от долговой тюрьмы. Ну ладно, ее не переделаешь. И меня тоже.
Полковник вдруг умолк; резким движением отодвинул в сторону бумаги на столе.
— Давай займемся чем-нибудь полегче. Поговорим о том, чем жила Америка осенью тысяча семьсот девяносто пятого года.
Воспоминания Аарона Бэрра — VIII
На последнем заседании третьей сессии конгресса я возглавил борьбу в сенате против ратификации договора Джея с Англией. Договор был плохо составлен и невыгоден для нас. В нем нам даже запрещалось экспортировать хлопок на американских судах. Другими словами, договор превращал нас снова в колонию. Он обнажил и глубокий, непоправимый раскол между республиканской и федералистской партиями — уже настоящими политическими партиями, а не фракциями. Одна была профранцузская, другая — проанглийская. Одна хотела вольной конфедерации штатов, другая — сильного централизованного правительства; одна состояла из независимых фермеров и городских ремесленников, другая стремилась развивать торговлю и промышленность. Одна партия была Джефферсон, другая — Гамильтон.
И так как Гамильтон одержал верх в конгрессе, договор ратифицировали. Меня считали теперь не только первым из республиканцев в верхней палате (как Мэдисона в нижней), но и лидером — вместе с губернатором Клинтоном — партии в штате Нью-Йорк. Я приобрел союзников в лице Галлатэна из Пенсильвании; кузенов Эдвардс из Коннектикута; Джонатана Дейтона из Нью-Джерси; Мэдисона и (так я думал) Монро из игравшей решающую роль Виргинии. Я упорно пытался заключить союз с Теннесси. Это расположило в мою пользу главного представителя этого штата. Он подошел ко мне на улице около Дворца конгресса.
— Клянусь всевышним, полковник Бэрр, я ваш горячий поклонник!
Эндрю Джексон был красивый молодой человек с огненным темпераментом; когда он волновался (то есть почти всегда), он говорил бессвязно. К тому же он брызгал слюной, потом, правда, отучился. Джефферсон прозвал его «бешеной собакой».
Я дал изысканный званый обед в честь Джексона, но, по-моему, он наслаждался не столько приятным обществом, сколько возлияньями. Он не любил конгресс, и конгресс отвечал ему тем же. Вскоре Джексон ушел с поста, думаю, ему просто стало скучно. И хоть наша дружба очень пригодилась мне во время выборов 1800 года, для него, бедняги, она оказалась чуть ли не роковой, когда меня арестовали, обвинив в государственной измене, а его назвали моим соучастником.
В 1792 году виргинцы обещали мне, что, если я сниму свою кандидатуру на пост вице-президента в пользу Джорджа Клинтона, они помогут мне получить этот пост через четыре года. В политике, как и в жизни, следует держать слово. Так считал я, Дон Кихот. Виргинцы же не отличались такой — ну, как бы это сказать? — щепетильностью. Поэтому спустя некоторое время я решил напомнить главному виргинцу об этом обещании хунты.
18 сентября 1795 года я уезжал в почтовом дилижансе из Филадельфии, а в Нью-Йорке в это время разразилась желтая лихорадка. Со мной был мой слуга Алексис. И почему в истории жизни человека, им ли самим рассказанной или другими, никогда не говорится о его слуге? Ведь вся наша жизнь проходит в обществе верных слуг. У меня не было более преданного друга, чем Алексис — негр из; Санто-Доминго, который однажды… но это уже другая история, и для других мемуаров.
Прибыв в «город» Вашингтон, я почувствовал себя странно. В ушах звенело. Меня бил озноб. Однако некая мисс Дункансон приняла меня, проявив смелость, достойную святых и мучеников. Другой не пустил бы меня на порог и бросил умирать в лесу — так погибли во время эпидемии 93-го года многие филадельфийцы, бежавшие из города; боясь заразы, население окрестных деревень на выстрел не подпускало несчастных. Даже когда президент Вашингтон оставил Филадельфию и направился в Маунт Вернон, его ни в одной деревне не пустили на порог и Его сиятельству пришлось спать не среди верноподданных, а среди равнодушных деревьев.
Наутро, раздвинув занавески и увидев мое лицо, Алексис понял, что больше ему у меня служить не придется.
— Diable![71]
— Qu’y a-t-il?[72] — Я едва ворочал языком. Он принес мне зеркало. Лицо и шея у меня опухли, а белки глаз так же покраснели, как у бедного доктора Хатчинсона, когда он последний раз на меня смотрел.
Мисс Дункансон проявила невиданную деликатность. О лихорадке не упоминалось, и, не будучи помянута, она отступила. Я ничего не ел, не разрешил врачам делать мне кровопускание, встал с постели через несколько дней свежий и здоровый и начал обследовать новую столицу вашего государства.
Признаюсь, никогда я не видел такого мрачного пустыря. Часть Капитолия и президентского особняка у уже принимала некую форму, но не более. Строители жили в халупах — во время моего визита в город в 1806 году эти халупы так и стояли и в них по-прежнему жили.
Я участвовал в спекуляциях землей, как все, включая генерала Вашингтона, который только что приобрел два участка неподалеку от Капитолия. Я заплатил наличными за участок около Белого дома. Наверно, мы были похожи на сумасшедших. Взрослые люди верхом на лошадях разъезжали по темному лесу, сверяясь с картой, чтобы уверенно ткнуть в участок болотистой местности и сказать: «Ну вот, тут угол такой-то улицы. Отлично, совсем рядом с Капитолием. Здесь я построю дом — нет, гостиницу». Кто проявил упорство в этих дебрях, сколотил состояние. Ну, а я, конечно, остался ни с чем.
Потом я отправился верхом в Монтичелло по совершенно диким местам, через предательские стремнины, по бродам.
Около десяти утра в конце сентября я стоял у подножия холма, на котором строился настоящий дворец. Кругом царила суета. На большом кузнечном горне вместо кузнецов дюжина черных мальчишек — «кузнечики» — делали гвозди. Апостол аграрного направления весело признался, что стал промышленником.
— Выбора у меня нет, — сказал Джефферсон, приветствуя меня у наковальни. — Отдаю весь урожай за переделку дома. Гвозди идут в уплату за бакалейные товары. При таком уровне производства я погашу долги через четыре года.
Я похвалил его. Я и сам когда-то пытался с помощью гвоздей избавиться от долгов. Но от гвоздей что-то мало толку.
Джефферсон сел на лошадь и поехал со мной на холм, ни на минуту не умолкая. Ему в то время было около пятидесяти, он начинал седеть, его мучил ревматизм, и он мрачно считал его предвестником конца.
Джефферсон похвалил меня за то, что я выступал против договора Джея.
— Вы — самая светлая голова в сенате.
Я сказал, что, учитывая уровень моих коллег, это не такой уж комплимент.
Вдруг лошадь Джефферсона шарахнулась. Он с такой яростью дернул за поводья, что у лошади выступила кровавая пена. Он работал хлыстом, пока на теле у бедного животного не вздулись рубцы. Впервые я увидел, как он обращается с лошадьми.
На вершине холма меня пригласили полюбоваться неким подобием античных развалин. Большую часть здания разобрали. Кирпичи летели во все стороны, и стены исчезали; потом они опять воздвигались в соответствии с новейшим проектом Джефферсона.
— По-моему, нет ничего увлекательней, чем разрушать и снова создавать.
Мы ехали по лугу, где стояли бесчисленные печи для обжига кирпича. Повсюду сновали рабы. Я удивился, увидев, насколько они «светлы». Не знаю, говорят ли теперь так на Юге, но в те дни раб с большой примесью белой крови назывался «светлым». Мне стало не по себе при мысли, что столько мужчин и женщин, у которых кожа куда светлее, чем у меня, принадлежат мистеру Джефферсону.
Некоторые были очень красивы, особенно члены семьи Хеммингс; самая блестящая представительница этой семьи — Сэлли — была наложницей Джефферсона, родила ему по крайней мере пятерых. Недавно я узнал, что Сэлли живет с сыном в Мэриленде. Видимо, сына считают белым, и поэтому мать должна скрывать от соседей, кто она такая.
— Я получил светлых рабов в наследство от своего тестя, Джона Уэйлса, — вздохнул Джефферсон. — И не секрет — в Виргинии секретов нет — многие из них его дети.
Сэлли Хеммингс, тоже дочь Уэйлса, то есть сводная сестра покойной жены Джефферсона, и впрямь удивительно напоминала Марту Уэйлс, если верить портрету в столовой Монтичелло. Забавно, что, прелюбодействуя с красавицей рабыней, Джефферсон одновременно спал со своей золовкой! Хорошо бы послушать, как он морализирует на эту тему.
Сэлли приветствовала нас в дверях. Миловидная светлокожая девушка. В скромной роли экономки она воплощала джефферсоновский идеал жены — послушной, стеснительной и глуповатой.
— Мне совершенно ясно, что женщины уступают мужчинам по интеллекту. — Это он сказал за вином во время обеда. — О присутствующих я не говорю. И я не отталкиваюсь от теории Адамова ребра, а исхожу из фактов. — Затем он сказал еще несколько глупостей, которые я опроверг, приведя в пример мою Теодосию, которая знала латынь и греческий (если знание этих языков можно считать критерием) лучше, чем виргинский фермер-недоучка. Но спор носил дружеский характер — по крайней мере, насколько мне удавалось расслышать собеседника сквозь грохот падающих кирпичей, крики рабов и скрип телег.
Остальные гости были соседи Джефферсона, виргинские плантаторы, которые всегда хмелеют к концу обеда. Роль хозяйки играла дочь Джефферсона, Марта. В доме находились еще ее муж и две сестры Джефферсона, но они хворали и к столу не вышли.
— Я все лето только и делаю, что выхаживаю больных, — сказал Джефферсон.
В отличие от своих гостей он весьма умеренно пил хорошее французское вино и ел в основном овощи — очень разумная диета, я часто сам ей следую.
Как всегда, темой разговора стал Гамильтон. Джефферсон прямо-таки бесновался, когда речь заходила о сопернике.
— Колосс монархии — да, колосс, ибо нельзя отрицать, что он человек блестящего ума. Это так же неопровержимо, как то, что он продажен и рвется к власти даже сейчас, когда он как бы в отставке.
Я знал, что он рвется к власти, и поддержал Джефферсона. Гамильтон только что организовал ряд серьезных побед федералистов над нашей партией в штате Нью-Йорк. В результате я уступлю место в сенате тестю Гамильтона, а губернаторство перейдет от нашего Клинтона к их Джону Джею.
Джефферсона особенно взволновало, что Гамильтон наконец проявил свою склонность к насилию. Кто еще, кроме монократа, мог ввести двенадцать тысяч национальных гвардейцев в Западную Пенсильванию? И зачем? Чтобы схватить несколько фермеров, которые и не думали сопротивляться; они просто не хотели платить налог на виски, и были правы.
— Налог этот — глупая затея, — согласился я. Естественно, я не стал напоминать хозяину, что в бытность свою государственным секретарем он отнюдь не возражал против налога на виски.
— Мы и Революцию-то совершили для того, чтобы покончить с такими несправедливостями.
— Верно. Но сейчас у нас конституция, в которой ясно сказано, что конгресс властен облагать налогом и взимать его, и, стало быть, налоги платить следует.
— Конгресс — да! Президент — ни в коем случае! — Джефферсон умел быть потрясающим крючкотвором.
В данном вопросе, как и ранее в деле с Банком, он готовил почву для проведения в жизнь нуллификации, которая когда-нибудь, конечно, приведет к полному распаду союза штатов. Для Джефферсона конституция являлась удобным средством, когда позволяла ему делать, что он хотел, и монархическим документом, когда ему мешала. Он считал, что внутреннее правление — дело штатов, а внешняя политика — дело президента, наивно полагая в то время, что можно отделить одно от другого. Прозрение пришло к нему, когда, будучи президентом, он решил бороться с пиратами в Средиземном море, купить Луизиану, украсть две Флориды и, если удастся, прихватить и Кубу. К концу правления Джефферсона полномочия президента стали намного шире, чем в эпоху двух «монархистов» — Вашингтона и Адамса.
Дочь Джефферсона (очень на него похожая) попыталась переменить тему разговора, но Джефферсона уже понесло. У меня не хватает искусства точно передать поток его красноречия. Казалось, он мыслит вслух, и он заставлял слушателей мыслить с ним вместе, овладевал их умами настолько, что всякий раз, как он останавливался, подыскивая слово, мозг слушателя будто переставал работать, выключался, в ожидании, пока он снова начнет думать за всех, найдет подходящее выражение за всех. Что за дьявольский дар!
— Нужно было возбудить дело против Гамильтона, как только мы узнали о его друге Дуэре. Гамильтон, конечно, прекрасно знал, чем занимается Дуэр в Казначействе. Оба замешаны. Бессовестные спекулянты, вроде доносчиков мистера и миссис Рейнольдс! — Он сверкнул на меня глазами, но отвел их, когда я посмотрел на него, словно кролик на удава. Кстати, я ни у кого не видел такого бегающего взгляда, как у Джефферсона. За многолетнюю практику в суде я убедился, что тот, кто во время перекрестного допроса не смотрит вам прямо в глаза, говорит правду, а свидетель, не отводящий взора, лжет. Джефферсон — исключение, подтверждающее правило.
Из-за присутствия дам Джефферсон не продолжил рассказа о деле Рейнольдсов. Я уже много позже узнал подробности странной истории о том, как Гамильтона шантажировала развратная чета.
Джефферсон пустился в рассуждения о характере Вашингтона, приведя в восторг всех сквайров (кроме одного, в этот момент рухнувшего под стол и тем возвестившего окончание пира).
Мы вышли на лужайку, вернее, на ту полоску травы, которая оставалась между двумя ревущими обжиговыми печами. Виргинцы привыкли к шуму и суете и совершенно не замечали их, как и наш хозяин.
Джефферсон не понимал реакции Вашингтона на учащающиеся нападки не только на его правление, но и на него лично.
— Это ведь всего лишь плата за свободу прессы, причем небольшая, учитывая все выгоды.
— Возможно, президента беспокоит источник нападок, — предположил я.
Джефферсон посмотрел на меня невинными глазами.
— Источник?
— Газета Френо представляла ваши интересы.
— Но ведь нам нужна была своя пресса в Филадельфии. И я же никогда не жаловался из-за нападок Френо на меня. — В разговорах со мной Джефферсон не упускал случая пожаловаться на клевету, ересь, оскорбление личности, безнравственность и бунтарство «свободной» прессы, и был по крайней мере один случай, когда он пытался подавить ее свободу.
— Какое дело великому человеку до комариных укусов? Вашингтону обеспечено место в истории. Если его авторитет не подорвет Гамильтон. — Джефферсон нахмурился и под грохот сыпавшихся с ближней стены кирпичей разразился утонченной тирадой. — Мне покоя не дают визитеры из-за границы, и ведь не ко мне приезжают, а посмотреть, как мы строим республику, посмотреть, достаточно ли все это, — тут он широким жестом обвел свою гору, свои печи, своих рабов, свои аллеи желтолистых деревьев в долине, — достаточно ли все это жизнеспособно. Посмотреть, можно ли на своей собственной земле — а я хочу, чтобы каждый владел хоть пятьюдесятью акрами земли, пусть даже за счет правительства или западных индейцев, — можно ли обеспечить себя и семью, выращивая собственный хлеб, производя одежду и — да-да, гвозди тоже! Вот что я вам скажу, полковник Бэрр: в этом замечательном климате, на этой богатой земле возможно все, то есть, — голос у него стал торжественным, обычная хрипотца сменилась необычной звонкостью, — возможно создание республики, настоящей республики, какую никто и не пытался создавать с античных времен. Вот почему нам так важен союз с Францией. Мы и они — только две республики существуют на земле, и нам есть чему поучиться друг у друга.
О да! Пока мы рассуждали, французский армейский офицер по фамилии Бонапарт принимал поздравления от имени республики за то, что приказал открыть огонь по парижской толпе и двести «недовольных» были убиты; орел уже начал расправлять крылья, и скоро мы станем единственной республикой на земле. Но в ком было больше царственного? В Бонапарте, от всех военных побед которого не осталось и следа? Или в Джефферсоне, чьи хитрые завоевания существуют по сей день?
Разговор о Франции навел живую мысль нашего хозяина на неприятности в Санто-Доминго.
— Это всем нам урок. — Он обращался преимущественно к виргинцам. — Черные убивают белых. Рабы убивают хозяев. Говорю вам, что, если мы не сумеем постепенно уничтожить рабство, наших внуков и правнуков вырежут так же, как французов в Санто-Доминго.
Я вспоминаю эти слова сейчас, когда Нью-Йорк являет собой поле брани между аболиционистами и их врагами. Обе фракции прикрываются именем Джефферсона. О, если бы он сейчас оказался с нами и объяснился бы точней!
Сорок лет назад Джефферсон, мягко говоря, не был аболиционистом. События в Санто-Доминго возмущали и пугали его. Он говорил: «Нельзя попустительствовать анархии — даже во имя высокого идеала». Он молил господа, чтобы Франция как можно скорее восстановила порядок в Санто-Доминго, даже ценой возрождения рабства. Для Соединенных Штатов он видит лишь одно решение проблемы: «Надо вывезти наших черных в Вест-Индию и в Африку в надежде, что, возвратясь в родные места, они будут так же свободны, как мы, и в то же время обогащены знаниями, почерпнутыми у нас».
На этом виргинцы вернулись в дом, а Джефферсон пошел показывать мне плуг собственного изобретения; при этом он с любовью рассказывал о своем внуке:
— Настоящий индеец, зимой бегает босиком. Приходится просто привязывать ему к ногам мокасины.
Джефферсон пустился в ученые рассуждения об индейцах:
— Думаю, у них те же корни, что у нас. Интеллект как будто не уступает нашему, но, к сожалению, они в плену старых дурных обычаев и не хотят обрабатывать землю, предпочитая бесцельную жизнь охотников. Но если американская природа сделала из них то, чем они являются, не окажет ли она и на нас такое же воздействие?
— То есть мы станем охотниками? Покинем наши города…
— …покинем наши фермы. — Это слово было явно подчеркнуто.
Русоголовый мальчуган швырял камни в последнее (и весьма удачное) изобретение хозяина — плуг. Джефферсон добродушно наблюдал за мальчуганом, не оставляя мысли об индейцах.
— Бюффон, конечно, неправ. Он считал, что индейцы вырождаются, потому что они ростом меньше европейцев. Совершенная чепуха. Ирокезы гораздо крупнее большинства европейцев. Отсутствие растительности на лице индейцев Бюффон считал признаком вырождения, не замечая, как тщательно они сводят волосы. Он утверждал также, что половые органы у них меньше, чем у нас. Мой опыт этого не подтверждает. А ваш?
— Боюсь, что недостаточно изучил этот вопрос.
Ирония не попала в цель. Опровержение Бюффона продолжалось.
Затем Джефферсон снова заговорил о резне в Санто-Доминго. Она не давала ему покоя. Кошмар каждого рабовладельца стал реальностью. Рабы могли захватить не только целую плантацию, но и всю страну.
— Невероятно! Но как они будут управлять? Как будут существовать? Во-первых, негры — это не индейцы, это не мы. У них интеллект значительно уступает нашему. Конечно, хочется думать, что глупыми их сделали тяжелые условия. Но чем тогда объяснить высокий интеллект римских рабов, белых римских рабов? Условия жизни у них были не лучше, чем у наших негров, но посмотрите, чего они достигли! Да ведь раб Эпиктет был мудрейшим человеком своего времени! Нет, боюсь, не рабство само по себе, а некий природный дефект обусловил недостаточный интеллект негров. — Джефферсон помахал хорошо одетому чернокожему, верхом выехавшему из леса нам навстречу. — Хотя в делах сердечных природа к неграм более чем щедра.
Чернокожий оказался знаменитым Юпитером, которому поручались дела, требующие особой смекалки, вроде получения денег с тех, кто покупал у Джефферсона гвозди.
Юпитер поздоровался, доложил о проведенной операции и ускакал.
— Примесь нашей крови меняет их, — сказал Джефферсон, прочитав мои мысли.
Юпитер был черен, как деготь.
Я показал на мальчугана, который карабкался по дереву, рискуя свалиться:
— Ваш внук ушибется.
Джефферсон покраснел до корней волос.
— Это деревенский мальчишка, из Хеммингсов, наверное.
Мальчик явно приходился ему сыном или внуком, следовательно, я совершил грубую ошибку, а незнание закона, как известно, не оправдывает преступника. Странно было ходить по Монтичелло и всюду встречать живые копии Джефферсона и его тестя. Словно нас всех превратили в собак, и, как один самец создает целое собачье общество, так Джефферсон оставил мощный след в крови африканских рабов и, подобно вожаку стаи (или турецкому султану), теперь оглядывал свои владения и наблюдал почти полную чистоту породы.
— Сейчас мы не можем их освободить. — Впервые я почувствовал некоторую неуверенность в голосе Джефферсона. — Как они будут жить? Кто будет о них заботиться? — Он вздохнул. — И тем не менее несправедливо, что одна половина населения попирает права другой.
— Вы когда-нибудь отпускаете своих рабов на волю?
Джефферсон кивнул.
— Я вот-вот лишусь прекрасного повара. Обещал отпустить его, как только он научит нового повара всему, чему научился, когда был со мной во Франции.
— Он превосходен.
— Знаю. К сожалению, он нашел место в Филадельфии, и новый хозяин его у меня откупает.
Потом я узнал, что Джефферсон никого из своих рабов не освобождал просто так. Однако иногда он разрешал рабам, нашедшим работу, откупаться, обычно деньгами, полученными в задаток от будущего хозяина. Сотня мужчин, женщин и детей, которыми владел Джефферсон в Монтичелло, составляла его капитал. Без них он не смог бы обрабатывать землю или производить гвозди и кирпичи, строить и перестраивать дома, писать Декларацию независимости. Судя по всему, он был добрым хозяином. Правда, сегодня мне уже трудно поверить, что Джефферсон, которого так любят цитировать демагоги-аболиционисты, и Джефферсон-рабовладелец, которого я видел в Монтичелло, — одно и то же лицо.
Джефферсон умел вовремя и «правильно» ответить на любой вопрос, касающийся морали. Но сам он редко отклонялся от оппортунистического курса, рассчитанного на то, чтобы обеспечить ему власть. Джефферсон, отменивший законы о смертной казни и объявлении вне закона за государственную измену в подготовленном им проекте виргинской конституции в 1783 году, за пять лет до этого объявил законным правом каждого поймать и убить некоего Джозию Филипса лишь по подозрению в преступлении. В более поздний период жизни Джефферсон в целом одобрял подобные постановления.
Джон Маршалл однажды сказал мне, что особенно презирает Джефферсона за незаконную расправу с Филипсом.
— Или ты уважаешь закон, — сказал Маршалл, — и право каждого гражданина на судебное разбирательство, или мы живем в джунглях беззакония, где каждый может стать жертвой сумасшедшего правителя или даже заблуждающегося большинства. В цивилизованном обществе нельзя убивать человека за то, что ты считаешь его, как Джефферсон считал многих, дурным человеком.
Джефферсон считал также преступлением, если солдат «предательски и нелестно» высказывался о властях Соединенных Штатов или о законодательстве какого-либо штата.
При поддержке монархиста Адамса эти строгости вошли в наш военный устав в 1776 году и были отменены только в 1806.
Позднее я расскажу о том, как Джефферсон устроил надо мной суд по обвинению в государственной измене, сфабриковал доказательства, угрожал свидетелям — ибо, как говорил он, мы не победили бы в Революции, «если бы наши руки были скованы наручниками закона», и есть «особые случаи, когда законы бессильны и когда спасение лишь в твердой власти диктатора или военно-полевом суде». Поразительно, что Гамильтон считал меня «потенциальным Цезарем» именно тогда, когда Джефферсон уже стал Цезарем и правил нами.
Но все это было еще впереди. Сейчас, на вершине зеленого холма, мы были союзниками.
— Ко мне приезжал Мэдисон — с невестой, которую вы ему сосватали.
— Мое главное достижение на третьей сессии конгресса.
— Мэдисон словно заново родился и, говорит, готов век сидеть у домашнего очага.
— Ну, в таком случае нам придется плохо. Если его не будет в палате, а вас в правительстве…
— Зато Аарон Бэрр сможет защищать наши интересы в Филадельфии.
Мы подошли к хижинам рабов. Крупные женщины в ярких платьях стирали белье в лоханках. В пыли играли дети, и над всем этим царствовал мой спутник, время от времени на меня поглядывавший, но отводивший карие глаза, словно пугливая лесная тварь, всякий раз, как я пытался задержать его взгляд.
Наконец мы перешли к политике.
— Знаете, кому федералисты обязаны своей недавней победой в Нью-Йорке…
— Гамильтону! — Он просто закричал.
— И несостоятельности Клинтона, — заключил я. — И потому через год я покидаю сенат.
— Значит, нам конец в конгрессе. — Он изобразил отчаяние.
Я продолжал:
— Я думаю возвратиться в ассамблею штата, где за два года, я уверен, добьюсь республиканского большинства.
— Вы считаете, что такое большинство возможно? — Он, сам того не замечая, сжимал и разжимал большие веснушчатые кулаки — на ум приходит Понтий Пилат (но это уже теперь!).
— Да. Дело в том, что скорее Клинтон проиграл Нью-Йорк, чем Гамильтон его выиграл. — Я остановился, заговорил напрямик. — Каковы ваши политические планы?
— Я в отставке, мой дорогой Бэрр. Посмотрите вокруг! У меня здесь хватит работы на оставшиеся мне десять-пятнадцать лет. — Он прожил еще тридцать. — Власть мне совершенно не нужна. — Не буду воспроизводить знакомые речи. Вашингтон, Джефферсон и Мэдисон произносили их вечно в разных вариантах на протяжении всей своей политической (а другой у них не было) жизни.
Когда речь об отставке окончилась, мы вернулись к сути дела как ни в чем не бывало.
Я продолжал:
— Четыре года назад я уступил в пользу Клинтона, получив заверение Виргинии, что в девяносто шестом году меня поддержат, если я выставлю свою кандидатуру в вице-президенты.
— Мне кажется, — Джефферсон подобрал в пыли старую подкову и стал ее удивленно рассматривать, словно в жизни не видел подков, — что Адамс без труда станет преемником Вашингтона.
— Думаю, все же не без труда. — Мне были известны кое-какие факты, которых он не знал. — Гамильтон тайно поддерживает Пинкни из Южной Каролины. Гамильтон считает, что Пинкни он сможет держать в руках, а Адамса — нет.
— Пинкни не выберут. — Он вдруг переменил мечтательный тон на совершенно земной.
— Согласен, но Гамильтон расколет федералистов. Нам это на руку.
— Нам?
— Вы ведь все еще интересуетесь республиканским движением?
— Да, да. Но на расстоянии.
— И я полагаю, что вы будете нашим кандидатом в президенты, а я — как мы договорились — кандидатом в вице-президенты.
Джефферсон попытался разогнуть подкову.
— Честно говоря, по мне, лучше бы Мэдисон… стал президентом, — добавил он поспешно.
— Но Мэдисон предпочитает вас.
Он зорко глянул на меня и убедился, что мы с Мэдисоном уже это обсуждали.
— Ну и что же? А я буду тверд.
— Значит, вы поддержите кандидатуру Мэдисона и мою?
Неразогнутая подкова упала на землю.
— Я сделаю все, что в моих силах, полковник Бэрр. — Голос у него прерывался от волнения. Он неловко пожал мне руку.
Я провел приятный вечер с ним и его соседями. Он играл на скрипке, и против ожидания не так уж плохо. На рассвете я уехал.
«Я сделаю все, что в моих силах, полковник Бэрр».
Да, Джефферсон сделал все, что мог, — для себя! Он был кандидатом республиканцев на пост президента, а я, как договорились, кандидатом в вице-президенты. Коллегия выборщиков выбрала президентом Адамса, который получил семьдесят один голос. Джефферсона избрали вице-президентом — шестьдесят восемь голосов (в те времена, если кандидат шел вторым по большинству голосов, он автоматически делался вице-президентом). Пинкни шел третьим, набрав пятьдесят девять голосов, а я — четвертым, с тридцатью голосами. На первый взгляд вроде естественно. Но когда я изучил, каким образом голосовал каждый штат, я увидел, что Теннесси отдал мне три голоса, Кентукки — четыре, Северная Каролина — шесть, Пенсильвания — тринадцать, Мэриленд — три, а виргинцы — мои добрые друзья и союзники — отдали мне один-единственный голос.
«Я сделаю все, что в моих силах, полковник Бэрр».
Я больше уже не верил Джефферсону. Но так как мы были друг другу нужны, я притворился, что прощаю его.
Потом Мэдисон пытался объяснить мне поведение Джефферсона:
— Он считает вас слишком независимым политиком и личным соперником, а потому вас боится.
— Вас-то он не боится.
— Потому что я его часть, а не соперник.
— А я — соперник?
— Он думает, что вы соперник.
— Что же мне делать?
Мэдисон скривился. С таким человеком, мол, ничего не поделаешь. Я так и не узнаю — да и кто узнает? — что на самом деле думал Мэдисон о своем удивительном друге.
Воспоминания Аарона Бэрра — IX
Летом 1797 года я оказался замешанным вместе с Монро и Гамильтоном в одном сомнительном деле чести, или, может быть, лучше сказать — деле сомнительной чести. Пять лет назад, когда Гамильтон создавал Банк и вообще формировал республику, Джефферсон заподозрил его в махинациях в Казначействе. Джефферсон убедил Джона Бекли, секретаря палаты представителей, провести частное расследование дел своего врага.
Не знаю всех хитросплетений интриги. Но знаю, что некоего нечистоплотного спекулянта Джеймса Рейнольдса посадили в тюрьму за скупку по дешевке долговых сертификатов, которые выдавались солдатам — участникам Революции в счет жалованья. Он, очевидно, заранее знал, в какую сумму Казначейство оценит эти сертификаты, и сумел заработать большие деньги до того, как отправился в тюрьму.
По предложению Бекли конгрессмен Муленберг и сенатор Джеймс Монро посетили Рейнольдса, и тот намекнул, что, если его освободят, он сможет впутать в дело Гамильтона.
Затем расследователи нанесли визит миссис Рейнольдс, миловидной простолюдинке, и та, вдосталь поплакав, показала им различные записки к ее мужу, якобы от Гамильтона, написанные «особым шифром». Никаких вещественных доказательств обнаружить им не удалось. Я бы тут и прекратил поиски, и Муленберг, думаю, к этому склонялся, но Монро заупрямился. Джефферсон в свое время даже жаловался на честность Монро. «Наизнанку его выверни — и ни пятнышка не найдешь, ни пятнышка!» И он удивленно качал головой.
Монро, Муленберг и еще третий конгрессмен предстали перед всемогущим министром финансов и попросили объяснить его связь с Рейнольдсом.
— Виноват, конечно, был только «маленький креол»! — Даже сейчас я помню, как сверкнули холодные серые глаза Монро при мысли об унижении Гамильтона. — Он потерял дар речи. Нет, вы подумайте! Гамильтон потерял дар речи! Наконец он сказал, что примет нас у себя дома сегодня вечером и скажет нам, конфиденциально, всю правду. — Невеселый хохоток Монро пугал всех, кто его слышал.
В тот вечер Гамильтон с поразительной откровенностью рассказал, как полтора года назад миссис Рейнольдс пришла к нему домой и попросила о помощи. И хотя он ее никогда раньше не видел, Гамильтона растрогал рассказ о жестоком муже, от которого она хотела избавиться. Гамильтон не остался равнодушным и к ее прелестям — всю жизнь его привлекали женщины из низов, включая мою собственную милую супругу Элизу Боуэн. Справедливости ради скажу, что меня всегда, или по крайней мере в молодости, привлекали женщины старше меня, а вот Джефферсон любил лишь хорошеньких замужних женщин, особенно жен своих друзей.
К удивлению Монро — и отвращению, — Гамильтон затем рассказал, как он отправился с деньгами в пансионат «Ин-Скип» (настолько дурного пошиба, что, видимо, это-то и возбудило в нем похоть) и нырнул прямехонько в постель к миссис Рейнольдс.
— Говорю вам, Бэрр, — и Монро горестно покачал головой, — я ушам своим не верил! Рассказывал он это все в гостиной жены. На полу разбросаны детские игрушки… Потом Гамильтон показал расследователям безграмотные письма от миссис Рейнольдс. В одном письме говорилось, что муж все узнал и хочет сообщить президенту Вашингтону, конгрессу и миссис Гамильтон. Именно в такой последовательности. Министр финансов уплатил. Сначала шестьсот долларов. Потом еще четыреста. Так его доили почти целый год.
Конгрессмены, ведущие расследование, настолько смутились, что требовали прекратить дознание.
— Тогда я подготовил отчет, и мы договорились не предавать его гласности. Гамильтон взял с нас клятву держать все в полной тайне.
Но конечно же, Монро немедленно рассказал Джефферсону. Реакцию Джефферсона можно было предсказать заранее. «Гамильтон насквозь испорчен, — сказал он мне потом. — Иначе зачем бы ему с такой готовностью признаваться в адюльтере? Он решил, что, признавшись в грехе помельче, он отвлечет внимание от худшего греха, который положил бы конец его карьере».
Как только Адамс и федералисты пришли к власти, они освободили Бекли от обязанностей секретаря палаты. Снедаемый жаждой мщения, Бекли немедленно передал репортеру скандальной хроники Каллендеру все свои записки о деле Рейнольдса — Гамильтона.
В июне 1797 года полный отчет об адюльтере Гамильтона опубликовали в виде анонимного памфлета. Написал его Каллендер на основе записок Бекли, а оплатил Джефферсон.
Через несколько недель в моем нью-йоркском доме появился Монро. Теодосия уехала; в Ричмонд-хилле остались одни лишь голые стены, так как мебель пошла на оплату долгов; я пребывал в мрачном одиночестве.
Монро весь клокотал:
— Дуэль! Дуэль! — Он грудью наступал на меня, и я, как всегда, видел глубокую ямочку на его подбородке, уподоблявшую его лицо яблоку.
— Гамильтон вас вызвал?
Монро рухнул на стул. Алексис без его просьбы принес ему бренди. Он залпом его выпил.
— Нет, он сам приехал вчера ко мне. Когда я сказал, что никакого отношения не имею к этому памфлету, он обозвал меня лжецом.
— Господи! — Джентльмены не разговаривают так друг с другом, если только они не приготовились к смерти: таков был в те времена кодекс чести. Хоть Гамильтон всю жизнь провел среди богачей и элиты, он до конца дней остался изгоем из-за своей незаконнорожденности и, пользуясь красивой внешностью и умом, добивался того, что было ему необходимо. Вечно он старался очаровывать глупых старцев. Я думаю, такое постоянное угождение другим обострило его гордость и толкало на подлости. Он боролся с врагами пером и речами, но не шпагой.
— Я прошу вас быть моим секундантом. — Монро снова налил себе бренди. Во время Революции, в бытность свою адъютантом лорда Стирлинга, он, естественно, научился пить. Но в отличие от благородного патрона он научился не пьянеть, ибо на адъютанта ложится обязанность укладывать генерала в постель и сажать его на другое утро в седло.
— Я абсолютно уверен в вашей беспристрастности, чести и в дружеском расположении ко мне. — Я растрогался, совсем забыв про то, какую роль он сыграл, чтобы лишить меня пять лет назад вице-президентства.
— Что ж, я согласен. Однако, мне кажется, дело можно разрешить, не прибегая к… какое будет оружие?
— Пистолеты. — Легкий всхлип, Монро словно подавился.
— В одном я уверен совершенно: Гамильтон отнюдь не горит желанием стреляться, он не такой, как мы с вами.
Монро взглянул на меня с благодарностью. Это «мы с вами» ему польстило.
— Мне кажется, — продолжал я, — надо послать ему объяснение, которое он имел бы возможность принять…
— Я сказал все, что мог. Я даже вручил ему письменное заявление, в котором подчеркивал, что мы поверили ему на слово, без доказательств, что он виновен в адюльтере, но не в спекуляции.
— Другими словами, вы просто-напросто обвинили его во лжи.
— Не во лжи. Я только напомнил ему, что мы никогда не просили у него доказательств. Мы просто прекратили расследование.
Я нашел выход. Написал проект обращения Монро к Гамильтону, где снова подтверждалась непричастность Монро к памфлету Каллендера — Бекли (Джефферсона) и прямо указывалось, что, когда джентльмен утверждает, что говорит правду, у другого джентльмена нет иного выбора, как ему поверить. Эту палку о двух концах я изобрел очень мудро.
— Насколько я знаю Гамильтона, он будет счастлив избежать дуэли.
— Вы так считаете? — Монро сомневался, он уже видел себя мертвым на Джерсийских холмах. Да и кто бы чувствовал себя иначе перед дуэлью?
Я устроил встречу с Гамильтоном в таверне капитана Аорсона на Нассау-стрит. Этот славный капитан воевал рядом со мной в Квебеке и был в таком восторге от нашей ратной молодости, что таверна почти всегда пустовала, ибо закаленные бойцы боялись его воспоминаний и обращались в бегство, лишь бы не слушать снова и снова, как он штурмовал Квебек бок о бок — как он рассказывает — с Монтгомери и со мной. Но я-то действительно был в Квебеке и потому избавился от его воспоминаний и мог наслаждаться приятной таверной, не боясь, что мне будут надоедать.
Я приехал первый, устроился в тихом уголке, заказал испанский кларет, которым увлекался в те времена (пока не отведал настоящего).
Гамильтон явился через несколько минут, как всегда подтянутый, немного располневший по сравнению с тем временем, когда был министром.
— Ужасное происшествие, мой дорогой Бэрр! Ужасное! — Он сел возле меня, тоже взял бокал с кларетом. Я заметил, что рука у него дрожит. Трудно сказать, кто больше нервничал, Монро или Гамильтон. — Вы знаете, как я не одобряю дуэлей!
— Не замечал. Помню, вы вызвали Чарльза Ли и потом командора Никольсона, а сейчас вызываете Джеймса Монро.
— Но что делать? Вы же видели клевету, которую написали обо мне ваши друзья-республиканцы.
Тогда я рассказал ему, как Монро клялся мне, что не нарушил обещания, данного Гамильтону.
— И вы ему верите?
— Безусловно.
— Кто же виноват в том, что все это опубликовано?
— Понятия не имею.
— Масса Том? — У Гамильтона даже голос задрожал от неприязни к Джефферсону.
— Бесполезно строить догадки. Я, откровенно говоря, заинтересован лишь в одном — помешать дуэли между вами и Монро.
— Я в лицо назвал его лжецом. — В голосе Гамильтона вдруг прозвучало раскаяние, а ведь он-то всегда считал себя правым и посему разрешал себе говорить все что заблагорассудится, не боясь кого-либо оскорбить.
— Вы сделали глупость.
— Вы действительно не считаете его лжецом? — Гамильтон мгновенно увидел выход из западни, и я помог ему из нее выбраться. Я показал ему послание Монро. Он взглянул на него (Гамильтон удивительно быстро читал). Нахмурился. Улыбнулся. Грозу пронесло. — Я могу это принять.
— Мы обсудим все с вашим секундантом.
— Вы очень любезны, Бэрр.
— Знаю.
Гамильтон улыбнулся мне своей обворожительной мальчишеской улыбкой.
— Нельзя позволять, чтобы кто-то становился между нами. — В его словах звучала пусть минутная, но неподдельная приязнь.
— Но кому это нужно? — спросил я невинно. — Ведь оба мы уже не занимаемся политикой.
— Вы очень остроумны, Бэрр. Пойдемте. Проводите меня до таверны «Сити».
Вместе мы пошли по Нассау-стрит и, перейдя Пайн-стрит, вышли на Бродвей. Продвигались мы медленно, нам мешала толпа, многие хотели приветствовать лидера федералистской партии (хотя его влияние в партии ослабевало из-за враждебности президента Адамса), и многие проявляли интерес ко мне как к лидеру республиканских сил в штате (меня снова выбрали в ассамблею несколько месяцев назад). Будучи политическими соперниками, мы по-прежнему оставались и практикующими адвокатами, и нам приходилось иметь друг с другом дело в суде и за его стенами. Думаю, до какой-то степени мы даже сблизились в те дни.
Гамильтон пытался навести разговор на Джефферсона, но я не попался на эту удочку.
— Конечно, я подозревал Монро. Но раз он невиновен — а мы ведь согласились, что он невиновен, — добавил он поспешно, — тогда ответственность за все несет Джефферсон. И я знаю, почему он это сделал. А вы?
— Не уверен, что Джефферсон имеет к этому отношение. — Я осторожничал.
Гамильтон пустился во все тяжкие:
— Из-за миссис Уокер.
— А кто такая миссис Уокер?
— Естественно, жена мистера Уокера, бывшего друга Джефферсона.
Я вспомнил этого джентльмена. Его, чтобы заполнить вакансию, назначили сенатором от штата Виргиния.
— Мистер Уокер очень злился на Джефферсона за то, что тот не оставил его в сенате. Как вы знаете, политика для виргинцев — дело чисто семейное.
Тесть Гамильтона совсем недавно занял мое место в сенате, и я не сдержался:
— В отличие от Нью-Йорка.
Гамильтон расхохотался.
— Ну, скажем, есть хорошие и плохие семьи. Как бы там ни было, мистер Уокер с тех пор невзлюбил Джефферсона и сейчас распространяет слухи, что Джефферсон пытался соблазнить его жену.
— Безуспешно?
— В таких делах обычно есть две версии. Одна из двух всегда одинакова — версия жены. В отсутствие мужа миссис Уокер неоднократно и добродетельно сопротивлялась Масса Тому.
— А вы давно знаете эту историю? — Мы стояли перед церковью св. Троицы.
— Уже несколько лет.
— А можете вы — или один из ваших газетчиков — использовать ее против Джефферсона?
Он снова омрачился. Мы ушли с шумного Бродвея в тень церковного дворика. Тогда, как и сейчас, желая поговорить с глазу на глаз, прохаживались вдвоем между могил.
— Я убежден, чтобы защититься, Джефферсон первым нанес мне удар. Tu quoque[73], так сказать.
Мы остановились у церковной стены в тени листвы, и Гамильтон сказал очень странную фразу.
— Иногда я начинаю сомневаться, — сказал он, — для меня ли эта страна.
— Вы предпочли бы жить под английской короной? — Я с ним играл.
— Нет, конечно! Но здесь что-то не так. Я это во всем чувствую. А вы?
Я высказал свою точку зрения:
— Я чувствую, что все просто озабочены желанием найти свое место в жизни. Более энергичным удается устроиться лучше. Но жизнь здесь мало чем отличается от того, что происходит в Лондоне, или от того, что происходило в Риме во времена Цезаря.
— Нет, все не так просто, Бэрр. — Гамильтон покачал головой. — Но я-то всегда считал, что мы можем создать здесь нечто небывалое.
— Наша «небывалость» лишь в географическом положении.
— Нет, она духовная. Лишь в этом секрет всякого величия.
— По-вашему, духовность есть непременный признак величия души?
— Единственный! — И это говорил соблазнитель миссис Рейнольдс! Сразу оговорюсь, сам я не вижу в его интрижке ничего особенно духовного. Скорее, Гамильтон просто выставлял напоказ грязное прелюбодеяние, прикрывая то, что Джефферсон и Монро до самой могилы считали жульничеством в Казначействе. У Гамильтона, мягко выражаясь, было извращенное понимание духовности. Но ведь слово «духовный» он употреблял в богословском смысле; у меня же мозг мирянина.
Гамильтон снова тепло поблагодарил меня за добрую услугу, и мы вышли вместе с кладбища, пройдя по тому самому месту, где он семь лет спустя лег — благодаря мне.
В ответ на выпад Каллендера Гамильтон опубликовал сенсационный памфлет, в котором поведал миру о своем адюльтере с миссис Рейнольдс и заявил о своей безупречности на официальном посту.
Когда Монро показал мне памфлет, я подумал, что его написал кто-то другой. Но Монро уверил меня, что автор — сам Гамильтон.
— Он покончил с политической карьерой, — выпалил я.
— Не торопитесь с выводами. — Монро был осторожен.
— Но его больше никогда не изберут.
— А зачем ему избираться? Он и так командует в кабинете Адамса.
— Но не самим Адамсом.
— А он ему и не нужен. Ведь Гамильтон пользуется поддержкой самодовольного старика из Виргинии. — Так Монро называл основателя виргинской династии.
Четыре или пять лет назад, переходя Уильям-стрит, я увидел, как дряхлый старик садился в карету. Меня поразили напудренные волосы, шляпа с кокардой, черный бархатный камзол. Он выглядел странно — как Рип Ван Винкль. И вдруг я вздрогнул, узнав своего бывшего друга Джеймса Монро. Но первое, что бросилось мне в глаза, — необъяснимое сходство с его старым врагом Джорджем Вашингтоном. Я убежден, сходство это не случайно: последний представитель виргинской династии решил уподобиться первому, которого он не выносил и поносил, — без сомнения, он устроил этот элегантный маскарад, чувствуя свой близкий конец.
Через несколько месяцев Монро умер в доме у зятя. Как все мы — нищим!
ГЛАВА ДЕВЯТНАДЦАТАЯ
Полковник Бэрр решил не опротестовывать иск мадам.
— Это отнимет много времени, а надо беречь остатки моего разума. — Он сидел за бухгалтерскими книгами, вырезками из газет, пачками пожелтевших писем, перевязанных выцветшими шелковыми ленточками («Любовные послания», — вдруг сказал мне мистер Крафт с пренеприятнейшей ухмылкой).
Изо дня в день я записываю повествование полковника, а оно течет теперь таким непрерывным потоком, что я натер себе пером огромную мозоль на среднем пальца правой руки.
Сегодня после обеда, до того как начать работать, Бэрр вдруг вспомнил Гамильтона:
— Где-то нам необходимо сказать, что Гамильтон оставался моим другом на протяжении следующих трех лет, пока я не стал вице-президентом. Мы даже вместе работали над созданием Манхэттенской водопроводной компании…
— Гамильтон принимал в ней участие вместе с вами? — Это что-то новенькое.
— Да. Манхэттенская водопроводная компания — весьма почтенная организация. В те дни основным источником водоснабжения города был большой пруд, который потом зацвел. Большинство считало, что причина желтой лихорадки — плохая вода. После эпидемии девяносто восьмого года решили брать воду для города из реки Бронкс. Я стоял за учреждение частной компании. Другие считали, что оплату водопровода должен взять на себя город, но даже Гамильтон признавал, что без новых — ненавистных — налогов тогда не обойтись, а он ведь разбирался в данном вопросе! Тогда я убедил федералистские законодательные власти принять мой законопроект, то есть учредить компанию, которой управлял бы весьма представительный совет директоров. По просьбе Гамильтона я даже сделал одним из директоров его шурина. Так мы дали городу питьевую воду. — Бэрр вдруг засмеялся. — По просьбе Джефферсона на его надгробии написано, что он основал Виргинский университет. Ну, а на моем пусть будет высечено, что Аарон Бэрр коснулся скал Манхэттена — и потекла вода. Пей, о Израиль, воду Ааронову! И ведь пьют по сей день.
Тут полковник налил себе стакан крепкого чаю, открыл бухгалтерскую книгу, где сделал ряд пометок, и впервые поведал свою версию того, что произошло, когда они с Джефферсоном получили равное число голосов на президентских выборах.
Воспоминания Аарона Бэрра — X
Ко времени президентских выборов 1800 года всем, кроме Джона Адамса, стало ясно, что его не переизберут. Его правление потерпело крах и сравнимо в нашей истории лишь с правлением его сына Джона Куинси. Странно, но два умнейших человека оказались совершенно неспособными вести общественные дела хотя бы с минимальной разумностью и справедливостью. Может быть, и впрямь их характеры сложились под влиянием моего деда. Если так, их карьера объяснима, ибо, согласно пуританскому образу мышления, ад предначертан судьбой и посему вмешиваться в божьи дела на земле — противно воле божьей, а лучше славить господа за его божественный произвол.
Падение Адамса — и наше восхождение — началось с законов об иностранцах и о подстрекательстве к мятежу. О них хорошо известно, и нет смысла подробно здесь говорить, разве что замечу, что, боясь войны с Францией, правительство Адамса протолкнуло через конгресс четыре законоположения. Во-первых, президент получал право арестовывать иностранцев во время войны; во-вторых, закон разрешал при надобности их депортировать; в-третьих, время постоянного жительства для получения гражданства увеличивалось от пяти до четырнадцати лет (эту меру называли «законом Галлатэна» — Альберт Галлатэн приехал в Соединенные Штаты из Женевы, был избран в сенат от штата Пенсильвания, затем сенатом же был лишен места, несмотря на все мои усилия его спасти). В-четвертых, был проведен закон о подстрекательстве к мятежу: запрещалось публиковать «какую-либо клеветническую, скандальную и злобную литературу», направленную против правительства и его членов.
У меня был разговор с Гамильтоном в июле девяносто восьмого года, когда вышел закон о подстрекательстве. Он разыграл отчаяние:
— Я жизнь отдал, пытаясь укрепить жиденькую, никудышную ткань нашей конституции, а теперь этот дурак Адамс навязывает нам тиранию.
— Не волнуйтесь. У него не будет такой возможности. Считайте, что он уже расстался с президентством.
— Я вовсе не уверен. — Розовощекое лицо вдруг приняло злорадное выражение. — В конце концов, депортация иностранцев у нас только приветствуется.
— А как насчет ареста редакторов?
— Лично я их колесовал бы и четвертовал, и вы тоже. Но может быть, нам и повезет.
Неделю спустя я понял, что он имел в виду. Вашингтон по просьбе президента принял командование армией. Гамильтона назначили заместителем командующего в ранге генерал-майора. Далее президент Адамс предложил присвоить мне звание бригадного генерала, но Вашингтон отклонил мою кандидатуру на том основании, что я друг Джефферсона и, значит, скрытый демократ, который может попытаться свергнуть правительство!
Гамильтон намеревался спровоцировать войну с Францией. Тогда американская армия (с английским флотом) нападет не прямо на Францию, а на испанскую империю и при попустительстве Англии присоединит Латинскую Америку к Соединенным Штатам — план бредовый.
К счастью для республиканской партии, Адамса не интересовала война. К не меньшему счастью, Вашингтон умер в декабре 1799 года. Тогда со стороны французской Директории последовали миролюбивые жесты, мечты генерал-майора Гамильтона о военных завоеваниях а-ля Бонапарт рухнули, и в нем окрепло желание наказать основную фигуру, препятствовавшую его планам, — Джона Адамса.
Вскоре после наступления нового, 1800 года Джефферсон посетил меня в гостинице Фрэнсиса в Филадельфии, куда я приехал по его настоянию. Я снял небольшую угловую комнатку для нашей встречи, которая оказалась довольно продолжительной. Нам многое пришлось сказать друг другу, и не все из того, что мы говорили, было приятно.
Из главной гостиной доносился громкий говор конгрессменов, чьи основные дебаты проходили не в конгрессе, а в уединении заведения Фрэнсиса. Вообще все они отличались веселым нравом, и их определенно следовало избегать.
День был холодный, и вице-президент оделся соответственно. Рыжие волосы обрамлены мехом, веснушки особенно выступали на зимней бледности лица. Он сжал мою ладонь в теплом рукопожатии. Джефферсон сбросил подбитый мехом капюшон и стал рассуждать о франклиновской переносной печке, он вдумчиво разъяснил мне принцип ее работы (что я знал), высказал несколько наблюдений о характере ее изобретателя — Бенджамина Франклина (что тоже было мне известно) — и явно собирался болтать о чем угодно, кроме того, зачем я ему понадобился, — кроме альянса между Виргинией и Нью-Йорком, который сделал бы его президентом. Прикидываясь, будто он вовсе не политик, он был политиком до мозга костей.
Я спросил его о похоронах Вашингтона. Джефферсон вдруг стал холоден.
— Я не присутствовал. Полагаю, он хотел, чтобы на его похоронах не было никаких речей.
— Однако он десять лет, кроме прославления, ничего не слыхал.
— Мало ли что. — И Джефферсон почти слово в слово повторил мне свое мнение о Вашингтоне, высказанное на берегу реки Скайлкилл. Я заметил, что даже самые великие люди любят повторяться. Пожалуй, их можно понять: встречаясь со многими людьми, не будешь же все время придумывать что-то новое.
В тот сезон Джефферсон был особенно занят. Взбешенный законами об иностранцах и подстрекательстве к мятежу, он, скрывшись под псевдонимом, напал на них в печати, смело защищая право любого штата аннулировать любой закон федерального правительства, если штат сочтет его неконституционным. Он блистательно и смело поставил вопрос о выходе любого штата из Союза. Я ужаснулся. Мэдисон тоже; он устало сказал мне, что Джефферсон в гневе не ведает, что творит.
— Гений бывает особенно свиреп, когда поддается минутным страстям, — сказал Мэдисон печально. — Проявив верх неблагоразумия, законодатели в Кентукки приняли формулировку Джефферсона (не зная, кто ее автор), а Виргиния приняла гораздо более разумный документ Мэдисона. Обе резолюции затем были представлены остальным штатам на утверждение. Их отвергли. Другие штаты не желали так поспешно расправляться с федеральным союзом.
— Я попал в весьма деликатное положение. Ведь я служащий федерального правительства. И тем не менее я против тирании федеральной системы. — Джефферсон всегда умудрялся оказаться в положении агента-двойника. В качестве государственного секретаря он дал согласие на введение налога на виски; а потом принял сторону фермеров, восставших против налога. В качестве вице-президента он сейчас отстаивал расчленение Союза.
Я всегда убеждался, что, имея дело с Джефферсоном, нужно обязательно при каждой новой встрече все начинать сначала, чтобы установить — нет, не близость, а некоторую общность интересов. У меня есть от него несколько писем, посланных через короткие промежутки времени, в которых он каждый раз представал передо мной будто новым человеком. Он вечно ускользал, менялся, и так же уклончива была вся его политика. Отношения с ним не имели продолжения.
Черный слуга принес нам рому, и мы оба, принимая во внимание обычную нашу воздержанность, выпили довольно много. Приход негра напомнил Джефферсону про законопроект, переданный на рассмотрение конгрессу, — об ограничении власти Туссена Л’Увертюр — черного правителя Санто-Доминго.
— Мы не сможем его признать. Никогда. Хотя бы из-за наших французских друзей. — Джефферсон разволновался. Надо было дать возможность братской республике (с девизом свободы, равенства и братства) подавить черных бунтовщиков. А до тех пор о признании нечего и думать, и вот еще, оказывается, почему: — Представляете себе, во что превратят наши южные порты эти бывшие рабы, поубивавшие своих хозяев?
Блистательный довод, ничего не скажешь!
Мы поговорили об аресте редактора Джеймса Каллендера на основании закона о подстрекательстве.
— Безусловно, его выпустят, — бодро заявил Джефферсон, он любил своего ставленника.
Однако уже в августе Джефферсон сказал мне печально:
— Бедный Каллендер ждет суда в ричмондской тюрьме. Жалуется, что люди Габриэля Прозера горланят по ночам и не дают ему спать. — Габриэль Прозер руководил восстанием рабов, вызванным, как выразился Джефферсон, ужасными событиями в Санто-Доминго. Никто не знает, какое множество негров казнили в тот год перепуганные виргинцы.
Джефферсон восхищался книгой Каллендера «Что нас ожидает», где тот поносил Адамса и вообще федералистов. Мы поразмышляли о том, что будет, когда Каллендер предстанет перед судом. Джефферсон уверял, что его оправдают. Но он ошибся. Верховный судья Чейз приговорил Каллендера к девяти месяцам тюрьмы. Процесс немало повлиял на наши общие судьбы.
Однако вернемся к зимнему свиданью в Филадельфии. Я сказал, что арест двадцати редакторов, возможно, поможет нам на предстоящих выборах.
— Думаете, эти аресты только начало? — И Джефферсон бросил на меня взор гонимого пророка, я уже изучил этот взор и боялся его, ибо он предвещал громы и молнии против «ереси», «монократов», «катилин и цезарей».
— Вы про генерала Гамильтона?
— Именно. Он командует армией. Он, и только он. Адамс слишком слаб, чтобы его сдерживать, Вашингтон умер. Гамильтон может захватить власть, когда ему заблагорассудится.
Я не стал слушать знакомую тираду, заклубившуюся по небольшой гостиной в гостинице Фрэнсиса.
Когда Джефферсон закончил, я заговорил о текущих делах:
— На выборах Гамильтон будет поддерживать брата Пинкни, а не Адамса.
— Да, мне уже докладывали. Это совсем ослабит Адамса, особенно в Южной Каролине. — Джефферсон-политик устраивал меня больше, чем Джефферсон — дутый философ. Затем: — Как вы расцениваете собственное положение в Нью-Йорке?
Гамильтон и федералисты пороли патриотическую горячку в нью-йоркской ассамблее, и большинство переметнулось к федералистам, а я потерял место.
— Думаю, первого мая меня снова выберут в ассамблею.
— Вы оптимист. — Джефферсон смотрел на вещи иначе. — Мне кажется, Нью-Йорк в руках федералистов, и я не надеюсь на ваших выборщиков.
— Все голоса выборщиков Нью-Йорка будут ваши.
Джефферсон знал, конечно, что на свете есть остроумие, ирония, юмор, так же как он знал, например, что у сумчатой крысы есть сумка; но в точности так же, как не распознал бы, столкнувшись с ней, эту диковину, он всякий раз терялся, сталкиваясь с вышеозначенными проявлениями человеческого ума. Моя манера всегда сбивала его с толку.
— Думаете, вы сможете обеспечить республиканское большинство?
— Совершенно верно.
— Разрешите узнать, каким образом?
— Извольте. — Я решил отыграться за все его коварство. — Но должен предупредить: хоть я и думаю, что мой штат будет республиканским, я вовсе не уверен, что вы будете кандидатом.
Джефферсон зло посмотрел на меня.
— Лучше бы, — сказал он, не повышая голоса, — они выдвинули Мэдисона. — Привычная заученная смиренность.
— Многие не захотят виргинца!
— Понимаю. — Кажется, он действительно понял.
— К тому же вас считают атеистом.
— Всю жизнь я боролся за свободу вероисповедания. — Я испугался, что он пустится в подробные объяснения, но он осекся. — Знаю, религиозный фанатизм все же лучше терпимости на Севере, где клерикалы до сих пор у власти.
— Так будьте же готовы к их нападкам. Еще говорят, что вы якобинец и хотите уравнять общество, уничтожить богачей…
— Ну, этот слух на голосование не повлияет.
— Согласен. Еще вас будут обвинять в распутстве.
— Кто, Гамильтон? — Сколько презрения! — Любовник миссис Рейнольдс?
— Нет. Некий мистер Джон Уокер из Виргинии.
Бледное лицо вдруг залилось краской.
— Я привык к таким нападкам. — Он не ответил, не опроверг обвинения. Позже он признавался, что лишь раз, один-единственный раз, согрешил, «предложив любовь» прекрасной даме — увы, жене старого друга. Тогда я ничего не знал про его интрижку во Франции с некой миссис Косвей, женой миниатюриста, выразившего по этому поводу весьма малое удовольствие. Нет ничего тайного, что не стало бы в свое время явным. Но редко когда существенным.
Заставив Джефферсона обороняться, я стал закреплять собственные позиции: кандидатство от республиканцев на пост вице-президента.
— Мы уже говорили об этом, мистер Джефферсон, и я не хотел бы вас утомлять, но хочу надеяться, что Виргиния отдаст все голоса за меня, точно так же как вы получите все голоса Нью-Йорка.
Джефферсон уставился на боковину франклиновской печки. Железо пошло красными пятнами, словно залился румянцем чернокожий.
— Мне кажется, партийная игра унизительна для всех.
— Она никому не нравится, но вы сами разработали правила и должны им подчиняться. — Будто бы наш самый хитрый политик нуждался в моих советах! Он меня уже обыграл, а я и не подозревал об этом.
— Вы ставите мне условия, полковник Бэрр? — Наконец-то он посмотрел мне прямо в глаза.
— Я возвращаюсь к прежней договоренности, мистер Джефферсон. И от вас жду того же.
— Я всегда стараюсь придерживаться всех договоренностей. — Он не отрывал глаз от моего лица. Как видно, решил справиться со своим бегающим взглядом и заставить меня отвести глаза. Это ему не удалось.
— Значит, вы поддержите мою кандидатуру на пост вице-президента?
— Но я не обладаю таким уж большим влиянием, полковник Бэрр.
— Ну, а то, которым обладаете, конечно, любезно используете. Как и мой друг Мэдисон, на чье слово я совершенно полагаюсь.
Губы его сжались — точно так он стиснул зубы, когда избивал лошадь в Монтичелло.
— Влияние не поддается измерению, сэр. Я не ответствен за чужую совесть.
— В таком случае, мистер Джефферсон, вам, как в мне, придется положиться на случай. — Я выложил последнюю карту.
— Вы будете против моей кандидатуры в президенты. — Помню, веснушки на пепельном лице вдруг потемнели, словно чумные пятна.
— Я не хочу вам препятствовать. В конце концов, у меня еще есть время. Но если меня снова предадут…
Слово было произнесено. Ответ последовал мгновенно:
— Вы получите голоса Виргинии, полковник Бэрр. — Он отвел глаза от моего лица. Поединок окончился. Началась война.
— А вы получите голоса штата Нью-Йорк и президентство. — Я его подбодрил. — Я же буду всего лишь вашим вице-президентом, то есть буду ждать, когда меня пригласят на обед и я удостоюсь чести побеседовать с вами — самое большее, на что может рассчитывать вице-президент, вы ведь это лучше меня знаете. К счастью, ваши речи я предпочитаю самой сладкой музыке.
Джефферсон воспринял мои слова совершенно серьезно, стал дружелюбен, доверчив; завлекал меня. Завлекал меня!
ГЛАВА ДВАДЦАТАЯ
Я пристрастился писать для «Ивнинг пост» под псевдонимом Старожил — от лица эдакого консервативного, сердитого, строгого ньюйоркца. Мистер Брайант в восторге, Леггета это забавляет.
— Вот не думал, что под твоей нудной голландской внешностью кроется столько огня и ярости.
— Я тоже. — Кажется, решительно все раздражает меня, включая голоса поющих женщин. Противный это обычай, но на благопристойных вечерах (хотя на такие я хожу редко) женщины поют. От их пения штукатурка осыпается, они визжат, у них нет слуха, хуже того, у них нет стыда. Они соревнуются друг с другом, кто кого переорет, а мы должны сидеть не шелохнувшись, как на молитве, и делать вид, будто все это нас возвышает и вдохновляет. Мои нападки на поющих дам огорчили мистера Брайанта, но вчера он их разрешил напечатать, и теперь все злятся.
— Значит, в цель попал, — сказал Леггет.
— Надеюсь, — сказал мистер Брайант. — Но пусть теперь ваш Старожил выскажется о чем-нибудь более… утешительном.
Полковника забавляют «Заметки старожила».
— Ты очень мило управляешься с нашим трудным языком. Наверное, станешь юристом-литератором, как Ферпланк.
Мне приятна похвала полковника, но юристом я предпочел бы вообще не становиться.
От юристов-литераторов он перешел к Гамильтону. Он показал мне карикатуру на своего соперника, тот обнимал растерзанного вида женщину, и было сказано, что это миссис Рейнольдс.
— В Гамильтоне есть что-то загадочное. О Джефферсоне этого не скажешь, тот просто хотел достичь верхов. Странно, что сейчас Джефферсона считают гением, чуть ли не Леонардо из Виргинии. Действительно, он за все хватался: и пиликал на скрипке, и строил дома, даже изобрел лифты для подачи еды с кухни, но, по совести-то, он ведь ничего не умел — разве только добиваться власти. Но его совершеннейшая посредственность в искусстве и ремеслах ныне всех приводит в восторг, зато его политический гений вовсе не получил признания.
Полковник разложил на своем столе бумаги, которые ему нужны для работы.
— Будь я помоложе, — он улыбнулся, — и будь я юристом-литератором, а не юристом-крючкотвором, я бы создал жизнеописание Гамильтона и поехал бы в Вест-Индию, чтобы разузнать о некоем мистере Николасе Крюгере. Он был молод, холост, имел там дело. Когда Александр осиротел двенадцати или тринадцати лет, Крюгер забрал его к себе. Мальчик жил в его доме, пока ему не исполнилось семнадцать; он поехал в Америку учиться. Удивляют две вещи. Во-первых, в четырнадцать лет Гамильтон заведовал делами Крюгера. Во-вторых, уже взрослым, Гамильтон ополчился на своего благодетеля. Почему? Поссорились? Как всегда ссорился Гамильтон с лже-отцами? Весьма таинственно. У меня есть свои теории, но, но… — Полковник осекся и начал диктовать мне дневную порцию. Так я и не выведал у него, что это за теории.
Воспоминания Аарона Бэрра — XI
Я вернулся в штат Нью-Йорк и застал Джорджа Клинтона в дурном настроении. Он не любил Джефферсона, не желал принимать участия в выборах. Мне удалось его разубедить, я выразил надежду, что губернатора Джона Джея провалят, и добавил, что счастлив занять его место. Мысль о том, что я вдруг стану губернатором, чудеснейшим образом подняла старику настроение. Он был готов на коленях умолять Шестой округ, чтобы меня поскорее выпроводили из штата — вице-президенту нечего здесь делать.
Ливингстоны были полезными союзниками; достаточно было внимательно выслушивать их советы, а следовать им — не обязательно. Эдвард Ливингстон особенно ко мне благоволил: «…Если придется выбирать между вами и Джефферсоном, я буду за вас». Хорошо, что я никогда не пытался поймать его на слове.
У нас сколотилась «маленькая шайка»: братья Свортвут, Мэтт Дэвис, братья Ван Несс (совсем недавно в юридическую контору Питера Ван Несса прибыл с севера штата молодой клерк по имени Мэтти Ван Бюрен), семья Прево и т. д. Через Дэвиса мне удалось заручиться поддержкой общества св. Таммани.
Я подозревал, что Гамильтон выдвинет в законодательное собрание одних ничтожеств, и дождался, пока федералисты отзаседают. Увидав безвестные имена гамильтоновских кандидатов, я понял, что разобью его наголову, ибо намеревался выдвинуть в законодательное собрание от республиканцев самых знаменитых людей штата.
Генерал Гейтс жил теперь в Нью-Йорке. Имя его до сих пор гремело, несмотря на все попытки Вашингтона предать его, подобно Ли, забвению. Гейтс согласился на выдвижение. Согласился и министр почт в правительстве Вашингтона Самюэль Осгуд, и Брокхольст Ливингстон — пожалуй, самый блестящий член семьи. Наконец, я уговорил и Джорджа Клинтона поставить свое имя в избирательный бюллетень. Никогда бы мне не уговорить почтенных людей баллотироваться на столь маловажные посты, не сумей я убедить их, что мы непременно победим.
— Безумие, Бэрр, чистое безумие! — Клинтон негодовал: вдруг подумают, будто он жаждет занять место в законодательном собрании штата. — Мне, губернатору, совершенно не подобает…
— Бывшему губернатору…
— Тому, кто был губернатором, идти служить в эту вашу ассамблею, да я ее никогда не любил, и все ради офранцузившегося приспособленца, безбожника из Виргинии? Нет, сэр, увольте. Вот если бы вы баллотировались в президенты, ну, тогда дело другое, тогда пожалуйста, но не для Масса Тома.
Я убил на него уйму времени, но в конце концов бывший губернатор согласился вписать свое имя в избирательный бюллетень.
— Но я палец о палец не ударю, чтоб меня выбрали, и, если спросят мое мнение, я скажу, что не хочу, чтобы меня выбрали. — Старик Клинтон совсем раскипятился. Он всегда напоминал мне танцующего на цепи медведя: неуклюжий, добродушный, того гляди, обхватит вас лапищами.
Сам я баллотировался от графства Орэндж, где друзья защищали мои интересы, а мне предоставляли возможность действовать в городе.
Выборы проходили с 29 апреля по 1 мая. Мы с Гамильтоном несколько раз выступали с одних и тех же трибун. Соблюдая декорум, на публике мы отдавали друг другу должное и, не теряя времени, тут же наносили друг другу удары. За несколько недель до этого мы, демонстрируя безоблачность наших отношений, даже объединились, защищая человека, обвиняемого в убийстве, — и добились его оправдания.
К вечеру 2 мая стало ясно, что республиканская партия одержала в городе полную победу и обеспечила нам большинство в законодательном собрании. Все двенадцать голосов выборщиков Нью-Йорка будут отданы Джефферсону и Бэрру.
Примечательно, как отозвался на это Гамильтон. Он отправил «секретное» письмо губернатору Джею и призывал его немедленно собрать сессию действующего законодательного собрания (с федералистским большинством), чтобы изменить избирательное законодательство. Выборщики президента не должны избираться законодательными собраниями штатов, пусть их избирает народ. Нет, право, очень мило — Гамильтону захотелось один-единственный раз расширить избирательное право, чтобы хитростью получить победу на выборах. Прекрасно понимая, что предлагает мошенничество, он убеждал Джея отодвинуть на задний план «соображения деликатности и приличия… ради особого случая». К чести Джея, тот не откликнулся на этот призыв.
Любопытно, как Гамильтон (способный на любое беззаконие, вплоть до военного переворота) сумел так прочно приклеить ко мне кличку «потенциального Цезаря». При всем своем честолюбии я никогда не помышлял отменить законные выборы или уничтожить конституцию. Я подозреваю, что, глядя на меня, Гамильтон каким-то колдовским образом видел собственное отражение. Раз ты сам потенциальный Цезарь, обвини зеркало в государственной измене и отвлеки гнев плебса. А еще лучше, разбей зеркало, освободи себя и делай, что душе угодно.
В последний момент Гамильтон отдал нам президентские выборы точно так же, как, нелепо подобрав кандидатов, он отдал нам выборы в штате. Как всегда не сдержав себя, он выразил свою ярость в памфлете (хорошо бы высечь перо на его надгробии), низвергая Джона Адамса, лидера его партии. Более мудрые и пуганые, федералисты уговорили Гамильтона не публиковать памфлет. Но он имел хождение в узком кругу. К счастью, Элиза Боуэн придержала для меня экземпляр, и я напечатал его в республиканской газете «Аврора». Президенту Адамсу памфлет не очень-то понравился, и Гамильтон с тех пор винил меня (и бедную Элизу) в том, что сам же написал.
Потом я поехал по Новой Англии и Нью-Джерси, чтобы посмотреть, на какую поддержку можно рассчитывать. Джефферсон радовался, что я целиком занимаюсь выборами. «Вы сделали, — писал он мне из Филадельфии, — то, что казалось мне невозможным (он имел в виду республиканское большинство в законодательном собрании Нью-Йорка), и я все отдаю в ваши руки и не удивлюсь, если вы даже в Массачусетсе установите демократию, несмотря на церковников и все прочее».
Я не превратил Массачусетс в республиканский штат, но обласкал тех федералистов, которые не любили Гамильтона и ему не верили. Позже меня обвинили в том, что я просто заручился их поддержкой для получения президентства. Обвинение наполовину справедливо. Я всегда обхаживал федералистов ради достижения нашей главной цели. К тому же многие их лидеры верили мне, ибо не считали меня фанатиком, вроде Джефферсона, решившего принизить богачей и возвеличить бедняков.
Позднейшее обвинение Джефферсона, будто я хотел лишить его президентства, вполне в духе бредней Гамильтона, видевшего во мне военного авантюриста. Джефферсон не держал слова, когда ему было не с руки, и меня мерил своей меркой. Но Джефферсон не был джентльменом даже в честерфильдовском толковании этого слова (из виргинцев таковым был лишь один Мэдисон), я же, к несчастью, был джентльменом — или старался им быть. Я делал лишь то, о чем мы договорились в Филадельфии: добивался избрания Джефферсона и Бэрра.
Летом и осенью 1800 года я был занят, как никогда. Мы все замучились — я, Джефферсон и бедный Джон Адамс. Я надеялся склонить Нью-Джерси на нашу сторону, но штат перешел на сторону федералистов, как и Коннектикут. Поздней осенью борьба перекинулась в Пенсильванию, и там царила полная неразбериха. Род-Айленд тяготел к нам, а Южная Каролина имела сомнительное счастье быть родным штатом оголтелых братьев Пинкни, причем один из них благодаря Гамильтону стал активным кандидатом в президенты.
Джефферсон был в отчаянии. Я, как мог, его подбадривал. «С Род-Айлендом у вас все равно будет большинство», — писал я ему. Но его так же трудно было убедить, что он победит на выборах, как меня в том, что я могу положиться на виргинцев и их заверения. К счастью, я имел союзника в лице Джеймса Мэдисона. Он убедил южан, что поддержать меня — дело их чести.
В начале декабря Пенсильвания избрала законодательное собрание, республиканцы получили перевес в один голос. Южная Каролина голосовала последней. Стало ясно, что Джефферсон будет президентом, но, если Южная Каролина проголосует за своего Пинкни, вице-президентом станет он (или Адамс). К счастью, я имел достаточно друзей и союзников в этом очаровательном штате. В результате выборщики из Южной Каролины отдали все свои голоса за Джефферсона и за меня. Мы победили на выборах с помощью бойкого пера Александра Гамильтона.
Я был в Ричмонд-хилле, когда пришло сообщение о голосовании в Южной Каролине. «Маленькая шайка» пришла в восторг. А я — нет. Я почувствовал: тут что-то не так. Извинившись, я немедленно поднялся в кабинет, сел в кресло с томом Блэкстоуна на коленях (мой письменный стол продали) и начал подсчитывать голоса выборщиков по Соединенным Штатам в целом. Мои опасения оправдались. Джефферсон — 73, Бэрр — 73, Адамс — 65, Пинкни — 64, Джей — 1.
Мы с Джефферсоном сыграли вничью, и теперь палате представителей решать, кому быть президентом. Вторичная проверка цифр показала, что исход выборов предрешили выборщики от штата Нью-Йорк. Без Нью-Йорка у Джефферсона было бы на семь голосов меньше, чем он набрал в девяносто шестом году. Адамс же без Нью-Йорка получил бы на девять голосов больше. Что бы ни случилось в палате представителей, я победил в штате Нью-Йорк, и Нью-Йорк решил исход выборов.
Я спал особенно хорошо той ночью, а утром увидел, что улицы завалило снегом. Это напомнило мне дни Революции, и я как будто помолодел.
Примерно тогда же Джефферсон написал мне одно из своих хитроумнейших писем. Поздравил меня с победой. Заметил, что пост вице-президента выше любого поста, который он мог бы мне предложить, и выразил глубокое сожаление по поводу «той потери, которую понесет новое правительство без Вашей помощи. Пробел трудно будет восполнить. Я хотел сплотить вокруг себя людей, чьи таланты, честность, имена и поведение сами по себе внушают доверие. Вас я потерял, в остальных не уверен».
Достойная дань от человека, который потом клялся, что никогда не доверял мне и сомневался в моей честности. Важна дата: письмо написано накануне голосования в Южной Каролине. Я убежден, что Джефферсон принял меры (или слышал, что принимаются меры), чтоб я проиграл вице-президентство Адамсу или Пинкни. Письмо должно было предвосхитить и смягчить мою злость посулом поста в кабинете. К счастью, я имел сильные позиции в Южной Каролине и набрал не меньше голосов, чем он.
Федералисты пришли в смятение. Иные склонялись ко мне на том основании, что при всех своих недостатках (а Гамильтон, как я позже узнал, счел возможным их описать во всех подробностях каждому мало-мальски весомому члену конгресса) я не фанатик, в отличие от Джефферсона. В худшем случае во мне подозревали бонапартистские устремления. Это плохо. Но Джефферсона подозревали в робеспьеровских устремлениях, а это куда хуже.
Я принял срочные меры, чтобы мою кандидатуру не выдвигали в противовес Джефферсону. Существовало, конечно, опасение, что федералисты в конгрессе совсем сойдут с ума и, воспользовавшись двусмысленностью конституции, выберут президента pro tem[74] и он, если эта двусмысленность всех устроит, станет президентом вместо Джефферсона или меня.
Гамильтону, преуспевшему в уничтожении Адамса и расколе его партии, пришлось выбирать между Джефферсоном и мной — двумя людьми, ненавистными ему больше всех на свете. Как ни странно, он предпочел мне Джефферсона, фанатичного уравнителя — тому Цезарю, которого видел, глядясь в зеркало. Со злорадным удовольствием он, прирожденный саморазрушитель, отказывал мне в президентстве, как бы отказывая в нем и самому себе. Но любой здравомыслящий человек, выбирая между тем, кого он почитает фанатиком, и политическим авантюристом, без сомнения, выберет авантюриста, известного искусством компромисса. Как бы там ни было, хочу сказать раз и навсегда: я отказался бы от президентства по соображениям практическим (не говоря уже о долге чести, столь чуждом виргинцам), ибо было ясно, что народ Соединенных Штатов хотел, чтобы президентом был Джефферсон, и, захватив его законное место, я лишился бы возможности править. К тому же мне было сорок пять лет, и я считал, что еще смогу занять этот высокий пост, как предыдущие вице-президенты, да я и заслужил такую награду, принеся первую победу республиканской партии на национальных выборах. Я не предполагал, что, вновь захватив исполнительную власть, Виргиния еще четверть столетия не выпустит ее из рук.
К тому же Французская республика оказалась в руках военного деспота, а наша собственная конституция стала абсурдней, чем когда-либо, и любое незаконное — вернее, безнравственное — давление с моей стороны разорвало бы молодую республику на части.
Я отправил несколько писем в Вашингтон. Письмо Самюэлю Смиту в Мэриленд опубликовано. В нем я начисто отрицал всякое соперничество с Джефферсоном. Я думал, тем все и кончится.
В январе я поехал в Олбани и занял свое место в ассамблее, проводя дни в созерцании нью-йоркских каналов и рек, а вечерами наслаждался прелестями гостиничной жизни. Вряд ли это поведение типично для интригана.
Как ни странно, моей единственной серьезной искусительницей была Теодосия. За день до того, как обвенчаться с Джозефом Олстоном из Южной Каролины, она пришла ко мне в комнату, как я думал, для того, чтобы провести со своим отцом последний вечер девственницы — фраза чудовищная, Чарли, но мне она нравится!
Я сидел с Джоном Свортвутом, его тоже избрали в ассамблею. Мы просматривали последние газеты с Юга и длиннющий меморандум от одного из моих стойких поклонников в Вашингтоне, который хотел, чтобы я предложил свои услуги федералистам и стал бы президентом на следующих выборах. Свортвут и я обсуждали это письмо, когда вошла Теодосия. Свортвут направился к двери.
— Нет-нет! Останьтесь! — Она положила руку ему на плечо: она была как сестра всем троим Свортвутам. — Я все слышала из соседней комнаты.
— В таком случае я плохо тебя воспитал.
— Напротив! Вы сделали меня мудрей, чем вы сами!
— Она завтра выходит замуж, — сказал я Свортвуту, — и совсем потеряла голову. Это пройдет.
— Никогда! — Тут я понял, что это не обычные ее капризы. Она повернулась к Свортвуту: — Он станет президентом. У него нет выбора.
Свортвута не меньше, чем меня, поразила ее страстность.
— Это невозможно, — возразил я.
— Нет, возможно, только бы вы захотели! Сегодня же напишите конгрессмену Байарду, скажите ему все, что он хочет услышать. Он преподнесет вам Вермонт в первом же туре… Он обеспечит вам и Мэриленд.
— Что это ты вдруг заинтересовалась закулисной стороной политики?
— Потому что я заинтересована в вас и знаю — это ваш единственный шанс занять первое место, а не воспользуетесь — всю жизнь будете жалеть.
Я поразился совершенно несвойственной ей горячности.
— Дитя мое, я дал слово Джефферсону.
— Нарушьте его! Он станет вас только больше уважать, он должен уважать любой смелый шаг. Он предал вас четыре года назад и предаст снова. Уничтожьте его.
— Он нужен народу…
— Народу нужнее вы, лишь бы он узнал вас получше. Вы восхищаетесь Бонапартом. Подумайте о нем. Он использовал свой шанс, и теперь он первый человек в Европе; ну, а вы можете стать первым человеком в Америке, и, да помилует нас господь, зачем вам быть вторым?
— Зря я давал тебе так много читать Плутарха.
— Я поняла, — рассмеялась Теодосия, — что мудрый поступает так, как требуют обстоятельства. — Она указала на письмо моего поклонника из Мэриленда.
— Я не могу нарушить слово.
— Вот и будете всю жизнь жалеть, что не нарушили. — Моя дочь стояла перед жертвенным костром, как кумская сивилла, а я-то, глупец, считал, что она потеряла голову из-за приближающейся свадьбы.
— А теперь, я полагаю, ты выслушаешь речь отца о браке и о грубых потребностях самца.
Теодосия улыбнулась; сивилла исчезла, ее сменила моя прежняя веселая дочка.
— Старшая мисс де Пейстер уже мне все рассказала. В самый тяжелый момент надо громко молиться. И устыдить грубияна.
— Аминь, — прошептал я. Мы засмеялись.
На другой день она обвенчалась. Я палец о палец не ударил, чтобы получить президентство. Я повел себя достойно и, как и предсказывала Теодосия, всю жизнь об этом жалел.
11 февраля 1801 года началось голосование. Делегация от каждого штата имела один голос. Если бы президент избирался большинством палаты представителей, меня бы избрали, несмотря на все мои протесты, во время первого тура голосования 55 голосами против 51 голоса за Джефферсона. На деле из шестнадцати штатов, входящих в Союз, Джефферсон выиграл восемь (Нью-Йорк, Нью-Джерси, Виргинию, Пенсильванию, Северную Каролину, Кентукки, Джорджию и Теннесси). Шесть штатов голосовало за меня (Массачусетс, Коннектикут, Южная Каролина, Род-Айленд, Нью-Гэмпшир и Делавэр). Мы поровну поделили между собой Вермонт и Мэриленд. В первый день было проведено девятнадцать туров голосования, которые ничего не решили. Федералисты все как один игнорировали советы Гамильтона и решили поддерживать меня — меньшее из двух демократических зол.
На второй день голосования Джефферсон сделал пометку в дневнике о федералисте Байарде. Байард, единственный представитель от Делавэра, мог решить исход выборов. Как утверждает Джефферсон, Байард посулил Смиту из Мэриленда любой пост в кабинете Бэрра. К счастью, Смит был еще жив, когда опубликовали комментарий Джефферсона, и он опроверг его на заседании сената, а Байард любил повторять: «Мы вполне могли избрать Бэрра, но он не пожелал с нами сотрудничать». И так как я палец о палец не ударил, после семидневного тупика победил Джефферсон.
А сам Джефферсон, председательствуя в сенате, в соседнем зале недостроенного — господи, доколе? — Капитолия, несмотря на все уверения, что никогда не искал президентства, что он выше этого и прочее и прочее, прекрасно устраивал свои дела.
Джефферсон сказал мне во время нашей первой неофициальной встречи после вступления в должность, что, когда федералисты пригрозили с помощью конституции отклонить наши кандидатуры и выбрать президента из членов конгресса, он «предупредил мистера Адамса, что, если его партия попытается сделать что-либо подобное, средние штаты восстанут и силой оружия утвердят волю народа». Я не знаю ответа Джона Адамса. Могу лишь догадываться. Как многие, не нюхавшие пороха, Джефферсон любил угрожать кровопролитием.
Джефферсон с гордостью сообщил мне, что Байард обещал поддержать его, если он не уволит кое-кого из федералистов с правительственной службы.
— Я сказал мистеру Байарду, что не могу так поступить ради достижения поста, которого вовсе не жажду, мне не позволяет совесть. Генерал Смит обратился ко мне с такой же просьбой и получил такой же ответ.
Несколько лет спустя генерал Смит клялся, что Джефферсон согласился лишь с самим принципом не увольнять правительственных чиновников по политическим соображениям. После этого заверения Байард отдал президентство Джефферсону, и тот уволил всех чиновников-федералистов, едва соблюдая приличия и оставив лишь тех, о ком просил Байард. Он всегда был верен себе.
ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ПЕРВАЯ
Я показал последние страницы Леггету, и тот, как и следовало ожидать, ухватился за упоминание о Ван Бюрене.
— Развейте эту тему! — Мы были у него в кабинете в «Ивнинг пост».
— Нет. Она ни к чему не приведет.
Вошел мистер Брайант. Я почтительно поднялся.
— А, биограф полковника Бэрра. — Очевидно, теперь я значусь под этой этикеткой.
— Чарли выкапывает уйму интересных вещей.
Мистер Брайант озабоченно нахмурился.
— Не лучше ли, мистер Скайлер, не вспоминать об интригах полковника?
— Я не согласен с вами, мистер Брайант.
— Конечно, конечно. — Великий человек пошел на попятный. Подобно Вашингтону Ирвингу, он боится, как бы его героя Джексона не изобличили вместе с Генри Клеем как предателей Союза. Если и впрямь они окажутся заговорщиками вместе с полковником Бэрром, я с величайшим удовольствием предам это гласности.
Мистер Брайант передал Леггету клочок бумаги.
— Завтра вице-президент выступит с речью о демократии.
— Я буду там, переодевшись мастеровым.
— В его честь сегодня прием в гостинице «Америкой». — Поклонившись, мистер Брайант исчез.
Леггет встал.
— Пора вам познакомиться с человеком, которого мы собираемся уничтожить.
Зала в гостинице «Америкэн» кишела политиками. Не было ни одного демократа, занимающего мало-мальски официальный пост в городе, который бы не явился туда. Руководство Таммани тоже явилось. Сэм Свортвут находился в состоянии среднего опьянения и до прибытия вице-президента — в центре внимания.
Мы с Леггетом стояли на небольшом возвышении в дальнем конце залы и поэтому все превосходно видели. Вот двери распахнулись, и тамманская чернь заорала: «Вице-президент!»
Мартин Ван Бюрен показался в дверном проеме. Косые лучи солнца ударили по золотым волосам, словно для того, чтобы и впрямь его фигура казалась золотой, огненной.
На мгновение в зале воцарилась тишина, и элегантная, изящная фигурка медленно двинулась через расступающуюся толпу. Одет он был изысканно (Эллен научила меня обращать внимание на такие вещи): темно-коричневый костюм с бархатным воротничком, густое кружевное жабо, в левой руке он держал желтые лайковые перчатки, башмаки были из сафьяна. Ван Бюрен поворачивался то в одну, то в другую сторону, пожимая руки, слегка улыбался, и у меня голова закружилась при мысли, что такому крошке дана такая власть.
При виде Леггета вице-президент улыбнулся еще шире.
— Мистер Леггет. — Маленькая рука стремительно протянулась вперед, коснулась руки Леггета и проворно отдернулась (обычная манера политических деятелей: а то совсем расплющат руку). — Как поживает мистер Брайант? — Да, Ван Бюрен картавит и говорит с легким голландским акцентом.
— Очень хорошо. Аплодирует каждому вашему шагу, за исключением недавней поддержки рабства на Юге.
Вызов остался без ответа. Ван Бюрен повернулся ко мне. Леггет произнес мое имя. У меня закружилась голова, когда его ручка коснулась моей руки. Мы абсолютно одинакового роста. На миг он так ко мне приблизился, что я буквально почуял, чем от него пахнет — смесь кордовской кожи и дорогого нюхательного табака.
— Мистер Скайлер служит в адвокатской конторе Аарона Бэрра. — Леггет бездарно сыграл экспромт, сделав мелодраматическое ударение на словах «Аарона Бэрра». Но ни в лице, ни в повадке вице-президента ничто не изменилось. Он просто вежливо поглядел на меня. Большие золотые глаза в точности как у Аарона Бэрра, но без той глубины.
— Как поживает полковник Бэрр?
— Ах, очень хорошо, сэр, — по-дурацки затараторил я, — и он просил передать поклон, сэр, и еще он говорил, как премного он…
Вдруг Ван Бюрен сказал мне что-то по-голландски. Длинное предложение, без всякой картавости. Затем, не поинтересовавшись, понял я его или нет, золотая историческая фигурка отошла, оставив меня в смущении, а Леггета в ярости. Что толку от голландского происхождения, коли ни слова не смыслишь в этом чертовом языке?
Позднее я описал (конечно же, кое-что опустив) эту сцену полковнику Бэрру и все гадал, что же сказал вице-президент.
— Вероятно, пожелал тебе счастья и успеха. Мэтти Ван хорошо воспитан. Немудрено, я столько времени на него потратил. А вот на тебя — маловато. — И все.
Сходство между ними разительное, особенно похоже они двигаются. Я бы сказал, величественно — другого слова не подыщешь. Меня уже почти тяготит та роль, которую я должен буду играть в уничтожении Ван Бюрена.
— А теперь, — сказал полковник, — давай-ка посмотрим, каким был город Вашингтон весной тысяча восемьсот первого года.
Воспоминания Аарона Бэрра — XII
В начале марта Теодосия, ее муж и я прибыли в новую столицу, мало похожую на город и еще меньше на столицу. На возвышенности посреди дикой природы стояло здание сената. В нескольких ярдах от него находилось эллипсообразное здание, наспех построенное, чтобы приютить палату представителей, и прозванное несчастливыми обитателями «Жаровней». Два здания связывал крытый переход. Вот и весь Капитолий. Нынешний благородный купол был тогда лишь мечтой.
Несколько десятков домов поблизости от Капитолия составляли ядро города. В те времена стремились селиться в верхнем конце «Ф»-стрит, а если не пугало расстояние — в Джорджтауне.
В полутора милях от Капитолия уже почти отстроили здание Казначейства, президентский особняк. От дома президента к Капитолию вела длинная коровья тропа, по обеим сторонам которой Джефферсон посадил потом несколько рядов жалких деревьев и всем, кому не лень слушать, рассказывал, как это напоминает парижские бульвары. На самом же деле Пенсильвания авеню годилась больше для отстрела куропаток, гнездившихся в старом кустарнике, или для ловли окуней в маленькой речушке (под названием Тибр!), пересекавшей «авеню».
Первые несколько ночей мы провели в пансионате Конрада, неподалеку от Капитолия. Пансионат был переполнен, и я спал в одной комнате с Теодосией и ее мужем. На другой половине в роскошном одиночестве жил Джефферсон. Остальные номера были битком набиты конгрессменами, многим приходилось спать на полу.
Тот вечер мы приятно провели в столовой Конрада. Джефферсон куда-то отправился (обычно он сидел во главе стола и всячески подчеркивал свой демократизм: куда подевались кольцо с топазом, серебро, кружева?). Столом правила Теодосия, и я гордился ею, как никогда.
В те времена было тридцать два сенатора и сто шесть членов палаты представителей, из которых меньше половины были республиканцы. В тот вечер у Конрада собрались почти все республиканцы. Произносились тосты, бутылки переходили из рук в руки, и казалось, что в мире зла победило добро.
Вскоре после полуночи я откланялся, оставил Теодосию с мужем править пиршеством и поднялся наверх. Дверь в гостиную Джефферсона была открыта. Он полулежал на софе и что-то читал секретарю. Оба испуганно посмотрели на меня. Секретарь хотел закрыть дверь. Джефферсон его остановил.
— Заходите, полковник. — Оба поднялись, когда я вошел в гостиную. — В последний раз наслаждаюсь уютом в Вашингтоне. — Секретарь предложил мне сесть в кресло. Джефферсон растянулся на софе. — Я страшусь того дома. — Он сделал неопределенный жест рукой в направлении президентского особняка. — Слишком большой. Неудобный. При нашей жизни его уже не достроят. И там нет конюшен.
Я сказал ему, что еще не видел дом изнутри.
— Вы должны приехать погостить Составьте мне компанию. Без жены совсем плохо. — Джефферсон повернулся к секретарю. — Когда уезжает мистер Адамс?
— По последним данным, он собирался выехать в полночь.
Джефферсон взглянул на каминные часы.
— Значит, уже выехал. — Он повернулся ко мне. — Мистер Адамс решил не присутствовать завтра на нашей инаугурации.
— Мне кажется, это очень… нелюбезно. — Сославшись на траур по поводу недавней (несколько месяцев назад) кончины одного из сыновей, Адамс решил не присутствовать на узурпации места, которое считал своим по праву.
— Я не хочу ссориться. — Джефферсон дотронулся до стопки бумаги — это оказалась речь, приготовленная для церемонии вступления в должность. — Замечательное произведение! — Джефферсон держал преданного секретаря. И редкостного урода.
— С удовольствием послушаю.
— Но я сам буду читать ее без всякого удовольствия. — Джефферсон действительно очень не любил выступать публично — зато рта не закрывал в неофициальной обстановке. Он с силой прихлопнул муху, севшую ему на руку. — Особенно перед моим недоброжелательным кузеном. — За несколько недель до этого Адамс назначил государственного секретаря Джона Маршалла на пост верховного судьи Соединенных Штатов. Маршалл питал глубокое недоверие к Джефферсону, а тот ненавидел кузена. В конце концов они столкнулись на процессе по обвинению меня в государственной измене.
— Я обратился к верховному судье с просьбой — смиренной и робкой — привести меня к присяге, и, к моему удивлению, он согласился. За такое примерное поведение мы теперь должны построить Верховному суду небольшое здание где-нибудь в городе.
Секретарь прыснул. Джефферсон совсем развеселился. Да и что было не веселиться новоявленному президенту? Ошибок пока не сделано, будущее светло.
Я пожелал ему спокойной ночи; Джефферсон взял меня за руку, заглянул в глаза.
— Теперь мы на пороге подлинной американской революции.
Наутро Теодосия с мужем и я отправились пешком из пансионата Конрада к Капитолию. В те дни население Вашингтона насчитывало три тысячи человек, если считать и жителей Джорджтауна. Все три тысячи были в то утро налицо и топтали кустарник вокруг Капитолия, дрожа от пронизывающего северного ветра.
Рота стрелков вытянулась по стойке смирно, когда я появился у входа в Капитолий. Кто узнавал меня — аплодировал. В то время политических деятелей не так хорошо знали в лицо, как сейчас, и мы не часто показывались народу, разве на небольших официальных встречах у себя в штате. Джефферсона знали по высокому росту и рыжим волосам; меня — по маленькому росту и темным волосам. Если же не считать этих примет, народ мог нас знать лишь по карикатурам, авторы которых вряд ли стремились соблюдать сходство.
Я переступил порог зала заседаний сената и увидел весьма впечатляющий благодаря дорическим колоннам и мрамору интерьер, хотя новизна отделки немного резала глаз. На стенах полукруглой палаты висели не отличающиеся сходством портреты Людовика XVI и Марии-Антуанетты, камины по обоим концам палаты сильно дымили, но слабо грели. Под потолком помещалась обширная галерея, до отказа набитая зрителями. На помосте стояло три кресла. В центре сидел Джон Маршалл, ростом почти с Джефферсона, черноволосый, с непомерно маленькой головой.
Я стоял рядом с церемониймейстером, ожидая, когда установится тишина; затем направился по проходу к помосту. Когда я поднялся, верховный судья встал, приветствуя меня.
Наступила неловкая тишина. Надо ли было произносить речь? Никто толком не знал. Мы выглядели глупо. Наконец верховный судья прошептал:
— Я думаю, лучше сначала привести к присяге президента.
Тогда я приветствовал верховного судью несколькими вежливыми фразами; обратился со словами гостеприимства к присутствовавшим; сообщил, что новоизбранный президент прибудет в полдень, о чем уже все знали, и занял свое место в центре как председательствующий в сенате, по левую руку посадив верховного судью.
Через несколько минут нестройный ружейный залп возвестил о прибытии новоизбранного президента.
Церемониймейстер распахнул двери и под аплодисменты с галереи Джефферсон ступил в палату. На нем было простое темное платье. Он очень нервничал: лицо горело, глаза бегали, он облизывал пересохшие губы. Когда он двинулся вдоль прохода, сжимая в руках рукопись, грянули артиллерийские залпы и прекратились, лишь когда он взошел на помост.
Я указал ему на центральное кресло. Сам сел в кресло справа. Снова мы замешкались. Джефферсон стоял, смущенно прижимая к груди листки.
— Пожалуй, начнем, — сказал я, вводя новый порядок, и Джефферсон без дальнейших церемоний прочитал верховному судье и мне свою вступительную речь. Я говорю «прочитал нам», ибо больше никто в палате не услышал ни слова, и даже Маршаллу и мне приходилось то и дело наклоняться в креслах, чтобы уловить мудрость, слетавшую с красноречивых уст.
Маршалл, видимо, испугался и обрадовался, когда Джефферсон заявил:
— Расхождения во мнениях — еще не расхождения в принципах. Мы лишь по-разному именуем поборников одной и той же идеи. Мы все республиканцы, и мы все федералисты.
Я же был просто ошеломлен и подавлен его лицемерием: Джефферсон, как никто из американцев, отравил политическую жизнь нации, клеймя именем «монархиста» всякого, кто стоял у него на пути. Правда, речь получилась если и не mea culpa[75], то содержала скрытое признание прежних крайностей. И то хорошо: народ всегда доволен, видя, что вожди государства, как только их выберут, к переменам уже не стремятся.
Мы с Маршаллом вдруг переглянулись. Джефферсон удивительно путал метафоры. В одном месте он подарил нам образ безумца, бьющегося в «предсмертных корчах», но его словесная алхимия тотчас обратила эти корчи в «волны», и мы чуть не расхохотались.
Но вот Джефферсон сел под сдержанные аплодисменты конгресса, не услышавшего ни слова из его речи.
Верховный судья вышел вперед, и Джефферсон снова встал, уронив несколько страниц. Я их подобрал. Его привели к присяге. Вслед за ним я тоже присягнул в верности конституции Соединенных Штатов. Таким образом, 4 марта 1801 года Томас Джефферсон стал третьим президентом, а Аарон Бэрр третьим вице-президентом двенадцатилетней американской республики.
Все вернулись к обеду в пансионат Конрада, и новый президент скромно направился к дальнему концу стола, несмотря на все попытки сенаторши Браун уступить ему место у камина.
Он сказал мне за весь вечер всего два слова: «Революция началась». Мне стало легче на душе. Значит, все еще есть разница между республиканцами и федералистами.
ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ВТОРАЯ
Мистер Дэвис сегодня утром прислал мне записку, прося оказать ему честь и встретиться с ним в гостинице «Сити».
Когда я приехал, он сидел один в углу бара и тянул пиво из оловянной кружки.
— Как полковник?
— Чудесно. — Полковник и правда последнее время был в хорошей форме. — По крайней мере когда я его в последний раз видел. Два дня назад. Он в Джерси-Сити.
— Сегодня-то он там. — Мистер Дэвис принял свой всегдашний заговорщический вид. — А вот вчера он был в городе. В этой самой гостинице. В половине шестого. Наверху. В особой комнате для встреч.
Мистер Дэвис любит тайны. Я — нет.
— Разумеется, — отрезал я.
— Вам, верно, небезынтересно будет узнать, кого он навещал наверху?
— Быть может.
— Он оставался с мистером Ван Бюреном более сорока минут. Наедине.
— Они старые друзья. — Нет, я не дам мистеру Дэвису меня удивлять. Я переменил тему разговора, и сам его удивил.
— Мне интересно другое: что же произошло между президентом Джефферсоном и полковником Бэрром после церемонии вступления в должность?
— Что произошло? — Мистер Дэвис надул губы; вид у него был озадаченный: лгать или нет? — Ну, полковник Бэрр попросил всего три должности. Получил две. Я должен был получить третью. За мою работу во время кампании меня хотели назначить инспектором нью-йоркского порта. Но поста этого я не получил, как не получили своего поста и другие друзья Бэрра. Джефферсон отказал бэрритам и заключил союз со старым губернатором Клинтоном и его племянником, молодым Де Уиттом Клинтоном.
Я спросил мистера Дэвиса, почему Джефферсон хотел уничтожить полковника Бэрра. Вопрос простой, и я уже много раз его задавал. К сожалению, я так и не получил на него исчерпывающего ответа.
Мистер Дэвис вздохнул.
— Само собой ясно. Когда Бэрр получил равное количество голосов с Джефферсоном и никак это не использовал, для Джефферсона это решило все. Такие, как Джефферсон, никогда не прощают сопернику, если тот ведет себя благородно. К тому же Джефферсон уже давно задумал — для блага народа, естественно, — после окончания своего второго срока выдвинуть в президенты другого виргинца.
— Джефферсон отличался неблагодарностью.
— Именно. Тут-то и секрет его силы. В отличие от полковника Бэрра он не имел друзей. А только слуг, вроде Мэдисона, Галлатэна, Монро.
— Но он вознаграждал их.
— Мэдисон и Монро продлили правление Джефферсона на шестнадцать лет. Дружба тут ни при чем. Джефферсон оставался хозяином в республике.
По-моему, он сильно преувеличил; надо бы узнать точку зрения полковника Бэрра. Ведь умер Джефферсон в бедности, да и влияния под конец, кажется, никакого не имел.
К нам подсел невозмутимый молодой человек с громадными бакенбардами, спускающимися на подбородок, и лысой головой.
— Вот и Реджинальд Гауэр. — Сказал так, будто я обязан знать этого человека. Я не знал. Но скоро разобрался, что к чему. Гауэр — печатник. Владеет книжной лавкой. Хочет опубликовать мой памфлет про то, кто отец Мартина Ван Бюрена, «и — что еще важнее, мистер Скайлер, — про политическое влияние полковника Бэрра на вице-президента. Вчерашняя встреча весьма показательна». Гауэр кивнул мистеру Дэвису, тот кивнул в ответ. Как два китайских болванчика.
— А полковник Бэрр знает, что вы затеваете? — Я повернулся к мистеру Дэвису, старейшему другу и политическому союзнику полковника.
— А полковник знает, что вы затеваете? — Не в бровь, а в глаз.
— Нет. — Я не умею лгать, но и правду тут, пожалуй, не скажешь.
— Леггет хочет убрать Ван Бюрена, потому что тот недостаточно радикален. Мы хотим его убрать, потому что он слишком радикален. Леггет хочет, чтобы президентом стал Джонсон. Мы хотим Клея. Вы, Чарли, мальчик мой, можете угодить нам обоим. Такое редко бывает! — Увеличенные очками глаза мистера Дэвиса смотрели на меня, добродушно помаргивая.
Я хотел было спросить, откуда он узнал про нашу договоренность с Леггетом, но решил, что это ему слишком польстит.
— А почему бы вам самому не написать этот памфлет?
— У вас есть материал, а у меня его нет. — Слишком уж быстро он ответил. — К тому же у меня нет времени вытягивать из полковника необходимые сведения.
Мистер Гауэр обратился ко мне:
— Насколько я представляю, вы уже начали. Хочу, чтобы вы знали, мистер Скайлер, что я готов дать вам аванс в пятьсот долларов сейчас же, а остальные пятьсот — если вы закончите к сентябрю.
Я не был готов к подобному искушению. Я никогда еще не держал в руках больше ста долларов. Я молчал. И не мог придумать, что ответить.
Гауэр не заставил себя ждать.
— Естественно, вы получите еще и гонорар…
— В зависимости от тиража. — Мистер Дэвис пытался сэкономить Гауэру деньги, но я тоже не зевал, и мы пришли к соглашению.
В баре гостиницы «Сити» я обнаружил, что могу теперь качать деньги с моего счета в 500 долларов в Манхэттенском банке (изобретение полковника Бэрра, чье же еще?). Я богат.
Я тут же направился на Томас-стрит. Мадам Таунсенд встретила меня в гостиной, где громоздилась большая позолоченная статуя толстого голого мужчины.
— Это Будда. — Мадам Таунсенд указала на несколько пыльных фолиантов, лежавших один на другом слева и справа от идола. — Я расширяю религиозный диапазон.
— Разумно ли это? Ведь, как известно, бог Джонатана Эдвардса — ревнивый бог.
— Я приняла меры предосторожности, — сказала она загадочно. — Давненько мы вас не видели. Элен по вас сохнет.
— Я интервьюировал мистера Ван Бюрена.
Глупо, но я не смог сдержаться. Мадам Таунсенд кивнула, по всей видимости, довольная, что я не ограбил банк и не возглавил бунт.
— Как же, помню, помню, милый молодой человек, живет по-доброму, зла никому не сделал.
Она незаметно улыбнулась Будде. Похоже, они понимают друг друга.
— Он был вчера с полковником Бэрром.
— Ах так? — Мадам Таунсенд зажгла сандаловую палочку и поставила ее перед статуей. Пряный дым, извиваясь, потянулся к потолку.
— Полковник Бэрр — добрый друг молодого человека.
— Он сын полковника?
Мадам Таунсенд приложила длинный палец к тонким губам и повернулась к Будде, чья улыбка проглядывала через вьющийся дымок. Надо быть осмотрительным, не то бог рассердится.
— Слыхала я эти сплетни в Киндерхуке, но и внимания не обратила. Ведь я знала матушку Ван Бюрена. Совсем простая женщина. И намного старше полковника.
— А вы знали первую жену полковника?
— О да. Часто видела на рынке. Всегда с двумя неграми в ливреях. Элегантная дама.
— Тоже из простых и намного старше полковника?
— Да, кажется. — Мадам Таунсенд задумчиво посмотрела на меня. — Понимаю.
Уж если мадам Таунсенд в чем и разбирается (кроме разных ликов господа бога), так это в интимных странностях мужчин.
— А кто может знать правду?
— Это важно?
— По-моему, да. Я не для публикации спрашиваю. Просто надо разгадать тайну близости этих двоих.
Мадам Таунсенд кивнула.
— Аарон Колумб Бэрр как-то мне рассказывал, что ездил по Гудзону с мистером Ван Бюреном и полковником. Говорил, что мистер Ван Бюрен — наиприятнейший человек.
Я спросил ее, где найти молодого ювелира. Она сказала. Я чуть не позабыл про Элен, так мне захотелось поскорей заработать себе свободу. Но не мог же я огорчить мадам Таунсенд, не говоря уж о собственном удовольствии.
У Элен было плохое настроение, и оно еще больше ухудшилось, когда я предложил ей покинуть Томас-стрит.
— Но куда же я денусь? Отправлюсь на Файв-пойнтс?
— Я найду тебе комнату.
— А что, интересно, я буду целый день делать в твоей комнате? — Она вдруг рассвирепела; лицо побледнело, глаза горели, как в лихорадке.
— Что хочешь. Работай. Зарабатывай деньги.
— Чем? — Она указала на умывальник и кувшин с холодной водой.
— Чем угодно. — Она упрямилась, а я все больше волновался. — Я думал, ты хочешь работать, шить платья.
— А ты что будешь делать?
— Тебя навещать.
— Ты сейчас тоже меня навещаешь, и это дешевле обходится, чем каждую неделю платить за комнату и еду, уж я-то знаю.
Она подумает, так мы решили. Я с ума сошел, сам знаю, но я никогда еще не был так свободен, так богат!
ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ТРЕТЬЯ
Аарон Колумб Бэрр так же высок, как полковник мал, но такой же темноволосый; он необычайно красив. И хотя не очень похож на полковника, у него те же утонченные манеры; сильный французский акцент еще более их подчеркивает.
Пока мы говорим в маленькой тесной мастерской, он чеканит лист серебра на деревянной форме. Молоточек мелькает с такой быстротой, что рябит в глазах, словно бьются крылышки колибри.
Я представился как друг мадам Таунсенд. Густые темные брови взметнулись вверх. Сверкнули в улыбке белые зубы.
— Значит, у нас с вами есть кое-что общее.
Я вдосталь поломал голову, за кого бы себя выдать, ибо не мог назваться ни журналистом, ни политиком, не портя игры, и я не мог признаться, что знаю полковника Бэрра, тут бы я вдвойне себя разоблачил. Ну, а раз я клиент мадам Таунсенд — значит, мы просто принадлежим к одному клубу и у нас общая тайна, которая стала еще приятней, когда меня осенило вдохновение.
— Я через месяц женюсь, мистер Бэрр, на девушке из Коннектикута. — Полуправда всегда звучит правдивее правды. Я сказал, что хотел бы узнать цены на серебро — старое и новое: мой будущий тесть щедр.
Французский Бэрр был сама услужливость; полчаса показывал мне свою мастерскую, а следующие полчаса расспрашивал о мадам Таунсенд, интересовался, знал ли я Кору. Бывал ли я с Маргаритой? Оправилась ли темнокожая из Санто-Доминго от загадочной ножевой раны?
Я пригласил его в бар неподалеку. Он крикнул что-то своей жене в верхних комнатах. Затем запер мастерскую, мы пересекли оживленную Бауэри и вошли в маленькое французское кафе с вывеской у входа, на которой было написано «Маркиз де Лафайет».
Французы за круглыми мраморными столиками играли в шахматы и домино и вспоминали родной дом — где-нибудь на острове в Вест-Индии. Экзотическая публика. Увижу ли я когда-нибудь Францию?
Хозяин обнял Колумба и проводил нас к угловому столику, где нам подали хлеб и сыр и простое красное вино — все это заказал Колумб (как я называл его по его просьбе), притом на беглом французском. Я деликатно намекнул, что он, очевидно, француз, несмотря на свое английское имя.
— Это имя отца. Видите ли, он американец. Адвокат. Очень старый. Очень известный. Моя мать — француженка. Они поженились в Париже. Она любит Париж. Он любит Нью-Йорк. Когда я совсем маленький, я в Париже. Когда больше, еду в Нью-Йорк.
— Бэрр? Я, кажется, слышал. — Я нахмурился.
Но от Колумба было мало проку.
— Он старый, старый человек. Моя мать очень молода, когда они женятся.
Колумбу хотелось поговорить о девицах; так мы и сделали, и я все подливал ему красного вина, а он все пил. От девиц и мадам Таунсенд мы, естественно, перешли к религии (он набожный католик; я делаю вид, что поражен такой невидалью); от религии — почти естественно — разговор перешел на политику.
Да, он знаком с мистером Ван Бюреном.
— Я знаком с ним на корабле, идущем в Олбани, — о, когда я здесь впервые — может быть, десять лет назад. — На самом деле это было шесть лет назад. Я вычислил, что это было в мае или в июне 1828 года. Колумб сопровождал полковника Бэрра и сенатора Ван Бюрена из Нью-Йорка в Олбани, где — мне следовало бы это знать — Ван Бюрен выступал помощником Бэрра в суде по пересмотру дела Вэрик против Джексона. (Мистер Крафт обещал мне найти протоколы. Он припоминает, что гонорар был приличный и что полковник Бэрр помог тогда сенатору Ван Бюрену.)
— Это моя первая поездка на речном судне. Полковник Бэрр берет меня с собой потому, что он хочет, чтобы я ходил в школу в Олбани, но я не нравится школа и возвращается обратно. Очень быстро. Мистер Ван Бюрен пытается говорить мне, как образование важно. «О, — говорит он, — что бы я отдал, чтобы иметь образование!» А полковник Бэрр смеется, и соглашается с ним, и говорит, если бы мистер Ван Бюрен был образованный человек, он был бы гораздо больше, чем просто сенатор от Нью-Йорка, что есть глупая вещь, говорит он. Он смеется много, полковник Бэрр.
Я старался держаться непринужденно. Не нажимать. Не сбивать Колумба.
— Мне казалось, мистер Ван Бюрен был в тысяча восемьсот двадцать восьмом году губернатором, а не сенатором.
Колумб отрицательно покачал головой. Отрезал себе толстый ломоть хлеба и съел с маринованным луком. Я почти ощутил оскомину и сморщился, а он беззаботно уплетал за обе щеки.
— Мистер Ван Бюрен скоро потом губернатор, потому что на корабле они говорят об этом. «Я должен обеспечить штат Джексону», — говорит мистер Ван Бюрен. «Обязательно должен», — говорит полковник Бэрр. «Но теперь старый губернатор Клинтон умер, нет никого, кто победит в этом году», — говорит мистер Ван Бюрен. «Есть вы», — говорит полковник. «Но меня только что снова избрали в сенат», — говорит мистер Ван Бюрен. «Да, — говорит полковник Бэрр, — и вы станете губернатором, и вы сделаете генерала Джексона президентом, и вы в будущем году будете государственным секретарем». И они спорят о том, что делать, но к тому времени, когда мы приезжаем в Олбани, мистер Ван Бюрен говорит, что полковник прав и он сделает то, что тот говорит, и он делает. Очень affreuse[76] — этот Олбани и голландские девочки уродливы. Вы не голландец случайно?
— Нет-нет. Ирландец.
Я изо всех сил старался выведать, известно ли Колумбу, кто настоящий отец Ван Бюрена, но нет, он ничего не знал, или он более скрытный, чем кажется.
Кое-что я все же уточнил. За несколько месяцев до поездки по реке Ван Бюрен произнес в сенате речь о сохранении половины жалованья всем оставшимся в живых офицерам Революции.
— «Лучшей речи я никогда для вас не писал, Мэтти», — говорит полковник. «Но еще напишете», — говорит мистер Ван Бюрен.
ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ЧЕТВЕРТАЯ
Я пересказал этот разговор Леггету, и тот пришел в восторг.
— Для начала более чем достаточно.
Он вынул несколько памфлетов из письменного стола.
— Вот тебе несколько пасквилей, для знакомства.
Как бывает в таких случаях, первый был о собственном его кандидате Ричарде М. Джонсоне. По всей видимости, сенатор из Джорджии только что лишился наложницы-мулатки, некой Джулии Чинн, у которой от него было две дочери. И хотя девушки высокообразованны, ему не удалось ввести их в общество. Он снова купил девушку-мулатку и уложил ее в свою постель. Я прочитал вслух один из самых пикантных отрывков.
Леггет испуганно машет в сторону кабинета мистера Брайанта.
— Ш-ш! Он и так чересчур подозрителен.
Я умолкаю.
— Мне писать в таком же стиле?
— Да. Вставь даже несколько моих фраз, если хочешь.
Я рассказал ему о встрече с Гауэром, но не упомянул о гонораре, который должен получить. Леггет задумался.
— Лучше быть поосторожней с Мэттом Дэвисом.
— У него с тобой общие цели.
— Возможно. — Леггет удивленно покачал головой. — Я понятия не имел, что Ван Бюрен с Бэрром так близки, что совсем недавно занимались совместной юридической практикой — а когда?
— Шесть лет назад. И вчера сорок минут беседовали в гостинице «Сити».
— Остается только догадываться о чем.
— Может, нам написать, что они обсуждали вопрос восстановления рабства в штате Нью-Йорк?
Меня уже раздражает мое задание.
— Говори все, что взбредет в голову, но только разумно, правдоподобно. Анониму многое позволено.
— Но зачем же лгать? Особенно о человеке, которым восхищаешься.
— Бэрром ты восхищаешься? Или Ван Бюреном?
— Угадай! — Я почувствовал неприязнь к Леггету, а сам себе стал просто противен.
— Ты не повредишь своему другу полковнику. Он привык к клевете. К тому же, если ты будешь исправно выполнять свою работу, он ничего не заподозрит. Исправно выполняй свою работу, и мы водворим Джонсона в Белый дом.
— Заманчивая перспектива. А тебе-то что за выгода? Станешь инспектором порта или послом в Англии?
— Добродетель, Чарли! Я буду добродетельным, и это положит начало новому миру без рабства, без… — И он произнес небольшую речь.
ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ПЯТАЯ
Полковник пребывает в отличном настроении. Готовясь к сегодняшней диктовке, он высказался по поводу недавней смерти Женэ.
— В последнем нашем разговоре он сказал, что это Джефферсон его убедил непосредственно обращаться к народу, открыто критиковать Гамильтона и Вашингтона. Интересно, правда ли Джефферсон дал ему такой дурной совет?
Полковник пожевал сигару. Перед ним на зеленом столе, как обычно, лежали вырезки из газет, отчеты об избирательных кампаниях, письма.
Итак, мы подходим к вице-президентству полковника. Я снабжен карандашом, блокнотом — и мозолью на указательном пальце. Я слишком сильно сжимаю карандаш. Настоящий профессионал держит его легко, жалеет себя.
— Как мистер Ван Бюрен? — Я осмелел. Так или иначе, пора кончать с этим делом.
Бэрр заморгал, откусил сигару, вдохнул дым.
— Я же говорил Мэтти, что место чересчур на виду, а у него времени не было куда-то еще ехать. До чего умен! Я не перестаю восхищаться, с какой ловкостью он всего добивается. Умей он еще и писать, знай грамматику, избавься он от нелепого голландского акцента — о, тогда бы! Твой друг Леггет будет его поддерживать, верно? — Полковник в общих чертах разгадал наш замысел. Надеюсь, лишь в общих.
— Как вам сказать? Он считает позицию мистера Ван Бюрена в вопросе о рабстве слабой.
— В день выборов Мэтти будет безупречен и в этом вопросе. — Бэрр положил ноги на каминную решетку. — Мэтти бесстыдно мне льстит. Просит у меня юридических советов. Представь!
Вот и все, что я выведал о разговоре в гостинице «Сити». Надо, наверное, присочинить что-то зловещее? Должен сказать, мне не очень-то нравится этот жанр — политический памфлет. Ну да ладно, зато я разбогател и Элен Джуэт будет жить в доме за Вашингтонским рынком.
Вчера вечером она дала согласие. «Пусть хоть ненадолго. Но мадам Таунсенд лучше не посвящать. Я ей сказала, что жду ребенка и оставлю его тетке, которая хочет ребенка — вот странная тетка! — а мадам Таунсенд вроде поверила, говорит, возьмет меня обратно, когда я „поправлюсь“ — именно так она сказала».
Воспоминания Аарона Бэрра — XIII
Через шесть месяцев после нашего вступления в должность Джефферсон объединился с семьей Клинтонов, дабы удалить меня с политической арены не только страны, но — что еще хуже — штата Нью-Йорк.
Молодой Де Уитт Клинтон оказался страшным противником. Умный, злющий, пьяница, он ни перед чем не останавливался в достижении цели. Во-первых, он восстановил своего дядюшку в должности губернатора. Затем — холодно, посредством серии поправок к конституции штата — лишил губернатора всякой власти и передал ее совету, своему детищу. «Мальчишка очень умен, полковник. Очень умен. — Рот у губернатора Клинтона задергался, густые кустистые брови изогнулись дугой над маленькими глазками. — Когда он начинает задираться, он пугает меня до полусмерти».
Клинтон на самом деле был в ужасе от племянника, и не зря. В течение нескольких месяцев племянник полностью завладел штатом, устранив всех до единого федералистов с официальных постов. Он организовал шесть тысяч назначений, включая собственное, в сенат Соединенных Штатов. Я не припомню более ловкой победы, чем захват Нью-Йорка Де Уиттом Клинтоном. Вряд ли ему бы такое удалось, если бы меня не убрали с дороги с помощью вице-президентства. Но дело не в этом. В тридцать четыре года Де Уитт Клинтон стал полновластным хозяином республиканской партии в штате Нью-Йорк.
Не могу сказать, что вспоминаю тот период с особым удовольствием. Я сидел в долгах. Безуспешно пытался продать Ричмонд-хилл. Теодосия скучала где-то на краю света, в Южной Каролине. Вашингтон был унылой деревней посреди пустыни, и, как ни старались Мэдисоны создать салон, скованность царила в нашей по прихоти Джефферсона наспех сооруженной столице.
Однажды, в один из мартовских дней 1802 года, я зашел в книжную лавку Джона Марша на «М»-стрит и вдруг услышал знакомый голос. Просили какую-то книгу. Я обернулся и увидел, как Гамильтон перелистывает стопку английских газет и, без сомнения, с одного взгляда запоминает целые страницы.
Я подошел, он поднял глаза, вздрогнул. Низко поклонился.
— Сам вице-президент во плоти!
— Боюсь, ее даже чересчур много…
— Ну, а его — мало? — Как всегда, он не лез за словом в карман. Он тоже стал более грузным, чем в былые годы. Все мы потучнели. Помню, в те времена в Вашингтоне мы только и делали, что ели да пили.
Гамильтон приехал в город по судебным делам.
— Иначе зачем бы? Счастливец, вы уже вне этого!
— Знай я, в какой бедности окажусь, я предпочел бы прежние занятия.
Мистер Марш принес Гамильтону нужный роман. Главнокомандующий американской армией завернул книгу в экземпляр «Антиякобинского обозрения», надеясь, что я не заметил названия.
— Ну как, вы довольны?
Гамильтон был сама любезность, и, хотя мы с ним однолетки, я поймал себя на том, что отвечаю ему как старший, желающий расположить к себе собеседника: я изображал Ахилла рядом с жизнерадостным Патроклом.
— Более или менее. Я строг со своей паствой. Запретил есть пирожные в зале заседаний сената. У нас и так крысы и мыши бегают на каждом заседании. Следующий запрет наложу на яблоки.
— Какой чинный вице-президент!
— Очевидно, я нашел свое место в жизни. Чинность — вот и все, чего требует мое положение.
Гамильтон пригласил меня в таверну «Юнион» на «М»-стрит. (Существуют ли и посейчас эти заведения? Я не был в Вашингтоне вот уже тридцать лет.)
Дрожа от холодного ветра, мы быстро зашагали по грязной улице Джорджтауна. Это была настоящая улица, не то что коровьи тропы и безымянные перелески соседнего Вашингтона, как сказал один тактичный иностранный посланник — «весьма обширной столицы».
Гамильтон, как всегда, пытался прощупать меня насчет Джефферсона, и, как всегда, я не прощупывался. Я только пересказал пустую сплетню.
— Крыша во дворце протекает. Стены еще не оштукатурены. И мистер Адамс забыл построить лестницу, так что президент карабкается по стремянке, отправляясь спать.
— Вы часто там бываете?
— Дважды в месяц мы обедаем и решаем все дела земные.
Гамильтон нахмурился; подумал, не лгу ли я. Но я не лгал. Джефферсон очень хотел, чтобы мы сохраняли — на людях — видимость дружбы.
Хозяин таверны «Юнион» поставил два удобных кресла на каменном полу около камина. Рабы развели огонь, принесли вино.
Впервые после выборов я сошелся с Гамильтоном один на один. До 1800 года я всегда считал его соперником-другом. Теперь я убедился, что ошибался. Мне в руки попали его письма обо мне. Казалось, любую свою мысль, каприз, фантазию рано или поздно он предавал бумаге. Мне бы его возненавидеть, но нет. В моем характере какой-то изъян: я совершенно безразличен к клевете — не оттого ли на меня вечно клеветали? Конечно же, это мое безразличие всех подхлестывало.
Подняв бокал, я со значением повторил тост, который произнес, когда федералисты праздновали день рождения Вашингтона:
— За союз всех честных людей!
Гамильтон нахмурился, не стал пить.
— Ваше присутствие на нашем обеде не прошло… даром.
— Я лишь сформулировал цели правительства.
— Другие расценили это как просьбу федералистов о помощи.
— Помощи? — Я и бровью не повел, словно никогда в жизни не видел газеты Гамильтона «Ивнинг пост» (у которой теперь такой прекрасный редактор) и не читал его последних нападок на Джефферсона, на меня, на всех республиканцев.
— Президента, верно, встревожило ваше появление в стане врагов.
— Но я был там как гость, как нейтральный председатель сената.
— Нейтральный! — Гамильтон выпил вино. Налил второй бокал и быстро его осушил. Я заметил, как он скверно выглядит. Обычно румяное лицо лоснилось, а маленькое тело будто вспухло, так что медные пуговицы на жилете грозили вот-вот отлететь; одна уже почти оторвалась и болталась, как маятник, на тонкой нитке. Для него тоже настали плохие времена, и в личной жизни и в политике.
Я сказал то, что мне полагалось сказать:
— Меня очень огорчила смерть вашего сына Филипа.
Гамильтон провел рукой по лицу, словно хотел его изменить, сделать другим. Но каким? Оно не стало более печальным, чем прежде.
— Политические раздоры… — начал было он, но осекся.
Филип Гамильтон бросил вызов одному из моих друзей в театре в Нью-Йорке. Последовала дуэль, и мой друг застрелил на дуэли молодого Гамильтона, а сестра его Анджелика сошла с ума. Девушка близко дружила с моей Теодосией: как тесен мир!
— Неужто вам никогда не надоедают политические раздоры? — не удержался я от вопроса.
— Но они мне давно надоели! — Ответ мгновенный и неискренний. — Я приобрел ферму милях в восьми от Боулинг-грина. Для разочарованного политика нет ничего лучше, чем выращивать капусту. И я не променяю свою капусту на целое королевство. Я как Доминициан[77].
— Диоклетиан[78]. — Боюсь, Гамильтон лишь просмотрел Гиббона[79], а я сдуру прочитал его от доски до доски.
— Какова ученость! — Гамильтон взглянул на книгу, проверяя, хорошо ли она завернута в «Антиякобинское обозрение». Поймав мой взгляд, он решил меня отвлечь и указал на эстамп, изображавший Вашингтона с матерью, — популярная в те времена гравюра. — Боль на лице генерала передана очень точно.
— Мне кажется, художник хотел изобразить сыновнюю преданность.
— Тогда он попал пальцем в небо. Бедный генерал! Как эта женщина его мучила. — Гамильтон попотчевал меня несколькими историями о бурных отношениях Джорджа Вашингтона с матерью, которая то и дело пыталась вымогать деньги у знаменитого сына. Затем, забывшись, он нескромно поведал мне «истинную» историю ухода Джефферсона с поста государственного секретаря.
— Вы помните то лето в Филадельфии, когда разразилась желтая лихорадка и я чуть не умер?
— Очень хорошо помню. — Я будто увидел воочию ярко-красные губы доктора Хатчинсона, налитые кровью глаза, неверную походку, вспомнил, как его рвало возле моей кареты.
— Незадолго до моей болезни мы с президентом обсуждали, как лучше всего вывести Джефферсона из кабинета…
— Вашингтон хотел, чтобы он ушел? — Я этого не знал.
— Еще бы. Но тайно. Наша стратегия заключалась в том, чтобы Вашингтон всегда казался выше раздоров, ибо был призван сглаживать крайности двух своих министров. На самом же деле Вашингтон рьяно отстаивал интересы одной стороны. Особенно в то лето. Дело с Женэ взбесило его.
— И он решил, что Джефферсон заодно с Женэ?
— Иначе он и не мог решить. Мы с ним многие месяцы мечтали об одном: вернуть Джефферсона в лоно безмятежных красот Монтичелло.
— Разве это было так уж трудно? Джефферсон сам хотел уйти.
— Он и не собирался возвращаться восвояси, пока я оставался в Филадельфии. И вот мы с президентом сплели нашу интригу — о да, полковник, ради общего блага я готов интриговать.
— Вы думаете меня удивить, генерал?
Гамильтон забавлялся.
— Заметьте, я сказал «ради блага».
— Как не заметить.
— После заседания кабинета, после того как мне удалось расстроить Джефферсона нападками на его демократические общества, президент отвел Джефферсона в сторону и сказал с очень скорбным видом, тем печальным тоном, который он принимал, предавая вечной памяти павших солдат Революции: «Вы знаете, нам предстоит лишиться Гамильтона в конце года. И вы должны помочь мне уговорить его остаться. Не то я покину свой пост и мистер Адамс унаследует это страшное место». Джефферсон пришел в ужас от мысли, что Адамс придет к власти, но в восторг от того, что ухожу я, и он «убедил» президента остаться на посту и обещал поговорить со мной. Естественно, слова он не сдержал. Он просто сказал мне, что тоже уходит. — Гамильтон выпил еще вина. — Генерал возликовал, если можно применить это слово к такому флегматику. «Естественно, — сказал он мне, — я должен сделать все от меня зависящее, чтобы убедить мистера Джефферсона остаться». На что я ответил: «Естественно», после чего президент отбыл в Грейс-лэндинг и устроил великолепный спектакль, изобразив человека, который остался без двух своих главных сторонников. Это в свою очередь привело в восторг Джефферсона, которого любая форма измены приводит в своеобразный экстаз. — Быстрый взгляд в мою сторону, дабы уловить мою реакцию; ее не было. — Вот так и получилось, что Джефферсон ушел в отставку с поста государственного секретаря, а я остался в кабинете еще на год.
— В течение которого мы с мистером Джефферсоном создали республиканскую партию и победили на последних выборах.
— В течение которого я выработал для страны здравую финансовую политику. Ныне ее стремительно сводят на нет.
И меня угостили лекцией о том, как нелепо Джефферсон отказался от его плана консолидации государственного долга. Когда я заметил, что любой руководитель, сокращая налоги, как Джефферсон, рискует навсегда распрощаться со своим высоким постом, ответ Гамильтона был:
— Демагогия! А что касается этой его глупой речи…
Я, грешный, тоже посмеивался над речью Джефферсона в конгрессе (прочитанной клерком, так как Джефферсон якобы считал «монархизмом» выступать с трона; на самом же деле он просто смертельно боялся публичных выступлений). В весьма неудачном стиле Джефферсон написал о «серьезном намерении направить энергию нашего народа на приумножение человеческой расы, а не на ее уничтожение». Это вызвало — по крайней мере в воображении порочного вице-президента — образ вечной вакханалии, прерываемой лишь столь желанными беременностями.
Затем Гамильтон похвалил меня за участие в обсуждении законопроекта о судебном праве. Республиканцы хотели отменить закон о национальном судебном праве и таким образом уничтожить те должности судей-федералистов, которые Джон Адамс учредил в последний день своего правления. Хотя я считал абсурдным мнение федералистов, что конгресс не может отменить свое прежнее решение, я, мягко говоря, находил безнравственным увольнять два десятка судей только потому, что в конгресс пришло новое враждебное большинство. При голосовании законопроекта в сенате мнения разделились поровну: пятнадцать республиканцев против пятнадцати федералистов. В качестве вице-президента я решил эту «ничью», как оказалось, в пользу республиканцев. Я хотел, чтобы законопроект поставили на голосование, так как мы с моим другом Джонатаном Дейтоном (сенатором от Нью-Джерси) считали, что этот вопрос надо передать на рассмотрение представительного комитета, который займется пересмотром всей правовой системы. Я добивался компромисса. Когда предложение Дейтона поставили на голосование в сенате, голоса снова разделились поровну; я решил, как многие и полагали, в пользу федералистов. Я направил законопроект в комитет для дальнейшего рассмотрения.
— Не представляю, чтобы Джефферсон вас когда-либо простил.
У Гамильтона слегка заплетался язык. Обычно он не пил много, и все же иногда вино ударяло ему в голову быстрее, чем остальным. Верно, он был слабее, чем мы думали. Я часто убеждался, что тот, кто «поправился» от желтой лихорадки, отнюдь не здоров.
Я почувствовал облегчение, услышав позади нас знакомое постукивание деревянной ноги сенатора Гувернэра Морриса. Этот утонченный джентльмен был всегда очень любезен со мной, хотя ненавидел Французскую революцию и ее американских сторонников. Будучи нашим посланником во Франции, он вступил в заговор по освобождению Людовика XVI. Когда эта авантюра провалилась, он нашел успокоение в том, что по сходной цене скупил мебель из королевских дворцов. Он благоговейно показывал гостям кресло королевы, ночной горшок короля.
— Боже праведный! Вы вместе! В одной комнате! Я чувствую запах серы, пороха. Excellence! — Он изобразил дворцовый поклон, подал руку Гамильтону. — Mon Général![80]
— Вспоминаем былые времена. — Гамильтон вполне пришел в себя.
Моррис хитро поглядел на нас.
— Для вас все могло быть и хуже, генерал. И возможно, еще будет.
Гамильтон смешался. А я — нет. Я знал, о чем говорит Моррис.
— Не думаю, — сказал я, — что когда-либо смогу стать кандидатом в президенты от федералистов. — Я осторожничал, зная, что каждое мое слово будут повсюду перетолковывать.
— Так вот что вы задумали, мистер Моррис? — Гамильтон уставился на сенатора, словно узрел в нем первые признаки чумы.
Моррис погрузился в кресло у огня, и мне подумалось, что его деревянная нога похожа на горящее полено.
— Да, генерал, именно. У нас никого нет. Совсем никого. И я скажу вот что. — Он посмотрел на меня. — Если бы полковник Бэрр в сенате сразу проголосовал, чтобы изменить ничейный счет в нашу пользу, его бы единодушно выдвинули на пост президента все федералисты в конгрессе. Но и сейчас, благодаря второму голосованию, у вас есть поддержка, сэр. Серьезная поддержка с нашей стороны.
Лицо Гамильтона стало… хотел сказать «маской». Но нет. На нем все было написано. Он понял, что я могу стать лидером его партии, и никак не мог очнуться от этого кошмара.
— Разве полковник Бэрр так быстро изменил своим республиканским принципам?
— Нет, я им не изменил. — Я не сгущал атмосферу. — Моя беда в том, что в каждом вопросе я вижу две стороны. — Скромно, хотя и не вполне в строгих рамках истины.
— Да. Как видите, он джентльмен. — Не знаю, что хотел сказать Моррис Гамильтону этой несколько подчеркнутой фразой.
— Мы все республиканцы, все федералисты, — процитировал я.
— Но, — сказал Моррис, — мы ведь не все виргинцы, верно? — Любой мой ответ мог быть ложно истолкован, и я откланялся, понимая, что Гамильтон сейчас удвоит усилия, дабы убрать меня со сцены.
К счастью для Гамильтона, у него была поддержка Де Уитта Клинтона и еще журналиста по имени Джеймс Читэм. Тот по наущению Джефферсона регулярно нападал на меня со страниц нью-йоркской «Ситизен», притом с республиканских позиций. Так же как Джефферсон использовал Каллендера, чтобы низвергнуть Гамильтона, Гамильтон использовал теперь Читэма, чтобы уничтожить меня. Читэм утверждал, будто я пытался вырвать у Джефферсона президентство.
Вокруг меня сплотились друзья. Джон Свортвут дрался на дуэли с Де Уиттом Клинтоном и был ранен. Под псевдонимом Аристид блестяще выступил в мою пользу Уильям Ван Несс. Я даже разрешил друзьям возбудить против Читэма дело о клевете. Штат Нью-Йорк пришел в смятение. Однако я не считал свою игру проигранной. Я считал, что смогу стать губернатором на следующих выборах, несмотря на Джефферсона и Клинтона, с одной стороны, несмотря на Гамильтона — с другой.
А пока я председательствовал в сенате и часто обедал с президентом, он покорял меня и приводил в восторг своими разговорами, не говоря уже об удивительной злости положительно шекспировского размаха.
ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ШЕСТАЯ
Леггет приехал навестить нас с Элен в наших комнатах напротив рынка. В вечернем освещении рваные обои выглядели почти новыми, а пыльная мебель (Элен держит в чистоте только себя) — довольно прилично.
— Такое богатство, Чарли! — Леггет наклонился к руке Элен. — И такая романтическая история!
Она вознаградила его самым сумеречным взором. Не думаю, чтобы он когда-то у нее был. Она говорит — нет. Любопытно: чем больше я с ней, тем больше она меня привлекает. А ведь должно бы быть наоборот.
Мы сидели в маленькой гостиной и смотрели в окно на реку: лес корабельных мачт на переднем плане и мыс Паулус вдалеке. Несмотря на летнюю жару, мы уничтожили изрядное количество ростбифа (Элен не умеет, точнее, не желает готовить и потому покупает готовый ростбиф). Сперва она очень мило болтала, затем, когда дошло до клубничного пирога, умолкла.
Леггет перешел к делу. Он прочитал мои записки о связи Бэрра с Ван Бюреном.
— У нас материала больше чем нужно. — Он ликовал.
В темноте я не мог разглядеть выражения его лица (из экономии мы никогда не зажигаем больше одной лампы). Мухи доели наш обед, несмотря на томные взмахи руки Элен.
Леггет записал что-то в темноте — навык театрального критика.
— Ты уверен, что у меня достаточно материала?
— Остальное надо додумать. Ты изучил манеру?
— Да. Между прочим, твой сенатор Джонсон на самом деле убил Текумсе [81]?
— Мы всегда так говорим. Советую тебе посмотреть новую драму в пяти актах «Текумсе», там актер играет сенатора Джонсона в той самой форме, что была на Джонсоне, когда тот сразил непокорного вождя индейцев. Кто это там? — Леггет вздрогнул, заметив в темном углу высокую фигуру с большим бюстом.
Миссис Котсвольд, — сказала Элен. — Это ее манекен. Я ей шью платье.
— Очень медленно. — Тут я дал маху. Медлительность Элен в шитье — ее больное место. Она не в состоянии долго и напряженно работать. Хотя, по отзывам ее редких, но терпеливых заказчиц, получается у нее прекрасно.
Я дал Леггету черновик памфлета, над которым работал несколько дней.
— Я его возьму с собой. Я придам ему леггетовский стиль.
— Может, снабдить Ван Бюрена черной любовницей, чтобы не отставал от твоего Джонсона с двумя черными девками?
— Нет, грубо, пожалуй. — Леггет засмеялся. — Лучше дадим ему индейскую любовницу.
— Сестру Текумсе?
— Нет. Миссис Текумсе. Эту его алкоголичку.
— Я знала одну индианку. — У Элен было мечтательное выражение лица. — Она держала под подушкой два скальпа. Один светлый, другой темно-русый. Она говорила, что ее отец снял их с двух солдат. Она очень ценила эти два скальпа, а некоторые гости так пугались! — Элен хихикнула.
И думать не хочу, что будет, когда полковник прочитает мои записи. Может, мне лучше исчезнуть? Бросить Элен? Уплыть в Европу? Бросить Элен? Ну, нет! Уплыть вместе в Европу? А что? Чем плохо?
ГЛАВА ДВАДЦАТЬ СЕДЬМАЯ
Полковник жалуется на жару. Странно.
— Снова этот Монмусский суд! — Он вытирает лоб. — А ведь только июль. Что-то принесет нам август?
Дела в конторе остановились. Дело о разводе, возбужденное мадам, продолжает чинное продвижение по судам. Мистер Крафт затерялся в дебрях Пенсильвании. Мы одни. Город пуст.
Полковнику не сидится. То и дело открывает и закрывает окна. Перекладывает бумаги на столе. Вдруг идет к шкафу и вынимает пистолет. Неужели тот самый?
— Нет. Пистолеты для нашей дуэли были приготовлены Гамильтоном. Но это точная копия.
Я нахожу, что пистолет чересчур тяжел, но держать его удобно.
— Я, правда, не любил огнестрельного оружия. — Никогда не знаешь, чего ждать от полковника. — Во время Революции я пользовался саблей. — Он усаживается за стол с зеленым сукном. Перекладывает бумаги. Показывает газету с карикатурой на Джефферсона и на себя. Джефферсон держит нож и хочет засадить его в спину полковника. Изо рта у полковника выходит шар со словами: «Я полностью доверяю политике мистера Джефферсона».
Бэрр смеется, читая эти слова вслух.
— В общем-то, меня вряд ли можно было назвать агнцем, обреченным на заклание. Скорее, орлом в ловушке. Ну и западню же они мне приготовили!
Он закуривает сигару. Свирепо выпускает дым. Затем со странным выражением кладет сигару.
— Плохой сорт. Тут душно.
Я рад, что обошлось без дыма, у меня от него всегда голова болит и глаза слезятся.
Воспоминания Аарона Бэрра — XIV
К концу 1803 года я понял, что, покуда в Нью-Йорке сидят Клинтоны, а в Вашингтоне Джефферсон, моя политическая карьера обречена.
Мэдисон, увы, кажется, избегал меня. Правда, Долли по-прежнему дружила с Теодосией и иногда предупреждала ее о штучках Джефферсона. Долли разрывалась между дружбой ко мне (не говоря о благодарности: из всех женщин, каких я знал, она единственная была способна на это чувство) и необходимостью задабривать лидера нашей партии, ведь предполагалось, что, как только истечет второй срок правления Джефферсона, государственный секретарь Мэдисон займет президентское кресло.
Присутствие мое в Вашингтоне, обусловленное конституцией, тяготило правительство. Один министр финансов Галлатэн имел мужество защищать меня перед Джефферсоном.
— Вы себе сильно вредите, я сказаль президенту. — Недруги передразнивали французский акцент Галлатэна, а Гамильтон как-то даже съязвил, что лидер республиканской партии — иностранец. И кто бы говорил! Выходец из Вест-Индии, в течение долгого времени возглавлявший партию федералистов! Но за год или за два до смерти Гамильтон совсем свихнулся на создании христианско-конституционной партии, следующей учению Христа и федерализму — элементам, несовместимым в нормальных условиях.
— Но президент тверд. Он хочет вашего ухода из политики.
— А он говорил почему?
— Вы же его знаете. Он не перестает говорить почему, но никогда ничего не скажет. — Галлатэн всегда относился к Джефферсону двойственно. Он одним из первых распознал в нем величайшего политика нашей эпохи. И он понял, что в правительстве, не желающем ни армии, ни флота, ни торговли, ни налогов, недостатки Джефферсона почти незаметны. Джефферсон мудро отдал Галлатэну все, что имело отношение к финансам. Успех первого срока правления Джефферсона — полностью заслуга Галлатэна. Он действительно отменил налоги и обеспечил переизбрание Джефферсона и преемственность виргинской хунты. Когда закончился первый срок, единственное, что омрачало светлый горизонт виргинского владычества, был вице-президент Бэрр.
В январе 1804 года я попросил неофициальной встречи с Джефферсоном.
Под моросящим дождиком я проехал верхом через ухабистый двор перед президентским домом. Бросил поводья наглому негритенку. С трудом прошел по красной глине, так называемой подъездной аллее. Взобрался по «временным» деревянным ступеням к парадному входу. Дернул звонок; он не работал. Повернул ручку. Дверь перекосило. Я хорошенько толкнул ее и оказался в ледяном вестибюле.
Черный слуга в неуклюжей ливрее встретил меня и повел к кабинету президента. «Дворец» был гол, холоден и гулок. Знаменитую Восточную комнату все еще не закончили, хотя Джефферсон недавно поместил там самый большой сыр, изготовленный в Соединенных Штатах. Зловонное чудо американской изобретательности служило достойным украшением величественной залы, пока наконец его не съели избиратели.
Президент устроил библиотеку-кабинет напротив столовой для гостей. Здесь я и нашел его за длинным столом. Он был занят корреспонденцией, книгами, картами, садовым инструментом, пересмешником, который, несмотря на все увещания президента, в тот день не пожелал издать ни звука.
На Джефферсоне был тяжелый халат, красный засаленный жилет и видавшие виды шлепанцы; на манишке остались следы завтрака.
— Моя судьба, — сказал он, — жить в недостроенных домах.
— Лучше строить, чем получать в наследство.
— Наверное. Только вот неудобно… — Он вздохнул. Затем пригласил меня сесть за стол напротив. Перед ним лежала неразвернутая карта обеих Флорид.
Поняв, что я ее увидел, Джефферсон сказал:
— С нашей точки зрения, обе Флориды входят в недавно купленную Луизиану. И уж во всяком случае, Западная Флорида до реки Пердидо — наша. — Джефферсон некоторое время говорил о своем знаменитом приобретении. Еще бы, ему и правда повезло. Я говорю «повезло», потому что, не свергни рабы Санто-Доминго своих хозяев, Бонапарту не пришлось бы ухлопать столько денег и войск на умиротворение острова, в то время как он горел желанием приступить к завоеванию Европы. Джефферсон купил Луизиану за пятнадцать миллионов долларов у Бонапарта, отчаянно нуждавшегося в наличных, и удвоил, таким образом, территорию Соединенных Штатов (а заодно беспечно нарушил конституцию).
Джефферсон развернул карту Луизианы. Он ликовал.
— Подумать только, ведь это только начало.
— Зато какое! — Я заметил глубокие морщины вокруг его рта, под слоем пудры на тусклых рыжих волосах проглядывала седина.
— Мы должны заполучить обе Флориды. Вместе с Канадой и Кубой наша империя будет в безопасности, а свобода распространится дальше.
Я спросил его, когда Луизиана станет штатом.
Джефферсон пожал плечами.
— Видите ли, народ там не такой, как у нас. Там только один из пятидесяти говорит по-английски. И они словно дети, когда дело касается самоуправления. — Он постучал пальцем по объемистому донесению. — Агент сообщает, что юристы Нового Орлеана не только против принципа суда присяжных, но против принципа неприкосновенности личности. — Он покачал головой.
— Они против союза с нами?
— Как они могут быть против? Как можно не желать свободы? — Джефферсон пространно рассуждал о конституции, которую он писал для счастливых «детей», чью территорию он только что разделил надвое: густонаселенная южная часть, называемая Орлеаном, пустынная часть — Луизиана. Мы обсуждали кандидатуры губернаторов для этих двух территорий. В то время виргинец по имени Клерборн был губернатором Орлеана, но его назначение считалось временным. Клерборн был одним из тех членов палаты представителей, которые поддерживали Джефферсона, когда туда были переданы президентские выборы; кое-кто считал, что он поддержал бы меня, предложи я ему высокий пост. Недавно в губернаторы Луизианы стали прочить маркиза де Лафайета, но Джефферсон счел эту идею нецелесообразной.
Я предложил Эндрю Джексона, который пользовался поддержкой конгрессменов с Запада.
— Джексона? О боже! Никогда! Он слишком… честолюбив. Слишком напорист. При нем мы через месяц будем воевать с Испанией.
— А чем это плохо? — Ведь Джефферсон готов был идти войной на Испанию из-за индейцев племени крик.
— Если воевать, то по заранее подготовленному плану, а не волею случая. — Джефферсон осторожничал. — Я не доверяю Джексону. И креолам из Нового Орлеана. — Джефферсон ясно дал понять, что не спешит распространить на благоприобретенные 50 000 душ те свободы, которые, по его убеждению во времена Революции, должно вкушать все человечество или по крайней мере белые обитатели восточного побережья Америки.
Это побережье не давало ему покоя.
— Я получаю самые тревожные вести из Массачусетса и Нью-Гэмпшира. — Он посмотрел в окно на свинцовое небо так, будто сама природа злоумышляла против него. — А вы знали, что в этих штатах действуют федералисты, готовые разрушить Союз?
— Они шага не ступят без Нью-Йорка.
— Мудро, не правда ли? — Он посмотрел на меня долгим косым взглядом. Я ничего не ответил, и он стал возиться со своей копировальной машиной — дурацким сооружением из двух перьев. Пишешь одним, а второе выводит точную копию. Теоретически услуги секретаря отменялись. На самом же деле Джефферсону требовался не только секретарь, но и механик, ибо машина то и дело ломалась. Джефферсон подложил по листу бумаги под каждое перо и с мрачным видом начал ими скрипеть.
— Вы знакомы с состоянием дел в Нью-Йорке? — спросил он, хотя знал через Клинтонов куда больше моего. — Гамильтон действительно поддерживает идею расчленения Союза? — Нетерпение — другим словом не назовешь выражение, мелькнувшее на его лице.
— Нет. Он против.
— Любопытно. — Джефферсон рассеянно выводил свою подпись. Машина, как ни странно, делала приличные копии знаменитого автографа. Он заметно повеселел.
— С тех пор как вы приобрели Луизиану, многие жители Новой Англии склоняются к идее двух государств. Одно — с центром на Атлантике. Другое — на Миссисипи.
— Я совершенно с ними согласен. — Джефферсон был безмятежен. — В конце концов, оба государства будут американские.
— Только одно будет рабовладельческое, а другое свободное.
Джефферсон переменил тему.
— Мне сказали, полковник, что вы стали дедушкой. — Мы поговорили о сыне Теодосии, Аароне Бэрре Олстоне, поговорили о дочерях и внуках президента. Поговорили о старости. Джефферсону в то время было около шестидесяти, и он сомневался, что доживет до второго срока (если, разумеется, народ снова окажет ему честь и т. д.). Я ему искренне сказал, что он нас всех похоронит. Конечно, я и виду не подал, что знаю о его намерении похоронить меня в ближайшее время.
Я перешел к делу.
— Мне известно, что у вас новые планы относительно вице-президента на следующий срок…
— Уверяю вас, полковник, у меня никаких новых планов нет. — Одно из немногих удачных высказываний Монро: «Неискренность Джефферсона всегда искренна, он ее никогда не наигрывает».
— Я, как вы знаете, держусь в стороне от этих дел. — Джефферсон рассматривал лежавшую перед ним карту. — То есть не совсем. Я, признаюсь, постарался ради вас на последних выборах. Вы убедили меня в том, что вашу кандидатуру должна поддержать Виргиния. И я нарушил обычное правило и постарался ради вас. В других же штатах я ничего не сделал даже ради себя.
Я не откликнулся на эту галиматью.
— Говорят, вы уже кое-что решили о будущем вице-президенте.
Джефферсон посмотрел на меня с неподдельным удивлением:
— Я ничего не предпринимал, полковник. Руководство республиканской партии соберется, когда положено, и само решит…
— …И так как общественное мнение не позволит вам сделать вице-президентом виргинца, вы, говорят, замените меня другим ньюйоркцем — губернатором Клинтоном.
— Я не говорил об этом с губернатором Клинтоном…
— Мистер Джефферсон, я готов уйти красиво. Но будем откровенны. Три года назад я приехал сюда полный желания оказать вам личную и политическую поддержку. Но я с самого начала чувствовал вашу… неприязнь. Не знаю почему. Мне говорили, вы считаете, что я пытался отнять у вас президентство. Но я уверен, вы, конечно, понимаете, что это неправда, ведь, пожелай я стать президентом, меня бы избрали уже в первом туре с помощью моего друга мистера Байарда из Делавэра. Я же, напротив, заставил его меня бросить и заставил поддержать вас, и вот — где вы, сэр. А вот — где я.
Я вдруг понял, что на меня смотрит старик. Над картой империи — сморщенное и бледное лицо; рот — капризной щелкой; единственное, что осталось от юности, — янтарный блеск глаз. Сейчас они смотрели на меня с нескрываемой ненавистью.
— Полковник. — Слабый голос дрожал от наплыва чувств. — Я не обвиняю вас в причастности к заговору, цель которого была лишить меня того, что дал мне народ. Но иной раз я сомневался в вашей верности республиканцам. Ваше голосование в сенате беспокоило меня, а ваш тост на обеде у федералистов… — Джефферсон выложил карты на стол, фальшивые, он сам это понимал.
— Мое голосование в сенате определялось достоинствами известного законодательства. Мой тост «за союз всех честных людей» — лишь слабое эхо вашей собственной речи при вступлении в должность.
— Без сомнения, взаимное непонимание…
— Без сомнения. У меня до сих пор есть письмо, которое вы мне написали, когда сомневались в моем избрании и предлагали мне пост в вашем правительстве. Мне польстило ваше доверие. — Я перешел к делу. — В течение всей моей карьеры я никогда ни у кого не просил о личных одолжениях. Теперь мне придется изменить моему обычному правилу. Чтобы не расстроились наши ряды, чтобы разочарование не Охватило наших друзей, я хотел бы уйти с поста вице-президента и занять другой пост, никак не связанный с выборами.
— Понимаю. — Пересмешник вдруг улетел на камин. Я поклялся не нарушать молчание первым, это мне удалось. — Естественно, полковник, когда я писал то письмо, я признавал ваше право на благодарность нашей партии. Вы обеспечили нам Нью-Йорк, а Нью-Йорк обеспечил нам страну. Но… увы, вакантных мест нет.
— А губернатором в Орлеане?
— Мистер Клерборн только что приступил к своим обязанностям.
— Губернаторство в Луизиане?
— Оно обещано.
— Послом во Франции?
— Надо хорошенько подумать, полковник. — На его губах мелькнула тень улыбки. — Признаться, вы меня огорошили.
— Надеюсь, вас не огорошило мое желание избежать впечатления раскола между нами.
— Нет. Нет. Я очень благодарен.
— Прекрасно. Если же мне не будет позволено служить вам на назначенном вами посту, я через месяц вернусь в Нью-Йорк и выставлю свою кандидатуру на пост губернатора…
— От республиканцев? — Я тогда этого не знал, но Де Уитт Клинтон уже опасался, как бы я не выставил свою кандидатуру, и вовсю наседал на дядю. Но старику Клинтону не хотелось тягаться со мной на выборах. Во-первых, Джефферсон уже обещал ему вице-президентство. Во-вторых, я бы его побил. Джефферсон стоял перед дилеммой. Он вывел из состязания единственного человека, который, по его мнению, мог победить меня в Нью-Йорке. Я узнал позже, что уже тогда Де Уитт Клинтон умолял Джефферсона повлиять на дядю и заставить его выступить против меня.
— Да, от республиканцев. А как же еще? Естественно, если фракция Клинтона откажется меня поддерживать, я предложу свою кандидатуру как независимый республиканец и буду искать поддержки федералистов.
Пересмешник издал зычный звук. Мы с Джефферсоном вздрогнули. Потом птица засмеялась.
— Я уже ему говорил, это не музыкально.
— Может, он глухой.
— О нет, он все слышит. Все слышит.
Джефферсон перевел разговор на другие темы, и, разумеется, зашла речь о разнузданности прессы. Нам обоим в тот сезон особенно досталось. Читэм в Нью-Йорке обвинял меня в самых редкостных преступлениях, а Джеймс Каллендер в Виргинии пошел против старого работодателя и поведал миру, как Джефферсон платил ему за клевету на Вашингтона, Адамса и Гамильтона.
Каллендер недвусмысленно высказался и о попытке Джефферсона соблазнить миссис Уокер, и о его долгой связи с рабыней Сэлли Хеммингс. Но народ только забавляла неожиданная человеческая черточка у апостола демократии, который с таким импозантным самомнением вершил наши дела. Но зато самого короля-философа отнюдь не забавляли клеветнические нападки Каллендера, «особенно после всего, что я для него сделал».
— Читэм не лучше…
Но Джефферсона не занимали мои беды. И Читэм ведь действовал по наущению Джефферсона.
— Прошлым летом я свалял дурака и дал Каллендеру из жалости пятьдесят долларов, и вот он пишет, что пятьдесят долларов — взятка за молчание! Я, видите ли, заплатил ему, чтобы он молчал, ибо он кое-что знает. Я не знаю, что он там знал, и никому это не известно. Хорошо еще, он утопился. Не представляю, что бы я сделал.
— Всегда можно прибегнуть к закону о подстрекательстве к мятежу.
Он, разумеется, понял мою шутку буквально.
— Нет. Нет. Но, — и увядший рот превратился в жесткую линию на бледном лице, — я убежден, что сейчас нам необходимо возбудить несколько судебных дел против особенно видных и вредных редакторов. Такие процессы окажут оздоровляющее воздействие на остальных.
— Но ведь их свободу защищает Первая поправка…
— Разве разнузданность — свобода?
— То, что для одного разнузданность, для другого, возможно, истина.
Джефферсон ответил серьезно, мгновенно, продуманно:
— В тысяча семьсот восемьдесят девятом году Мэдисон послал мне проект поправок к конституции. Я написал ему, чтобы он непременно разъяснил, что, хотя наши граждане вправе говорить или публиковать что угодно, нельзя, однако, искажать факты, ибо это наносит вред жизни, свободе, собственности, личной репутации, портит отношения с иностранными государствами. Третьего дня я как раз напомнил Мэдисону об этом печальном упущении в нашей конституции, и он согласился, что нынешняя ужасная пресса — следствие небрежности Первой поправки.
Меня удивил сей выпад против свободной прессы, особенно в устах человека, который упивался своим республиканством. Как всегда, Джефферсон нашел выход из положения, обычный выход.
— У федерального правительства нет конституционной власти над прессой, и штаты поэтому могут разработать собственные законы и… — Старая песня.
Расстались мы дружелюбно. Я вернулся к себе на «Ф»-стрит и известил своих многочисленных сторонников в Олбани, что стал кандидатом в губернаторы.
ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ВОСЬМАЯ
Сегодня утром, когда я входил в контору, я столкнулся в дверях с Сэмом Свортвутом. Вид у него был озабоченный.
— А, Чарли! — Мне польстило, что он запомнил мое имя. — Вы должны навестить меня в порту.
— Непременно, сэр. — Я изобразил готовность.
— Я могу вам пригодиться. — Он поплелся прочь в струящемся августовском зное. На что пригодиться?
Полковник стоял у окна, держа шляпу за спиной. Он наблюдал за Свортвутом.
— Бедный Сэм-потакатель, — сказал он печально. — Верен мне одному. Что, по-моему, не свидетельствует о здравом смысле.
— Но ведь он инспектор нью-йоркского порта.
— Да, это я ему устроил. — Полковник метнул шляпу через всю комнату, она оделась на лампу. — Джексон оказал мне эту любезность, когда стал президентом. Он оказал мне целый ряд любезностей — клянусь всевышним! — Бэрр с удовольствием вставил любимое восклицание генерала Джексона. — К сожалению, не могу заставить президента сделать что-нибудь лично для меня. Конечно, я ни в чем не нуждаюсь, но свое хочу получить.
Я видел кое-что из переписки полковника с военным департаментом. Как бывший офицер, полковник получает пенсию 600 долларов в год. Он утверждает, однако, что ему причитается 100 000 долларов, ибо во время Революции он не получал жалованья, да к тому же растратил кучу денег из собственного кармана: состояние семьи пошло на содержание солдат. Но правительство не горело желанием возместить его расходы.
На зеленом столе все еще лежал дуэльный пистолет. Прежде чем приступить к очередной порции диктовки, полковник по-военному взял пистолет, повертел и прогнусавил старые-престарые вирши:
О Бэрр, о Бэрр, что сделал ты! Какой переполох: Ты Гамильтона застрелил, Застав его врасплох. Ты взял свой пушку-пистолет И встал в чертополох. Ты наповал его убил.Какой переполох!
Он расхохотался. Мне стало не по себе от его убийственного юмора.
— Вон он — пистолетик — или точная его копия. А «гениальные» вирши я нашел в музее под восковыми экспонатами на севере штата в Райнебеке — змеином гнезде федерализма. Высокий, благородный красавец Гамильтон и коварный, подлый Бэрр, темный, как сын ночи. Только чертополоха не хватало. Он вырос в мозгу поэта, чтобы сплестись в божественной рифме с «переполохом».
Я переписал стишок. А полковник шагал по комнате, наслаждаясь тропической жарой.
Воспоминания Аарона Бэрра — XV
Среди моих бесчисленных преступлений главным считается стремление к расколу Союза. Джефферсон хотел убедить весь мир, что, уехав на Запад, я задался целью отколоть новые штаты — Кентукки, Теннесси и Огайо — от исконного хозяина — Виргинии. Чистый вздор, конечно, и Джефферсон сам это знал.
Вся ирония в том, что не я, а Джефферсон признавал за любым штатом право расторгнуть узы с другими штатами. Для него федеральное правительство всегда было «чужим», и, потребуй федеральное правительство от штата что-либо противоречащее воле большинства землевладельцев (например, уничтожения рабства), штат, по мнению Джефферсона, вправе объявить недействительными законы федерального правительства; ну, а если и это не возымеет действия, штату остается одно — отделиться.
Хоть и не сторонник незыблемости Союза, я, уехав на Запад, не помышлял об отделении. Я, правда, имел прямое отношение к заговору 1804 года: разделить Соединенные Штаты на две части с границей по реке Гудзон.
Сенатор Пикеринг от штата Массачусетс возглавлял почтенную группу конгрессменов-заговорщиков, желавших вывести Новую Англию и Нью-Йорк из-под эгиды Виргинии. Покупка Луизианы стала для них последней каплей. Сенатор Пикеринг справедливо предполагал, что Джефферсон и виргинская хунта искромсают этот огромный район на рабовладельческие штаты и Новая Англия попросту увянет, как увяла федералистская партия. Их возмущало и наплевательское отношение Джефферсона к конституции при покупке Луизианы.
Сенатор Палмер сказал мне:
— Если президент имеет право купить новый штат, значит, он имеет право продать старый.
— Быть может, — ответил я, — канадцы любезно согласятся купить ваш собственный штат Нью-Гэмпшир. — Моя шутка не привела сенатора Палмера в восторг.
Отношения мои с этой группировкой были сердечными, но ни к чему не обязывающими. Но Пикеринг на меня наседал:
— Все зависит от Нью-Йорка, полковник. Если Нью-Йорк отделится вместе с нами — у нас будет прекрасная страна. Без Нью-Йорка мы станем дырой вроде Ирландии.
— Без сомнения, Новая Англия ущемлена Виргинией, и, без сомнения, чтобы выжить, Новой Англии надо возобладать над Виргинией. — Этими разговорами и ограничилось мое участие в тайном сговоре.
— Мы намереваемся поддержать вашу кандидатуру на пост губернатора штата Нью-Йорк.
— Мне очень нужна поддержка.
— Если вас изберут, вы сможете бороться за отделение вашего штата вместе с нами.
— Сенатор, могу заверить вас, при моем правлении в штате Нью-Йорк федералисты в обиде не останутся. — Дальше этого я не пошел. Пикеринг поостыл, но обещал использовать все свое влияние, чтобы я стал губернатором.
В марте я не сомневался, что меня выберут. Но к началу апреля понял, что вредит мне не столько мой республиканский противник, сколько отставной политикан, неудавшийся Диоклетиан, неповторимый Александр Гамильтон, птицей Феникс восставший из пепла после дела Рейнольдс, дабы спасти страну.
Не знаю, искренне ли хотел Гамильтон сохранить Союз или нет. Ясно одно — он пришел в ужас от того, что я, в общем-то, оказался знаменосцем его собственной партии в штате Нью-Йорк.
И снова вокруг моей головы, словно летучие мыши на закате, стали витать клеветнические слухи. Публичные дома Нью-Йорка переполнены женщинами, которых я лишил невинности. Цезарь, Катилина… Никогда еще меня так злобно не травили.
Но вот однажды Гамильтон приехал ко мне в Ричмонд-хилл на обед с Чарльзом Бидлом из Филадельфии, и никогда еще я не видел его таким любезным. Я заговорил о клеветнических статейках Читэма. Гамильтон сказал:
— Пусть решает пистолет. Вызовите его на дуэль.
— Не могу. Он не джентльмен.
— Конечно. Конечно. — Гамильтон быстро переменил тему. Я знал, что он делает все от него зависящее, чтобы помешать моему избранию, но не думал, что он опустится до клеветы.
Во время обеда я приказал Алексису достать портрет Теодосии, она была любимицей Бидла, и предложил выпить за ее здоровье. Тост Гамильтона был красноречив и тонок.
Не буду больше ничего говорить о выборах. Я их проиграл. Я получил перевес в сто голосов в городе Нью-Йорке, но на севере штата голосование оказалось отнюдь не в мою пользу.
Передо мною открывалось несколько возможностей. Вернуться к адвокатской практике. Восстановить свое место в политике (и состояние!). Отправиться на Запад, где я пользовался большой популярностью. Меня легко могли бы избрать на пост сенатора от Кентукки или Теннесси или делегатом в конгресс от территории Индиана. Но заманчивей всего казался извечный план освобождения Мексики от Испании. Не было человека в Соединенных Штатах, который не хотел бы изгнания испанских донов из нашего полушария. Даже Гамильтон не видел коварства в этом плане, ибо сам вел секретные дела кое с кем в Латинской Америке и надеялся эти силы возглавить. Гамильтон мечтал о мексиканской империи в союзе с Англией. Я мечтал о ней в союзе с Соединенными Штатами. Снова мы стали врагами, на сей раз смертельными.
У меня до сих пор хранятся экземпляры федералистской газеты «Уосп», выходившей в Гудзоне в штате Нью-Йорк под редакцией молодого Гарри Кроссвелла. В течение 1802 и 1803 годов магистр Кроссвелл предпринял серию нападок на Джефферсона.
Вот, например: «Мистер Джефферсон на протяжении последних лет, и при жизни жены и после ее смерти, содержит курчавую наложницу (справедливости ради следует сказать, что волосы у наложницы ничуть не курчавились, а, наоборот, были прямые и светлые) по имени Сэлли, от которой у него несколько детей, причем один из них, Том, после избрания отца стал важничать и хвастаться, что происходит от президента». Снова рассказывалось о пресловутом совращении миссис Уокер. Но еще похлеще было обвинение, что Джефферсон субсидировал Каллендера, чтоб тот написал памфлет «Что нас ожидает» (где Вашингтона называли «клятвопреступником», «грабителем» и «изменником»). Обвинения были серьезными и, главное, обоснованными: Джефферсон действительно снабжал Каллендера деньгами, а также частной информацией.
Процитировав отрывки из первой инаугурационной речи Джефферсона, где он превозносит Вашингтона, магистр Кроссвелл далее писал: «Он делает из него полубога, а сам уплатил Каллендеру, чтобы тот сделал из него черта… можно ли назвать такого человека лицемером? Нет, это для него слишком слабое слово». Легко ранимого Джефферсона это больно задело.
Генеральному прокурору штата поручили обвинить Кроссвелла в клевете на президента, что он и сделал. Кроссвелл требовал копию обвинительного акта до того, как он ответит на обвинение, — ему отказали. Он требовал, чтобы вызвали свидетелем Джеймса Каллендера. Генеральный прокурор заявил, что в деле о клевете неважно, где ложь, где истина, важен факт — публиковал Кроссвелл клевету на президента или нет.
— Истина, — заявил джефферсоновский генеральный прокурор, — тут не существенна.
Вдруг «нормальное судопроизводство» превратилось в ненормальную попытку американского президента ущемить свободу слова. И вдруг Гамильтон встал на защиту свободы от новоявленного цензора — Джефферсона.
Весьма комическое, но примечательное состязание. В первом раунде победил Джефферсон с помощью верховного судьи штата Нью-Йорк, подтвердившего, что истина в таком деле не существенна. Но потом верховный судья неосторожно добавил: «Увы, таков закон». Затем он просил присяжных лишь определить, публиковал Кроссвелл оскорбительные материалы или нет. Присяжные с легким сердцем подтвердили сам факт публикации материалов, не вдаваясь в их суть и не разбирая, соответствуют ли они истине. Адвокат Кроссвелла потребовал нового разбирательства, заявив, что присяжных ввели в заблуждение и что истина все-таки кое-что да значит.
Суд собрался опять в феврале 1804 года. Хотя Гамильтон был сторонником закона о подстрекательстве, сейчас он красноречиво отстаивал совсем иное. Все говорят, что Гамильтон блистал, как никогда. Объясняя свое отношение к закону о подстрекательстве, он неискренне заявил, будто закон этот предусматривает то, что Джефферсон называл «ложными фактами» (видимо, антитеза «истинной лжи»).
Дошло до «истины в поношении», и тут Гамильтон поднялся до мильтоновских высот: «Надо бороться, бороться, бороться до тех пор, пока мы не свергнем демагогов и тиранов с мнимых тронов». И «надобно точно установить, виновен или нет мистер Джефферсон в том гнусном деянии, в коем его обвиняют».
Потрясающе! Гамильтон-монократ называет Джефферсона — «Великого Уравнителя» — тираном, да еще сидящим на троне!
Поскольку Каллендер к тому времени умер, виновность Джефферсона осталась неустановленной.
Мнения судей разделились, и законодатели в Олбани разработали законопроект об установлении истины в деле о клевете. Ныне он стал государственным законом. Гамильтон снова стал идолом федералистов.
К несчастью для Гамильтона (и для меня), я, по сути дела, был федералистским кандидатом на пост губернатора, а Гамильтон не мог смириться с такой несуразицей. На обеде в Олбани в честь его судебной победы Гамильтон позволил себе кое-какие поношения в мой адрес, причем истина, боюсь, снова оказалась для него несущественной.
Примерно в середине июня я сидел у себя в кабинете в Ричмонд-хилле с Уильямом Ван Нессом и его бывшим помощником Мартином Ван Бюреном. Я только что с трудом их помирил. Ван Несс упрекал Ван Бюрена, что тот поддерживал не мою кандидатуру на пост губернатора, а кандидатуру чистого республиканца. Я пытался объяснить, что Мэтти поступил так потому, что «он молод и хочет сделать политическую карьеру». В конце концов они помирились. Но когда Ван Бюрен сказал мне, что он поддерживал чистого республиканца из верности своему партнеру по адвокатской практике, я ответил, что личная преданность — плохой советчик в делах политических. Важно начать на стороне победителей. Это подкупает — хотя бы судьбу.
Мы просматривали газеты, только что полученные с севера штата, и развлекались, читая фантастичнейшие измышления обо мне (в том числе научный трактат с точным подсчетом погубленных женщин), когда Ван Несс показал мне издающуюся в Олбани газету «Реджистер» от 24 апреля 1804 года. В ней было опубликовано что-то вроде письма доктора Чарльза Купера, где говорилось, что на приеме в Олбани «генерал Гамильтон и судья Кент объявили, что считают мистера Бэрра опасным человеком, которому нельзя доверять бразды правления».
— Меня это не удивляет, — сказал я. — И ведь наверное, судья Кент голосовал за меня.
Но тут я увидел, почему Ван Несс так заинтересовался этой статейкой. «Я могу, — писал доктор Купер, — подробно воспроизвести и куда более презрительное мнение генерала Гамильтона о мистере Бэрре». Мы хотели найти это «более презрительное мнение», но не нашли.
— Видимо, обычная гамильтоновская хула. — Мэтти не беспокоился. Я поначалу тоже.
Но ночью я стал думать, что это за «более презрительное мнение»? Гамильтон называл меня Цезарем, Катилиной, Бонапартом (а сам в случае чего не отказался бы от мексиканской короны). Какое же еще более презрительное мнение? Нервы мои сильно расшатались из-за недавних выборов. Я не спал в ту ночь. Утром я написал Гамильтону письмо. Потом послал за Ван Нессом.
— Я думаю, это… требует объяснения.
— Согласен. — Ван Несс встревожился даже больше моего. Он взялся передать письмо. Письмо было короткое. Я просил «незамедлительно и прямо признать или опровергнуть — высказывал ли он мнение, на которое ссылался доктор Купер». Я приложил вырезку из газеты. Это было 19 июня.
Ван Несс доставил письмо Гамильтону, и тот сразу понял, что дело нешуточное.
— Я отвечу полковнику Бэрру сегодня же. — Но потом в тот же день Гамильтон пришел к Ван Нессу и попросил отсрочки на один день.
Письмо Гамильтона я получил 21 июня. Оно было длинное. Он витиевато толковал слово «презрительное». И добавлял, что не отвечает за то, как другие толкуют его мнения «о политическом противнике, высказанные за пятнадцать лет соперничества».
Я ответил ему без промедления, что «политическая вражда не освобождает джентльмена от необходимости соблюдать законы чести». И что обычно «презрительное мнение» есть мнение оскорбительное. Я требовал точного ответа.
На следующий день Гамильтон попросил своего друга передать второе письмо Ван Нессу. Гамильтон жаловался на мой резкий тон. Ничего точнее он мне ответить не может — вот и все письмо. По существу он мне вообще не ответил. Друг Гамильтона сказал Ван Нессу, что ему поручено передать, что Гамильтон смутно помнит о приеме в Олбани, и если о полковнике Бэрре вообще говорили, то лишь в связи с политикой и выборами губернатора. Никаких личных замечаний о полковнике Бэрре никто, кажется, не высказывал.
Но я тогда же узнал, что говорил обо мне Гамильтон, и понял, что вдвоем нам тесно в этом мире.
Друг Гамильтона еще раз попытался его выгородить, но только усугубил положение. Он сказал, ежели полковнику Бэрру угодно узнать другие суждения Гамильтона о Бэрре, Гамильтон тотчас готов к его услугам. Это было слишком. Я попросил Ван Несса назначить время и место дуэли.
Друг сделал последнюю попытку спасти патрона, прибегнув к странному доводу, что генерал Гамильтон не считает себя первоисточником неприятных слухов о полковнике Бэрре, кроме одного, давно опровергнутого: якобы я подсунул Элизу Боуэн в постель к Гамильтону, чтобы выведать его секреты. О, конечно, она легла туда сама и не без его позволения. И хоть она передала мне памфлет, который он написал против Джона Адамса, ему пришлось сознаться, что я ее об этом не просил.
Гамильтон стал жаловаться на мою «предвзятую враждебность». Ван Несс ответил за меня, что фразу о «предвзятой враждебности» можно лишь прибавить к прежним оскорблениям, а уклончивые длинноты Гамильтоновых писем отдают признанием вины.
Было решено, что мы сойдемся с ним за рекой в Нью-Джерси на Вихокских холмах. Натаниэль Пендлтон был секундантом Гамильтона. Ван Несс — моим. Оружие — пистолеты. Гамильтон попросил отложить дуэль до окончания сессии окружного суда. Договорились встретиться через две недели, 11 июля 1804 года.
Две недели мы хранили нашу тайну от всех, кроме горстки посвященных. Я привел в порядок дела, написал письмо Теодосии, составил завещание. Особенно терзала мысль о долгах, которые останутся после меня. Гамильтон, верно, пребывал в таком же расположении духа. Он был в еще худшем положении: по уши в долгах из-за Грейнджа, претенциозного загородного поместья, которое оборудовал в нескольких милях от Ричмонд-хилла. У него росло семеро детей. К счастью, жена его происходила из семьи Скайлеров, и приют для бедных сиротам не грозил.
Вскоре я понял, что напрасно дал Гамильтону двухнедельную отсрочку. Он тотчас подстроил мою дуэль на шпагах с неким Самюэлем Брэдхерстом. Мне пришлось принять вызов этого джентльмена. Мы дрались неподалеку от Хобокена. Я был в невыгодном положении, так как руки у Брэдхерста на три дюйма длиннее моих. Гамильтон хотел, конечно, чтоб Брэдхерст так исполосовал меня, чтоб я не смог выйти на дуэль 11 июля. К счастью, я сразу же пустил ему кровь. Брэдхерст покинул поле чести, даже не поцарапав меня.
Вечером 4 июля я присутствовал на празднестве Общества Цинцинната[82] в таверне Фрэнсиса.
Гамильтон держался невозмутимо. Более того, я редко видел его более очаровательным.
— Я должен поздравить вас с удачным свиданием, — пробормотал он, когда мы раскланялись в баре.
— Надеюсь, ваш друг мистер Брэдхерст скоро поправится. — И я отвернулся.
Несмотря на знаменитое высокомерие Гамильтона и его нетерпимость к тем, кто не был наделен столь быстрым умом, он обладал даром очаровывать, когда ему хотелось. Подозревая, что, быть может, он последний раз на людях, он хотел, чтобы мир запомнил его таким: все еще красивым, несмотря на полноту, все еще способным пленять тонкой лестью старших, ослеплять блеском ума тех, кто помоложе.
Мы сидели за столом в длинной комнате — группа пожилых мужчин, не связанных ничем, кроме давней молодости и битв за Революцию, — и я тоже вдруг подумал, что, быть может, в последний раз выступаю на самой яркой сцене республики. Возможно, Гамильтон убьет меня. Еще вероятней, что я его убью. Так или иначе, через неделю все переменится.
Я отрешенно смотрел вокруг, сидя на почетном месте (несмотря на недавнее поражение на губернаторских выборах, я все еще был вице-президентом Соединенных Штатов), и видел себя самого словно издали карнавальным чучелом, а не живым человеком.
Потом писали, что в тот вечер я был мрачен. Очевидно, я не вполне владел собой. Но ведь близилась решительная встреча. Человек, который в течение «пятнадцати лет соперничества» уничтожал меня, почти завершил свое дело, и десятым чувством я знал, что он снова преуспеет, как бы наша дуэль ни окончилась.
Я всерьез расстроился, когда по просьбе присутствующих генерал Гамильтон встал и прекрасным тенором спел «Барабан» — ни один ветеран Революции не может слушать эту песню, не печалясь о давней юности и милых сердцу павших соратниках.
Конечно, я понятия не имел, как коварно Гамильтон подготовил свой уход из этого мира и мою погибель.
ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ДЕВЯТАЯ
Сегодня полковник пребывал в странном возбужденном состоянии.
— Если тебе интересно, Чарли, давай съездим на те холмы, я разыграю для тебя дуэль века, на которой подлый Бэрр сразил благородного Гамильтона, да еще из-за куста чертополоха — видимо, унизительный намек на мой малый рост. А ведь Гамильтон всего-то на дюйм меня выше, хотя сегодня он легендарный гигант и его божественный монумент высится на торговой бирже — в его храме. А мне — ни статуи, ни лавров, только чертополох!
Я пришел в восторг и смутился. Бэрр никогда не говорит о дуэли, все, кроме Леггета, слишком щепетильно относятся к этой теме и никогда ее не затрагивают в его присутствии, хотя весь мир знает об этом событии в жизни Аарона Бэрра и о нем невозможно не вспомнить, когда знакомишься с ним.
— Он убил генерала Гамильтона, — прошептала моя мать, когда элегантный маленький старичок впервые зашел в нашу таверну в Гринич-вилледже после возвращения из Европы. — Посмотри-ка на него хорошенько. Знаменитый был.
Когда я стал старше, я понял, что моя семья скорее восхищалась Бэрром, чем наоборот, и мать была польщена, когда я ему понравился; он снабдил меня книгами для чтения, побудил меня пойти в Колумбийский колледж и заняться юриспруденцией. Но когда я впервые увидел его в баре за столиком около камина, он показался мне дьяволом, и мне чудилось, что он, того гляди, вылетит в каминную трубу, окутанный пламенем.
Мы шли к Среднему причалу в конце Дуэйн-стрит.
— Я просил молодого лодочника ждать нас там.
Глаза полковника горели при мысли о необычном путешествии — на сей раз не в воздушные замки будущего, а в прошлое, где он чувствует себя как дома.
— Жара стояла, как сегодня, — тридцать лет и один месяц тому назад. Но, помню, я продрог не по сезону. Я даже приказал разжечь огонь десятого ночью и спал одетый на софе в кабинете. Правда, спал крепко. Добавьте эту деталь к моему героическому портрету. — Он метнул веселый взгляд в мою сторону. — На рассвете Джон Свортвут пришел меня будить. Потом пришли Ван Несс и Мэтт Дэвис. Мы вышли из Ричмонд-хилла…
Высокий молодой лодочник ждал нас у пустынного причала. Солнце палило нещадно. Кроме нас, на пристани никого не было: на август все уехали из города.
Мы сошли в лодку, и молодой человек начал грести, ровно, медленно взмахивая веслами, к высокому зеленому берегу Нью-Джерси.
— Вот в такое утро… — промурлыкал Бэрр себе под нос. Затем: — Я привел дела в порядок. Набил шесть синих ящиков материалами для моей биографии, на случай если кому-то взбредет в голову ее писать. Теперь эти ящики на дне моря. — Он не опечалился даже при воспоминании о любимой дочери: вел пальцем по воде, щурился на солнце. — Интересно, что думают обо мне рыбы?
Я хотел представить себе, каким он был тридцать лет назад: блестящие темные волосы, гладкое лицо, твердая рука — вице-президент выполняет долг чести. Но я не мог связать крошечного старичка с легендарной фигурой.
— Любовные письма ко мне в аккуратных стопочках, везде указано, какие сжечь, какие вернуть отправительницам, какие прочитать на моей могиле — смотря по обстоятельствам. Я ощутил облегчение в то утро. Все предусмотрено. Все решено.
— А приходила вам в голову мысль, что он вас убьет?
Полковник покачал головой.
— Когда я проснулся на софе, увидел рассвет, я понял, что увижу закат, а Гамильтон — не увидит. — Вдруг лицо его омрачилось, и он отвернулся от яркого солнца; лицо погрузилось в тень. — Ведь Гамильтон заслужил смерть от моей руки.
И вот я задал вопрос, который мучил меня со вчерашнего дня, но Бэрр лишь покачал головой:
— Я не стану, ни за что не стану повторять то, что сказал обо мне Гамильтон.
Мы молча провожаем взглядом пароход, он плывет из Олбани, посреди реки. На палубе женщины в ярких летних платьях крутят зонтики; их голоса над водой вторят крикам чаек, те следуют за пароходом в надежде поживиться.
Вихокские холмы выглядят, наверное, точно так же, как и тогда. Полковник легко спрыгнул на каменистый грунт. Пока я помогал лодочнику вытащить лодку на берег, полковник быстро поднялся по узкой тропинке на поросший лесом холм.
— Идеальное место для дуэлей, — сказал Бэрр, когда я к нему подошел.
Площадка имеет шесть футов в ширину и примерно тридцать или сорок футов в длину, а под ней отвесная скала. Густой кустарник с обоих концов заслоняет вид на реку.
Полковник показывает на шпили Нью-Йорка, проглядывающие сквозь листву;
— Вот что многие джентльмены видели в последний свой миг.
Я замечаю, что он говорит шепотом; он сам это замечает и смеется.
— Привычка. Приезжая сюда, дуэлянты всегда вели себя тихо, боялись разбудить старика, который жил в хижине неподалеку. Его называли Капитаном, и он ненавидел дуэли. Если он слышал голоса, он бежал к месту дуэли, и становился между дуэлянтами, и не хотел уходить. Часто к вящему облегчению участников.
Бэрр подходит к мраморному обелиску в центре площадки.
— Я его раньше не видел. — Монумент воздвигнут в память об Александре Гамильтоне. Отколоты куски, он весь исписан именами влюбленных. Полковник молчит.
Потом медленно идет к большому кедру, раздвигая бурьян и поддавая ногами камешки. Останавливается под деревом, снимает черный сюртук. Пристально смотрит на реку. Мне становится не по себе, не могу понять почему. Я уговариваю себя, что привидений не бывает.
Бэрр наконец заговорил обыденным голосом:
— Около семи часов являются Гамильтон со своим секундантом Пендлтоном и уважаемый доктор Хоссак (Гамильтон всегда боялся за свое здоровье). Вот туда. — Бэрр показывает. Я смотрю так, словно из лодки сейчас выйдут мертвецы. Но внизу течет река — и только.
— У Пендлтона в руках зонтик. У Ван Несса тоже. Зонтики выглядят весьма странно в летнее утро, но они захватили их для отвода глаз. Ведь сейчас мы нарушим закон.
Бэрр отходит от кедра, теперь он на другой стороне площадки.
— Вот является со своим секундантом генерал Гамильтон.
На мгновение перед моими глазами возникает ржавая шевелюра Гамильтона, отсвечивающая в лучах летнего солнца. Мне кажется, что я попал в чужой сон и не могу оттуда выбраться, запутался, все кружится у меня в голове — ужасно неприятно.
Бэрр раскланивается.
— Доброе утро, генерал. Мистер Пендлтон, доброе утро. — Бэрр поворачивается и идет ко мне.
— Билли. — Клянусь, он думает, что я Ван Несс! — Вы с Пендлтоном тяните жребий — кому выбирать место и кому подавать сигнал стрелять.
Полковник жестом предлагает мне пройти к дальнему концу площадки.
— Ваш патрон выиграл и то и другое, мистер Пендлтон. — Пауза. — Вот там он хочет стоять? — Легкое удивление в голосе Бэрра.
Я вдруг понимаю, что стою там, где стоял Гамильтон. Солнце бьет мне в глаза, сквозь листву сверкает вода.
Бэрр занял позицию в десяти полных шагах напротив. Мне кажется, я сейчас упаду в обморок. У Бэрра лучшая позиция — лицом к холмам. Я знаю, что умру. Я хочу крикнуть, но не могу.
— Я готов. — Кажется, полковник держит в руке тяжелый пистолет. — Что? — Он смотрит на меня, опускает пистолет. — Вам нужны очки? Конечно, генерал, я подожду.
— Генерал Гамильтон удовлетворен? — спрашивает Бэрр. — Прекрасно, я тоже готов.
Я стою, застыв от страха, пока Бэрр целится и кричит:
— Целься!
И я убит.
Бэрр, протянув руки, бросается ко мне. Я чувствую, как у меня подгибаются колени, чувствую, как пуля разорвала мне живот; чувствую, что умираю. Бэрр вовремя останавливается. Он пришел в себя. Я тоже.
— Гамильтон стрелял первым. Я выстрелил мгновение спустя. Пуля Гамильтона сломала ветку вот на этом дереве. — Бэрр показывает на высокий кедр. — Моя пуля пробила ему печень и позвоночник. Он встал на носки. Вот так. — Бэрр вытянулся, как танцор. — Потом скорчился, согнулся. Пендлтон поддержал его. «Я убит», — сказал Гамильтон. Я бросился к нему, но Ван Несс меня остановил. К нему шел доктор Хоссак. Мы уехали.
— Но… я бы остался, я бы подошел к вам, если бы не выражение вашего лица. — Снова невидящий взор Бэрра. Снова он видит во мне Гамильтона. И снова я умираю, пуля жжет.
— Я увидел на лице у вас ужас, ужас от того, что вы со мной сделали. Вот почему я не мог подойти к вам и выразить вам сочувствие. Я мог сделать только то, что сделал. Прицелиться и убить, убить.
Он сел у подножия памятника. Протер глаза. Видение — или то было безумие? — исчезло. Спокойным голосом он продолжал:
— Как всегда бывает со мной, общество поверило в другую версию. Вечером накануне нашей встречи Гамильтон написал письмо потомкам, в стиле предсмертной исповеди кающегося монаха. Он откажется от первого выстрела и, может быть, от второго тоже, он не одобряет дуэли. Но первым-то выстрелил он! Что же до его неодобрительного отношения к дуэлям, то я знаю, что он по крайней мере три раза бросал вызов. Но Гамильтон понимал лучше других, что наш мир — наш американский мир — обожает лицемеров.
Бэрр поднялся. Пошел к тропинке. Я тупо следовал за ним.
— Гамильтон прожил полтора дня. Он был верен себе до последнего. Сказал епископу Муру, что не питает ко мне зла. Что он сошелся со мной на дуэли с твердой решимостью меня не ранить. Какая низость!
Бэрр начал опускаться по тропинке. Я последовал за ним. У реки он остановился, и взгляд его скользнул вверх по течению, туда, где поднимался цветущий Статен-Айленд.
— Совсем забыл, как тут красиво, да я ведь почти и не смотрел тогда.
Мы сели в лодку.
— Ты знаешь, убив Гамильтона, я его возвеличил. Останься он в живых, и звезда бы его закатилась. Сейчас его бы и не вспоминали. Как меня. — Он сказал это тускло, без выражения. — А там поставили бы памятник мне, и весь бы его исчеркали.
ГЛАВА ТРИДЦАТАЯ
Я поймал Сэма Свортвута на слове и обратился к нему за помощью. Он принял меня в кафе Тонтина, где они заседают каждый день. С ним был Мордекай Ной, он стал недавно его помощником в управлении нью-йоркского порта.
Ной благосклонно меня вспомнил. Долго говорил об индейцах, которые, по его мнению, являются заблудшим племенем Израилевым.
— А то зачем бы я — сами посудите! — присоединился к Таммани? — Произнеся эту чушь, он ушел.
— Ну, нравится вам копаться в старых сундуках? — Свортвут вечно пьет испанское вино — и не всегда говорит членораздельно. Тем хуже для меня.
— Великий он человек. Полковник. И жизнь его великая прошла впустую. Послушали бы вы, как о нем говорит генерал Джексон. «Клянусь всевышним, ярчайшая личность в нашей политике!»
— Почему же тогда президент не платит полковнику деньги, которые ему задолжали еще с Революции?
— Он не смеет. Не смеет ничего сделать для полковника. Так прямо ему и сказал, когда был проездом в городе в прошлом году.
— Они встречались? — Полковник ни разу даже не обмолвился о встрече с президентом.
— Сам видел. — Свортвут подмигнул. Заказал еще вина. — Видишь ли, Старая Коряга — как и я — как бы протеже полковника.
— Еще с Запада?
— Еще с Запада. Еще раньше. С тех пор как Теннесси присоединился к Союзу — благодаря полковнику, который в то время был в сенате. Старая Коряга был первым конгрессменом от штата, и первый, кого он посетил, когда приехал в Филадельфию, был сенатор Бэрр.
Правда это? Не знаю. Но я все записываю.
Я спросил, каковы были намерения полковника в Мексике, но выжал из Свортвута только одно:
— Меня арестовали. Ты знал? В цепях таскали несколько месяцев. Масса Том хотел доказать, что все мы предатели. Но если кто предатель, это он сам, а не мы. — Воспоминания Свортвута стали несколько сбивчивы. В конце концов я спросил, нельзя ли встретиться с ним утром, и он сказал, что будет в восторге. Он готов всячески служить полковнику.
Уходя, я спросил:
— А что же такого «презрительного» сказал Гамильтон про полковника Бэрра? Из-за чего они дрались на дуэли?
Свортвут долго смотрел на меня покрасневшими глазами.
— А ты не знаешь?
— Нет. Полковник не говорит.
— Он и не скажет. Мерзкая история. И Гамильтон рассказывал ее направо и налево.
— Что же говорил о полковнике Гамильтон?
— Да просто говорил, будто Аарон Бэрр находился в интимной связи с собственной дочерью Теодосией.
Лишь на полпути к дому я стал думать: а не может так быть, что Гамильтон все-таки сказал правду?
«Он никого другого и не любил!» Пронзительный голос мадам звенел у меня в ушах.
ГЛАВА ТРИДЦАТЬ ПЕРВАЯ
Вчера во второй половине дня за нами с мистером Крафтом пришли от мисс Макманус. «Я очень волнуюсь, — писала она. — У полковника случился удар, он не может двигаться».
Мы отправились на пароме в Джерси-Сити. День был пасмурный и ветреный, не по сезону.
— Организм у него сильный, — заметил мистер Крафт.
— Но ему семьдесят восемь, — сказал я.
Я смотрел на чаек. Мистер Крафт смотрел на группу ирландских рабочих. Хотя не было еще и восьми утра, они передавали из рук в руки бутылки виски. Хотел бы я относиться к ним так же снисходительно, как полковник.
Однажды мы стояли у здания суда с группой адвокатов, споривших по конституционному вопросу. Наконец один обратился за разъяснением к полковнику Бэрру, который не сводил глаз с ирландских рабочих на соседней стройке. Полковник высказал свое мнение.
Адвокат с ним не согласился:
— Нынче, сэр, конституцию толкуют иначе.
— Мой дорогой сэр, — и полковник указал на ирландцев, — вот кто нынче толкует конституцию.
Одна из них, Джейн Макманус, открыла дверь деревянного домика недалеко от пристани в Джерси-Сити. Пухлая, по лицу размазаны слезы.
— О джентльмены, я думала, он уже умер, правда; принесла ему чай, а он лежит на полу, глаза открыты, а сам не дышит. Послала за доктором, а его нигде не найти. Когда нужно, их никогда нет. Потом к вечеру полковник открывает глаза — уже на софе, мы перенесли его туда с нашей горничной, — а он вдруг открывает глаза и говорит: «Я умер?» — а я говорю: «Нет, полковник, вы живы и находитесь у меня, в Джерси», а он: «Мои родные берега» или что-то такое в этом роде и все улыбается, и потом говорит, что не может двинуться… не может двинуться.
Она снова заплакала, но мистер Крафт бросил на нее строгий взгляд, и она стихла. Я посмотрел на портрет — о да — Джорджа Вашингтона с матерью. Неужели полковник купил его, чтобы вспоминать разговор с Гамильтоном? Чтоб смотреть и освежать свою память?
Поплакав, Джейн Макманус проводила нас в гостиную, где на матрасе из конского волоса лежал полковник, до подбородка укрытый одеялом. Он, очевидно, замерз, несмотря на жар от франклиновской печи. На столе подле него стояло чучело птицы под грязным стеклянным колпаком. Не пересмешник ли? Я становлюсь подозрительным.
— Джентльмены. — Голос слабый. — Похоже, я парализован ниже пояса.
— Но в добром здравии, полковник, — забасил мистер Крафт.
Бэрра перекосило. От боли? Или от идиотизма мистера Крафта?
— Да, мистер Крафт, я в прекрасной форме, только вот двинуться не могу.
— Но, полковник, это пройдет, пройдет! Помните, прошлый раз?
— Ну, теперь не то… — сказала мисс Макманус. — Доктор говорит, у него настоящий удар. Это не наш доктор, а из города, я его случайно встретила у аптекаря.
— Удивительное везение, — пробормотал полковник. — Этот знахарь сказал, что в моем возрасте и с моей историей болезни даже легкая головная боль должна отправить меня в лучший мир.
— Как это случилось? — Я впервые открыл рот. Полковник развеселился.
— Неугомонный биограф! Ну, Чарли, да никак. Я читал. У меня заболела голова. Не сильно. Вдруг все закружилось. Я встал — наверное, в последний раз…
— Полковник, не говорите так! — закричала Джейн Макманус.
— И очень мило рухнул. Как приятно, думал я, когда мне навстречу медленно поднимался ковер, принимая меня в персидское лоно. Гасну, как лампа, думал я. И не погас. Вот снова зажгли, только фитиль прикрутили.
— Что делать? — Мисс Макманус взывала к нам, будто полковника тут и не было.
— Я сообщу миссис Бэрр… — начал мистер Крафт.
— Ни за что. — Старческий голос был тверд. — Наоборот, найдите мне квартиру в Нью-Йорке. Около конторы. Я хочу еще поскрипеть.
— Да, полковник. У нас очень много работы. — Я хотел его подбодрить.
— Знаю. Вот я и хочу, чтобы меня перевезли на ту сторону не позже воскресенья.
— О нет! — простонала мисс Макманус.
Но «О да!» полковника все решило. Нам было поручено найти ему комнаты в пансионате. И предстоящие судебные дела будут готовиться так, будто ничего не произошло.
— Только не говорите, что у меня был удар. Говорите просто, что старая рана приковала меня к креслу.
Последние несколько дней мы только так всем и рассказываем. Но Леггет знает правду и сегодня вечером просил меня поторопиться и выведать все, что удастся, по поводу Ван Бюрена. Леггет поразительно хладнокровен. А сам ведь тоже умирает.
ГЛАВА ТРИДЦАТЬ ВТОРАЯ
Сегодня полковник первый день в Нью-Йорке. Жилья мы еще не нашли, и пока он остановился на Рид-стрит. Мистер Крафт нашел немку, фрау Вич, она за ним ухаживает, ей поставили кровать в комнате рядом с Комнатой полковника, и он очень строго на нее смотрит. Он бы предпочел, чтоб за ним ухаживал мужчина, ведь после удара он не может сам оправляться. Но мистеру Крафту удалось пока его уломать.
До полудня полковник принимал клиентов, и мы было подумали, что они клюнули на нашу басню о старой военной ране. Но как раз в тот момент, когда фрау Вич кормила полковника густым овощным супом, в дверях выросла длинная тощая фигура. Одетый во все черное, с черной книгой в руках, посетитель направил на Бэрра костлявый палец и возгласил:
— Покайся! Покайся! Грешник из грешников! Убийца и предатель! Покайся, ибо Судный день близок!
И юродивый поп услышал в ответ доброе и светское:
— Очень любезно с вашей стороны проявлять обо мне заботу, преподобный отец…
— На колени, грешник! Молись! Молись со мной, чтобы бог спас твою грешную душу!
— Я ежедневно об этом молюсь!
— На колени, грешник!
— Увы, это невозможно. — Полковник повернулся ко мне. — Боюсь, Чарли, преподобный забыл, где тут дверь.
После этих слов мы с фрау Вич схватили маньяка и вытолкнули из кабинета. Он сопротивлялся так, словно его вдохновлял сам господь бог, правда мормонского толка: сдавалось, что преподобному не впервой достается от грешников.
Полковник Бэрр вздохнул.
— Все как в прошлую мою болезнь. Каждый городской проповедник хочет чести… нет, славы, высшей славы помочь мне выбраться из долины слез на небо — или куда похуже. По-видимому, их гонорар не зависит от исхода моего дела.
Откушав супу, полковник отсылает фрау Вич с благодарственным напутствием — по-голландски. Она отвечает по-немецки и оставляет нас в покое.
Полковник в философском настроении.
— Я с легким сердцем смотрю в лицо смерти. Думаю, предстану перед богом со спокойной душой. Но избавьте меня от его земных агентов! — Бэрра передергивает; он делает мне знак, чтоб я поудобней положил ему ноги на софе; он полулежит, опершись на подушки. Выше пояса полковник в полном, даже торжественном одеянии, зато ниже — только длинная рубаха, да одеяла укутывают не мощные ноги.
Воспоминания Аарона Бэрра — XVI
После смерти Гамильтона я оставался в Ричмонд-хилле десять дней. Признаюсь, я не ожидал отклика, который вызвала наша дуэль. Казалось, никто не дрался на дуэли за всю историю Соединенных Штатов, пока Аарон Бэрр не изобрел этой дьявольской игры, чтобы злодейски убить величайшего из всех американцев (после Джорджа Вашингтона, конечно). Буквально на следующий день высокомерный, заносчивый Гамильтон превратился чуть ли не в Иисуса Христа, а я в Иуду — нет, в Каифу, злодейски отправившего божество к отцу небесному (опять-таки к Джорджу Вашингтону), а Вихок стал Голгофой новоявленного Иерусалима. Признаюсь, я по сей день испытываю глубокое отвращение к неслыханному лицемерию соотечественников. Девяносто процентов наших газет были республиканскими и добрых два десятилетия поносили Александра Гамильтона. С некоторым удивлением я прочитал на их страницах о мученичестве святого Гамильтона, которое он принял от моей злодейской руки. Признаюсь, в те дни, сразу после смерти Гамильтона, мне расхотелось жить с таким народом.
Я получил ободряющие послания от джентльменов, которых не мог считать друзьями. Один — Джордж Клинтон — передал мне устное послание через Мэтта Дэвиса: «Вы абсолютно ни в чем не виноваты, ибо никто не заставлял ублюдка Гамильтона с вами драться».
Такова была неофициальная точка зрения всех джентльменов в стране. А как же иначе? От Де Уитта Клинтона до Эндрю Джексона, от Генри Клея до Джона Рэндольфа чуть не все наши лидеры замешаны в подобных делах чести. Но ни один джентльмен не стал меня защищать публично. Гамильтон об этом позаботился, хитроумно написав ряд писем потомкам (им, верно, можно писать что вздумается: ab mortuis nihil veritas[83]). Общество так пылало гневом, что большое жюри предъявило мне обвинение в убийстве — в штате Нью-Джерси!
Двадцать первого июля я уехал из Ричмонд-хилла. Пока грузили сундуки, я распрощался с «маленькой шайкой». Мы изо всех сил старались не вешать носа, хотя знали, что по соседству, в Гринич-вилледже, меня поджидает толпа с веревкой наготове.
Вдруг мы все вздрогнули от громкого крика. Черная женщина вышла из-за хижины у самой воды (где Марта Вашингтон держала лед). Это была старая Мэри, неотъемлемая принадлежность Ричмонд-хилла.
— Вы не вернетесь, полковник! Никогда! — Старая Мэри плакала и целовала мне руку, как целовала руки у прежних хозяев — Вашингтона и Адамса. Она ошиблась. Я вернулся в Ричмонд-хилл в прошлом году. За пятьдесят центов сидел на галерке, смотрел посредственную трагедию. Впрочем, старая Мэри не совсем ошиблась. Я не вернулся ни в ее Ричмонд-хилл, ни в свой. От него ничего не осталось, только стены. Ручей, ферма, парк, тенистые аллеи у реки — все застроено по вкусу Джона Джекоба Астора.
Но ни о чем подобном я и не помышлял, отправляясь около десяти вечера в сторону Статен-Айленда. Помню лишь прекрасную летнюю ночь. Огромные звезды на чертом небе. Тихое, медленное журчание Гудзона. Несмотря на опасность, я успокоился, словно дух, отлетевший от надоевшего тела; изображение отделилось от разбитого зеркала: Гамильтон умер, я — остался в живых.
На другой день я заехал к другу в Перт-Амбой, а затем двинулся в Филадельфию, где меня прекрасно приняли, несмотря на неистовство газет.
Я остановился в доме у друга — Чарльза Бидла, и мы по-холостяцки (его семья уехала на лето из города) коротали время.
Вскоре к нам присоединился муж Энн, кузины Чарльза Бидла, блистательный командующий армией Соединенных Штатов бригадный генерал Джейми Уилкинсон. Да, мы были дружны по Кембриджу и Вэлли-Фордж, а недавно и по Нью-Йорку, куда Джейми приезжал в мае, соблазнять меня славой на Западе, раз моя карьера в восточной политике явно окончена. С ним я снова стал бы тем, кем был до роковой схватки с Джефферсоном и виргинской хунтой.
Однажды вечером мы с Уилкинсоном сидели в уютной библиотеке в доме Бидла (наш хозяин деликатно удалился), и под жужжание знаменитых филадельфийских мух, то и дело сжигающих себя в ярком пламени ламп, Джейми обрисовал мне положение на Западе.
— Наши ненавидят испанцев. Хотят выжить их из Мобиля, из обеих Флорид, из Мексики. Масса Том им тоже осточертел. Осточертели политики восточного побережья. Осточертело кланяться донам. Им нужен только вождь. Бэрр, им нужны вы.
Джейми потягивал портвейн. Я не узнавал юного генерала прежних дней. Во-первых, он облачился в форму собственного изобретения и из наполеоновского маршала превратился в потрепанного иезуитского монаха. Во-вторых, коренастый юноша времен Революции стал полным, дряблым господином с отвислыми щеками и неморгающими свирепыми глазками свиноматки, готовой вот-вот пожрать собственных поросят. Когда-то чистый голос охрип от алкоголя. Но жизнерадостность осталась. Джейми ловко льстил другим и умел похвалить себя. Для политического деятеля это божий дар. Он прекрасно им пользовался. Правда, ему ничего другого не оставалось. После Революции его армейская карьера закончилась сумбурно и прискорбно (финансовые отчеты генерал-интенданта американской армии так и не сошлись). Уже гражданским лицом отправился он на Запад, чтобы заработать денег в богатом испанском порту Новый Орлеан.
Примерно в 1789 году Уилкинсон тайно присягнул на верность Испании в присутствии своего друга Миро — испанского губернатора Луизианы. Так обычно и поступали американцы, чтобы торговать в Луизиане, не платя высоких налогов. Но Джейми не мог поступить как все. Охотник до интриг (и денег), он предложил Испании поддержать его план — отделить западные штаты и либо присоединить их к Луизиане под эгидой испанской короны, либо оставить их самостоятельными. Безумный план (позже известный как «испанский заговор») поддержали на Западе, и Джейми стал именовать себя — несколько преждевременно — «западным Вашингтоном».
Не могу понять, как это Джейми ухитрялся всем, даже мне, внушать доверие. Ведь он был явный негодяй. Вечно он всем нашептывал «секреты». Вечно хотел кого-то низвергнуть — начиная от Джорджа Вашингтона в Вэлли-Фордж до губернатора Клерборна в Новом Орлеане. Увы, он не делал исключения и для некоего Аарона Бэрра. Но пока что ему удавалось дурачить нас всех.
— Я боролся за независимость западных штатов почти двадцать лет. — Что правда, то правда. Но в тот вечер в Филадельфии я не знал, кому и чему он так преданно служит. — Я знаю каждый уголок в Кентукки, Теннесси, Индиане, Миссисипи, Луизиане. Я знаю руководителей. — Хотя Чарльз Бидл вряд ли подслушивал нас за лакированной восточной ширмой, Джейми понизил голос. — Я вернулся в армию в тысяча семьсот девяносто первом году продолжать мое дело. Наше дело, Бэрр. Одно ваше слово — и завтра утром все до единого на Западе встанут под наши знамена!
Я удивился. Я считал, что «испанский заговор» — дело гиблое с тех пор, как благодаря покупке Луизианы к Западу присоединился Новый Орлеан. И хоть жители границы не любили своих восточных соотечественников, они жаждали войны с Испанией, а не отделения от Атлантического побережья.
— У меня хорошие отношения с донами. — Еще бы. Мне три года понадобилось, чтобы распутать его интриги. Я смотрел завороженно, как вино исчезает в его утробе. — С донами… — повторил он, заморгал, на мгновение потерял нить.
Джейми рыгнул. Вздохнул. Начал плакаться.
— Вы знаете, что семье Уилкинсонов принадлежала большая часть той земли, на которой стоит сейчас город Вашингтон? А мой отец продал эту землю за бесценок! О господи, Бэрр, сколько б можно было за нее выручить! — Он стукнул себя по огромному животу так злобно, словно наказывал незадачливого покойного родителя.
Я слышал эту историю много раз и повернул разговор.
— У меня такое впечатление, — я нащупывал почву, — что западные штаты сейчас вполне довольны правительством. В конце концов, у них ведь есть Новый Орлеан. Вся Миссисипи, за исключением Батон-Ружа, принадлежит теперь Америке.
— Но доны до сих пор в Мобиле. Мы до сих пор лишены Флорид. А они ведь наши, наши по всей справедливости! — Уилкинсон вдруг заговорил как Джефферсон.
— Что думает народ в Новом Орлеане?
— Жаждет крови, Бэрр, жаждет крови! Джефферсона ненавидят. Янки ненавидят. Вы — и я — мы можем освободить город, нам хватит тысячи — нет, пятисот солдат.
Я забавлялся.
— Зачем нам столько солдат, когда защитник Нового Орлеана — командующий американской армией — вы!
Уилкинсон засмеялся — ей-богу, так булькает бульон на франклиновской печке (прости мне, Чарли, такое прозаическое сравнение).
— Теперь вы понимаете, почему я вернулся в армию пять лет назад. Что ни говори, я сумел стать командующим. — Это вовсе не такой уж важный пост, как кажется. Джефферсон с радостью свел бы армию на нет, и трудно было найти уважающего себя военного, который принял бы на себя командование смехотворной военной «мощью» Соединенных Штатов.
— Да, интересно. — До этого вечера в Филадельфии Джейми лишь намеками говорил о своих намерениях. Мы переписывались с 1794 года (по его настоянию — шифром). Но наша переписка не представляла особого интереса. Я обрисовывал ему политическую ситуацию в Вашингтоне, а он рассказывал мне о настроениях на Западе, где моя популярность росла из года в год. Жители западных штатов по достоинству оценили роль, которую я играл в принятии Теннесси в Союз, мою вражду с Гамильтоном. На расстоянии все выглядит привлекательнее. К лету 1804 года я сделался самым популярным — после Джефферсона — американцем к западу от Аллеганских гор.
— В тысяча семьсот девяносто девятом году, когда казалось, что может начаться война с Францией, я сказал генералу Гамильтону… — Джейми замолк; подбородок упал на ворот мундира, глаза выкатились, как у жабы в силке. Он решил, что допустил бестактность.
— Это имя меня не огорчает, — утешил я его.
— Вот не думал, что вы так метко стреляете! — И Джейми хихикнул. Приятный собеседник, он при всем своем грубом вкусе был не лишен чувства юмора и находил смешное во всем, только не в самом себе. Я — наоборот.
Джейми рассказал, как он якобы вынудил Гамильтона назначить его командующим на территории Миссисипи.
— Я вел себя с ним так же откровенно, как с вами. — Такое заявление всегда смахивает на ложь. — Я сказал: «Генерал Гамильтон, война с Францией неизбежна. Франция добралась до Испании, и все испанские территории, вроде Луизианы и обеих Флорид и Мексики, могут достаться нам за понюшку табаку». Ну, а он смотрит на меня эдаким снисходительным взглядом и говорит: «Мой дорогой Уилкинсон, никогда не рассказывайте старшему офицеру то, что ему уже известно». А я ведь еще много чего мог бы ему порассказать. Но я человек вежливый, скромный, я и не стал ничего говорить, вот он и сказал мне, что его идея — и генерал Вашингтон, мол, с ней согласился — заключить союз с Англией, использовать ее флот и нашу армию, атаковать Новый Орлеан, Гавану, Веракрус, а затем пройтись и дальше по континенту.
Мне стало не по себе от рассуждений Джейми. Я услыхал в них мечты Гамильтона. И все же я не верил, что Гамильтон посмел сослаться на Вашингтона.
— Так или иначе, как только Гамильтон узнал, что мне тоже не терпится взяться за донов, я и получил территорию Миссисипи.
Я был в сенате, когда Джейми вернулся в армию бригадным генералом; помнится, мы говорили о нем с новоиспеченным генерал-майором Гамильтоном. Гамильтон тогда сказал: «Уилкинсон, должно быть, хороший офицер. Но вы его знаете лучше меня. Ведь он ваш друг, не правда ли?»
Гамильтон тогда неловко чувствовал себя со мной. Оно и понятно: из-за него меня не произвели в бригадные генералы. Вряд ли Гамильтон знал, что Уилкинсон — испанский подданный, но он прекрасно знал про его связь с «испанским заговором», ведь Макгенри, военный министр, говорил ему без обиняков, что Уилкинсон прочно связан с донами и ему ни в коем случае нельзя доверять командование войсками вблизи границы.
— Но Гамильтон наседал, — Макгенри скорчил гримасу, когда все это мне рассказывал, — а желания Гамильтона — это ведь желания генерала Вашингтона, и что я мог поделать?
Почему Гамильтон настаивал на выдвижении Уилкинсона? Причина одна — Гамильтон хотел иметь под боком кого-то, кто тоже страстно желал завоевания Мексики, и он заключил, что новое увлечение Уилкинсона пересилит старые обязательства перед Испанией. Глупейшее, если не порочное, умозаключение. Ну, а я был столь же глуп, сколь и порочен.
— Вы, да я, да еще тысяча солдат — мы возьмем Мексику в три недели. — Круглые, невинные, косящие глаза застыли на мне, словно я единственный якорь спасенья в зыбком мире.
— Но нужна поддержка с моря. — Сам я еще не решил ничего о своем будущем, но, как и Гамильтон, придавал Мексике большое значение, подробно изучил оборонительные сооружения вице-короля и прекрасно знал, что без поддержки хоть одной морской эскадры и захвата порта Веракрус попытка вторжения с суши обречена на провал.
— Все устроится! — Джейми рассчитывал подхлестнуть меня своим азартом. Его интересовала и точка зрения президента. Я сказал, что Джефферсон придет в восторг, если Мексику удастся отторгнуть от Испании. — Но вряд ли он обрадуется, если это сделаю я.
Мне бы поостеречься Джейми. Но я просто не принимал его всерьез. Да и не я один. Потому-то он и сумел обмануть Вашингтона, Гамильтона, меня и еще множество влиятельных испанцев и американцев, как военных, так и гражданских.
На другое утро, мучаясь страшной головной болью, командующий отбыл, предложив мне встретиться с неким мистером Уильямсоном; им оказался полковник Чарльз Уильямсон, мой старый знакомый со времен Революции.
— Вы убедитесь в его благонадежности. И у него связи в Англии. К нему прислушивается премьер-министр Питт. Премьер-министр готов сделать все, что он скажет.
— А что он скажет?
Джейми взглянул на меня сквозь пар от черного французского кофе.
— У него есть план завоевания Мексики…
— У кого его нет?
— Но ему — нам — необходим вождь. Нам нужен Аарон Бэрр. Слово за вами… — Долгая, глубокая отрыжка — в честь вчерашнего портвейна Чарльза Бидла. — Вчера вечером вы говорили о поддержке с моря у Веракруса. — Сколько бы Джейми ни выпил, он не забывал слов собеседника, но, как подобает истинному конспиратору, помнил и каждое свое слово. — Так вот, Англия предоставит флот.
Я колебался. Джейми и слушать не хотел никаких возражений.
— Все дело в вас, Бэрр. Повидайтесь с Уильямсоном! Он ждет вас в гостинице «Эллер». А пока прощайте, мой командир, мой повелитель! — Я боялся, что он вот-вот поцелует мне руку или поцелует в обе щеки на испанский манер. Но Джейми просто откозырял мне, и надо сказать, у генерал-командующего это вышло так же неуклюже, как когда-то в Кембридже у неотесанного увальня.
В тот же день я отправился в гостиницу «Эллер». Мне не хотелось появляться на людях, ибо на меня глазели с напряженным интересом. К счастью, без открытой враждебности. Меня защищало не столько мое положение второго должностного лица в республике, сколько нелепая (и непреходящая) слава меткого стрелка. Никто не решался меня оскорбить.
Я чувствовал себя словно в невидимой броне, входя с солнечной улицы в прохладный полумрак гостиницы, где меня смущенно приветствовали друзья, и среди них полковник Уильямсон. Он отдал мне честь.
— Вы нужны нам, сэр, вы нужны нам.
Он отвел меня в темный угол гостиной на первом этаже и целый час показывал мне карты; шептал о войсках, кораблях, провианте. Наконец:
— Я сейчас еду в Англию. Премьер-министру нужен план. У меня он есть. Ему нужен генерал. Можно ли сказать ему, что я нашел подходящего человека?
Я колебался.
— Вы знаете, как меня интересует Мексика. Думаю, я не ошибусь, если скажу, что и президент тоже хотел бы видеть Мексику свободной…
— Мы об этом слышали! — Я произвел на Уильямсона должное впечатление.
— Но без войны между Испанией и Соединенными Штатами не обойтись.
— На границе неспокойно.
— Там всегда неспокойно. Нужна война.
— Войну можно начать. Генерал Уилкинсон… — Ему не пришлось ставить точки над i. Мы оба понимали, что Уилкинсон в любой момент может устроить пограничный инцидент.
Я спросил:
— Чего ожидать от Англии?
— Мы можем на нее рассчитывать. Питт за нас.
К нам подошли доброжелатели. Я поднялся, и мы пожали друг другу руки. Когда они ушли, Уильямсон сказал:
— Я в восторге, полковник.
— Мне все это просто интересно, не более.
— Конечно, вам нужны гарантии. Прекрасно. В этой гостинице, наверху, вас ждет очень важная особа. — Уильямсон предложил мне подняться на второй этаж, к угловой комнате, и дважды постучать в дверь. Так я и сделал.
— Войдите. — Отрывистый голос. Я открыл дверь и увидел посреди комнаты посланника его британского величества в Соединенных Штатах Антони Мерри. Он нервничал.
— Вице-президент, как любезно с вашей стороны. — Мерри склонил голову. Я ответил тем же. Мы соблюдали этикет, насколько это было возможно в гостиничном номере, где еще не застлана кровать после прежнего постояльца, а плевательница до краев полна табачной жвачкой. Сесть было не на что, и нам пришлось стоять.
Мы заговорили о нашей последней встрече в Вашингтоне, в доме президента.
— Я рад, что нахожусь в Филадельфии. Мы с женой чудесно проводим здесь лето. Город как город. Не то что ваша столица, которая напоминает, если позволите, польскую деревню.
Супруги Мерри поселились в Вашингтоне менее года назад, и жизнь их там сложилась неудачно, ибо Джефферсон умудрился оскорбить их на первом же президентском обеде. Демократичный Джефферсон решил в тот год отказаться от протокола. За стол садились не по рангу, а как попало. Оттесненные гостями, вознамерившимися сесть поближе к «солнцу демократии», супруги Мерри сочли, что Англии нанесено смертельное оскорбление, и миссис Мерри никогда больше не приезжала во дворец, к удовольствию Джефферсона, называвшего ее не иначе как «вздорной ведьмой». Лично я находил ее очаровательной: крупная, яркая, как бывают англичанки, остроумная; Джефферсон не выносил таких женщин. Я справился о здоровье миссис Мерри.
— Бедняжке очень нехорошо. Совсем слегла. Когда соберется конгресс, мне придется вернуться без нее.
— Нам будет не хватать ее в столице.
Мерри ухватился за эти слова.
— Значит, вы намереваетесь вернуться?
— Я должен осенью председательствовать в сенате.
— Понимаю. — Мерри был самым недипломатичным дипломатом. Он посмотрел на меня с таким удивлением, что мне пришлось объяснить.
— В Вашингтоне меня не обвиняют в убийстве, только в штате Нью-Йорк.
— Понимаю. — Ему явно стало не по себе.
— Обвинение против меня в Нью-Йорке, разумеется, незаконно, ибо роковая стычка произошла в Нью-Джерси.
— Понимаю.
— Меня, конечно, могли обвинить в убийстве в Нью-Джерси, но там пока что все спокойно. — На самом деле как раз в это время против меня возбудили дело об убийстве в округе Берген, а штат Нью-Йорк, задним числом справившись с законам, заменил обвинение в убийстве обвинением в ином правонарушении, а именно в вызове на дуэль.
Мерри осторожно заговорил о сенаторе Пикеринге. Нет ли от него вестей? Я тоже осторожно дал понять, что не надеюсь на успех плана федералистов отделить Новую Англию от Союза.
— Для успеха нужна поддержка большинства в Новой Англии, а ее у наших друзей нет. И еще для успеха необходим Нью-Йорк.
Мерри кивнул.
— Ваше поражение, вице-президент, — серьезный удар. Без Нью-Йорка… — Он умолк. Он мог и не продолжать. Все знали, что британский посланник поощрял федералистов и вообще всех, кто стремился расколоть Союз. Из-за этой-то политики, возможно диктуемой личными причинами (по многим данным, английское правительство не разделяло неприязни Мерри к Джефферсону), Его превосходительство и я стояли друг против друга подле неубранной постели в гостинице «Эллер». Я с отвращением заметил, что не вылит vase de nuit.
— Вы знакомы с планом полковника Уильямсона? — Мерри приложил к носу кружевной платок, пропитанный одеколоном, и втянул в себя воздух с таким удовольствием, словно нюхал табак.
— Думаю, его план отражает желание американцев расширить нашу империю к западу и к югу.
— Вице-президент, а вы желали бы осуществить такое завоевание?
— Освобождение, посланник! Освобождение многострадального народа от испанского владычества.
— Именно. Освобождение. Именно.
Я предпринял обходный маневр.
— В марте будущего года я слагаю полномочия вице-президента. У меня много планов, и все связаны с Западом. Конечно, мне по душе любой дельный план освобождения Мексики. Полагаю, мои друзья в Кентукки и Теннесси сплотятся вокруг меня. Они ненавидят донов. Они клянутся мне в преданности. Полагаю, я смогу собрать значительную армию и смогу ее финансировать. — Смелое заявление. Он знал о моих долгах, но я надеялся достать денег на такую экспедицию, ибо Мексика — Эльдорадо для каждого американца, она магнитом притягивает наших азартных игроков.
— Да, мне уже говорили. Вам стоит только захотеть.
— К сожалению, такая экспедиция потребует поддержки с моря, а тут уж не хватит моих средств.
— Понимаю.
— Итак, если Англия поможет нам с моря, я обещаю вам Мексику, свободную от Испании и от Соединенных Штатов. — Он отнял платок от лица, которое сразу поглупело от напряженных математических подсчетов. — Мексику, неразрывно связанную с Англией. — Я объявил ставку.
— Я все доложу правительству его величества. Я знаю, премьер-министр заинтересован в проекте.
— Вы, без сомнения, тоже.
— Я? — Он непонимающе смотрел на меня. — О да, конечно. Я отражаю мнение правительства его величества.
— Нет, посланник. Я имею в виду, что и вам, быть может, хочется помочь — издалека, разумеется, — освобождению Мексики. Награда — если такие вещи вас занимают — будет немалая. — (Нельзя пренебрегать человеческим корыстолюбием.)
— Я могу помочь только очень уж издалека. — Мерри пробормотал что-то относительно долга перед сувереном, но зерно, как говорится, упало на благодатную почву.
За стеной горланили уроженцы Запада. Мерри передернуло, он не отличался демократизмом. «Видеть не могу, как одевается ваш президент, — говаривал он с отвращением. — Стоптанные шлепанцы!»
— Вы очень популярны на Западе, полковник. — Мерри прочистил горло.
— Я всегда служил там народу.
Тут Мерри объявил свою ставку. Он произнес явно заготовленную фразу.
— Насколько я понял со слов полковника Уильямсона, вы хотели бы возглавить западные штаты, если они расторгнут союз с Соединенными Штатами.
Я подивился смелости Мерри и самонадеянности Уильямсона. С ними, оказывается, надо держать ухо востро.
— Сэр, — сказал я, — я не просил полковника Уильямсона и никого другого говорить за меня.
— Прошу извинить меня, сэр. Я думал…
— Но не секрет, я считаю, что западные штаты еще образуют собственное государство на Миссисипи.
— Вам этого хочется?
— Я отмечаю только, что, согласно конституции, они имеют на это право. Моя точка зрения совпадает с точкой зрения мистера Джефферсона.
Мерри чихнул в платок. Высморкался. Разволновался. Казалось бы, чем не превосходная тема для доклада министерству иностранных дел? Однако же он сказал:
— Но президент не хочет отделения.
— Он утверждает, что ему это безразлично. В его глазах все мы — американцы, восточные мы, или западные, или какие угодно.
— Понимаю. Понимаю.
Я вернулся к своему предложению. Я говорил без обиняков.
— Если ваше правительство поможет мне с моря освободить Мексику, действия на суше я беру на себя.
Он тотчас ответил:
— Разумеется, я буду советовать правительству его величества вас поддержать. Что же до западных штатов…
— Ну, кто знает, кому они присягнут в верности, когда я уже буду в Мехико?
Я был осторожен, ни в коем случае не желая ввязываться в раскол Союза. Меня интересовали, во-первых, Мексика, во-вторых, Техас, в-третьих, обе Флориды. Я никогда не собирался делаться королем Кентукки. Тем не менее Джефферсон счел, что именно тогда я замыслил измену.
— Вы должны отобедать у нас до вашего отъезда.
— Но ведь миссис Мерри больна.
— Только в Вашингтоне, где она страдает от острого «джефферсонита». Филадельфия благотворно исцеляет ее недуг.
— С удовольствием у вас отобедаю. — Я говорил искренне. Мне нравилось пренебрежение миссис Мерри к нашей империи. Кстати, в связи с гордым заявлением Джефферсона, что с прибавлением территории Луизиана Соединенные Штаты стали второй державой в мире, она мне сказала: «Ваш президент сошел с ума! Африка намного больше, а народ ее намного черней даже виргинцев, зато в Лондоне гораздо больше белых, чем во всей „империи“ мистера Джефферсона. Запомните мои слова: вы, несчастные, еще будете умолять, чтобы мы взяли вас обратно, но мы никогда уже этого не сделаем!»
Вскоре после нашей встречи в гостинице «Эллер» полковник Уильямсон уехал в Англию, чтобы сообщить премьер-министру Питту, что я согласен возглавить поход в Мексику. Между тем Чарльз Бидл устроил обед в мою честь. Позвали и моего старого друга, испанского посланника дона Карлоса Ирухо. Его любили, особенно благодаря жене, дочери Маккина — губернатора Пенсильвании.
До покупки Луизианы дон Карлос был близок с Джефферсоном. Теперь отношения испортились. Дон Карлос считал, что Франция не имела права продавать Луизиану, испанскую территорию. Он заявил протест государственному секретарю Мэдисону, и тот отрезал: «Франция получила Луизиану от своего союзника — Испании. Франция имеет право делать что вздумается со своей собственностью». То есть Бонапарт — хозяин Испании. Затем Джефферсон подписал принятый конгрессом законопроект, в котором утверждалось, что Западная Флорида якобы оговорена в купчей на Луизиану, хотя это, конечно, не соответствовало действительности. Дон Карлос, понятно, пришел в ярость. Он был вспыльчив, по-английски говорил без акцента и любезно всех угощал превосходными сигарами.
— Нравится Вашему превосходительству в Филадельфии? — И дон Карлос поднес спичку к сигаре, которой только что меня угостил.
Я блаженно затянулся. Сказал, что всегда рад повидать филадельфийских друзей, старых и новых.
— Я вот тут даже разговаривал с вашим коллегой мистером Мерри. — Я знал, что рано или поздно дон Карлос узнает о нашей встрече. — Мы обсуждали протокольную войну в президентском дворце.
— Ужасно! — Дон Карлос на самом деле расстроился — или сделал огорченный вид. — Перед обедом президент стоял между моей женой и миссис Мерри. А когда пригласили к столу, оставил обеих дипломатических жен и подал руку миссис Галлатэн. Чем оскорбил Англию, Испанию и нас с мистером Мерри!
Я удивился, что дон Карлос отнесся к этому столь же серьезно, как и мистер Мерри, хотя от мистера Мерри я не ждал ничего другого.
— Боюсь, наш президент действительно верит, что все белые созданы равными.
— Merde! — выругался испанский посланник в Соединенных Штатах. Затем у нас состоялся приятный разговор, и я сказал ему, что считаю притязания мистера Джефферсона на Западную Флориду обоснованными. Я выразил мнение, что побывать там этим летом было бы для меня небесполезно.
— Я дам вам паспорт, когда захотите. — Дон Карлос весьма любезно улыбнулся. Как бы ни занимало его мое будущее, он ограничился вопросом, будет ли он иметь честь меня видеть, когда на пустыре соберется следующая сессия конгресса. Я сказал, что он увидит меня в Вашингтоне и я счастлив буду рассказать ему, что думаю о положении в обеих Флоридах.
— Генерал Уилкинсон говорит, что вы добрый друг Испании. — Может быть, дон Карлос что-нибудь заподозрил? Вряд ли.
— Нельзя остаться равнодушным к Испании, особенно сейчас, когда она страдает по вине Бонапарта. — Я счел уместным подобное выражение участия, ему оно явно понравилось, и он со своей стороны тоже решил оказать мне любезность:
— Губернатор Нью-Джерси просил моего тестя, губернатора Пенсильвании, подвергнуть вас экстрадиции за убийство.
— Когда просил?
— Депеша пришла сегодня утром. Давайте-ка лучше я завтра же утром выдам вам паспорт.
— Вы очень любезны.
— Мой тесть — ваш почитатель, полковник. Как и все мы. — Вежливый поклон. Я понял, что надо как можно скорее бежать из Филадельфии.
ГЛАВА ТРИДЦАТЬ ТРЕТЬЯ
Несколько дней у меня ушло на то, чтобы выудить последнюю часть мемуаров. Полковник повторялся, терял нить. А сегодня утром он опять стал самим собой и заставил меня снова пройтись с ним по тексту, внести изменения, кое-что добавить, отшлифовать.
— Это ведь важнейшие доказательства. Одно неверное слово, и меня снова обвинят в государственной измене.
— Чем, — спросил я, — отличается версия мистера Джефферсона от вашей?
— По его версии, я предложил Мерри свои услуги как английский агент, готовый на раскол Союза. — Полковник покачал головой. — Знаешь, люди слышат в твоих словах только то, что хотят услышать. Бедный Мерри так хотел, чтобы я согласился на его план раскола Союза, что в конце концов решил, что я и на самом деле согласился. Но мне от него было нужно только одно — английскую флотилию в Веракрус и сто тысяч фунтов.
Сегодня к нам явилась гостья.
— Миссис Киз, — возвестил мистер Крафт таким тоном, будто открещивался от предстоящего совращения сей особы.
— Я не знаю никакой миссис Киз. — Полковник курил сигару. — К тому же не уверен, что правила приличия позволяют принимать леди в такой поздний час и в дезабилье. Тем не менее приготовьте ее к худшему, мистер Крафт. Чарли, будь начеку! Вдруг ее подослала мадам, чтоб скомпрометировать меня самым подлым образом. — Он явно развлекался. Еще больше он развеселился, когда явилась названная леди с большой корзиной.
— Миссис Овертон! — Полковник ликовал. — Овертон, мистер Крафт, не Киз.
— Именно Киз, полковник! — сказала миловидная пожилая дама лет пятидесяти с румяными от природы щеками и шотландским акцентом. — Я снова вышла замуж.
— Мистер Овертон?..
— Умер! — сказала она радостно, так уж она была устроена. — Я принесла вам настоящий ужин, полковник, я же знаю, что такое удар. О, я изучила удар как свои пять пальцев. А индейку всегда хорошо жарила.
— О да! — Полковник объяснил, кто эта леди. — Я познакомился с отцом миссис Киз во время Революции…
— Какая встреча! — Миссис Киз начала резать индейку, еще теплую после духовки. — Просто сказка! — Она пророкотала вирши сэра Вальтера Скотта на шотландском. Мы не поняли ни слова.
— Недалеко от квебекских высот, — продолжал полковник, — я отправился к ручью напиться с пистолетом наготове и увидел у самой воды английского офицера…
— Шотландского, полковник.
— Шотландский офицер оказался вашим отцом. Так вот, оба мы не знали, что делать. Встреча двух вражеских офицеров в подобных обстоятельствах уставом не предусмотрена. Тогда отец ее предложил мне глоток воды из фляги, я положил пистолет и стал пить. Затем он поделился со мной конским языком, а я последней луковицей, мы с полчаса поболтали о том о сем и поклялись после войны встретиться и продолжить знакомство.
— И они встретились через тридцать шесть лет в имении моего отца в Шотландии…
— А сейчас тому уже больше шестидесяти лет! Господи! — На лице полковника изобразилось истинное страдание. — Шестьдесят лет! Зачем я живу? Нелепость. Все, все умерли, кроме меня.
— Президент Мэдисон еще жив, — сказал я.
— Верховный судья Маршалл еще жив. — Мистер Крафт произнес великое имя, как заклинание.
— Но я же должен их пережить, верно?
— И непременно переживете, если вас хорошо кормить. — Последовала еще одна громогласная непонятная цитата, на сей раз из Бернса.
Мы чудесно отужинали, и миссис Киз рассказала нам, что первый муж разорил ее. Теперь она держит со своим вторым мужем пансионат на Бродвее у Боулинг-грин.
— Там для вас две прекрасные комнаты, полковник, в цокольном этаже, но очень светлые, выходят в прелестный зеленый сад.
— Дорогая моя девочка, я боюсь, что цены в том районе…
— Платите, сколько хотите!
Мы с мистером Крафтом переглянулись. Полковник допустил ложный шаг, если тут уместно такое выражение.
— Скажите, — спросил полковник, — а чей это дом? Я когда-то знал все дома от Боулинг-грин до Уолл-стрит наперечет.
— Так это же дом старого губернатора Джона Джея.
— Моей радости нет предела. — Полковник ликовал. — Мистер Джей по крайней мере хоть разок перевернется в гробу, если я окажусь в его погребе.
ГЛАВА ТРИДЦАТЬ ЧЕТВЕРТАЯ
Осень стоит холодная и тоскливая. Идут выборы. На каждой стене читаешь: «Долой аристократию!» Говорят, этот демократический лозунг — изобретение элегантного мистера Ван Бюрена; его кандидат в губернаторы должен победить кандидата вигов. Мистер Дэвис и Леггет с головой ушли в кампанию, и я их избегаю.
Элен мне досаждает. Целыми днями не вылезает из дому. Я думаю о ней. Я всех ненавижу.
К счастью, полковник Бэрр безмятежно живет в двух комнатках, которые миссис Киз ему предоставила. Хотя в них не так светло, как она описывала, зато жарко, как в духовке, где жарятся ее индейки, и старичок-паучок счастлив. Полковник так забил обе комнатки мебелью, книгами, картинами, что посетитель должен расчистить место, чтоб сеть рядом с софой, где он возлежит возле столика с портретом Теодосии. Между прочим, он приобрел черного слугу и послал его за чаем, когда я навестил его впервые.
— Очень приятный человек, — сказал полковник. — Работал у Де Уитта Клинтона, ни больше ни меньше! Бедный старик. Боюсь, он немного не в себе. Иногда принимает меня за Де Уитта Клинтона и приносит мне бутылку виски, я делаю вид, будто пью, просто чтобы не потерять его уважения.
Полковник спросил о конторе. И хотя он все еще готовит дела, молча подразумевается, что он больше не появится на Рид-стрит и не переступит порог суда. В это трудно поверить, но Аарон Бэрр наконец — инвалид.
— Я ждал тебя. — Кипы документов и газетных вырезок устилали пол около софы. — Я советовался с Сэмом Свортвутом. Толку от него немного. Память хуже моей. Но Сэм отыскал письма, которые он писал своему брату Джону с Запада, а они пригодятся.
Шумно вошла миссис Киз, желая накормить постояльца, но тот не хотел кормиться.
— Вы даже не представляете себе, мистер Скайлер, какая для меня честь, что он тут! — Она тотчас удалилась, издав шотландский боевой клич.
Бэрр высказывается о ней — как бы это сказать? — насмешливо: «Женщины играли немалую роль в моей жизни, хорошо бы поговорить о них открыто, но — увы! — кодекс чести не позволяет. Я не умею, как Гамильтон, целоваться и писать об этом в газетах».
Затем полковник показал мне свой портретик в возрасте лет тридцати.
— Собственность недавно скончавшейся дамы. Сын мне передал.
На портрете полковник удивительно красив: полные губы, прямой нос, огромные мечтательные черные глаза. О чем он мечтал?
Я спросил его. Вопрос его огорошил.
— Мечтаю? Разве я мечтаю? Мечтал? — Он надел очки, стал внимательно рассматривать миниатюру. — Нет, просто фантазия художника. Или твоя. — Он снял очки. — Нет, я не мечтаю. Это не в моем характере. Я… действую. Рискую. Никогда не мог оставаться надолго в одном месте. Всегда хотел движения, действия. — Он умолк. Дотронулся до портрета Теодосии. — Когда я, бывало, уезжал, бросая больную жену, я часто думал: господи, да ведь она скоро умрет. Вернись домой, говорил я себе, побудь с ней, пока еще не поздно. Но я был не в силах остановиться, и умерла она без меня. А ведь мог бы провести с ней на несколько лет больше — не будь я таким беспокойным.
Полковник положил свой портрет вниз лицом подле портрета дочери.
— Ну, перейдем к великой американской комедии — «Государственная измена Аарона Бэрра».
Воспоминания Аарона Бэрра — XVII
Я покинул Филадельфию вместе с моим слугой и Сэмом Свортвутом в августе 1804 года под именем некоего Р. Кинга (в честь доброго тори Руфуса Кинга, хозяина Вихокского холма) и отправился в Джорджию.
Я выдавал себя за негоцианта из Лондона (чтобы объяснить свой акцент, озадачивавший местных жителей). Я добрался до самого Сент-Августина в Восточной Флориде. Я беседовал с людьми. Приобрел некоторое понятие о стране. Сделал интереснейшие открытия. Вот, например, ты знал, что даже благороднейшие испанские леди в обществе курили сигары? Я вел дневник для дочери. Он пропал вместе с ней. Я составлял карты. В общем, я не так уж плохо провел время, хоть чуть не погиб во время урагана, опустошившего плантацию, где я жил, загубившего девятнадцать чернокожих и снесшего веранду, где я сиживал с хозяином. Все было как дурной сон или продолжение кошмара, вызванного там, что я незадолго до того на ночь отведал жареного аллигатора.
Обратно в Вашингтон я ехал уже не инкогнито, и, к немалому моему удивлению, меня повсюду приветствовали. Правда, у южан нет предвзятого отношения к дуэлям, да и Гамильтон не ходил у них в героях.
В Саванне я обедал с губернатором Джорджии. Вдруг под окном заиграл оркестр.
— Это в вашу честь, губернатор, — сказал я.
— Нет, полковник, это в честь вице-президента. — И он не ошибся.
В Роли (Северная Каролина) меня с восторгом встретили негры. Их энтузиазм я могу объяснить лишь тем, что после четырехсот миль на каноэ мое смуглое лицо от солнца стало совершенно темным.
К концу октября я достиг Ричмонда — столицы вражеской территории, где родилась гидра — нет, слишком много чести, — где родился спрут виргинской хунты об единой Джефферсоновой голове, но со множеством щупалец, и каждое по имени Джеймс!
В театре, в антракте, меня узнали; мне начали аплодировать местные (белые) плантаторы. Уверен, об этой овации доложили главному спруту.
В начале ноября я явился в Вашингтон, дабы председательствовать в сенате. Иные считали, что мне неудобно отправлять мои конституционные функции, когда в штате Нью-Джерси против меня выдвинуто обвинение в убийстве. Но я служил народу. Честный гражданин, я намеревался воротиться в Нью-Джерси, чтобы предстать перед судом; покуда до меня не дошло публичное заявление судьи округа Берген, что, если меня тотчас не повесить, будет голод в Бергене и чума в Хобокене. Нью-Джерси потерял для меня притягательную силу. Но вот я с радостью узнал, что по подсказке Джефферсона группа сенаторов обратилась к губернатору Нью-Джерси с просьбой прекратить судебное преследование против меня. Почему Джефферсон меня пожалел? Привязанность? Чувство справедливости? Чести? Ничуть не бывало. Ему пришлось туго, и он нуждался в моей помощи.
Первый раз меня вызвали в дом президента через две недели после открытия сессии сената пятого ноября. Посыльный президента отыскал меня в доме — вернее, в домах — английского посланника. Мерри арендовал два кирпичных дома на Кэй-стрит и расстарался, превращая их в фешенебельное посольство.
Миссис Мерри председательствовала за чаепитием у камина. Она прелестно выглядела и забавляла нас новыми симптомами «джефферсонита» (я, разумеется, делал вид, будто не слышу колкостей по адресу моего владыки).
Но у миссис Мерри нашлись и другие темы для разговора. В тот день она рассказала нам невероятную историю про старого мистера Коллинза и молодого мистера Роупера. Коллинз, эксцентричный старый федералист, владел большим имением около Александрии. Все знали о его странностях, даже безумии, хоть я не находил в нем ничего странного, кроме обычая ссориться со своим «ребром» на людях; но если ссоры с собственной женой — признак безумия, то человечеству не хватит психиатрических лечебниц. Роупер, молодой юрист из Александрии, ухаживал за любимой племянницей Коллинза. Роупер зарился на ее деньги, но, чтобы добраться до них, сперва надо было упрятать старого мистера Коллинза в сумасшедший дом.
— Ну так вот, молодого мистера Роупера перехитрили! — Довольный голос миссис Мерри клокотал, как у попугая. — Приходит он вчера к старому Коллинзу, а тот ему и говорит: «Ходят слухи, что вы сошли с ума!» А бедный молодой Роупер как раз собирался ему сказать то же самое. «Я вовсе не сошел с ума, сэр!» — «Но, сэр, — говорит старый Коллинз, — всем ясно, что вы абсолютно безумны. К счастью, есть прекрасное средство, оно помогло даже самому английскому королю, и средство это — порка». Тут являются два огромных черных раба, спускают штаны молодому Роуперу и безжалостно его секут!
Миссис Мерри смеялась до слез. И в это время вошел посыльный от президента в сопровождении дворецкого, пробубнившего: «От Его превосходительства президента полковнику Бэрру».
Передав мне записку, посыльный удалился.
— Похоже, полковник Бэрр, вас с мистером Джефферсоном водой не разольешь. — Миссис Мерри угадала. Только речь шла не о дружбе, а об ожесточенной политической схватке.
На другой день я обедал наедине с Джефферсоном (он всегда обедал в три). Я не видел его почти год, и он показался мне изможденным: седые волосы, усталый, потускневший взор, кончик лисьего носа странно прозрачен. «Дворец» все еще не отстроили — он остался холодным, пустым, и по нему гуляли сквозняки. Но личную столовую обставили уютно, с выдумкой: Джефферсон понатыкал там вращающихся столиков, для закусок.
— Жизнь без слуг, — сказал мой хозяин, — большое преимущество… Хоть и большое лишение, — добавил он поспешно.
— Они подслушивают, — подхватил я.
— И болтают. Правда, я и не говорю ничего такого, что не годилось бы для печати. — Джефферсон всегда изображал святого, и подобные его высказывания все пропускали мимо ушей, как бой часов, которого не замечаешь, если только не хочешь узнать точное время. Но я хотел узнать точное время.
Ничего не помню из прекрасного обеда, только французское вино, которое не просто было отличное, но еще и послужило поводом для целой лекции о виноделии. Замечу для истории, лекция была совершенно такая же, как в прошлый раз, когда меня удостоили чести ее услышать. Игра Джефферсонова ума была очень похожа на его игру на скрипке. Он любил повторять одни и те же мелодии.
На десерт подали что-то невиданно волшебное: мороженое в горячей вафельной раковине.
О моем поражении на выборах не упоминалось. Не упоминалось и о Гамильтоне, только косвенно. «Мне говорили, что ваши дела в Нью-Джерси скоро решатся». Он прикинулся, будто находит Мерри с женой забавными. «Говорят, служащие английского министерства иностранных дел называют мистера Мерри Toujours Gai[84]». Джефферсон теоретически понимал, что это остроумно, и аккуратно повторил мне, зная, что я оценю шутку. Будь я Джонатаном Эдвардсом, он бы цитировал мне книгу пророка Самуила.
Джефферсон любезно расспросил меня о приключениях на Юге. Я сказал, что за время короткого визита в Восточную Флориду я убедился, что народ там созрел для освобождения.
Джефферсон согласился.
— Вообще-то мы их уже освободили постановлениями конгресса, но, боюсь, только война с Испанией — или еще одна покупка — закрепит наши права.
— Виды на войну — прекрасные.
Но Джефферсон не клюнул на эту удочку. Он заговорил об осложнениях с Бонапартом, с Англией. Когда же французский дворецкий во второй раз подал сказочное сладкое, Джефферсон перешел к делу.
— Полковник, я никогда не мог понять, как вы относитесь к природе нашей конституции.
— Гамильтон сказал мне однажды примерно то же. Он считал, что я выражаюсь двусмысленно.
— Надеюсь, я напоминаю Гамильтона только этим. — Вместо улыбки — мгновенный оскал желтых зубов; губы серые, синеватые, тогда как у большинства людей они розовые или красные. Думаю, что так действовало на него холодное время года. Он был похож на пепел от костра — мягкий, легкий, белый; ничего не осталось от прежнего рыжего хитреца, лишь темная бронза веснушек.
— В глубине души я всегда считал, что наша конституция не вполне закончена.
— Согласен… согласен! — Он слишком легко соглашался.
— Ее должно либо развить, либо упразднить…
— Я тоже так думаю…
— Я вижу в ней два слабых места, которые могут сыграть роковую роль. Первое — так называемое неотъемлемое право каждого штата расторгнуть связи с Союзом. — Я умолк.
Джефферсон испугался. Нет, удивился. Бог его знает, что он слышал о моих переговорах с федералистами из Новой Англии или с Мерри.
— Значит ли это, полковник, что вы не одобряете неотъемлемого права каждого штата выйти из Союза?
— Нет, сэр, не одобряю.
— Но ведь по собственной воле тринадцать суверенных штатов сошлись и…
— Знаю, знаю. — Будь я неладен, если еще раз позволю Джефферсону пропитать мне заученную лекцию. — Я лишь подчеркиваю, что никакая конституция не будет действенна, если каждый штат будет думать, что у него есть право на отделение; и ведь в конце концов один или несколько штатов действительно отделятся, и тогда не останется Соединенных Штатов…
— И тем не менее мы все будем американцами… кузенами, если не братьями. — Старая песня.
— Без сомнения. Но вы спросили мое мнение о конституции. И мне пришлось сказать, что именно я считаю ее главной слабостью.
— А я считаю это ее главной силой.
— В таком случае вы, без сомнения, согласны с теми федералистами из Новой Англии, которые хотят отделения своих штатов от остальных.
Говоря неправду и вообще ступив на скользкую почву, Джефферсон оставался невозмутимым; в такие-то моменты он и был в лучшей своей форме. Он улыбнулся.
— Мне порой докладывают об этих джентльменах. — Он говорил мягко. — Мэдисон советует мне обратить на них внимание. Но если сенатор Пикеринг и еще кое-кто убедят народ своих штатов выйти из Союза, я первый протяну им руку дружбы.
— Но вы знаете, конечно, что люди Пикеринга не составят большинства…
— Я мало знаю о Новой Англии, но то, что мне известно, достойно восхищения. — Джефферсон был сама любезность. Я представил себе, как он выглядел в роли посла. — Дело тут в принципе. А я придерживаюсь принципа: каждый штат волен поступать, как он хочет.
— Ну, а Луизиана? Предположим, население Нового Орлеана проголосовало бы против союза с нами, а за союз с Францией или Испанией или за независимость?
Он не подготовился к такому повороту. Смутился.
— Я бы сказал, что поскольку тут речь идет о покупке территории и поскольку характер населения сильно отличается…
Снова вошел дворецкий (уж не было ли где-нибудь в столовой потайного звонка, не нажимал ли Джефферсон на кнопку, желая сменить прибор или тему разговора?) и налил нам обоим шампанского — оно последнее время стало популярным в Вашингтоне. Тема разговора сменилась.
— Вы находили еще одно слабое место в конституции, которое может сыграть роковую роль.
— Ну, не обязательно роковую. — Но я не собирался объяснять ему, что второе слабое место — чересчур большая власть, данная президенту. Напротив, я сделал вежливый ход. Я сказал то, что он хотел услышать. — Это власть судей.
Старое лицо просияло. Между нами воцарилось согласие. Мы стали друзьями. Он мог мне доверять. И выплеснулся наружу его страх перед судебной властью, особенно учитывая, что в Верховном суде сидит монократ Джон Маршалл.
— Вопрос предельно прост! Маршалл считает, что суды имеют право отменять постановления конгресса. Это нетерпимо. Бьет по нашей системе, бьет в самое сердце! А то, что судьи сохраняют должности пожизненно, клянусь небом, ведет к тирании!
Тут он со всей доступной ему откровенностью перешел к делу. Самюэль Чейз, член Верховного суда, блестящий ярый тори, беспрестанно произносил громовые речи против республиканцев и их «быдлодержавия». Он наслаждался, изводя журналиста Джеймса Каллендера, клеврета Джефферсона. И вот в начале того года палата представителей выдвинула против судьи Чейза обвинение в пристрастности, несправедливости, грубости… словом, во всех смертных грехах, кроме того, за что он действительно мог быть привлечен к ответственности согласно конституции, — за «государственные преступления и превышение власти». Теперь судья должен предстать перед сенатом, и я, как его председатель, должен буду его судить.
— Вам, полковник, выпал жребий провести процесс, который определит будущее нашей демократии.
— Я, конечно же, буду беспристрастен…
— Конечно. Но, надеюсь, вы с пристрастием будете отстаивать самый принцип, ибо дело не в судье Чейзе, а в необходимости подчинить судей законодательным органам. Надо создать прецедент, и судей можно будет смещать волей народа.
— Но конституция…
— По всей вероятности, в нее следует внести поправки. Сейчас надо установить приоритет законодательной власти над судебной.
— Чтобы в случае необходимости иметь возможность избавиться от верховного судьи.
В этом-то и было все дело.
— Все, конечно, зависит от поведения мистера Маршалла в будущем. — Мягкий голос баюкал. — Думаю, если мы сместим судью Чейза, мистер Маршалл поймет, что с нами шутки плохи, и, следовательно, изменит свое поведение. Я убедился, порой достаточно предостереженья.
Я доставил Джефферсону удовольствие думать, будто мне по душе его так называемый принцип. На самом деле я всегда предпочитал, чтобы правовые органы были независимы от двух других властей; и хотя пожизненная должность часто укрывает неспособных, у нее есть одно бесспорное достоинство — что единственно разумный суд в стране недосягаем для мести главы государства и гнева толпы.
В течение трех месяцев, пока готовился процесс, я видел Джефферсона чаще, чем за все предыдущие четыре года. Мы обедали вместе по крайней мере два раза в неделю. Мы часто встречались тайно. Он давал мне массу советов, как вести себя на процессе. Он немного боялся за Джона Рэндольфа из Роанока, который должен был выступать от обвинения…
— Бедный Рэндольф сам не свой… — Джефферсон был явно смущен. Рэндольф расстроился из-за неудачных земельных спекуляций и оттого не в лучшей форме.
— Позволю себе заметить, что и в своей лучшей форме он вряд ли был бы нам особенно полезен на этом процессе. — Меня всегда забавлял Рэндольф, странный, долговязый, развинченный человек неопределенного пола. Некоторые считали его переодетой женщиной. У него даже не пробивалась борода; кожа — жирная, в причудливых морщинах; разговаривая, он вечно двигал длинными красивыми пальцами, а голос у него был высокий и чистый, как у мальчика из хора. Прислонившись к колонне в зале сената, в охотничьем костюме, потягивая бренди, которое подносил ему раб, он говорил часами, завораживая всех своим сарказмом и остроумием, которому не знала равного история республики. Его выступления напоминали частные беседы его кузена Джефферсона, но, если Джефферсон тускло мерцал в узком кругу заумными открытиями и теориями, Джон Рэндольф ослеплял широкую публику, как фейерверк. Кстати, он очень гордился тем, что происходит якобы от индейской княжны Покахонтас.
Судью Чейза вызвали 2 января 1805 года в сенат, где я в точности воспроизвел обстановку Вестминстера во время суда над Уорреном Хастингсом[85]. Я считал, что декорация должна быть внушительной — ведь нам предстояло решать судьбы республики. Стены завесили темно-красной камкой, а справа и слева от меня в ряд, как судьи, сидели сенаторы. Я пристроил еще галерею для именитых гостей. Я даже приказал прочистить дымоходы в двух каминах, и впервые зал обогревался без дыма.
Перед самым появлением судьи Чейза я приказал убрать приготовленное для него кресло.
— Пусть сам поищет себе место, — очень четко сказал я распорядителю. Несколько сенаторов-федералистов ответили на мои слова неодобрительными выкриками.
Появился судья Чейз, высокий, властный, разгневанный. Он подписывал Декларацию независимости. Его назначил в Верховный суд сам Джордж Вашингтон. После Маршалла он был самый блестящий и самый придирчивый из всех судей в стране. Однажды он вынес знаменитое определение, где четко сформулировал тот самый принцип, который Джефферсон хотел отменить: «Существуют неписаные, неотъемлемые ограничения законодательной власти». И себя и определение это он принимал всерьез.
Судья Чейз огляделся. Затем спросил:
— Я должен стоять, сэр?
— Принесите обвиняемому стул, он не желает стоять.
Потом я сказал одному сенатору-федералисту, что в палате лордов обвиняемый всегда стоял перед судом на коленях. Мое пояснение встретили в штыки, как я и ожидал: федералисты теперь уже не сомневались, что я изо всех сил поддерживаю Джефферсона. Он и сам так думал.
Судья Чейз попросил дополнительного времени для подготовки дела. Я велел ему повторно явиться в сенат 4 февраля.
Джефферсон был в восторге.
— Они уже обороняются. Вы вели себя молодцом.
— Благодарю вас, сэр. — И я выразил желание, чтобы мой пасынок Дж. Б. Прево стал членом Верховного суда Нового Орлеана, чтобы мой шурин Джеймс Браун стал министром по делам территории Луизиана и чтобы генерал Джеймс Уилкинсон стал губернатором территории Луизиана.
— И это все? — Джефферсон пытался за иронией скрыть изумление. Он не привык к открытой торговле.
— Если бы вы могли назначить меня губернатором Орлеана вместо Клерборна, я был бы вполне счастлив. Но думаю, это невозможно.
Джефферсон посмотрел мне прямо в глаза, что с ним случалось весьма редко. Нас разделял новый вариант знаменитой копировальной машины.
— Мне не хотелось бы объединять военную и гражданскую власть…
— Генерал Уилкинсон самый гражданский из всех генералов, каких я знаю, а я знаю его очень давно. Он будет на месте в Сент-Луисе.
— Вам самому ничего не нужно?
— Нет, сэр.
— Куда вы направитесь, когда… окончится срок вашей службы?
— На Запад. Возможно, в Кентукки. У меня там земля.
— Вы не вернетесь в Нью-Йорк?
— Вряд ли. К тому же меня уже ничто там не ждет. Сейчас, — добавил я благоразумно. Я предполагал, что ему известно то, о чем знали все. Ричмонд-хилл и все, что там находилось, было подавно продано с аукциона в уплату долгов. Мне разрешили оставить лишь содержимое винных погребов и библиотеку.
Потом Джефферсон утверждал, будто я тогда просил у него пост в правительстве, а он мне отказал. Ложь, удивительная даже в его устах! Я ничего для себя не просил, ибо мне ничего не было нужно (или так мне казалось). Джефферсон великолепно разбирался в политике и в купле-продаже; умел он и создать видимость, будто он не мелочен. Без промедления он отдал мне все три должности, чтобы я помог ему уничтожить судью Чейза и Верховный суд. Я принял от него взятку, а затем, как сообщала недружественная мне газета, провел процесс с «достоинством и беспристрастностью ангела, но с жестокостью дьявола».
Как я и предполагал, Джон Рэндольф ужасно подвел обвинение. Права он совершенно не знал, а обычная его язвительность была неуместна, по крайней мере с моей точки зрения, а ведь я сидел в председательском кресле. В конце концов он совершенно провалился и обвинительную речь произносил заикаясь, со вздохами и стонами. В заключение он поздравил нас всех с «окончанием страданий, моих и ваших». Очень мило с его стороны.
После весьма пристрастного голосования судью Чейза оправдали из-за отсутствия состава преступления.
На следующий день после процесса, 2 марта 1805 года, в час пополудни, я председательствовал в сенате. Зал все еще был одет в парадный пурпур. Но у меня болело горло, поднялась температура, и мне непреодолимо хотелось уйти.
Во время первой же паузы в прениях я поднялся и попросил тишины. Думаю, все знали, что сейчас произойдет. Я произнес несколько слов экспромтом. Я не из тех, кого называют «пламенными» ораторами, но тут мне более или менее сносно удалось настроить моих слушателей на нужный мне лад.
Я начал с самого зала, все еще убранного для процесса. Все мы понимали, что в этом зале мы сообща творили историю. Я напомнил об этом сенаторам и об их долге хранить и защищать конституцию.
— Это здание — святилище, — сказал я (цитирую по памяти, ибо текст речи не сохранился), — цитадель законности, порядка и свободы; и здесь-то, — я указал на временную, но знаменательную для меня расстановку кресел: целый месяц сенаторы заседали здесь не как законодатели, но как судьи, — здесь-то, в этой высокой обители — здесь или нигде, — и будет оказано сопротивление шквалу политического безумия и тайным уловкам продажности, и, если конституции, не дай бог, суждено погибнуть от грязной руки демагога или узурпатора, последние вздохи ее будут услышаны в этом зале.
Я почувствовал, как никогда ни прежде, ни потом, что полностью завладел вниманием аудитории. Обычно холодный и шумный, зал замер.
— А сейчас я хочу проститься с вами, возможно навсегда. Надеюсь, что поступал с вами по справедливости. Но если я когда-нибудь кого-то оскорбил, то знайте — лишь по слабости человеческой, а не по злой воле. Да благословит господь всех сидящих в этом зале! Отныне и во веки веков.
На этой ноте я покинул Капитолий, чтобы уж более туда не возвращаться. Говорили, многие сенаторы плакали в конце моей речи. Они так растрогались, что единодушно приняли резолюцию, в которой среди прочих похвал выражали «полное одобрение поведения вице-президента». Приятно. Позже сенат, уже не единодушно (воздействие моей речи стало ослабевать), проголосовал за мое пожизненное право отправлять письма без марок. Однако, проходя через палату представителей, это постановление затерялось. И поэтому я с тех пор покупаю почтовые марки.
Совсем недавно меня кто-то спрашивал, против какого «узурпатора» я предостерегал сенат.
— Против Джефферсона, — сказал я, к удивлению собеседника. — Ведь мы только что видели, как он пытался подорвать конституцию и разгромить Верховный суд. Он преуспел бы в этом, не останови его сенат. — Но поскольку это противоречит легенде, иные полагают, будто я предостерегал сенат против своего собственного узурпаторства!
Я оставался в Вашингтоне еще две недели, прощался, занимался нескончаемыми делами, готовился к путешествию на Запад. С президентом я больше не виделся, но он сообщил мне, что мои друзья получили назначения.
Попытки устроить мне проводы я отклонил. Я хотел тихо, без шума уйти из политической жизни республики. На первый взгляд будущее мое было не блестяще. Я не мог вернуться ни в Нью-Йорк, ни в Нью-Джерси. Я потерял Ричмонд-хилл. Я остался без денег. Я овдовел. Мне исполнилось сорок девять лет. И тем не менее я верил, что стою на пороге великих свершений. Будто мне дали вторую жизнь. На душе у меня было легко, и я никому на свете не завидовал, когда в четыре часа утра сел в дилижанс, отправляющийся в Филадельфию.
Бодрый, оживленный, полный надежд, я радовался даже сырому холодному ветру с вонючего Потомака, когда конские копыта процокали мимо позорных столбов, виселиц и колод.
ГЛАВА ТРИДЦАТЬ ПЯТАЯ
Сегодня после обеда мистер Дэвис пришел обсудить какой-то юридический вопрос с мистером Крафтом. Закончив, он зашел в кабинет полковника, где я теперь работаю.
— В трудах праведных?
— А вы?
Не могу я заставить себя относиться к нему с симпатией, ведь он не только мой искуситель, но и соперник. Я стал воспринимать мемуары Бэрра так же серьезно, как и памфлет и деньги, которые за него получу.
— Медленно у вас дело движется.
Мистер Дэвис сел на стул, на котором, бывало, сиживал я, строча под диктовку. Я положил ноги на каминную решетку, в точности как полковник.
— На прошлой неделе, как и следовало ожидать, кандидат вигов на пост губернатора потерпел поражение.
— Но мы обязательно победим на национальных выборах в будущем году. — Мистер Дэвис вечный оптимист. — С вашей помощью, конечно. — Не очень тонкая шутка.
— Я закончу примерно через месяц.
И в самом деле, я уже закончил всю основную работу. Осталось освоить пасквильный стиль.
— Как полковник?
— В прекрасном расположении духа.
Мистер Дэвис покачал головой — не то недовольно, не то удивленно. Вечная двусмысленность.
— Удивительный человек.
— Кто первым выстрелил, — спросил я, — Гамильтон или Бэрр?
Мистер Дэвис покачал головой.
— Никто не знает. А ведь я там был, смотрел из-за кустов. Я думаю, Гамильтон выстрелил на секунду раньше полковника. Я знаю, что при первом звуке выстрела полковник качнулся — я не отрывал от него глаз, — и я испугался, что Гамильтон в него попал. Но потом он сказал мне, что наступил на камень и потерял равновесие. Лично я думаю, что у Гамильтона что-то было со зрением, ему следовало бы отказаться от поединка. Но… — Мистер Дэвис не из тех, кто скорбит о прошлом. Пример полковника заразителен. Всегда думать о будущем! — Что вы будете делать, когда… — На этот раз интонация у мистера Дэвиса недвусмысленная.
— Когда полковник умрет?
— Для нас, еще живых членов «маленькой шайки», это звучит просто дико.
— Я не знаю. — Я никому не говорил о своих планах уехать в Европу с Элен и зарабатывать на жизнь писательским трудом.
— Вы ведь адвокат, не так ли?
— Меня еще не приняли в адвокатуру.
— Но могут принять? Вы ведь хорошо подготовились? — Глаза мистера Дэвиса внимательно, с видимостью сочувствия смотрели на меня из-под очков в стальной оправе.
— Да, могут. Полагаю, примут.
— Это хорошо. Говорят, Англия — страна лавочников. Ну, а Соединенные Штаты — страна адвокатов. Для адвоката тут нет ничего невозможного. Для прочих — все невозможно. — Он театрально вздохнул.
Вообще-то я не решил еще, сдавать мне экзамены в адвокатуру или нет. Мистер Крафт уверяет меня, что я пройду. Но для меня юриспруденция означает политику, а я ее ненавижу. Я как дурак грежу об Альгамбре — о ночной Гранаде, о диких розах в заброшенных мавританских двориках. Мы с Элен наедине на залитой лунным светом террасе старинной виллы над Соррентийским — какое наслаждение выводить это слово! — полуостровом. И мы ужасно ссоримся.
ГЛАВА ТРИДЦАТЬ ШЕСТАЯ
Я провел вечер с полковником. Сначала у него было дурное настроение. Он, казалось, не мог сосредоточиться, по нескольку раз задавал мне одни и те же вопросы. Интересовался мелочами. Что я видел в парке? Три раза я говорил ему, что вместе с Леггетом ходил смотреть «Счастливчика» с Тайроном Пауэром и тот во всем уступает Эдвину Форресту. Я написал рецензию на спектакль по просьбе редактора «Миррор». Их постоянный театральный критик (который пишет под псевдонимам «Мышь с галерки») заболел. Я хочу… я молю бога, чтобы меня пригласили на его место и сделали постоянной «Мышью».
Я передал полковнику нашу последнюю главу, которую он уже раз отредактировал. Обычно он проверяет мой чистовик, но на сей раз не стал.
— Не могу собраться с мыслями. Миссис Киз слишком хорошо меня кормит. Налей-ка мне кларета. Он помогает.
Я налил ему кларета, и он действительно помог. Полковник повеселел почти мгновенно.
— Слуга нашел в погребе под кипой федералистских газет много бутылок. — Бэрр улыбнулся и поднял бокал. — За Джона Джея, с благодарностью.
У меня не выходил из головы разговор с мистером Дэвисом, и я опросил его, стоит ли мне держать экзамены в адвокатуру.
— Конечно. — Он ответил не задумываясь. — Во-первых, тебя легко примут. Я об этом позаботился. Если, конечно, ты прочитал хоть половину книг, которые я тебе рекомендовал.
— Но я не хочу быть адвокатом.
— А кто хочет? Ну, из художественных натур? Право убивает живость ума. Душит оригинальность. Но оно открывает возможности…
— Вот и мистер Дэвис то же говорит.
— Ты его видел? — Полковник нахмурился. — Бедный Мэтт. Кажется, он совсем выдохся. Как ты думаешь? Конечно, у него всегда нездоровый цвет лица, но последнее время оно стало просто землистое. Что делать, стареет. — Полковник хмыкнул. Затем: — Сними мне ноги с решетки. Боюсь, они уже горят.
Я исполнил его просьбу. Он стал мурлыкать какой-то мотив, я принял это за революционную песню. Но вот он закрыл глаза. И мы перенеслись в иные времена, на тридцать лет назад.
Воспоминания Аарона Бэрра — XVIII
Мои планы, касающиеся Запада, основывались на двух предположениях. Первое — что будет война с Испанией и это позволит мне собрать армию и ударить по Мексике, второе — поскольку Испания теперь находится в зависимости от Франции, а Франция в состоянии войны с Англией, я сумею получить английскую поддержку с моря.
Когда я покинул Вашингтон весной 1805 года, все, начиная с Джефферсона и кончая креолами Нового Орлеана, не только ждали, но жаждали войны с Испанией; война эта дала бы Соединенным Штатам обе Флориды, установила западную границу Соединенных Штатов и открыла для меня Техас и Мексику. Что же до Англии, то я встречался с Мерри в Филадельфии (он решил теперь, что, раз его правительство не настаивает на его пребывании в Вашингтоне, он может перевести посольство в Филадельфию, подальше от грубого джефферсоновского двора).
Мы встретились в доме Чарльза Бидла поздно вечером. Мерри сразу перешел к делу:
— Я рекомендовал моему правительству вас поддержать.
— Мы готовы выступить не позже марта следующего года, посланник.
Я слегка преувеличил. На самом деле я планировал начать продвигаться вниз по Миссисипи следующей осенью.
— Я должен ждать указаний. — Мерри вилял. Мы обсудили положение в Европе, то есть, как все тогда, поговорили про блистательного авантюриста Наполеона Бонапарта, который за год до того подавил Французскую революцию, сделал себя императором Франции и чуть не стал властелином Европы.
— Он, конечно, хочет завоевать весь мир. — Мерри покачал головой. — Трудно поверить, что в одном человеке могут сочетаться такая мощь и такое зло.
— Миры и существуют для того, чтобы их завоевывать. — Я сказал это между прочим, но я в это верил. Мы жили во времена, когда для предприимчивого человека с воображением не было невозможного. Бонапарт вдохновил — и дурно — целое поколение. Я уже видел себя освободителем всей испанской Америки — конечно же, это он подал мне пример.
— Куда вы теперь направляетесь, полковник?
— На Запад, встретиться с генералом Уилкинсоном, новым губернатором Луизианы.
— Понимаю. Понимаю. — По-моему, Мерри любил интриги сами по себе, ради интриганства, и я, как выяснилось, тоже.
Из Филадельфии я направился в Питтсбург на реке Огайо. Девятнадцать дней я путешествовал по диким местам, чтоб, к своему разочарованию, узнать, что Уилкинсон еще не прибыл. Мне кажется, он был самый медлительный генерал на свете, возможно лишь за исключением генерала Нокса, но, правда, был намного жирней.
Не буду слишком часто упоминать о теплом приеме, который мне оказывали по пути следования. Странно, когда тебя принимают как героя в части света, такой же незнакомой, как Китай… Нет, не Китай, как Монтичелло в штате Виргиния!
Питтсбург был в то время скучной пограничной деревней, примечательный лишь одним — в нем было несколько рек. На одной из них я еще в прошлом году приказал построить нечто вроде Ноева ковчега. Мой плавучий дом был шестидесяти футов в длину и пятнадцати в ширину, с двумя спальнями и хорошо оборудованной кухней с камином. Ковчег скользил, без парусов и весел, по течению Миссисипи — и это так умиротворяло, так успокаивало, что я порой бормотал свое имя, чтобы убедиться, что это не сон, а явь.
По пути, в среднем течении Миссисипи, я встретил Мэттью Лайона, теперь конгрессмена от Кентукки, а в прошлом конгрессмена от Вермонта; он предпочитал меня Джефферсону, когда президентские выборы перешли в палату представителей, но по личным соображениям проголосовал за Джефферсона, за что и был соответствующим образом вознагражден. Мы пришвартовали друг к другу наши плавучие дома и вместе плыли до Мариетты. Лайон уговаривал меня осесть в Теннесси, в Нашвиле, уверял, что меня непременно изберут в следующий конгресс — и не иначе как спикером. Я прикинулся заинтересованным — не хотел терять связей.
В Мариетте Лайон меня покинул. Я продолжал двигаться на юг. На другой день я остановился у острова Бленнерхассета. Здесь романтический ирландец по имени Бленнерхассет построил себе роскошный дом посреди девственной природы и предавался мечтам в обществе очаровательной молодой жены, полной такого огня и остроумия, что тот, кто на нее смотрел, забывал ее непомерно большие уши, вздернутый нос, маленькие раскосые глаза; у нее была мордочка выдры или какой-то забавной зверушки. Но она прекрасно ездила верхом, писала стихи, декламировала Шекспира.
— Мой муж обожает вас, полковник! Он не может говорить о вас спокойно! — Миссис Бленнерхассет сказали, что я на острове, и она поспешила на пристань приветствовать меня. Я собирался было сразу двинуться дальше, но она настояла, чтобы я с нею пообедал.
— Мистер Бленнерхассет в отъезде, но, если я вас так отпущу, он мне не простит, не будет со мной разговаривать — а это страшное испытание для человека, который не замолкает ни на минуту. Оставайтесь обедать.
Пришлось остаться; еда была вкусная, общество сносное, миссис Бленнерхассет забавна, хотя и жаждала непрестанной болтовни. Конечно же, она отнюдь не мечтала окончить свои дни на острове посреди реки Огайо. Уже за полночь я наконец вырвался от этой Цирцеи и мне было позволено отплыть. Я обещал вернуться.
Одиннадцатого мая я прибыл в Цинциннати, прелестный город примерно с полуторатысячным населением, и тут со мной тоже носились. Я посетил нового сенатора Соединенных Штатов от Огайо — Джона Смита. Милейший человек владел большой гастрономической лавкой, и там, в задней комнате, меня ждал Джонатан Дейтон, чей срок на посту сенатора Соединенных Штатов от Нью-Джерси истек в марте. Мы все трое были причастны к проекту строительства канала в Индиане (его построили позже — не мы). Участвовали мы и в движении за освобождение Мексики.
Среди огромных сыров, под копчеными окороками мы склонились над картами.
— Вам поможет каждый мужчина и даже юноша, если у него найдется ружье и он ищет приключений вдали от дома. — У сенатора Смита был весьма несенаторский вид: большой и светловолосый, он поверх костюма надел еще балахон, чтобы не пачкаться.
Дейтон был остер и изобретателен, как всегда. Из всей этой группы он был мне ближе всех и часто выступал посредником, когда мне приходилось иметь дело с испанскими и английскими властями. Среди прочих моих соратников были сенатор от Кентукки Джон Браун и Джон Адэр, который вот-вот собирался стать сенатором. Браун мечтал о военных авантюрах еще со времени того обеда у Джефферсона на лужайке у причала Грейс, когда нам впервые сказали про план Джефферсона спровоцировать войну с Испанией.
Джон Адэр, герой Революции, знаменитый каратель индейцев, не мог вынести мирную — тем более сенаторскую — жизнь. Подобно многим искателям приключений с Запада, он мечтал о завоевании Нового Орлеана. Когда Джефферсон купил Новый Орлеан, его мечты перекинулись на Юг, в Мехико.
Мы выработали такой план: войско в 5000 человек, собранное со всех Соединенных Штатов, сгруппируется небольшими отрядами в разных пунктах по Миссисипи. Если начнется война с Испанией, эти отряды тотчас превратятся в американскую пограничную армию. Под моим командованием мы переправимся через реку Сабин и при поддержке американского флота у Веракруса освободим Техас и Мексику.
Если же войны с Испанией не будет, английский флот заменит американский и мы соберем нашу армию у Нового Орлеана. При поддержке богатых креолов мы выступим с моря и суши.
Дейтон поинтересовался, что произойдет, если правительство открыто выступит против нас. Сенатор Смит послал мощную струю табачной жвачки через всю комнату и точно попал в пустой кувшин для молока.
— Не посмеют! В конце концов, это наша война, наша страна, а не их.
— Ну, а если Джефферсон все же нас предаст? — Дейтон не любил Джефферсона даже больше, чем я, ибо почти не был с ним знаком и посему мог презирать его отвлеченно. Я всегда убеждался, что такая — стихийная — страсть самая сильная, она создает святых и завоевателей. — А не послать ли нам его ко всем чертям?
— Да что об этом думать? — Сенатор Смит впился зубами в брикет табака, чернее ила из Миссисипи. — До него два месяца езды, если, конечно, путешествовать, как я, в комфорте, хотя, убей, не знаю, зачем я туда езжу. Должен признаться, полковник Бэрр, не нравится мне этот ваш сенат средь дремучих лесов и, если бы не миссис Смит, я никуда бы отсюда не двинулся, а считал бы свои яблоки.
— Яблоки нам пригодятся. — Я перевел разговор на тему об армейском довольствии, намекнул на то, что Джефферсон одобряет освобождение Мексики, и почти не солгал. Я не стал говорить, что, если бы Джефферсону пришлось выбирать между мной и Наполеоном в Мехико, он выбрал бы Наполеона.
На следующий день я вернулся в ковчег и поплыл в Луисвилл, откуда верхом отправился в Лексингтон, штат Кентукки, где и встретился с сенатором Адэром. Он уже получил письмо от Уилкинсона, где говорилось, что я рассчитываю на его поддержку.
Адэр заверил меня в доброй воле Кентукки, ибо:
— Здешняя братия жадна, как римляне, коль скоро дело касается завоевания. Мы хотим Мексику.
— И получим ее.
— Но ведь нужна война с Испанией, чтобы сделать первый шаг…
— Сенатор, наш друг Уилкинсон выиграет нам эту войну за час. — Так я думал, все еще веря Джейми.
Из Лексингтона я верхом отправился в столицу штата, Франкфорт, где остановился у сенатора Брауна, который заверил меня, что «наш старый друг мистер Джефферсон нуждается лишь в маленьком толчке, чтобы начать войну. Только бы он знал, что таковы наши намерения».
— Мои, во всяком случае, таковы. — Миссис Браун была тверда. — Назло Сэлли Ирухо с ее испанским муженьком! Меня тошнит от этой воображалы, должна вам сказать! Подумать только, наша местная Сэлли Маккин взяла манеру говорить с акцентом, как будто она испанка.
Миссис Браун, одна из немногих жен политических деятелей, помогала своему мужу в работе. Многие считали, что из них двоих лучше бы ей быть сенатором. Ее очень любила моя дочь.
Хмельное гостеприимство Кентукки отражено в стишке, который сочинил Джон Маршалл, когда одна дама попросила его придумать строфу со словом «парадокс»:
Нам парадокс в Кентукки Нежданный подвернулся: Когда полки стянули, Полковник натянулся.[86]Из Франкфорта я проехал верхом через зеленые джунгли в Теннесси и прибыл туда 29 мая. Я направил послание генерал-майору Эндрю Джексону, командующему гражданской гвардией Теннесси, прося разрешения навестить его. И отправился отсыпаться в лучшей комнате нашвиллской гостиницы. Через час меня разбудила толпа, собравшаяся под моими окнами. Я вышел к толпе, и она бурно приветствовала меня. То, что я убил Александра Гамильтона, воспринимали здесь с явным одобрением. Здесь знали, что я пекусь о принятии штата в Союз. Кроме того, теннессийцы ненавидели Испанию, и у них, так же как и у кентуккцев, чесались руки пограбить.
Наутро меня разбудил громоподобный крик под окном. Я выглянул и увидел самого генерала Джексона на статной лошади, он ругал прогневившего его раба.
Увидев меня в окне, Джексон снял шляпу, помахал ею и вскричал:
— Клянусь всевышним, это величайший день в истории Теннесси! Черт побери, полковник, одевайтесь и спускайтесь — мы будем завтракать у меня дома.
Я поступил в соответствии с полученным распоряжением.
Джексону еще не исполнилось и сорока, а он уже был известным адвокатом (хотя он до сих пор с трудом читает и пишет) и первым представителем своего штата в конгрессе. Он пробыл три месяца в палате представителей, ушел в отставку, получил место в сенате, но не прошло и года, как покинул и сенат («Чертовски скучное место, а, Бэрр?» — сказал он мне, когда мы встретились в прошлом году) и вернулся домой, где стал членом верховного суда штата. Когда мы встретились в тот летний день, он пытался превратить свой бревенчатый Эрмитаж в особняк, абсолютно нелепый в этой дикой местности. Джексон ненавидел виргинскую хунту, однако хотел иметь точно такой же дом, как у тех джентльменов. Надеюсь только, что, если моему другу суждено возвратиться домой, он окончит свои дни не в пустом доме, как иные виргинцы, у которых в уплату долгов вывозили всю мебель.
Когда мы галопом скакали по направлению к Эрмитажу, ветер откинул назад рыжую, чистую, как конская грива, шевелюру Джексона. (Почему это у многих наших вождей были рыжие волосы? Кельтская кровь? Или в рыжем цвете таится волшебная сила? К тому же наш нынешний президент более шести футов ростом.)
Джексон прокричал мне свое мнение о дуэли:
— Никогда еще не читал столько галиматьи в газетах! Лицемерный визг! И все из-за креольского выродка, которого никто ведь не заставлял драться с вами. Можно подумать — прошу прощения, полковник, — что он был джентльменом! Знаю, вы никогда не пошли бы на это, если бы не считали, что он джентльмен, но он им не был, сэр. Он был худшим представителем нашего Союза, сэр, вы же — лучший его представитель. Вы лучше всех, и уж куда лучше малодушного труса, который ходит у нас в президентах. Я одного боюсь — нанесенный вам ущерб мы скоро поправим, — я боюсь, что дуэли запретят; и что нам тогда делать, сэр, спрашиваю я вас? Да в одном Нашвилле полным-полно типов, на которых я бы с радостью направил пистолет, хоть стрелок я никудышный. Зрение, что ли, плохое… — Тирада произносилась в такт галопу — мы скакали густым сосновым лесом по направлению к Эрмитажу.
Джексон куда более заядлый дуэлянт, чем я, в нем говорит дух жителя границы, где споры улаживаются один на один, а не в газетной полемике и не судом. Вдохновленный, как он утверждает, моим примером, Джексон на следующий год дрался на дуэли с неким Чарльзом Дикинсоном, плохо отозвавшимся о миссис Джексон.
— Вы бы оценили, полковник.
Я еще раз посетил Эрмитаж, и меня встревожило состояние хозяина, ослабевшего от ран: пуля застряла у сердца и там и сидит, ее нельзя удалять. Но он говорит всем, что его лишь «слегка царапнуло».
— Так вот, сэр, я нарочно ждал, чтобы подлец выстрелил первым. Не забывайте, я очень плохо стреляю, а он был очень меткий стрелок, будь он проклят, да и моложе меня. Так вот, он выстрелил и попал в меня. Хорошо еще, я не потерял сознания. Голова была ясная, и я понял, что рана моя не смертельна, хотя, должен сказать, полковник, даже если бы он прострелил мне голову, я бы выжил, чтобы исполнить то, что задумал.
Джексон мрачно засмеялся, не сводя с меня бледно-голубых холодных глаз.
— Видели бы вы его лицо, когда я остался стоять. Когда я медленно поднял пистолет и нажал курок. Когда пистолет дал осечку. Мы препирались. Секунданты позволили мне выстрелить второй раз. Чарльз Дикинсон, скажу я вам, был бледный как простыня, и с него лил пот. С Гамильтона тоже лил пот?
— Не больше, чем с меня.
— Но у вас не было времени понаслаждаться видом съежившегося от страха негодяя. Так вот, я медленно поднял пистолет во второй раз, а кровь уже струилась у меня из раны и лужей натекала к ногам, и я понял, что сейчас я потеряю сознание, и быстро нажал курок, и выстрелил в него в упор, и убил его, сэр, убил, как визгливую свинью в базарный день! Видели бы вы, как он упал!
Так значит, наш президент — дуэлянт, но это вполне в духе времени и страны. И к тому же страшный человек, как убедились дезертиры во время битвы за Новый Орлеан.
Но я забегаю вперед. Сейчас лето 1805 года, и я впервые обедал с Джексоном и его женой Рейчел, полной, милой женщиной с приятными манерами. Как все теперь знают, Рейчел была первый раз замужем за неким Робардсом. Они расстались. Она влюбилась в Джексона. Полагая, что Робардс получил развод, она вышла замуж за Джексона, но вскоре обнаружила, что она все еще жена своего первого мужа. Понадобилось два года, чтобы оформить развод по всем правилам и второй раз зарегистрировать брак с Джексоном. Все это вполне невинно, хоть и нелепо (но о безнравственности тут вряд ли можно говорить). К сожалению, когда в 1828 году генерал Джексон стал кандидатом в президенты, моралисты с восточного побережья затеяли такой скандал, что сразу же после выборов Рейчел не могла лица нигде показать и умерла от позора. Естественно, характер у нашего президента не улучшился от того, что шакальи повадки прессы лишили его любимой жены.
Но все было хорошо и безоблачно в те прекрасные дни, которые я провел в Эрмитаже (он еще строился и напомнил мне мой первый и единственный визит в Монтичелло). А сейчас я хочу заметить для истории, что своими глазами видел, как Рейчел, смущаясь и извиняясь, сама набила, зажгла и выкурила трубку из кукурузного стебля.
— Уж куда лучше, чем нюхать табак, как Долли Мэдисон!
Джексон испытывал глубокую неприязнь к виргинской хунте. Будучи аристократом границы — если это сочетание вообще имеет смысл, — он терпеть не мог высокомерия виргинской знати, которая до сих пор считает жителей нашего Запада отбросами общества.
Джексон настоял, чтобы мне устроили официальный прием в Нашвилле со всеми почестями: почетным караулом, оркестром и розами. На мгновение я пожалел, что не принял в свое время предложения Лайона и не стал конгрессменом от Теннесси. Но трудно быть просто конгрессменом среди людей, считающих тебя вождем, который подарит им империю. Я стал пленником собственной славы и событий того лета, когда Запад был более обычного взбудоражен грубыми беззакониями, творимыми Испанией на общей, зыбкой и кровавой границе.
Я оставался в Эрмитаже пять дней, и Джексон делал все, чтобы я чувствовал себя как дома.
— Черт побери, Рейчел, нельзя же кормить его тем, чем мы кормим работников. — И он совал отвергнутое блюдо в руки дворецкого. — У полковника Бэрра был лучший стол в Филадельфии, и подавали вино, Рейчел, а не перебродивший виноградный сок!
— Ну-ну, генерал, — успокаивала его Рейчел, как успокаивают пса, чтобы он перестал лаять.
Мы с Джексоном обсудили наедине мой план освобождения Мексики. В роли командующего гражданской гвардией Теннесси он имел столько же возможностей, как и Уилкинсон, начать войну с Испанией, а она была неизбежна.
— Я все сделаю, сэр, только прикажите. Я ненавижу донов больше, чем самого дьявола — с дьяволом, говорят, хоть весело, и он не живет под боком за рекой Сабин, и не похищает наших мальчишек, как только что похитили братьев Кемпер, да еще с нашей территории, вот проклятые!
— Вы пойдете со мной, генерал, если вдруг вспыхнет война?
— Пусть меня прикуют цепями к дверному косяку, не то я первым брошусь бить донов! А за мной пойдет вся гражданская гвардия. Клянусь!
— Ну, а если не будет войны с Испанией?
— Мы ее устроим! — Джексон взмахнул трубкой, и в нас, словно артиллерийские снаряды, полетели облачка белого дыма.
— Ну, а вдруг испанцы не попадутся на удочку?
Он нахмурился.
— Вы спрашиваете, что нам делать с донами, если Джефферсон струсит?
— Да.
— Надо подумать.
— Вот именно.
— Джефферсон никогда не горел желанием драться. Помните, как он улепетывал от англичан? Те гнали его через всю Виргинию, словно лиса — нет, словно перепуганного зайца. Смешно! Позор!
— Думаете, мы все же сможем перейти Сабин без объявления войны и без разрешения Джефферсона?
Я знал, что ему не понравится слово «разрешение», так и вышло.
Джексон стал проклинать Джефферсона. Потом:
— Лично я рискнул бы. Либо вы завоюете Мексику и Джефферсон напишет вам вежливое письмо как правитель правителю, либо вас повесят доны и вам уже будет безразлично, что пишут из Вашингтона.
Джексон сказал то, что я хотел услышать, и я составил свой план.
На судне, предоставленном мне Джексоном, я отплыл 3 июня вверх по течению реки Камберленд в форт Массак, где меня ждал Уилкинсон. Мы провели вместе четыре дня. Он показал мне список рекрутов. Я показал ему свой. Мы согласились, что лучше всего начать кампанию следующей весной.
— Но сначала нам нужна война с Испанией.
Уилкинсон выпятил перетянутый портупеей живот…
— Скажите только слово, и я перейду реку Сабин. Я заставлю Испанию драться! Я даже Джефферсона заставлю драться. Это так же точно, как то, что завтра солнце взойдет с востока! — Затем Джейми дал мне письма к разным новоорлеанским магнатам и проводил меня до борта собственной баржи, по-королевски роскошной, сверкающей яркими красками, с командой из десяти матросов.
Я чувствовал себя прямо-таки императором Мексики, когда вплыл в Новый Орлеан, переполошив бездельников на пристани, которые сроду не видели столь экзотической ладьи.
Я не ожидал, что Новый Орлеан сулит столько радостей. Но будь жизнь снисходительней ко мне, не толкай она меня на великие свершения и в вечные водовороты, я бы тогда блаженно поселился там без долгих раздумий и провел остаток дней в комфортабельном доме с галереей на Вье Карре в окружении привлекательнейших женщин Америки и креолов, которые сразу покорили меня и которым, думаю, я тоже понравился. Ведь я, один из немногих американцев, говорил по-французски так, что меня понимали.
Я остановился в доме Эдварда Ливингстона, бывшего мэра, бежавшего из Нью-Йорка, где его обвинили в том, что кто-то из его подчиненных не по назначению использовал какие-то фонды. Подобно многим жителям восточных штатов, вступив в полосу невезения, он отправился на Запад и недурно там устроился. За две недели до моего приезда он женился на красивой и богатой креолке девятнадцати лет от роду. Он собирался стать сенатором от Луизианы. В настоящее время он всеми уважаемый посол во Франции.
— Я хотел спросить вас, скучаете ли вы по Нью-Йорку. А теперь нет нужды задавать этот вопрос. — Мы сидели в саду, и запахи тропических растений смешивались с ароматом жарящегося кофе, столь характерным для Нового Орлеана. В полотняном костюме Красавчик Нед больше походил на преуспевающего плантатора, чем на преследуемого мэра Нью-Йорка, которого я знал когда-то. Он лишь сердился на Джефферсона и на самоуправство, чинимое в Луизиане ее правителем Клерборном, не злонамеренным, но совершенно бездарным ставленником виргинской клики.
— Значит, вы сделали ошибку, когда голосовали за Джефферсона? — Я поддразнивал Красавчика Неда, который когда-то по собственному почину предлагал мне свой голос. Он был членом палаты представителей от республиканской партии, когда мы с Джефферсоном оспаривали президентское кресло.
Ливингстон покраснел.
— Я проявил слабость, полковник. А теперь у нас слабый президент, и мы потеряем Луизиану. Половина населения здесь мечтает о возвращении испанцев. Другая половина — о возвращении французов.
— И никто не хочет независимости?
— Здесь все время говорят об отделении; некоторые на Западе — особенно в Кентукки — ничем не лучше наших федералистов. А креолы вообще ненавидят американцев, и за это их нельзя винить. Они никогда не изъявляли желания стать колонией Соединенных Штатов.
До Ливингстона уже дошли слухи о том, что я замышляю, и он был готов помочь.
— Вы поймете, ключ к Мексике — католическая церковь. Недавно испанцы стали облагать налогом церковную собственность. И вот каждый священник в Мексике жаждет независимости. А святые отцы всегда добиваются, чего хотят! — Потом он устроил мне встречу с католическим епископом Нового Орлеана. Епископу так понравился мой план, что он сделал моими агентами трех иезуитских монахов. Меня принимала даже настоятельница ордена урсулинок; в монастырском саду за вином и сладостями я познакомился с монашенками (две были весьма симпатичные) и получил уверения в полной и искренней поддержке ордена.
И хотя я не замышлял отделять западные штаты от Союза, я заручился поддержкой таких политических деятелей, как сенаторы Браун и Адэр и генерал Джейми Уилкинсон, в свое время замешанный в «испанском заговоре». Но все это было раньше. Летом 1805 года никто и нигде в Соединенных Штатах, если не считать Новой Англии, не боролся за отделение. Я считал, и продолжаю считать, что различные части страны со временем пойдут своим путем, но уже без моей помощи. Я предпочитаю, чтобы будущий развал Соединенных Штатов отнесли за счет человека, который более других отстаивал суверенность каждого штата и право воссоединяться и отделяться как заблагорассудится, — Томаса Джефферсона.
В то лето я проехал от Нового Орлеана до Натчеза и Нашвилла (где второй раз встретился с Джексоном); от Нашвилла до Лексингтона и Франкфорта; от Франкфорта до Луисвилла и Сент-Луиса — столицы территории Луизиана, где безраздельно властвовал на своем посту губернатора мой соратник Уилкинсон.
Я прибыл в столицу Джейми 12 сентября. Голова у меня разбухла от парадов и речей, пиршеств и громогласных клятв сбросить донов в море. Да, Аарон Бэрр был в то триумфальное лето всесильным завоевателем — правда, лишь пыльных кладовок, бакалейных лавок да тенистых веранд просторных особняков, гордо выпячивающих фасады на полноводную Миссисипи. Запад я покорил. Так почему бы и не Мексику?
— Мы каждый день вербуем солдат! — Уилкинсон, как всегда, был полон энергии. Он сообщил мне имена армейских офицеров, которые к нам примкнут, и других, которые могут к нам примкнуть. Я предупреждал его, чтобы он не очень-то раскрывался, но он был слишком открытый по натуре. Так я думал в то время, во всяком случае. Он любил поносить Джефферсона на людях, я же старался никогда этого не делать. К сожалению, Уилкинсон был не только прирожденным негодяем, но и настоящим федералистом. «Джефферсон разделит всю собственность. Увидите». Он твердил это регулярно после второй бутылки кларета. «Он отнимет наши деньги. Он всех уравняет, если, — при этом он таращил красные глаза и театрально понижал голос, — мы не схватим тирана за руки!»
Уилкинсон слишком открыто мечтал об отделении Запада от Востока. Я предупреждал его, что это может кое-кого навести на ложные мысли о наших намерениях, но он и слушать не хотел.
— Мой друг, вождь, Roi.
— По-испански — Rey.
— Неважно!
Он так долго был связан с Испанией, однако не снизошел до того, чтобы выучить хоть слово из своего второго родного языка.
— Надо, чтобы доны пребывали в благодушном настроении. Тут залог успеха. Они не дураки. Они знают, что мы что-то замышляем. И пусть они думают, что мы возрождаем старый «испанский заговор». Предоставьте все мне. Уж я все устрою.
И устроил! До самого конца дон Карлос считал, что у нас нет видов на Мексику. Увы, заманивая в западню испанского посланника, мы угодили — верней, угодил я, а подтолкнул меня Джейми — в ловушку Джефферсона. Поползли слухи, что я замешан в плане расчленения Союза, и, наслушавшись речей Уилкинсона о тиране Джефферсоне, полных намеков и инсинуаций, всякий мог поверить, что слухи эти верны.
В августе филадельфийская газета «Юнайтед Стейтс» громогласно вопрошала (вопрос — удобный журналистский способ клеветы, не влекущий риска судебного преследования), не собирается ли полковник Бэрр созвать совещание штатов, расположенных по берегам рек Миссисипи и Огайо, чтобы провозгласить их независимость? Редактор газеты также «интересовался», сколько мне понадобится времени, чтобы захватить Новый Орлеан и использовать его как базу покорения Мексики. Первый «вопрос» был как раз на руку правительству, коль скоро убеждал всех относительно моих планов. Второй — почти правомерен.
Из Сент-Луиса я отправился на восток в Винсен и там остановился у губернатора территории Индиана. Уильям Генри Харрисон, виргинец с лошадиным лицом, был в ту пору щуплым молодым человеком лет тридцати с небольшим. Я передал ему письмо Уилкинсона; он его прочитал довольно медленно и столь же медленно сказал:
— Он пишет, полковник, что судьба Союза зависит от того, выберут ли вас в конгресс от Индианы.
— Генерал Уилкинсон никогда не преувеличивает. Я уверен, что он прав. Но, к счастью для вашей территории, судьба призывает меня в другие места.
На этом дело и кончилось.
Харрисон — милый человек, но его раннее восхождение для меня такая же загадка, как для него, должно быть, его падение. Сейчас, мне рассказывали, он секретарь суда по гражданским искам в Цинциннати, а ведь он прошел путь от губернатора Индианы до сената Соединенных Штатов. Он победил индейцев в небольшой стычке, а пресса раздула ее до размеров крупной битвы, чуть не равной сражению у Монмусского суда. Но видно, в Америке иначе и быть не может. Несмотря на всех наших героических генералов, полковников и истребителей индейцев, американцев почти всегда побивают, будь то англичане, те же индейцы или даже испанцы. Начиная с 1775 года мы одержали всего три настоящие победы: Гейтс победил при Саратоге, Ли — при Чарльстоне и Джексон — при Новом Орлеане (сражение произошло уже после того, как мы проиграли войну англичанам). Но столь велико национальное чванство, что любой американец, слыхавший хоть раз свист пули, — уже национальный герой, даже если он со всех ног убегал от врага.
Тогда в Винсенсе Харрисон не мог говорить ни о чем, кроме индейцев.
— Я пишу мистеру Джефферсону чуть не ежедневно и предупреждаю его об этих племенах, но, кроме расплывчатых теорий, я ничего от него не получаю.
— Мой муж столь же предан мистеру Джефферсону, как и его покойный отец. — Миссис Харрисон была осторожна.
— Да-да. — Генерал Харрисон налил нам еще сидра (он не пьет, не курит и даже не нюхает табак, а дюжина детей, которых родила ему его жена, свидетельствует о его моральных устоях). — Мистер Джефферсон советует мне осудить деньгами индейцев под залог их земель. Заплатить вовремя они не смогут, он говорит, что так всегда бывает, и я оккупирую их территории. Но в этой затее есть слабое место. У нас нет денег, и потому мы не можем дать им ссуду. Эх, полковник, вот мы с вами так уютно сидим у камина (я дрожал от холода в продуваемом сквозняком домишке), а племена замышляют нас уничтожить. Здесь будет такая война, какой мир еще не видел. А все почему? — Единственный раз за все время моего визита он высказал нечто похожее на убежденность или тревогу. — Да потому, сэр, что бессовестные люди продают им алкоголь! Сэр, я вешал бы любого белого, который продаст индейцам хоть чайную ложку виски.
— Но нам не разрешено никого вешать. — Миссис Харрисон опечалилась.
Поддержки я не получил. Харрисон даже не слишком твердо знал, где находится Мексика. И к тому же он не любил Эндрю Джексона, а у меня было правило судить о людях по их отношению к Эндрю Джексону. Тот, кто не ценит открытого и горячего человека, — враг всему, что есть лучшего в нашем народе, клянусь всевышним!
Я вернулся в Вашингтон в ноябре и тут же отправился к Мерри. Он мне сказал:
— Вас предали, полковник. — И показал мне номер филадельфийской газеты.
Я попытался сделать хорошую мину при плохой игре.
— Любое дело всегда порождает тысячу небылиц, но на тысячу небылиц в среднем приходится одна правдивая история.
Тут Мерри признался мне:
— Я не получил никаких указаний из Лондона. Не понимаю почему.
— А что с полковником Уильямсоном?
— Он все еще в Лондоне.
— Иначе говоря, все ни с места с прошлого лета?
— Боюсь, что так.
Я был разочарован. Мне была необходима английская военная помощь. И английские деньги (нью-йоркские авантюристы оказались не такими уж щедрыми). А раз британского золота не заполучить, не прикинувшись, будто служишь английским интересам, мне пришлось снова расшевелить Мерри. Я сказал ему то, что он хотел услышать: что Запад жаждет отделения от Востока. Что же до жителей Луизианы, они «терпеть не могут правительства» (чистая правда) «и будут драться, если это необходимо для отделения». (Может, и это правда?)
— Они хотят, чтобы я был их вождем. — (Опять правда.) — И учредить республику под протекторатом Англии. — (И это могло оказаться правдой. В то время новоорлеанцы очень хотели избавиться от провинциальных американских варваров. Если бы Англия им помогла, они стали бы англичанами.) — А не то они обратятся к Парижу.
Я произвел должное впечатление.
— Правительство его величества весьма серьезно отнесется к делу, если оно примет такой оборот.
Пока вполне достаточно. Я вдохновил его снова написать в Лондон. Отныне все зависело от отклика премьер-министра Питта.
На другой день после моего прибытия в Вашингтон миссис Мерри настояла, чтобы я сопровождал ее на ипподром. Там в ноябре по будням происходили (а может, и ныне происходят?) конные состязания, венчаемые ежегодным балом жокей-клуба в соседней таверне. Гвоздь сезона.
Мы стояли под навесом, день был солнечный, по-зимнему прозрачный, и нам было очень хорошо. Вокруг нас шумливые вашингтонские хлюсты гуляли вовсю, попивали ром, чтобы согреться, и делали ставки. Как всегда, миссис Мерри сумела окружить себя хорошенькими женщинами и умными мужчинами. Я чуть не забыл о своих честолюбивых замыслах, но вот перед последним заездом огромный увалень направился ко мне с дальнего конца поля. Новый вице-президент Джордж Клинтон выглядел старым и смущенным.
— Бэрр! — воскликнул он, словно дороже меня у него никого не было. — Рад вас видеть!
— Мой преемник! Мой… сын. Я чувствую себя вашим отцом. Нет, призраком отца! И отомсти, когда ты все услышишь[87].
— М-м-м? — Клинтон никогда не отличался быстротой ума. — Мы тут много наслышаны о вашем пребывании на Западе.
— Не верьте ни единому слову из того, что слышите.
— Но говорят, вы там все лето провели. Лучше бы они оставались с нами, это в их же интересах.
— Как вам нравится быть вице-президентом?
— Более идиотской должности не придумаешь, а? Да еще для Джорджа Клинтона, бывшего губернатора, и в моем-то возрасте!
На другой день я обедал с президентом и с дюжиной конгрессменов. Я нашел Джефферсона в хорошей форме и не мог понять почему. Меня так озадачило его приподнятое настроение, что я попросил об аудиенции; весьма охотно он назначил мне время.
Меня приняли в подвальном кабинете, набитом садовым инструментом; там стояли две копировальные машины. Быть может, он изобрел наконец устройство, которое действовало.
— Очень удобно, полковник. Заведите себе такую же.
— Когда устроюсь — непременно.
— Да.
Он ни разу не посмотрел мне прямо в глаза в течение всего разговора, который длился два часа.
Я говорил почти откровенно, и один-единственный раз он тоже был откровенен — насколько позволяла его натура.
— Вы читали о моих планах относительно Запада? — Я начал in medias res[88] и поклялся, что не допущу никаких разглагольствований об архитектуре или о природе музыки.
— Газеты я читаю. — Джефферсон дотронулся до глобуса. Он сидел в кресле собственной конструкции: кресло ни с того ни с сего вдруг поворачивалось на шарнирах.
— Разрешите вам сказать, западные штаты ни за что не оставят Союз.
— Я рад. — Смелая попытка казаться беспечным.
— Могу добавить, что вы сами очень популярны на Западе.
Это правда, и он, конечно, об этом знал.
— Приятно слышать. Мне очень хотелось бы побывать в той части света, когда я освобожусь от этой ненавистной должности.
Я быстро пресек «плач президента». Нескончаемая песнь жалости к себе! Первым ее запел Вашингтон, а все последующие президенты подхватили — целый хор. В прошлом году даже Эндрю Джексон начал петь мне о жестокой судьбе, заставившей его править нами. Я оборвал Джексона, оказав, что меня вовсе не трогают его ламентации. Из всех, пожалуй, только у Джексона достает юмора смеяться над собой — слегка, правда, но смеяться. И то хорошо.
— Позвольте мне рассказать вам о делах на Западе. — И я-таки рассказал ему как можно точней.
Джефферсон слушал со вниманием, задавал точные вопросы, признался наконец, что ему «никто прежде не говорил о таких важных вещах, а ведь ему положено все это знать».
— Я рад с вами поделиться, ибо вам эти сведения куда важнее.
Джефферсон медленно крутил вокруг оси глобус.
— Признаюсь, полковник, я не верил иным… сенсационным сообщениям, которые читал о ваших путешествиях. Убежден, вы никогда и не мыслили себе отделения западных штатов.
Позже Джефферсону пришлось отрицать, что он тогда вообще что-то слышал о моих «предательских» шагах. На самом же деле он знал почти все. Да и я говорил с ним достаточно откровенно.
— Мы с генералом Уилкинсоном хотели бы собрать армию — когда-то во время экспедиции Мишо так предполагали действовать вы — и освободить Мексику. Как вам известно, это и было единственной целью моего путешествия на Запад. И я обнаружил, что каждый американец в той части света мечтает изгнать донов с нашего континента.
Сперва Джефферсон не проронил ни слова. Он играл глобусом и наконец повернул его Мексикой к себе.
— Вы ставите меня в трудное положение, полковник.
— Мне казалось, вы давно уже от меня этого ждали. Вы много раз говорили мне, что наша империя будет неполноценной без обеих Флорид, Канады, Кубы… и Мексики.
— Да, разумеется. Когда-нибудь нам будет принадлежать все полушарие. Я уверен. Но я ничего не могу сделать без войны с Испанией.
— Мне казалось, вы готовились… вы… готовитесь к такой войне.
— Есть вещи, не известные вам, полковник. — Джефферсон оттолкнул глобус и так порывисто откинулся в странном своем кресле, что я думал, он его опрокинет. — Я получил предложение от императора Наполеона. Как всегда, ему нужны деньги на его войны. Он предложил «уговорить» — именно этот деликатный глагол употребил его посланник — испанское правительство отдать нам Западную Флориду. За сей акт дружеского убеждения он просит два миллиона долларов. И мне хочется дать корсиканскому бандиту pourboire[89].
Меня удивило предложение Наполеона. Еще более меня удивило, что Джефферсон принял его.
— Но зачем покупать то, за что давно уплачено? Разве Западная Флорида не входила в купчую на Луизиану?
— Я всегда так… э, толковал этот несколько расплывчатый документ. Но ни мое толкование, ни постановления конгресса не дадут нам ни фута испанской территории.
— Война даст вам западное полушарие.
— Без сомнения. Но направить армию — и флот — в Мобиль обойдется куда дороже двух миллионов долларов. Кабинет считает, нам выгоднее нанять императора, в конечном счете это дешевле.
— Этот состав конгресса не даст денег.
— Надо уметь попросить, и они все дадут.
— Но тогда не будет войны с Испанией.
— Боюсь, что нет. — Моя нескрываемая печаль лишь подбавила жизнерадостности Джефферсону. Он благодушествовал. — Думаю, мы первая в мире империя, покупающая территорию вместо того, чтобы завоевать ее.
— Никто и не сомневался в нашей уникальности.
Новость удручила меня.
— Что вы намереваетесь делать? — Джефферсон изобразил сочувствие.
— Не знаю. — И я действительно не знал. — Возможно, осяду на земле, которую приобрел на реке Уошито… И стану ждать войны с Испанией.
— Уверен, когда-нибудь она произойдет.
— А если нет… как вы посмотрите на освобожденную Мексику?
— Буду в восторге.
Джефферсон снова стал дипломатом в Париже. Ответы мгновенны, но неопределенны.
— Но подготовка?..
— Я дам вам тот же совет, что дал Женэ и Мишо. Будьте энергичны, удачливы и ни во что не вмешивайте правительство.
Я поднялся. Джефферсон с удивлением заметил, что мы провели вместе два часа.
— Никогда еще так быстро и с такой пользой не проходило время. — Он проводил меня наверх в холл, продуваемый сквозняком и наполненный дымом от плохого камина в столовой.
— У нас плохой дымоход.
— Если хотите, я вам его переделаю.
Когда я умирал с голоду в Париже, я за деньги переложил там несколько дымоходов. Полезный дар.
— Полковник, вы задели мое тщеславие! Я сам все ремонтирую в этом доме.
— Ну, как угодно.
Привратник распахнул парадную дверь. Грум держал мою лошадь на грязном дворе перед домом. Джефферсон с любопытством взглянул на меня.
— Должен сказать, у меня мелькнула мысль, что вы еще вернетесь сюда на постоянное жительство.
— В этот дом? — спросил я самым любезным тоном.
— А почему бы и нет? Но я имел в виду Вашингтон, конгресс. Представляя один из западных штатов.
— Такая возможность не исключается.
— Не упускайте своих возможностей, полковник.
— Мне кажется, не я их упускаю.
Джефферсон покраснел — и пожелал мне всего хорошего.
Мне захотелось отказаться от «мексиканского проекта». Без войны с Испанией большинство западных конфедератов не рискнет взяться за оружие, дабы не навлечь на себя немилость правительства, и, несмотря на все усилия Мерри, я ничего не получу от Англии.
Упав духом, я отправился в Филадельфию, где Джонатан Дейтон попытался снова меня взбодрить. Я получил письма от Хармана Бленнерхассета. Он хотел продать остров и внести свою лепту в мое начинание.
— Он дурак, но денег у него полно.
Мы с Дейтоном сидели у скудного огня в весьма скромной таверне Ричарда Делла, и я, признаюсь, был сумрачен, под стать зимнему дню. Дейтон вовсю старался меня подбодрить.
— Давайте обратимся к дону Карлосу.
Я выразил сомнение в том, что Испания будет финансировать экспедицию, цель которой — отобрать у нее Мексику.
— Ну, я не стал бы так говорить дону Карлосу. — Дейтон улыбнулся: он был прирожденный торговец (торговал травами от укусов змей). — Как раз все наоборот. Я бы начал с того, что хоть мы когда-то и думали об этом — по совету английского посланника…
— Мудрый никогда не лжет. — Я процитировал иезуитский афоризм, но втуне.
— Не так уж важно, что я скажу ему. Испанцы, конечно, знают о наших замыслах, и он скорее поверит мне, если я во всем ему признаюсь.
— Итак, что мы можем предложить Испании?
— Возрождение «испанского заговора».
Дейтон несколько раз встречался с доном Карлосом, и тот дал ему 1500 долларов и пожелал нам удачи. Я тогда еще не знал, что же сказал мой коллега испанскому посланнику. И отнюдь не пришел в восторг, когда в конце концов Дейтон признался мне, что сказал дону Карлосу, будто наша истинная цель — взять Вашингтон, захватить президента и конгресс, выкрасть деньги из Банка Соединенных Штатов, сесть на корабль, отплыть в Новый Орлеан и там создать Западную республику.
— Вы убедили дона Карлоса лишь в том, что я сумасшедший.
— Ну и что с того? — Дейтон был просто наглец. — Его устраивает план, и он готов был раскошелиться.
Устав от всего этого, я возвратился в Вашингтон и подал Джефферсону прошение назначить меня на какой-нибудь пост в правительстве. Я соглашался на любой пост, пусть самый скромный.
Наша встреча состоялась 22 февраля 1806 года. Я держался смиренно, Джефферсон величественно. Я никогда не видел его таким возвышенным. Лучшего слова не подберешь. С безмятежностью всевышнего он объявил, что народ потерял веру в меня и он никак не может предоставить мне какой-либо пост.
— Недоверие нескольких газет вряд ли так уж важно, — сказал я. — Всех нас они когда-то марали.
— Верно. Но к сожалению, вы утратили и политическое доверие.
— На недавних губернаторских выборах в Нью-Йорке я не только победил в городе, но…
— Но, полковник, я говорю о последних президентских выборах, когда, будучи вице-президентом, вы не получили ни единого голоса.
Джефферсон поднялся и занялся клеткой с пересмешником.
Я дал себе зарок сохранять смирение, но это было уже слишком.
— Я не получил ни единого голоса оттого, что выборщики знали, что я не кандидат. А кандидатом на переизбрание я не сделался не по своей и не по их, а по вашей воле, так что ни мои способности, ни их доверие роли тут не играли.
Джефферсон выпустил пересмешника из клетки, и тот сел к нему на плечо. Сел и Джефферсон; снова сказал, что ему очень жаль, но он бессилен мне помочь. Когда лишаешься доверия народа…
Я оборвал его; напомнил, что всего лишь год назад, когда я понадобился ему в сенате, ни он, ни народ не испытывали ко мне недостатка доверия.
— Но с тех пор, полковник, мы услышали столько всякого. — Он говорил задумчиво. — Газеты встревожили народ…
— Для того они и существуют.
Джефферсон выставил палец, и пересмешник на него сел и засвистел.
— Признаюсь, мистер Джефферсон, я удивлен, мне странно слышать, что вы не можете доверить никакой работы человеку, который поднял вас на такую высоту.
Жесткий старый рот стал еще упрямей. Руки упали на стол. Испуганная птица улетела и села на камин.
— Народ оказал мне эту честь, полковник Бэрр…
— Нет, сэр. Вашу победу в штате Нью-Йорк подарил вам Аарон Бэрр, и тот же Аарон Бэрр мог бы лишить вас президентства, скажи он хоть слово.
— Но вы не сказали этого слова, мистер Бэрр. — И я — президент. — Его злость пала на меня, словно топор палача, и мы покончили друг с другом.
Я поднялся.
— Интересно, что сказал бы мир, узнай он, к чему прибегнули вы для того, чтобы стать президентом.
— Но менять взгляд на историю нашей Революции уже поздно. — Джефферсон посадил пересмешника обратно в клетку.
Два месяца спустя, когда в Нью-Йорке по инициативе моих друзей начался процесс против журналиста Читэма, многие из сторонников Джефферсона почувствовали себя не очень хорошо. Читэм обвинил меня в стремлении получить президентство во время выборов 1800 года. Сенатор Байард от штата Делавэр под присягой заявил, что не только Аарон Бэрр отнюдь не старался лишить Томаса Джефферсона президентства, но сам Джефферсон непристойно быстро пошел на сделку с федералистами ради их поддержки в палате представителей.
Недавно, когда опубликовали дневник Джефферсона, мы смогли прочесть непомерно длинный и бесчестный ответ его на это обвинение и безумное предположение, что на мне лежит вся ответственность за показания сенатора Байарда, «единственная цель коих — меня оклеветать». Но я к этому делу никакого отношения не имел. Это Байард настоял на раскрытии правды. И сейчас еще их наследники продолжают сражаться: кто же лгал? Джефферсон или Байард? Джефферсоновцы утверждают, что лишь по воле случая Джефферсон оставил после выборов друга Байарда, федералиста, на посту инспектора в порту Вильмингтон, в штате Делавэр.
Мы все сказали друг другу уже в феврале, но я еще раз обедал с Джефферсоном. Потом, 12 апреля 1806 года, я пришел проститься с ним — уже навсегда.
1835
ГЛАВА ПЕРВАЯ
С недавних пор я представляю Элен людям незнакомым — или едва знакомым — как свою жену; впрочем, мы не часто бываем в обществе — она не любит выходить из дому. Потому, кажется мне, что боится встретить кого-нибудь, кто знал ее у мадам Таунсенд (эта мысль тревожит и меня). Она, правда, не признается в подобных опасениях, говорит, ей все равно, что о ней станут думать. Когда я настаиваю, чтобы она пошла со мной, Элен отговаривается работой. А если соглашается, то сразу мрачнеет, ну, а я… я ощущаю необыкновенное торжество, хотя знаю, что мне несдобровать, если кто-то заподозрит, кем она была раньше. Опасность только усиливается от того, что я представляю ее как жену. С другой стороны, ничто не мешает нам в один прекрасный день пожениться. Надо только заработать денег, открыть юридическую практику, забыть об отъезде за границу, о жизни в духе Вашингтона Ирвинга — или хотя бы Фицгрина Халлека, которого я сегодня видел.
Сэм Свортвут пригласил меня поужинать в таверне «Шекспир» на Нассау-стрит. Я с радостью принял приглашение. Однажды я, выполняя поручение, передавал какие-то бумаги клиенту в этой таверне и поразился, увидев, как все — от Эдвина Форреста до Джеймса К. Полдинга — пьют виски и дымят сигарами в самом что ни на есть праздничном настроении. Таверна «Шекспир» — неофициальный клуб литераторов и театралов города; каждый начинающий писатель или актер мечтает, чтоб его тут приняли как равного. Сюда заглядывают даже политические деятели веселого нрава, не говоря уже о членах Капустного клуба, чья ежегодная пирушка начинается с завтрака и продолжается до тех пор, пока последний гость не рухнет под капустным кочаном — гордой эмблемой наших голландских предков.
— Пойди один. Я хочу поработать. — Уже две недели Элен не притрагивается к платью, давно оплаченному нетерпеливой заказчицей. Короткая ссора закончилась слезами, что ей не свойственно. — Ненавижу все! — рыдала Элен.
— И меня тоже?
Но Элен только шмыгала носом. Ополоснув лицо холодной водой, она уселась возле манекена и принялась за работу. Она, как всегда, больше похожа на леди, чем любая из дам, украшающих своим присутствием банкетный зал гостиницы «Сити». Вот почему, наверное, я люблю с ней бывать на людях. Мне нравится маскарад и связанная с ним опасность.
Закутавшись в шарф от морозного воздуха, я шел по серым темнеющим улицам, старался не поскользнуться на замерзших лужах, обходил присыпанные снегом ямы, держался подальше от проезжей колеи, где, позвякивая колокольчиками, со зловещим скрипом проносились сани — того гляди, раскатятся и разобьют ноги лошадям или бедному пешеходу вроде меня.
Я открыл зеленую дверь таверны «Шекспир», и меня оглушил шум голосов из залов слева и справа; в нос ударил мощнейший дух спиртного, смешанный с запахами жареного гуся и тушеной капусты (несмотря на мою нелюбовь ко всему голландскому, я люблю голландскую еду).
С мороза у меня щипало уши. У входа в бар я столкнулся с низкорослым крепышом, он ударился о дверной косяк. Мы разом принесли друг другу извинения и только тогда узнали друг друга.
— О, молодой протеже полковника Бэрра!
Мне, как всегда, не хватило сдержанности. Как дурак, выложил Фицгрину Халлеку, что я в восторге от «Записок ворчуна», которые только что прочитал.
— О, какой вы милый! — Халлек говорит, как и пишет, довольно манерно. — Это старье. — Он кивнул на комнату сзади. — Мы написали их здесь с мистером Дрейком. — Он пристально смотрел на меня слезящимися глазами. От него несло ромом. — Я только что прочитал в «Ивнинг пост» ваши «Заметки старожила» о том, как вы впервые отведали яблоко любви — теперь, видимо, его уместней называть помидором. Я восхитился вашей смелостью. Как и все на свете — кроме индейцев и некоторых эксцентричных англичан вроде госпожи Троллоп, — я считал помидоры смертельным ядом. Смеялся над моим бакалейщиком, который уверял, будто их все-таки можно без страха употреблять в пищу. Однако теперь, благодаря вашей несказанной храбрости и литературному мастерству, я летом попробую этот зловеще-алый чудовищный шар.
У меня, должно быть, было кретинское выражение лица — от удовольствия и смущения. Меня похвалил Халлек! Даже сейчас, когда пишу эти строки, я все еще не верю своему везению.
— Пишите побольше, и мы издадим вашу книгу.
У Халлека глупая усмешка — из-за отвислой нижней губы, а глаза блестящие, наблюдательные, умные.
— Расскажите мне подробнее, как это вы попробовали любовное яб… то есть помидор. Какой у него на самом деле вкус?
— У них кисловатый привкус, — сказал я. — Их надо сначала варить. А затем добавить побольше сахара. Или сиропа.
Халлека передернуло.
— Ну нет уж! По здравом размышлении я отказываюсь от эксперимента. В конце концов, пусть талантливый молодой человек кушает за меня любовные яблочки на страницах «Ивнинг пост». — Снова глупая, но приятная усмешка. — Я хотел бы рекомендовать вас в члены нашего клуба. Он называется Клуб уродов и прославляет уродство во всем — в том числе и в помидорах. Правда, боюсь, что у вас нет первого и непременнейшего качества для членства в нашем клубе. Но все равно заходите. В любое время.
Он проследовал в обеденный зал в глубине таверны, а я вошел в бар, где увидел возле стойки, которая считается типичной для английских таверн, Сэма Свортвута. Сэма обступили подхалимы, потому что он не только дружен с президентом, но, как инспектор нью-йоркского порта, занимает самый значительный пост в штате.
— Проходи и садись, Чарли! — Свортвут положил свою тяжелую руку мне на плечо. — Привел мне девушку?
— Нет, сэр. Она — та, что должна была прийти, — не… не смогла…
— И ладно! Ничего, потом куда-нибудь закатимся; хоть я теперь уже не тот, что прежде, но еще любому дам сто очков вперед! — Он подвел меня к столику и усадил в кресло, как куклу.
— Черепаху! — крикнул он лакею, и тот подал нам черепашье мясо быстрее, чем большинство нью-йоркских лакеев успели бы объяснить, что получить его в Нью-Йорке можно только в канун Иванова дня. Я ненавижу черепашину, но ел, раз приказано, пил, раз приказано, и все мрачнел и мрачнел. Он же, напротив, все больше оживлялся от выпивки.
Я пытался навести разговор на прошлые времена, но, как и полковник (и мистер Дэвис), он думает только о будущем. Очевидно, копаться в истории — удел молодых.
— Техас! Вот земля! Вот куда тебе надо поехать. Беги из Нью-Йорка. Прочь от изнеженных и слабых горожан! — Вилкой с нацепленным куском черепашины он показал на своих прихлебателей у стойки. (Надо написать о разлагающем влиянии городской жизни на нашу могучую американскую породу.) — А ведь это полковник, благослови его господь, открыл мне глаза на Техас.
— Нельзя сказать, что его собственные техасские проекты увенчались успехом…
— Он опередил свое время! Так бы и высечь на его надгробии: «Аарон Бэрр первым прозревал будущее». Но ничего на этом не выиграл. Правда, он делает успехи. С планом насчет немецких поселенцев он забежал вперед всего на несколько лет. К тому же года не пройдет, — его хриплый голос звучал теперь тише, чем голоса у стойки, — как Техас отколется от Мексики; тут замешан президент.
Пока он говорил, я вдруг перенесся мыслью в те времена, когда люди, подобные Бэрру, замышляли империи. И Свортвут тоже пережиток той эпохи, как Бэрр, как Джексон. Свортвута вовлекли ныне в предприятие под наименованием Компания Галвестоновского залива и техасских земель. Юрисконсульт компании — некто Хьюстон, бывший губернатор Теннесси и протеже Джексона; порвав с семьей, отказавшись от губернаторства, он поселился среди индейцев (и пристрастился к спиртному). Теперь Хьюстон в Техасе; по словам Свортвута, он намеревается освободить эту землю от Мексики с тайного благословения Джексона.
— Вот о чем говорил полковник Бэрр с президентом, когда они впервые встретились через тридцать лет после суда за измену.
Я машинально начал чертить стенографические знаки прямо на исцарапанном столике; надеюсь, сейчас, через три часа — голова у меня болит от выпивки и трещит от разных мыслей, — я воспроизвожу его слова со всей точностью.
В последний раз Джексон приезжал в Нью-Йорк 12 июня 1833 года. Через две недели полковник Бэрр обвенчался с мадам Джумел. Теперь я понимаю, почему он так стремился выудить у мадам деньги на осуществление «техасского проекта»: президент Джексон сообщил ему то, чего никто другой не знал.
— Вот было дело — доставить полковника в президентский номер гостиницы «Америкэн». Пришлось заставить управляющего — старика Бордмана — впустить нас с черного хода по лестнице для слуг.
Слуга без нашей просьбы поставил перед нами громадное блюдо жаренной кружочками свинины с тушеной капустой. Мы со Свортвутом уплетали, как голодающие — или как голландцы, каковыми мы и являемся.
— Нам пришлось выдержать стычку в коридоре, где толпились жаждавшие назначений, но я провел полковника в комнату на том же этаже, а секретарю сказал, что я привел «то самое лицо», и через минуту, прихрамывая, вышел сам Старая Коряга. «Клянусь всевышним, полковник Бэрр, уже не думал встретить вас на земле или на небе!»
Полковник развеселился.
«Ну, мистер президент, если вы попадете на небо, то лишь моими ежедневными молитвами».
Президент так расхохотался, что едва устоял на ногах… слабый он… был… да и сейчас — не жилец на этом свете, бедный старик.
«Ну, а теперь, — сказал он, — я хочу поговорить с вами о Техасе».
«Как мы беседовали, — ответил полковник Бэрр, — в старые денечки?»
«Что ж, — генерал Джексон поджал короткую верхнюю губу. — Черт возьми, полковник, из-за вас я чуть не провалился на выборах, из-за вас и ваших мошеннических делишек!»
Но полковник остался невозмутим.
«Вам еще повезло, — сказал он, — что ваш соперник, мистер Клей, тоже был моим другом».
«Да, сэр, поэтому им и пришлось помалкивать. Клянусь всевышним, я не успокоюсь, пока не пристрелю Генри Клея и не вздерну Джона Кэлхуна!» Затем президент поворачивается ко мне. «Сэм, пойди в другую комнату и налей себе стаканчик мадеры. Но только один.
А я пока поговорю с человеком, которого ценю выше всех граждан Союза». Примерно полчаса прождал я в соседней комнате. Затем меня позвали обратно, и я увидел слезы на глазах президента. Он сказал полковнику «до свидания», а тот ему — «прощайте». Когда мы вышли на улицу, я спросил полковника, о чем они говорили, а он сказал только: «О Техасе».
Пока Свортвут заказывал еще целого гуся, к столу подошел Гулиан Ферпланк. Поклонился Свортвуту и прошел мимо. Думаю, он не помнит о нашей встрече. Свортвут рассказал, что Ферпланк женат на дочери Фенно, издавшего «Географический справочник Соединенных Штатов» для Гамильтона. Все они друг за дружку, наши правители. Свортвут думает только про Техас и про деньги, которые он там будет загребать. Он рассказал мне, как совсем недавно Джексон отправил туда Хьюстона на разведку.
— …Сэм Хьюстон тоже мечтает стать императором, как когда-то полковник Бэрр; но я сомневаюсь, что Старая Коряга это ему позволит. Президент хочет, чтобы Техас стал частью Соединенных Штатов. И у него еще кое-что на уме. О, он хитрый, наш старина Джексон. Все вокруг пытаются подбить его на аннексию Техаса, а он и пальцем не пошевельнет. Мол, надо держаться договора с Мексикой. И он будет держаться. Но знаешь почему? Тут тонкая интрига, уверяю тебя. «Сэм, — сказал он мне однажды, — Техас через год или два станет независимым». — «С нашей помощью?» Он пропустил мой вопрос мимо ушей. «Но я не хочу, чтобы он сразу вошел в Союз». — «Почему же?» — «Ну, предположим, Техас независим от Мексики. Возникла, значит, еще одна маленькая безобидная республика. И предположим, что у них возникает затруднение: где проходит их западная граница? Ведь в этой части мира она может проходить где угодно. Теперь предположим, маленькая безобидная республика говорит, что ее земли простираются до самого Тихого океана. Почему бы и нет? И предположим, они предъявляют претензию на обе Калифорнии, а может, и на права рыболовства на северо-западе, а может, и на один-два порта на Тихоокеанском побережье. Ну, мексиканцы, конечно, только посмеются, верно? И посоветуют, видимо, этому маленькому безобидному Техасу убираться к черту: не может ведь горстка техасцев выбить мексиканцев из Калифорнии?»
Слуга поднес Свортвуту кусок пирога с олениной.
— С поклоном от повара, сэр.
— Спасибо ему, спасибо. — Свортвут разделил пирог, и мы принялись жирными пальцами отламывать его и отправлять в рот пахнущие корицей кусочки. Свортвут с набитым ртом раскрывал передо мной план Джексона. Маленькая безобидная республика Техас предъявит претензии на Тихоокеанское побережье континента. Выдержав время, республика присоединится к Соединенным Штатам, и те своим чередом потребуют всю испанскую Калифорнию. — И мы заполучим больше территории, чем приобрел Джефферсон, подлый предатель! Мне бы твои годы, твои годы!
Всем, кроме меня, нравится мой возраст.
Наконец, не в состоянии еще что-нибудь съесть или выпить, Свортвут откинулся в кресле и пожелал точно узнать, что же я пишу о полковнике Бэрре.
— Жизнеописание полковника, ничего больше.
— Я слышал, это будет жизнеописание Мартина Ван Бюрена, а?
Я промолчал.
Громадная красная ручища медленно вытерла с губ гусиный жир и легла на столешницу, тотчас ее засалив.
— Знаешь, Мэтти Ван пытался помешать моему назначению на пост инспектора порта. Ну и коварный дьявол, скажу я тебе. Но главное-то, — в его взгляде появилась задумчивость, он тихо икнул, — мы не желаем вреда полковнику, правда?
Я покачал головой, слегка удивленный щепетильностью Свортвута: обычно он прет напролом и с легкостью предает друзей.
— Но я думаю, еще можно выкрутиться. Тебя ведь это, видно, тоже беспокоит?
Я попытался сделать безучастное лицо, как полковник. Но уши у меня так горели, что я знал — они красные, как у кролика.
Свортвут снова икнул и втянул тяжелый подбородок в высокий крахмальный воротник.
— Могу себе представить, сколько платит тебе Реджинальд Гауэр. А я знаю кое-кого, кто заплатит вдвое больше.
— Но я… заключил договор.
— Расторгни.
— Я взял деньги.
— Верни.
— Но зачем? Полковнику все равно достанется.
— Никоим образом, если то, что ты написал, войдет в книгу, которую пишет кто-то другой.
— Но это ничего не меняет. Полковник подумает, что это я за кого-то написал книгу.
— Подумал бы, если бы появился очередной анонимный памфлет. А тут будет большая роскошная книга, и автор знаменитый, и знаменитое имя будет красоваться во всю обложку, и никто никогда не подумает, что ты с ним связан.
— Кто же это?
— Я устрою тебе встречу. — Не умеющий хранить секреты (но плетущий нескончаемые интриги), Свортвут наслаждался таинственностью. — Он скоро приедет со своим издателем. Издатель, говорили мне, из Филадельфии.
Собутыльники Свортвута подошли к столику, и я понял, что пора подниматься. Я еще написал ему — по его просьбе — адрес мадам Таунсенд.
— Не видал милого созданья с тех пор… как она открыла заведение.
Я поблагодарил Свортвута и вышел. Проходя мимо столика Ферпланка, я узнал в лицо нескольких писателей и издательских адвокатов. Вот бы принадлежать к их кругу!
Когда я пришел домой, Элен рвало. Она сказала, что ждет ребенка.
Сейчас четыре часа утра, мне не спится. Я сижу, пишу и переписываю эти заметки, тупо смотрю на манекен (один из рукавов с буфами заметно продвинулся) и думаю, что будет с Элен, со мной и ребенком.
ГЛАВА ВТОРАЯ
С самого утра шел снег. Бродвей теперь под толстым слоем белой пудры. На улице полно саней. У всех раскрасневшиеся лица. В доме уши у меня горят, на улице мерзнут.
Вскоре после полудня я пришел в пансион, где живет полковник; Джейн Макманус сидела возле полковника и держала его за руку. Без всякого смущения она встала, поздоровалась со мной.
— Мне пора, полковник.
— Как хочешь, милая девочка. — Странно даже подумать, что кто-то может увидеть в этой полной женщине девочку, милую или неважно какую. Она обещала вскоре снова навестить полковника.
— Бедное дитя, она все еще потрясена налетом мадам на наше счастливое гнездышко.
Полковник, кажется, в отличной форме, хоть и жалуется на холод, а в комнате так жарко, что уши у меня пылают. Я рассказал ему, что обедал с Сэмом Свортвутом, а он в ответ показал мне толстую кипу бумаг на столике возле дивана.
— Теперь и Сэм станет участником нашей истории. Он был милым молодым человеком, как и все Свортвуты. Хотя, пожалуй, чрезмерно добродушным…
Меня удивила собственная бодрость — ведь я глаз не сомкнул всю ночь. Элен же спала, как ребенок, и проснулась утром такая сияющая и довольная, что у меня язык не повернулся заговорить о том, как мы влипли. Однако же она ни словом не обмолвилась о свадьбе. Я ее совсем не понимаю. Думаю, именно поэтому я подарил ей, сгоряча, единственную свою ценную вещь — миниатюрный портрет матери работы Вандерлина на золотой цепочке. Она пришла в восторг и тут же повесила медальон себе на шею.
Воспоминания Аарона Бэрра — XIX
На первой неделе августа 1806 года я отправился на Запад, как я полагал, навсегда. Несколько сот горячих молодых людей из лучших семей Америки должны были встретиться со мной первого ноября в Мариетте на реке Огайо.
Уилкинсон обещал мне начать войну с Испанией по первому моему сигналу. Перед отъездом из Филадельфии я подал ему этот сигнал в шифрованном письме, которое должны были доставить Уилкинсону мои верные друзья Сэм Свортвут и Питер Огден, племянник Дейтона и сын моего старого друга еще с давних квебекских времен.
Письмо это явилось главной уликой против меня в судебном процессе, и я должен его воспроизвести. Оригинал, разумеется, давным-давно потерян либо уничтожен Уилкинсоном, который потом, чтоб запятнать меня, а самому оправдаться, распространял совершенно иной документ. Он приписал в мое письмо кое-какую чушь от себя. К счастью, он действовал слишком грубо. Он неудачно пытался стереть первую мою фразу: «Получил Ваше письмо с почтовым штемпелем 13 мая». То был серьезный промах, поскольку сперва он делал вид, будто до моего письма не знал ничего о «заговоре». Несмотря на подделки, письмо устанавливало два гибельных для него факта: мы пользовались шифром и он писал мне за три месяца до этого письма.
Что я на самом деле писал Уилкинсону? Я сообщал, что наши рекруты соберутся первого ноября на Миссисипи. Пятнадцатого ноября мы на легких лодках начнем спуск по реке. У испанского форпоста в Батон-Руж мы решим, захватить его или идти дальше. Если можно, я хотел овладеть Батон-Ружем хотя бы для того, чтобы ублажить Джексона и других моих сторонников, которым была ненавистна даже мысль о донах, нагло расположившихся на берегах их реки.
Я сообщал также, что мои агенты (те самые три иезуита в Новом Орлеане) заверили меня, что жители страны, куда мы направлялись, присоединятся ко мне, если я поклянусь защищать их религию (такую клятву я уже принес в присутствии новоорлеанского епископа). Я писал, что Уилкинсон будет подчиняться только мне, от меня получать деньги и что вся операция завершится за три недели. Я заверил его, что нам обеспечена поддержка со стороны британского флота, — это была ложь. В заключение я писал, что Сэм Свортвут передаст ему дальнейшие инструкции. Я представил Сэма (не вполне искренне) как восторженного почитателя «западного Вашингтона».
Дальнейшие инструкции были очень просты: спровоцировать инцидент на реке Сабин. Сделать это было легче легкого, поскольку за год до того испанцы форсировали Сабин и заняли Байя-Пьер и Нону — два форпоста на американской территории. Эта наглость вывела из себя даже Джефферсона. В феврале 1806 года он дал указание военному ведомству изгнать испанские войска. Однако Уилкинсон игнорировал приказ военного министра, и испанцев никто не тронул. По моему разумению, Уилкинсон выжидал, чтобы согласовать свои действия с моими.
В июне президент прямо приказал Уилкинсону выйти из Сент-Луиса, принять на себя личное командование нашими войсками на Сабине и изгнать испанцев. И все же, когда я послал ему письмо (в конце июля), Уилкинсон так и не сдвинулся с места, и все в Вашингтоне придерживались того мнения, что Джефферсон скоро сместит нерасторопного командующего.
Я попросил Дейтона написать Уилкинсону и предупредить его, что его скоро сместят. Я полагал, что тем заставлю его действовать; у него не останется иного выбора, как отправиться в новые края. Увы, предупреждение Дейтона возымело обратное действие. Уилкинсон понял, что ему надо постараться вновь заслужить расположение Джефферсона. Каким образом? Разумеется, предать меня.
Такова подоплека моего письма Уилкинсону. Нет нужды объяснять, что слово «Мексика» в нем не упоминалось, как не содержалось в нем и указания Уилкинсону провоцировать войну с Испанией. Я полагал, что это случится само собой — как только он подчинится приказу другого своего главнокомандующего.
Я писал в письме то, во что искренне верил: через три недели места, куда мы отправимся, будут в наших руках. На суде обвинители пытались доказать, что я имел в виду не Мексику, а Новый Орлеан. Но я располагал такой поддержкой в этом городе (рассчитывая к тому же на помощь командующего американской армией), что Новый Орлеан мы могли взять не за три недели, а за три часа. В своем письме я имел в виду только Мексику.
К середине августа я прибыл в Питтсбург. Здесь-то я и совершил ошибку, отобедав с полковником Джорджем Морганом, тщеславным глупцом, не поумневшим с годами. Я побывал в его доме не для того, чтобы повидаться с ним, а чтобы завербовать трех его лихих сыновей. Во время обеда я позволил себе несколько острых словечек о Джефферсоне, не выразив восхищения нашим главарем, но никак не выразив и враждебности. Когда полковник пожаловался на разложение американской армии и посягательства донов на нашу территорию, я заметил: «Но ведь это политика мистера Джефферсона. Увы, он настолько ослабил нашу военную мощь, что мы с вами, располагая сотней солдат, могли бы скинуть президента и конгресс в Потомак». Никогда не шутите со вздорным стариком, особенно если он много лет пытался добиться от правительства признания его прав на спорную полоску земли в Индиане. Вдохновленный праведной алчностью, полковник Морган решил предупредить местные власти о моих темных планах — утопить мистера Джефферсона, И он написал моей предполагаемой жертве слогом столь же возвышенным, сколь и невразумительным.
Вскоре по прибытии в Питтсбург я получил письмо от Уилкинсона (который моего письма еще не получил). После пространных напыщенных фраз он объявил: «Я готов». Все обстоятельства как будто предвещали нам успех.
Я счел добрым знамением и то, что здоровье Теодосии (пошатнувшееся от Каролинского климата) настолько улучшилось, что она смогла приехать к нам на реку Огайо.
На острове Бленнерхассета я встретил наконец самого легендарного островитянина. Близорукий, почти слепой, дивный рассказчик и неважный слушатель, вечный мечтатель, блистательный эксцентрик положительно помешался на мысли о приобретении по меньшей мере титула маркиза Веракруса, не говоря уже о возможности стать моим послом в Англии, где он хотел свести кое-какие старые счеты. Ублажая его, я лишь подливал масла в огонь.
Миссис Бленнерхассет, умная и оживленная, как и прежде, тотчас же устроила в нашу честь роскошный обед. Должен признаться, мне всегда казалось необъяснимым чудом, когда на Западе меня угощали прекрасным обедом на серебре, шампанское наливали в ирландский хрусталь, прислуживали мне, как лорду. Словно по волшебству роскошный особняк вырос посреди первозданной дикости.
От Теодосии все были в восторге, и я больше всех. Я скучал по ней, как скучаю по ней всегда, всякую минуту. Мы могли говорить и говорили друг с другом обо всем на свете.
После обеда дамы удалились в гостиную, а я и мои помощники, приехавшие со мною, остались с Бленнерхассетом. Говорили о провианте, о деньгах, о будущем.
Бленнерхассет горел от возбуждения и, несмотря на склонность порассуждать о Вольтере, когда я сводил разговор на бочки с салом, был хорошим собеседником и не совсем бесполезным; он пожертвовал столько денег, сколько позволяли его возможности.
Когда я впервые посетил остров, миссис Бленнерхассет пригласила меня на верховую прогулку среди садов, удивительным образом разведенных на лесных вырубках. В прибрежной роще у флигеля она поведала мне, что мы с нею — не правда ли, поразительное сходство — существа избранные. Я был сама любезность (как подобало повелителю) и подтвердил обещание, по секрету данное ее мужу, сделать его своим послом в Лондоне.
— Но мы не можем туда вернуться! — Она натянула поводья. Желтые листья ярко оттеняли ее красную амазонку, в ее облике было что-то геральдическое.
— Почему же?
— Потому что мы… мы… не как все.
Не венчаны, подумалось мне сразу, пока я смотрел на нее величественным взглядом, подобно Соломону, каким он описан в любимой книге моего дедушки. Она всхлипнула и затем посвятила меня в свой чудовищный грех:
— Я племянница Хармана Бленнерхассета!
Мой конь споткнулся, ее — заржал.
— Ну и что с того?
— Как что? Я вышла замуж за родного дядю! В Ирландии нас бы сожгли заживо!
— Но в Англии, уверяю вас, в вашу честь будут устраивать приемы!
— Вы думаете? — Драматический надрыв сменился обычным для нее воодушевлением. — Я вовсе не уверена. Все так сложно. — Она спешилась. Я последовал ее примеру. В течение довольно приятного часа она поведала мне потрясающую, необыкновенную, совершенно удивительную историю своей жизни, рассказала о присущей ей вечной жажде перемен. Я всегда придерживаюсь правила выслушивать такие истории с тем сочувствием, какого они заслуживают.
Менее чем за неделю остров обратился в мастерскую. Зерно сушилось, обмолачивалось и превращалось в провиант. Бочки с провизией прибыли из Мариетты, их сложили у причала. Вопреки моему совету Бленнерхассеты упаковывали все имущество: они собирались плыть с нами в уошитские земли и ждать там завоевания Мексики.
А я не получил от Уилкинсона ничего, кроме письма с заверением «Я готов». Какое-то время и Джефферсон и я напряженно ожидали действий «западного Вашингтона».
Когда наконец Уилкинсон подчинится приказам Джефферсона (не говоря уже о моих!) и выступит против испанцев на реке Сабин? Как выяснилось, он вышел из Сент-Луиса только на первой неделе сентября. Затем с чрезвычайной медлительностью достиг Натчеза, откуда написал сенаторам Адэру и Смиту, что готов огнем и мечом очистить американскую территорию от донов. Он написал также Адэру, что «времена, которых ждали и о которых мечтали многие, наконец наступили — пора сбросить испанское правительство в Мексике».
Адэр переправил мне копию письма, и я обрадовался, хоть и был озадачен. Почему Уилкинсон не написал прямо мне? Признаюсь, на ум приходила мысль, уж не собирается ли он сам завоевать Мексику — предать и Джефферсона и меня.
В конце сентября Уилкинсон уведомил испанского командующего, что, если он не отойдет с западного берега Сабина, войны не миновать. Ко всеобщему изумлению (меня же эта новость повергла в ужас), испанцы в точности выполнили его приказ. 27 сентября они ушли с американской земли.
Все это время я подготавливал либо захват земель в бассейне реки Уошито, либо вторжение в Мексику. С моими людьми и припасами я мог предпринять и то и другое.
27 сентября я был в Нашвилле, где Эндрю Джексон устроил в мою честь прием в гостинице «Талбот», провозгласив древний тост: «Миллионы на оборону, ни цента на уплату дани!» Как командующий гражданской гвардией Теннесси, Джексон имел возможность развязать войну, которая казалась неизбежной. 4 октября по моей просьбе он объявил всеобщую тревогу. Он клялся, что поскачет вместе со мной в Мексику.
Через несколько дней после объявления тревоги в Теннесси Сэм Свортвут и Питер Огден вручили мое шифрованное письмо Уилкинсону, который находился в Натчиточес на мексиканской границе. Два месяца разыскивали они командующего американской армией, который наконец подчинился приказу президента и с опозданием на четыре месяца приступил к своим обязанностям.
Свортвут передал ему мое письмо. Прочитав его, Уилкинсон попросил Свортвута помочь ему подготовить шифрованный ответ, и смысл его по-прежнему сводился к фразе «Я готов». Уилкинсон отправил письмо. Потом ни с того ни с сего передумал. Он отправил гонца перехватить собственное письмо и уничтожить его. Содержание письма известно мне лишь в общих чертах, со слов Свортвута.
20 октября Уилкинсон написал Джефферсону, что на Западе зреет заговор с целью захвата Нового Орлеана. Имен он не называл. Да ему это и не требовалось. Один прелестный штрих: заговорщики, объявил он, собираются поднять в Луизиане бунт чернокожих. Джейми знал, чем огорчить Массу Тома.
В опубликованном недавно дневнике Джефферсона говорится, будто еще 22 октября 1806 года он был убежден, что я виновен в измене, поскольку именно в этот роковой день на заседании кабинета обсуждалась моя предполагаемая экспедиция. Несмотря на мою «вину», кабинет решил, что я не сделал покуда ничего предосудительного и правительство может лишь предупредить губернаторов и посоветовать им держаться поосторожней с изменником, пока, правда, не совершившим измены. Вот она, джефферсоновская логика во всем блеске.
Не ведая о внимании, какого я удостоился в Вашингтоне, я продолжал собирать людей и припасы.
6 октября я выехал из Нашвилла (с самоновейшим новобранцем, племянником миссис Джексон) в Лексингтон, где встретил Теодосию и ее только что прибывшего мужа.
Я рассчитывал в ноябре начать спуск по Миссисипи. Уилкинсон был уже на границе, и, несмотря на его загадочное поведение с испанцами, я, как и все, ждал войны с Испанией.
В тот же год, несколько ранее, двое гомосексуалистов основали во Франкфорте скандальную газетку «Вестерн уорлд». Теперь они обвинили нас с Уилкинсоном в попытке воскресить старый «испанский заговор». Воспользовавшись этим, честолюбивый политический деятель из Кентукки по имени Джон Давейс решил прямо вмешаться в мои планы. Некоторое время Давейс, убежденный федералист, пытался доказать, что кое-какие высокопоставленные деятели Запада состоят на тайном содержании у испанского правительства. По странному совпадению все эти высокопоставленные деятели занимали видное положение в республиканской партии. Он назвал сенаторов Адэра, Брауна, Смита, Брекенриджа и будущего сенатора Генри Клея, губернатора Уильяма Генри Гаррисона и генерала Эндрю Джексона — все они, очевидно, были замешаны в «испанском заговоре» с целью отделения западных штатов от восточных. Во главе списка знатных имен он поставил имена мое и Уилкинсона.
Давейс написал Джефферсону о своих подозрениях. Без сомнения, президент возликовал, узнав, что я стою во главе заговора, однако он не мог не прийти в ужас, обнаружив, что чуть не всех его политических сторонников на Западе молодой мистер Давейс, шурин архифедералиста Джона Маршалла, тоже назвал изменниками. Джефферсон потребовал дополнительных сведений.
Упрямый молодой федералист отправился весной в Сент-Луис побеседовать с Уилкинсонам. Тот наговорил много лишнего, открыл Давейсу, что он послал офицера регулярной армии Зебюлона Пайка проложить маршрут в Мексику для возможного вторжения. Давейс принялся бомбардировать письмами Джефферсона, Мэдисона и Галлатэна, сообщая им все носившиеся в воздухе сплетни, а в то время в Кентукки не было недостатка в самых невероятных сплетнях. Стремясь нанести ущерб республиканской партии, он выдвинул столько беспардонных обвинений, что Джефферсон наконец перестал обращать на него внимание. Однако, к несчастью, с Давейсом приходилось считаться на его родной территории, поскольку он был окружным прокурором в Кентукки и мог устроить скандал, что он и не замедлил сделать.
После беглого смотра моей большой флотилии и припасов в Луисвилле (пять плоскодонок и несколько бочек муки) Давейс возвратился во Франкфорт и 5 ноября дал местному судье показания под присягой, что я планирую вторжение в Мексику, за которым должно последовать отделение западных штатов от восточных. У него хватило ума заявить судье, что, хотя и нет закона, запрещающего кому бы то ни было побуждать штат к отделению (будь такой закон, Джефферсон давно бы уже сидел за решеткой), меня тем не менее следует арестовать, дабы пресечь опасный заговор. Судья отклонил ходатайство Давейса. Тогда Давейс потребовал созыва большого жюри, которое собралось 12 ноября.
Когда Давейс подал первое заявление в суд, я находился в Лексингтоне. Со всей поспешностью я отправился во Франкфорт, чтобы прекратить судебное разбирательство. Но я опоздал. И оказался в большом затруднении. Обвинения и контробвинения не сходили со страниц газет. Рухнула не одна карьера, в том числе моего друга Джона Адэра, который, не добившись переизбрания в сенат, отдал свои голоса двадцатидевятилетнему Генри Клею, как говорили, — лучшему адвокату в штате Теннесси. Увидев, насколько далеко зашло дело, я поручил новоизбранному сенатору быть моим защитником.
Только на первой неделе декабря я предстал перед большим жюри. Входившие в него джентльмены придерживались того мнения, что экспедиция против Мексики не так уж предосудительна. Выслушав меня и моего красноречивого защитника, большое жюри констатировало «отсутствие состава преступления» с частным определением, что и я и Джон Адэр — так сказать, отличные ребята. Нет нужды говорить, что звонкое красноречие Генри Клея немало способствовало счастливому исходу.
Замечу мимоходом, что я всегда поражаюсь, насколько отличаются нынешние адвокаты и политические деятели от нас, деятелей первого поколения. Никто из нас не мог бы тягаться с нынешними ораторами. Джефферсон и Мэдисон выражались невразумительно. Монро наводил скуку. Гамильтон был сбивчив, я — слишком сух (и краток, чтобы угодить публике). Лучше других говорил Фишер Эймс (я, правда, не слышал Патрика Генри). Сегодня же едва ли не каждый общественный деятель — удивительный оратор, нет, актер, способный поднять бурю, вышибить слезу, вызвать смех. Не могу объяснить перемену ничем, кроме воздействия целого поколения евангелических проповедников (Клей всегда вызывает в моем воображении проповедника, который рассуждает о крови агнца, призывает паству к раскаянию, а сам думает, как бы соблазнить даму, сидящую на задней скамье); кроме того, конечно, нынешний политик имеет дело с куда большим числом избирателей, чем мы. Нам требовалось обворожить разговором участников закрытого совещания, им же нужно расшевелить трубами и кимвалами громадное сборище.
25 ноября Уилкинсон прибыл в Новый Орлеан. В тот же день первое его предупреждение достигло Джефферсона. Через два дня президент издал прокламацию, «предостерегающую всех верных граждан» от каких бы то ни было незаконных заговоров против Испании. Эта прокламация попала на Запад лишь через несколько недель.
11 декабря остров Бленнерхассета подвергся нападению окружной гражданской гвардии для подавления того, что местный судья на свой страх и риск назвал злостным бунтом. Поскольку на острове не оказалось никого, кроме бедной миссис Бленнерхассет, гвардейцы выпили все вино, а затем разрушили дом, полностью продемонстрировав свое презрение к цивилизации. Я тогда об этом ничего не знал. Только через тридцать лет сумел я установить последовательность событий, о которых теперь рассказываю.
Я уехал из Франкфорта после блестящего бала в мою честь, на котором новоиспеченный сенатор Генри Клей весьма удачно изображал обитателей скотного двора.
В Нашвилле в таверне «Долина клевера» меня посетили генерал Джексон и его друг Джон Коффи.
Джексон совсем растерялся.
— Полковник, вы сами попали и меня впутали в чудовищный переплет.
Я не думал, что этот мужественный человек может от страха понижать голос, пугливо озираться, но, когда мы уселись в укромном углу главной залы, скрытые от любопытных глаз стеллажом с газетами, он заговорил свистящим шепотом. Джон Коффи нас не слышал.
Я сказал Джексону то, что мне скоро наскучило повторять. Я не затевал раскола.
— Зачем мне это? Речь идет о Мексике. Об одной только Мексике.
— Тише! — Джексон смотрел на меня встревоженно. — До меня дошли самые худшие сообщения — про вас и про Уилкинсона.
— Что говорят об Уилкинсоне?
— Вы ему доверяете?
— Нет. Но я рассчитываю на его личную заинтересованность. Джефферсон собирается его сместить. Ему нечего терять, и он может только выиграть, держась нашего плана.
Мысль о Джефферсоне придала нашему разговору несколько иное направление.
— Но вы всегда говорили… вы делали вид, что Джефферсон осведомлен о вашем предприятии.
— Он все знал и, как и мы с вами, стремится покорить Мексику.
— Без войны?
— Желательно.
Джексон нервно огляделся, затем прошептал:
— Вы знаете об отношениях Уилкинсона с испанцами?
— Много лет назад он клялся в верности испанской короне, дабы вести торговлю в Новом Орлеане и Мобиле.
— Чепуха! Люди получше него присягали ей в верности. Это ничего не значит. Но вам известно, что он был… что он все еще испанский агент?
— Вы начитались газет.
— Я читал сообщения из Мексики. От моих друзей. И у меня есть доказательства, что Джеймс Уилкинсон служил испанским агентом номер тринадцать по крайней мере пятнадцать лет, и сейчас он все еще испанский агент номер тринадцать и состоит на жалованье у испанского короля.
— Не верю. Немыслимо. — Впервые я не сумел скрыть изумление и тревогу.
Я думаю, Джексон понял, что я не притворяюсь. Он злорадно продолжал:
— Что ж, полковник, вас здорово надули. Теперь у Уилкинсона неприятности и с испанцами и с Джефферсоном. В этом году Испания перестанет платить ему жалованье. И Джефферсон, возможно, снимет его с поста командующего армией. Нашей армией. Клянусь всевышним! — Голос Джексона неожиданно разнесся по всей зале, обескуражив всех, его в том числе. Он снова заговорил шепотом. — Согласитесь, у нас не президент, а дерьмо собачье, честное слово! Ну кто еще, кроме Джефферсона, я вас спрашиваю, отдал бы американскую армию в руки испанского агента?
Мне не хотелось хулить Джефферсона.
— Если это правда…
— Это правда. Чем угодно могу доказать! Одного только своими глазами не видел: шпионских донесений этого прохвоста!
Все стало убийственно ясно. Теперь я понимал, почему Джейми не сразу подчинился приказу Джефферсона, почему он отказался идти прямо к реке Сабин и почему, стоило ему только сдвинуться с места, испанцы убрались восвояси.
— Полковник, вы сунули голову в петлю, да и мою наполовину. Но я вынимаю голову из петли. Я уже написал президенту, написал дураку губернатору в Новый Орлеан, написал всем, кого вспомнил, написал, что, хотя я страстно ненавижу донов, я не имею ничего общего с вами и с Уилкинсоном и до конца дней буду стоять за Союз…
— Но мы же не стремимся к отделению… — механически ответил я, усиленно собираясь с мыслями.
— Уверен. В конце концов, вы не идиот. Но когда Джефферсон с вами разделается, все будут думать, что вы величайший предатель после Бенедикта Арнольда. Что же до Уилкинсона…
— Он попытается опорочить меня. — Я высказал более чем очевидную истину.
— Да, и Джефферсон будет наверху блаженства. Ведь ему надо будет доказать, что его генерал — честный человек, а его личный враг — предатель.
— А Джефферсон знает, что Уилкинсон — испанский агент?
— Мне все рассказал один из донов, ни больше ни меньше, и он утверждает, что Джефферсону сообщили об этом еще прошлой весной.
— Я и в самом деле сунул голову в петлю, — больше я ничего не мог ни оказать, ни придумать.
— Полковник, я постараюсь вам помочь. А теперь давайте разыграем спектакль для моего старого друга Джона Коффи. У вас еще при себе тот пустой бланк, подписанный Джефферсоном, который вы мне показывали?
Ради правдоподобия я всегда носил с собой бланк для чинопроизводства, данный мне другом и союзником — военным министром. Я ответил, что он у меня в кармане камзола.
— Хорошо. Мы разыграем ссору перед стариной Джоном, я обвиню вас в недостаточной откровенности, а вы потом повторите то, что всегда говорите о Мексике, и я спрошу: а президент это одобряет? И тут-то вы вытащите бланк из камзола и скажете: «Вот незаполненный бланк, подписанный им самим», и я стану чесать голову, как идиот, и скажу, что он выглядит как настоящий.
— Он и есть настоящий.
— Тем лучше. — К Джексону вернулся его обычный юмор, и мы разыграли эту сценку для Джона Коффи. Надеюсь, она его убедила. Мои же мысли витали далеко. Если тебя околпачил тот, кого ты держал за дурака, — это особенно унизительно.
Скоро Уилкинсон явился в Новый Орлеан спасителем города от Аарона Бэрра, «чьи сообщники повсюду: от Нью-Йорка до Нового Орлеана — и чья захватническая армия насчитывает двадцать тысяч отчаянных головорезов».
Несмотря на робкие протесты губернатора Луизианы и громкие протесты многих других, Уилкинсон ввел военное положение, посадил в тюрьму доктора Болмана (нашего немецкого рекрута), Питера Огдена и Сэма Свортвута. Чтобы предотвратить все попытки освобождения арестованных под залог, доктора Болмана и Свортвута в кандалах посадили на корабль, направлявшийся в Вашингтон.
Пока Уилкинсон разыгрывал Цезаря в Новом Орлеане, две наши плоскодонки плыли вниз по реке Камберленд. 27 декабря ко мне присоединилась «флотилия» Бленнерхассета. Всего у нас теперь было десять маленьких лодок и около пятидесяти человек. Я объявил своим опечаленным спутникам, что, опасаясь шпионов, не могу открыть точное место назначения, но всем должно быть ясно, что наша маленькая группка не будет вести никаких военных действий. Мы и на самом деле стали настоящими поселенцами, отправляющимися на новые земли в бассейне реки Уошито.
10 января — погода в этот день стояла изумительная — мы прибыли в Байя-Пьер, что к северу от Натчеза, и сошли на берег, чтобы остановиться у моего старого друга, который встретил меня номером «Натчезского вестника», и что это был за вестник! Сам Меркурий не преподносил таких сюрпризов. Во-первых, я прочитал президентскую прокламацию. Во-вторых, уилкинсоновскую версию моего шифрованного письма. В-третьих, я прочитал, что временный губернатор территории Миссисипи приказал взять меня под стражу.
— Что ж, — сказал я моему другу, — я приехал сюда, чтобы отведать ваших деликатесов.
— Они перед вами.
Мы прекрасно пообедали. А что еще делать в тени виселицы?
ГЛАВА ТРЕТЬЯ
— Весьма забавно. — Брайант смотрел на меня через стол, заваленный книгами.
— Надеюсь, это не слишком мрачно?
— Для наших читателей — едва ли.
— Нераскрытое убийство…
— Вот разве только дурные нравы. Но в наши дни к дурным нравам привыкли.
— К аморальности противников аболиционизма? — Я готов пойти на что угодно, лишь бы снискать расположение мистера Брайанта, да и любого другого редактора. Мне позарез нужны деньги.
Как я и рассчитывал, Брайант засмеялся.
— Мы с радостью это напечатаем — по обычной ставке.
Последовавшую торговлю я опускаю. Однако мне удалось выбить на пять долларов больше обычной ставки. Готовясь стать отцом, я, как тигр джунглей, накидывался на нью-йоркских редакторов. Вчера ночью я работал до утра над рассказом об убийстве Эльмы Сэндс и защите предполагаемого убийцы Бэрром и Гамильтоном. Воспоминания полковника — залежи полезных ископаемых.
Мы обсудили другие темы.
— Мне хочется, чтобы вы взглянули на город глазами Старожила. — Старожил зачат Леггетом год назад. С тех пор он стал пользоваться неожиданной популярностью. Мне легко даются заметки в этом жанре, лишь бы нашелся подходящий сюжет. Старожил — это напыщенный тори, готовый все на свете испробовать, хоть прикидывается равнодушным.
— А разве я не смотрю на город?
— Но вы должны увидеть его. Увидеть уродство, какое мы творим вокруг. Сравните старые голландские дома из настоящего камня с тем, что теперь строится, — целые кварталы из крашеного кирпича. Вы только подумайте, мистер Скайлер: крашеный кирпич! — Он сокрушенно покачал головой.
Я всегда находил естественным, что кирпичные дома красят в красный цвет, обводя каждый кирпичик аккуратной белой каемкой. Выходит, я ошибался.
— Крашеный кирпич — это нечто новое, свойственное одному Нью-Йорку. Как наряды наших женщин. Чудовищные шляпы, взбитые прически… Однако не будем обижать дам. Вы все-таки посмотрите на наш город и просто расскажите о том, что увидите. Точнее, что увидит просвещенный Старожил.
Я заморгал глазами — наверное, точно так же боксер разминает мышцы, — чтобы продемонстрировать мистеру Брайанту готовность изо всех сил смотреть ради моего — нашего — пропитания. Я собрался уходить, но он мрачно подал мне знак задержаться.
— До меня дошли сведения, что вы заделались памфлетистом.
Интересно, найдется в Нью-Йорке хоть один человек, не знающий про мой памфлет? Понятное дело: половина жителей одержима страстью к политике.
— Должен вам заметить, мистер Скайлер, я убежден, что Ван Бюрен окажется одним из наших величайших президентов, — Брайант вещал торжественно, будто выступал с речью при присуждении ученой степени либо декламировал свое знаменитое «Созерцание смерти», — и, безусловно, продолжит благородную миссию, начатую генералом Джексоном.
Я промолчал. Что тут скажешь? Как объяснить, что я сожительствую с проституткой из заведения мадам Таунсенд, что она беременна, что я должен теперь на ней жениться, а сам мечтаю о свободе в иных краях, в Средиземноморье, вдали от домов из крашеного кирпича, от разговоров о выборах, от заколачивания денег? Я в клетке, но я из нее выберусь.
— Прочитали? — Несколько дней назад я передал один экземпляр памфлета Леггету. А больше никому.
— Да, я прочитал памфлет, — кивнул Брайант.
— Странно, что Леггет показал его вам, ведь вы в отличие от него благоволите к Ван Бюрену.
— Положение изменилось. Он вам объяснит.
Мне не удалось обсудить памфлет с Леггетом, он болен и лежит дома.
— Видите ли, сенатор Джонсон больше не кандидат. Мужественный человек, сразивший Текумсе, тайно согласился стать вице-президентом при Ван Бюрене.
— Следовательно, Леггет за Ван Бюрена?
— Faute de mieux[90]. Но я предрекаю, что он, впрочем, как и все, будет приятно изумлен правлением Ван Бюрена.
— Если таковое состоится.
— Если таковое состоится. — Брайант вытер гусиное перо кусочком бумаги. Снова принялся его тереть.
— Есть другие претенденты, — сказал я, не желая отказываться от мысли, что исход выборов зависит — так я внушил себе — от меня одного. — Есть ведь еще кандидат от Теннесси.
— Хью Уайт. Он располагает кое-какой поддержкой на Западе.
— И еще всегда наготове кандидат вигов Генри Клей.
— Да, Генри Клей всегда наготове. — В третий раз Брайант принялся чистить перо, но вдруг остановился, точно сообразив, что уже хватит. — Мистер Скайлер, ваш памфлет может принести чрезвычайный вред.
— Именно этого и хотел Леггет, когда мне его заказывал. — Я четко указал, на кого ложится ответственность.
Брайант скорчил гримасу.
— Очевидно, вы правы. Наш друг слишком горяч и скор в суждениях.
— Вы предпочитаете, чтобы я его не печатал?
— Да. — Брайант ответил скоро и горячо.
Отчаяние последних дней научило меня хитрости.
— Мистер Брайант, я скоро женюсь.
— Поздравляю…
— Благодарю. Но у меня нет денег. Я еще не сдал адвокатских экзаменов. И, как вам известно, я надеялся на журналистскую карьеру.
Брайант тщательно пытался скрыть тревогу.
— В данный момент, увы, слишком много журналистов и слишком мало вакансий…
— Нет, сэр. Я не ищу места.
Он испытал явное облегчение.
— Разумеется, все, что вы напишите, если это будет не хуже, — он постучал пальцем по «Загадке Эльмы Сэндс», — мы напечатаем с радостью. Знаете, у вас уже есть последователи. — Смутная улыбка. — Вас хвалил Фицгрин Халлек. Благодаря Старожилу он собирается попробовать помидоры, так он мне, во всяком случае, сказал.
В другое время я бы залился краской от счастья и лишился дара речи. Но в это утро я едва заметил его комплимент.
— Чтобы заработать на жизнь, я готов писать что угодно. Но, по-моему, нужно нечто большее, особенно если я…
— Если вы не напечатаете памфлет?
— Да. В конце концов, я теряю пять тысяч долларов. — Я хладнокровно увеличил свой гонорар в пять раз. Отчаянный шаг, но Брайант, кажется, поверил.
— Очень большая сумма. — Он теребил бакенбарды. — Сколько людей, однако, готовы уничтожить мистера Ван Бюрена!
— Вот именно. Я же к этому не стремлюсь. Как вам известно, я явился сюда однажды с опусом о свадьбе полковника Бэрра, и, прежде чем я понял, что произошло, Леггет убедил меня написать о связях полковника с Ван Бюреном.
— Боюсь, наш общий друг Леггет впутал вас — и нас — в неприятную историю. Понимаю, вина не ваша и ничья вообще. Обычные партийные страсти нашего времени. — Брайант держался философом, да и как еще ему было держаться, если со своими бакенбардами он — вылитый Аристотель.
— Конечно, я мог бы отказаться. — Я замолчал. Оглянулся. Заметил на письменном столе последнюю книгу Ирвинга «Путешествие в прерии». Бронзовый разрезальный нож торчал в первой главе — как оружие убийцы, подумалось мне, и тут же на ум пришла мысль: кто же все-таки убил Эльму Сэндс? Надо спросить у полковника, кого он подозревает.
— Мы не пользуемся влиянием у теперешнего правительства. — Брайант тоже мирно разглядывал обложку «Путешествия в прерии».
— Если я не напечатаю памфлет и если Ван Бюрена выберут… — Я смотрел на него растерянно. Чего просить?
— Я поговорю кое с кем, кто мог бы оказать содействие.
— И скоро? Я встречаюсь со своим издателем в понедельник.
— Я постараюсь сделать все для вас. То есть для мистера Ван Бюрена.
— Хочу предупредить: я ненавижу политику.
Брайант перевернул книжку Ирвинга.
— В молодости я хотел быть лишь чистейшим поэтом, подобно Мильтону. Нет, скорее подобно Томасу Грею. Все-таки Мильтон был политическим поэтом. И вот я здесь. — Он показал на груды газетных подшивок, загромоздивших крохотный кабинет, как пожелтевшие надгробия, мемориалы мертвых новостей. — Надо ведь как-то жить. А потом постепенно втянулся.
— Я никогда не втянусь.
— Но вы так увлечены полковником Бэрром.
— Только его личностью.
— А ведь я когда-то был бэрритом. — Брайант вдруг улыбнулся. — В тринадцать лет я выступил против Джефферсона стихотворением «Запрет». — Голос его вдруг упал на один регистр.
Сгинь, безмозглый философ, ты забыл свою душечку Сэлли. Разве ласки ее, что как соболь нежны, надоели? Ради бога, уйди, и достойные люди займутся делами страны.Он засмеялся.
— Ни в коем случае не следует печататься в тринадцать лет. И даже в тридцать. И быть может, никогда!
— У вас, верно, всегда была склонность к политике.
— Может так показаться. Но теперь… — Брайант повернулся ко мне. — Молодой человек, признаюсь, я до сего дня боюсь полковника Бэрра. Боюсь его ума. Боюсь его примера.
— Мне он кажется великим человеком, мистер Брайант. Да и все так считали бы, не проиграй он партию, которую выиграл Джефферсон.
— Вот именно! Вы попали в точку. То, что для Бэрра было игрой, для Джефферсона явилось столкновением добра и зла. — Уильям Каллен Брайант, склонный к сентенциям морализатор, вдруг сменил Брайанта-редактора. — Я признаю, у Бэрра живой и острый ум, но он не поднялся — не смог подняться — до духовного величия. А что до его нравственности…
— То она едва ли ниже, чем у любого человека его поколения, а также и нынешнего. — Я собрался уходить.
Брайант посмотрел на меня недоуменно. Всегда он сам заканчивает разговор. Он сказал примирительно:
— В конце концов, мы только критики, оценивающие игру великих исполнителей.
Он проводил меня до двери.
— В Неаполе, на Мургалине (как пишутся эти итальянские названия?), по правой стороне, если идти к Потсволле, живет один честный сапожник. Каждое утро при восходе солнца его маленькая собачка выбегает из дома и лает на Везувий.
ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ
Я отправился на Четвертую улицу. Жена Леггета не хотела меня впускать, но он услышал мой голос.
— Заходи! Я умираю от скуки! Не говоря уже о желтой лихорадке, о малярии…
Я вошел в спальню, когда он завершал перечисление своих недугов.
— …катаре и чахотке. — Леггет выглядел так, будто вот-вот умрет, лицо всунулось, покрылось капельками пота, в комнате стоял устойчивый запах хинина и тления.
Я уселся на почтительном расстоянии от него и рассказал о разговоре с Брайантом. Леггет смеялся, кашлял, сопел, брызгал слюной и шутил.
— Похоже, ты прижал его к стенке. Хорошо. Он рассказывает про собачку в Неаполе, только когда нервничает. Этот рассказ у него вроде тика. — Он откинул с груди одеяло. — Что ж, я тебя впутал, я тебя и вызволю.
— На той неделе я встречаюсь с издателем.
— Чего ты хочешь?
— А ты как думаешь? Денег. Элен беременна.
— Отличная работа. — Леггет был само сочувствие, как и положено умирающему от неисчислимых недугов. — Собираешься жениться?
— Хотел бы.
— Она не хочет? — Брови его удивленно взметнулись.
— Нет. Или только так говорит. Но все равно мне надо заняться адвокатской практикой, больше печататься…
— Вы останетесь в Нью-Йорке?
— А что делать?
— Ну, можно получить место на государственной службе…
— Еще на этой неделе?
— Срок короткий.
— Разумеется. — С чистой совестью сорву с Леггета и Брайанта побольше — и еще с издателя, которого нашел мне Свортвут. Буду с ними безжалостен, как и они со мной.
Смешно. Наблюдая, как Элен трудится у манекена (теперь она всецело ушла в работу), я думаю о том, что у нас обязательно будет дочь, и испытываю удовольствие от мысли, что выхода у меня нет и мне придется включиться в борьбу, которую ведут все обитатели этого города, хоть мне и чуждо их основное побуждение — желание разбогатеть. Я всегда хотел жить сам по себе, внутренней жизнью. Теперь же до конца моих дней мне надо работать ради двух других существ, и мысль об этом долгом рабстве меня не угнетает, наоборот. В голову лезут глупые мысли. О том, например, что Элен, наверное, понравилась бы моей матери.
— Брайант обещал подумать? — Леггет вытер лицо полотенцем.
— Да.
— Значит, он что-нибудь сделает. И я тоже. Между нами, не вижу причин, почему бы тебе не получить место консула.
Я удивленно уставился на Леггета. В самых возвышенных мечтах я не воспарял так высоко.
— Пост консула обычно награда за услуги, оказанные партии, но в твоем случае, — Леггет улыбнулся беззубой улыбкой, — он станет наградой за услуги, блистательно не оказанные.
— Ты в самом деле можешь это устроить?
— Со временем, да. Возможно.
— Со временем… — Я нахмурился.
— Бога ради, Чарли, не печатай проклятый памфлет! И, клянусь головой неаполитанской собачки мистера Брайанта, мы придумаем для тебя что-нибудь стоящее. Торжественно клянусь, Чарли! — Он стукнул себя по широкой, хоть и изнуренной чахоткой груди, и я поклялся, что не напечатаю памфлет. Но стоит ли всерьез принимать ангельские песнопения «Ивнинг пост»? Неужели у них такое влияние? Я боюсь даже мечтать о консульстве, потому что тогда уж этому определенно не бывать.
ГЛАВА ПЯТАЯ
Полковник Бэрр развеселился, узнав, что Брайант некогда был бэрритом.
— Теперь я буду читать его с симпатией, которой прежде не хватало. — Полковник положил «Ивнинг пост» на почетное место на столике у своего изголовья. Затем. — Налей мне кларета. Сегодня меня знобит.
Я наполнил два бокала. Полковник, кажется мне, все слабеет телом, но голова у него ясная. Сегодня по крайней мере. В другие дни он многое забывает, путает и сам из-за этого раздражается.
— Старость — вещь мало приятная, Чарли.
— Лучше умереть молодым?
— Нет. Просто надо избегать старения. Должен же быть какой-нибудь способ. Мне казалось, я его нашел.
— Какой?
— Любовь женщины. Но наступает время, когда и женская любовь уже не может вас уберечь, и мы скукоживаемся в сморщенное яблоко. Хорошо! — воскликнул он, осушив бокал.
— Какое правительство хотели вы создать в Мексике?
— Правительство? — Он посмотрел на меня отсутствующим взглядом. Покачал головой. Очевидно, задумался о прошлом. — Ну, это смотря по тому, что бы мы там нашли.
— Все убеждены, что вы собирались провозгласить себя императором.
— О нет! Я был слишком скромен и не присвоил бы себе титул великого Наполеона. С меня достало бы и королевского звания. «Yo el Rey…», как начинает испанский король свои писания. Сурово, но достойно. «Я, король…»
— Но почему именно король?
— Чтобы принести цивилизацию на богом забытый континент! — Вдруг я увидел на лице полковника вспышку чувств, выражение злости и презрения, обычно прятавшееся за утонченной иронией и благодушием. — Эта страна, зажатая между бесчестным лицемерием Джефферсона и ядовитым эготизмом Гамильтона, с самого начала никуда не годилась. Теперь, благодаря старине Джексону, она начинает меняться. Надеюсь, к лучшему. Но уверяю тебя, та наша ранняя республика не годилась для человека, который хотел жить в приличном мире, создать истинную цивилизацию и разделить ее с сонмом избранных душ — а к этому-то я и стремился в Мексике. Увы, мне не пришлось стать королем — хоть я чуть не стал президентом, — но все же я прожил счастливо, потому что мне удавалось делать на земле то, что я действительно люблю: воспитывать других, извлекать радость, развивая лучшее в мужчинах и женщинах, вдыхая в них жизнь, — и хоть я не преуспел в создании королевства, я оставил на своем пути иные ценности, доказал сомневающимся, что у женщин есть душа, и научил добрую сотню молодых людей, как прожить жизнь самым достойным образом, без жалоб и бесчестия.
Долгое время после этой нехарактерной для него вспышки (наверное, от выпитого залпом огромного бокала кларета) полковник молчал, глядя на угли на каминной решетке. Затем, без лишних слов, он перешел к ежедневной работе.
Воспоминания Аарона Бэрра — XX
17 января 1807 года я с радостью отдал себя в руки губернатора территории Миссисипи. Я говорю «с радостью» потому, что, попади я под юрисдикцию Уилкинсона, я не дожил бы до разбора моего дела в суде. Губернатор Миссисипи пришел в глубокое замешательство, обнаружив, что армия, с которой я должен был захватить Новый Орлеан, насчитывала менее пятидесяти человек и не располагала оружием, кроме того, какое первопроходцы новых земель используют для охоты.
— Приношу мои извинения, полковник Бэрр, но, боюсь, нас ввел в заблуждение диктатор Нового Орлеана.
Губернатор был со мной обходителен, а Уилкинсона презрительно называл не только «диктатором», но и «наемником». Очевидно, на Западе все знали, что Джейми на жалованье у Испании, — все, кроме меня.
Я поскакал в городишко Вашингтон, столицу территории Миссисипи, и меня освободил под залог в 5000 долларов некий судья Родней, отец министра юстиции в правительстве Джефферсона, больше разбиравшийся в собственных политических обязательствах, чем в своде законов.
Большое жюри не собралось до февраля, и я вернулся к своей бедной армии. Несколько недель я только и делал, что прятался, боялся, как бы меня не похитили агенты Уилкинсона. Он знал, что, если я живым доберусь на Восток, его роль в нашем «заговоре» вылезет на свет божий.
В положенное время большое жюри нашло меня «невиновным в преступлении или проступке против Соединенных Штатов». Оно даже несколько уклонилось в сторону, осудив и Уилкинсона и Джефферсона за небрежность к закону, опасную для конституции.
Судью Роднея так потрясли выводы жюри, что он отказался вернуть мне залог. Полагаю, это единственный случай в истории американской юриспруденции. Человек, признанный невиновным большим жюри, остается виновным по мнению судьи. Тем временем Уилкинсон отправил некоего доктора Кармайкла и двух лейтенантов на территорию Миссисипи, поручив им меня убить. Счастлив сообщить, что губернатор Миссисипи ужаснулся, узнав об их миссии, и успешно отговорил доктора Кармайкла от кровавого дела. Правда, двое военных остались верны своему командующему, но они были столь же бездарны, как их командующий, и мне без труда удалось от них укрыться.
Я сообщил суду, что явлюсь, как только понадоблюсь, и желательно под стражей, но сейчас предпочитаю скрываться, ибо моя жизнь в опасности. Освобождение под залог мгновенно (и незаконно) аннулировали, и губернатора убедили предложить вознаграждение в 2000 долларов за поимку опасного преступника — Аарона Бэрра.
Рухнули все мои надежды. Я встретился со своей маленькой «армией». Сказал, чтобы они, если хотят, продолжали путь в уошитские земли. Отдал им свои лодки и все прочее имущество. На том мы и расстались.
Через несколько дней всех моих друзей арестовали; как вошло в обычай, незаконно. К счастью, всех скоро освободили — кроме Бленнерхассета и еще двоих. Замечу, кстати, я по сей день получаю письма от моей бывшей преторианской гвардии. Большинство осело в Натчезе и окрестностях. Многие до сих пор мечтают о несбыточном.
Я скрылся с проводником в обширных сосновых лесах Миссисипи, переодевшись в бесформенные брюки и куртку, сшитую из одеяла; мягкая шляпа с широкими полями была призвана скрыть мои, видимо многим знакомые, черты. На широкой кожаной перевязи висели жестяная кружка слева и нож-скальпель справа. Признаюсь, тогда я горел желанием снять скальпы со многих макушек — начиная с макушки Джейми Уилкинсона.
Никогда в жизни не видывал я таких дождей, как тогда, в феврале, в лесу, неподалеку от Миссисипи. Одежда не просыхала. Если вдруг переставал дождь, мы промокали снова, переходя вброд разлившиеся, глинистые ручьи; мы привыкли к змеям, плававшим рядом с нами, как скользкие ожившие ветки.
Ночью 18 февраля, ужасно плутая, но двигаясь все же в верном направлении (к Пенсаколе в испанской Флориде, откуда я надеялся отплыть в Англию), мы вышли к просеке, и она привела нас в роковую деревню Векфильд (с тех пор я не могу читать Голдсмита![91]).
Я постучался в ближайшую хижину и спросил, как найти дом одного моего старого приятеля. Молодой человек, с которым я разговаривал, заявил позднее, что, несмотря на лохмотья и закутанное лицо, по блеску и необычайной красоте глаз он тотчас узнал дьявола во плоти — Аарона Бэрра и счел, что 2000 долларов награды у него в кармане. Боюсь, правда, меня выдало не сияние очей, а неуместность нью-йоркских башмаков. Жители Запада первым делом смотрят на ружье, а потом на сапоги. На глаза там обращают мало внимания.
Моего приятеля не оказалось на месте. Жена его встретила нас приветливо и устроила на ночлег в кухне. Через час прибыл шериф, предупрежденный молодым человеком, что изменник Бэрр в поселке. После коротких переговоров шериф не нашел целесообразным арестовывать вероятного завоевателя Мексики. Он сам ненавидел донов. И мы втроем прелестно переночевали на кухне.
Наутро шериф любезно предложил вывести нас за пределы округа. К несчастью, молодой человек тем временем поднял по тревоге местный гарнизон. В двух милях от Векфильда меня арестовали и доставили в форт Стоддерт.
Гарнизон был ко мне расположен, и, хоть я боялся длинной руки Уилкинсона, я знал, что эти добродушные ребята не причинят мне вреда. Их командир мне признался: «Еще одна неделя, полковник, и они последуют за вами в Мексику». В сопровождений восьми солдат меня отправили в Вашингтон.
Мы двигались со скоростью сорока миль в день, лошади скользили и падали в раскисшей красной глине, а громадные черные вороны глумились над нами. Мои конвоиры скоро поняли, что какого бы мнения ни придерживался на мой счет президент, я вряд ли изменник в глазах жителей Запада. После оваций в нескольких деревнях они сочли за благо избегать населенных пунктов, и мы ночевали в холодных сырых лесах.
По дороге мы получили указание следовать не в Вашингтон, а в Ричмонд, штат Виргиния, где я подлежал суду за измену. Решили, что моя предполагаемая измена имела место на острове Бленнерхассета, а он относился к Виргинии. Сменив место судилища, Джефферсон, верно, думал, что моя судьба уже решена. Что могло ждать Аарона Бэрра на суде в столице родного штата президента?
26 марта 1807 года мы прибыли в таверну «Золотой орел» в Ричмонде, и меня заперли в спальне на втором этаже; сообразительный владелец таверны предусмотрительно приготовил для меня целый ворох газет. Я ему премного благодарен, ибо смог узнать, что произошло в мире за время моего небытия. С особым интересом я прочитал, что 16 января Джон Рэндольф (уже не друг Джефферсона) потребовал, чтобы президент объяснил конгрессу свою прокламацию. Кто эти таинственные заговорщики, спрашивал он, и в чем состоит заговор?
22 января Джефферсон направил ответ конгрессу. Он назвал Аарона Бэрра «главным виновником, чья вина не вызывает сомнений». Джефферсон решительно объявил, что я хотел расчленить Союз по Аллеганским горам, но, обнаружив, что Запад не сочувствует моим планам, решил захватить Новый Орлеан, ограбить местные банки и скрыться в Мексике. Джефферсон никогда не напирал на доказательства. Он упомянул разные полученные им письма о моей виновности, но не сказал, от кого они. Он похвалил генерала Джеймса Уилкинсона («человека солдатской чести и гражданской верности») за арест целой группы заговорщиков.
Со временем я узнал, что через два дня после запроса Рэндольфа в палате представителей (и за четыре дня до ответа Джефферсона конгрессу) уилкинсоновская версия моего шифрованного письма попала на стол президента. Потому-то, наверное, он так опрометчиво ответил конгрессу и вдобавок заявил, что я виновен, «вне всяких сомнений». Один только Джон Адамс оценил это заявление по заслугам: «Пусть вина Бэрра ясна как день, но глава исполнительной власти не должен провозглашать ее до разбирательства большого жюри».
Джефферсон пребывал в состоянии, близком к помешательству. На следующий день после своего послания конгрессу он дал указание партийному лидеру сената, Джайлсу (из Виргинии), созвать секретное заседание сената с целью приостановить действие конституционного права habeas corpus[92], дабы держать Свортвута и доктора Болмана в тюрьме. Несмотря на красноречивое выступление моего друга Байарда против чудовищного нарушения конституции, сенат послушно приостановил действие habeas corpus.
Палата представителей оказалась не столь малодушной. Прежде всего она отказалась собраться на закрытое заседание. Затем собственный зять Джефферсона (который знал тестю цену) заявил, что «никогда при этом правительстве личная свобода не зависела от воли индивида». Палата отказалась приостановить действие habeas corpus. Тем не менее Свортвут и доктор Болман оставались в военной тюрьме в Вашингтоне, вне действия конституции.
Так, комичнейшим образом, благородный демократ Джефферсон и испанский агент Уилкинсон стали сообщниками. Забыли неповиновение Уилкинсона. Забыли его военную диктатуру в Новом Орлеане. Когда губернатор Луизианы выразил протест президенту против действий Уилкинсона, автор Декларации независимости ответил примечательным письмом, копия которого в моем распоряжении (мне ее передал Эдвард Ливингстон). «В исключительных обстоятельствах, — объявил сей ревнитель закона, — каждый хороший офицер должен идти на риск и отступать от строгого следования закону, если того требует безопасность общества». Джефферсон далее признавал, что политические противники его правления «могут поднять шум по поводу нарушения свобод (как, например, военные аресты и высылка граждан), но, если это нарушение касается лишь таких преступников, как Свортвут, Болман, Бэрр, Бленнерхассет и прочие, общество одобрит его». Иными словами, если общественное мнение не будет чересчур возбуждено, можно смело отбросить конституцию и незаконно арестовывать противников. Будь это письмо своевременно опубликовано, оно явилось бы отличным поводом для отстранения президента от должности за нарушение клятвы хранить и защищать конституцию, за вступление в заговор с целью затруднить и извратить отправление правосудия.
23 января доктора Болмана из военной тюрьмы под усиленной охраной доставили в кабинет государственного секретаря. Там он увидел Мэдисона и, к удивлению своему, президента.
«Я не видел прежде мистера Джефферсона, — рассказывал мне потом доктор Болман, — и не был подготовлен к встрече с этим необычным человеком. Он держался чрезвычайно нервозно. Жаловался на головную боль и, пока шла беседа, все время тер глаза. Он ни разу не взглянул в мою сторону. Большую часть вопросов задавал мистер Мэдисон. В конце концов я сказал, что сообщу им все, что мне известно о ваших планах, если только они не используют эти сведения иначе, как для расширения личных познаний.
„Это разумно, — сказал Джефферсон. — Даю вам слово, я выполню это условие“. И, клянусь вам, оба, как заправские судебные протоколисты, принялись записывать мой рассказ о том, как вы собирались поднять революцию в Мексике.
„Но ведь, наверное, — сказал мистер Мэдисон, — у полковника Бэрра были планы насчет Нового Орлеана“. Я сказал то, что всегда говорили вы: артиллерия в Новом Орлеане принадлежала французам, и потому вы собирались захватить ее без угрызений совести, как и любое иностранное судно, которое встретится по дороге в Веракрус. Оба писца были явно разочарованы.
Мистер Джефферсон спросил: „А что вы знаете о планах полковника Бэрра об отделении Западных штатов?“ Он перевернул страницу тетради, и рука его дрожала.
Я сказал, что таких планов не было.
„Но мы ведь знаем, — сказал Мэдисон, — полковник Бэрр предложил такой план испанскому посланнику“.
Я сказал им правду — то был трюк сенатора Дейтона с целью сбора средств, и кончился он неудачей.
„А что вы знаете о разговорах полковника Бэрра с британским послом?“ — спросил президент.
Я наговорил им массу чепухи, выгораживая мистера Мерри: Англия, мол, хотела вам помочь в мексиканской экспедиции. В конце я посоветовал президенту сослужить великую службу Соединенным Штатам, немедленно объявив войну Испании и разрешив вам продолжить свое дело. Он даже перо сломал. Потом мистер Мэдисон дал мне протокол моего рассказа на двадцати страницах, я все внимательно прочитал и подписал.
„Эти бумаги, доктор Болман, никуда не уйдут из моих рук“, — сказал президент и отправил меня обратно в тюрьму».
Юрист и поэт Фрэнсис Скотт Кей распорядился освободить доктора Болмана на основании habeas corpus. Но прежде, чем его освободили, Джефферсон выдвинул против моих помощников обвинение в государственной измене, и они остались в тюрьме.
И тогда неустрашимый тори, пьяница, блистательный и несравненный Лютер Мартин (безусловно, лучший судебный адвокат нашего времени) встал на их защиту и подал в Верховный суд ходатайство об их освобождении.
21 февраля 1807 года председатель Верховного суда Джон Маршалл огласил свое решение. Прочитав уилкинсоновскую версию моего шифрованного письма, как и остальные «показания со слов», собранные правительством, Маршалл был вынужден признать, что по конституции никто не совершил измены. К несчастью, в своей обычной болтливой манере он дал расплывчатое и опасное определение того, что такое измена. К этому obiter dictum[93]я еще вернусь в должном месте. По распоряжению Верховного суда доктор Болман и Свортвут вышли на свободу.
Так протекал мой очаровательный ричмондский сезон, когда из разных мест заключения я наблюдал восхитительную цветущую весну сей части света, наслаждался нарциссами и кизилом, и предавался радостям (в которых не отказывали мне галантные тюремщики) знакомств с милыми дамами Ричмонда.
Джефферсону по-прежнему не везло (но на другую чашу весов я должен швырнуть мою собственную, куда более тяжкую, злую судьбу!). Спеша предать меня суду в родном штате, Джефферсон упустил из виду, что председательствующий выездного окружного суда в Ричмонде не кто иной, как его старый враг — председатель Верховного суда. Я предполагаю, что Джефферсон упустил это из виду. Джон Маршалл, с другой стороны, считал, что Ричмонд выбран умышленно.
«Он хотел меня уничтожить, как пытался уничтожить судью Чейза, — сказал Маршалл Лютеру Мартину через несколько лет после суда. — Он хотел сокрушить Верховный суд. Прояви я малейшее благоволение к Бэрру, оступись хоть разок в юриспруденции, и Джефферсон предал бы суду сената меня, а заодно и конституцию». К счастью, Маршалл не из тех, кто оступается. Ну, и я не из тех.
Мы с верховным судьей встретились 30 марта 1807 года в баре таверны «Золотой орел». Комфортабельная гостиница славилась самым большим в Штатах гербом на парадной двери: золотой орел размером восемь на пять футов, с распростертыми крыла ми, работы неизвестного тогда Томаса Салли[94].
Бар буквально ломился от публики. Там, казалось, собрались все до единого адвокаты штата. Лучшие головы страны съехались меня защищать. Нечего говорить, многие были федералистами. Волей-неволей я в один день стал символом оппозиции Джефферсону и его распустившей руки администрации.
Войдя в зал, я тотчас увидел высокую фигуру верховного судьи. В запыленном костюме для верховой езды (он был еще неряшливей своего кузена — президента), нечесаная темная грива. Я же, напротив, надел новые панталоны черного шелка, волосы напудрил и заплел в косу (мне удалось даже избавиться от блох, которые преданно сопровождали меня с Запада). Проходя сквозь эту толпу, я впервые за много месяцев снова почувствовал себя хозяином своей судьбы. Когда дело касается юриспруденции, мне сам черт не страшен.
Я поклонился верховному судье, он ответил поклоном.
— Полагаю, полковник, нам лучше уединиться. — К огорчению зрителей, мы скрылись в маленьком кабинете; я рассказал, почему уехал из Миссисипи.
Маршалл слушал меня мрачно, не перебивая. Я просил меня освободить. Прокурор Соединенных Штатов Джордж Хэй предложил тогда, чтоб я предстал перед большим жюри по обвинению в нарушении закона (заговор с целью развязать войну с Испанией) и в измене (заговор с целью развязать войну против Соединенных Штатов).
Меня освободили под залог в 2500 долларов, и суд назначили на следующий день в Капитолии штата (помпезное чудище в псевдогреческом стиле, спланированное, я уверен, самим Джефферсоном).
Утром я в сопровождении доброжелателей поднялся по ступенькам к классическому портику, откуда открывался вид на прекрасный, утопавший в первой весенней зелени Ричмонд.
Протолкавшись между коз, щипавших траву у подножия лестницы Капитолия, я вошел вслед за конвоиром в зал заседаний, напоминавший деревенскую церковь: ряды неудобных скамей и возле каждой ящик с песком для оплевывания табачной жвачки.
В первый день Джордж Хэй зачитывал обвинительный акт. Он требовал заключить меня в тюрьму без права освобождения под залог.
1 апреля Маршалл вынес свое определение. Он заявил, что заключенный может быть освобожден только в том случае, если выдвинутые против него обвинения окажутся «полностью неосновательными». По его мнению, мой случай не таков. С другой стороны, заявил он твердо, закон не допустит, чтобы «злобная рука карала любого индивидуума, на кого падет выбор по ее прихоти; нельзя, обвинив кого-то в тайных преступлениях, держать его в заключении, пока он не докажет свою невиновность». Он недвусмысленно намекал на Джефферсона (так все и поняли), но Маршалл позднее утверждал весьма туманно, что имел в виду не Джефферсона, а Уилкинсона.
Маршалл не нашел тогда убедительных доказательств, что я собирал войска с целью измены, освободил меня под залог в 10 000 долларов и постановил, чтобы меня привлекли к суду по обвинению в нарушении закона (заговор с целью развязывания войны с Испанией). Большое жюри собралось 22 мая.
Джефферсон взялся за обвинение. День за днем он посылал гонцов на Запад собирать (или фабриковать) доказательства, а также свидетелей и лжесвидетелей. Следует заметить, что в частных беседах той поры Джефферсон не раз признавал, что планы мои явно касались Мексики. Публично же он по-прежнему прилагал все усилия, чтобы заклеймить меня как сепаратиста и, следовательно, изменника. Заклеймить? Нет, повесить!
Целых три недели до заседания большого жюри меня чествовал цвет ричмондского общества. Джефферсон не пользовался популярностью у местной знати. Простолюдины, однако, им восхищались, и я слышал, как красноречивый закройщик в таверне «Золотой орел» поднял тост за «петлю, которая спровадит Аарона Бэрра в республику пыли и праха».
Примерно через неделю после моего освобождения меня пригласил на обед мой главный защитник Джон Уикхем, очаровательный, общительный человек, прославившийся своими обедами, на которые собиралось все сообщество юристов Ричмонда.
«Вы будете почетным гостем» — так значилось в приглашении, полученном мною в таверне «Золотой орел». Итак, в означенный вечер я направился в район Шоко-хилл.
Войдя в гостиную, я немало изумился, увидев среди гостей Джона Маршалла. Он же, если и встревожился при моем появлении, вида не подал. Потом Уикхем рассказал, что Маршалл долго не мог решить, уместно ли, чтобы судья обедал с тем, кому вскоре надлежит предстать перед ним по обвинению в тяжких преступлениях, но от приглашения он не отказался.
Мы поклонились друг другу, стоя в разных концах комнаты, и я поспешил в общество моих многочисленных защитников (я бы предпочел общество женщин, но они не появлялись на юридических обедах Уикхема). Кстати, в тот сезон дамам, а верней сказать, их обожателям, было раздолье. Мода так называемого стиля ампир захлестнула Америку, и даже самые благопристойные девицы (а также, увы, перезрелые матроны) носили высокие лифы, на две трети обнажавшие бюст. Неизвестно, что больше занимало республику летом 1807 года: мое предполагаемое предательство или повсеместное бесстыдное обнажение бюстов, несмотря на предупреждения о гневе Иеговы, раздававшиеся со всех амвонов. Похотливая пресса блаженствовала: женская грудь и измена — найдется ли комбинация популярней?
После обеда я вдруг оказался рядом с Джоном Рэндольфом. Громадные, глубоко запавшие глаза внимательно наблюдали за мной, и я, как всегда, отметил (невольно вздрогнув) удивительную нежность щек, как у мальчика или девочки, которые только и делают, что гуляют на воздухе.
— Несколько недель назад вы проехали мимо моего дома, полковник.
— Триумфальный въезд!
— Возможно. Скоро узнаем. — Он бормотал мне в ухо резким неприятным голосом, а ведь в зале конгресса его голос звучит красиво и убедительно. Длинные изящные пальцы перепачканы, грязные, сломанные ногти. — Мне крайне любопытно узнать, как вы собирались разрушить Союз с сотней молодцов…
— Их было сорок семь.
— Выходит, наполовину меньше, чем установлено особым следствием моего кузена Тома.
Ну и семья — произвести на свет Рэндольфа, Маршалла и Джефферсона! Первый — психопат, второй — чудак, третий — страстный лицемер. Мало им общей крови и общего безумия — все они еще и ненавидели друг друга.
— Знаете, полковник, а ведь по конституции вы в полном праве пытаться распустить Союз штатов. — Рэндольф даже тверже Джефферсона стоял за независимость штатов. — Братец Том, в общем-то, и сам бы с вами согласился. Разве все мы, американцы, не братья? — Он зло передразнил интонацию президента.
Я отвечал вежливо, по уклончиво.
Выходя из столовой, мы с Маршаллом впервые за весь вечер поговорили.
— Я читал, — сказал я, — ваше жизнеописание Джорджа Вашингтона. — Я и в самом деле изо всех сил пытался продраться через первые четыре тома этой отменной скукотищи (столь глубоко соответственной предмету).
— О, это очень плохо написано, полковник.
Писатели — тщеславнейшие из земных созданий, Маршалл же составлял исключение. Но, быть может, его тщеславие особенно велико: предпринять такой труд, не обладая ни малейшими способностями!
Несмотря на мою лесть, Маршалл предался самобичеванию.
— Меня наставили слишком скоро это опубликовать. Там есть ошибки. А кое-что и вовсе невнятно. Не хватило времени… — Он дипломатично развел руками. — Сами понимаете.
— Вы закончили последний том?
— О да. Он уже в типографии. Посвящен президентству Вашингтона. Последний — лучше других. Надеюсь, по крайней мере.
— Ваш первый том показался мне весьма оригинальным. — Верховному судье понадобился целый том, чтобы его герой только появился на свет, подобно Тристраму Шенди.
— Никто, кроме вас, мне этого не говорил. Издатель рассказывает, что многие подписчики требуют назад деньги.
— На это издание, говорят, подписались десять тысяч человек.
— Ну что вы. Подписчиков было бы больше, но только… — и тут Маршалл осекся.
— Но только правительство усматривает в вашей работе выпад против республиканской партии, — закончил я за него.
Маршалл кивнул, довольный, что сам ничего не сказал. Потом добавил:
— Знаете, книги доставляют подписчикам по почте. И странно, все почтальоны-республиканцы отказываются доставлять «Жизнь Вашингтона».
— Загадочно, — согласился я, и мы присоединились к гостям. Вот единственный разговор, который был у меня с Джоном Маршаллом за те семь месяцев, что мы вместе провели в Ричмонде. Нечего и говорить, республиканская пресса постаралась раздуть факт нашей беседы и требовала, разумеется, отстранения верховного судьи от должности.
22 мая 1807 года в 12 часов 30 минут дня выездной суд Соединенных Штатов в округе Виргиния открылся в зале заседаний Капитолия.
Похоже на театр, думал я, оглядываясь по сторонам. Зал ломился от публики, некоторые расположились на подоконниках (стояло такое жаркое лето, что даже я не мерз).
Передо мной сидели ричмондские щеголи, похожие на придворных покойного французского короля. Сразу за ними — жители границы и предгорий в енотовых шапках и кожаных куртках; смачно сплевывая табачную жвачку, они нередко промахивались в тесноте и пачкали дорогие лондонские камзолы.
Я видел немало дружественных лиц. Часть — знакомые, но больше было незнакомых. Я заметил молодого исполина, который изо дня в день стоял на чем-то возле парадной двери. Он возвышался над залом, как ангел мщения. Через двадцать лет я встретил его в Олбани, в доме Мартина Ван Бюрена. Это был генерал Уинфилд Скотт, в то время начинающий адвокат. Он обратился ко мне необычайно приветливо: «Знаете, полковник, я никогда еще не видывал, чтоб человек так держался на суде. Непроницаемо и недвижимо, как изваяние Кановы».
Пришел и Джон Рэндольф; пользуясь своими привилегиями, он сидел в низко надвинутой плантаторской шляпе, облокотившись на судейскую кафедру и щелкая бичом по длинной ноге.
Но больше всего утешало меня присутствие Эндрю Джексона. Он стоял сзади и бросал гневные взгляды на всякого, кто свидетельствовал против меня.
Через несколько дней Джексона чуть не растерзали, когда он обратился с речью к аптибэрровски настроенной толпе у бакалейной лавки возле капитолийского газона. Но Джексон устоял и, не раз побожившись, утверждал, что я жертва политического преследования и что любой, кто верит хоть единому слову Уилкинсона, отъявленный дурак, а сам Уилкинсон лжец, ублюдок и на жалованье у испанского правительства. Моему бедному другу пришлось в Ричмонде несладко, и боюсь — как ни трудно теперь в это поверить, — что толпа просто осмеяла своего будущего кумира Эндрю Джексона. Я же благословлял его за то, что он способен на такую дружбу.
Огласили состав большого жюри. Мне удалось отвести джефферсоновского ставленника сенатора Джайлса. Но Джона Рэндольфа назначили старшиной присяжных, несмотря на его заявление суду, что он совершенно убежден в моей виновности.
Несмотря на недостаток фактов, правительство хотело привлечь меня к суду по обвинению в измене. Мелкое правонарушение их не устраивало. Тем более что при обвинении в измене невозможно освобождение под залог, а они прикидывались, будто думают, что я готов скрыться от правосудия, лишь бы не встретиться лицом к лицу с их свидетелем Уилкинсоном. В конце концов Маршаллу пришлось потребовать от меня залог в 2000 долларов.
Я напал свою защиту с напоминания, что меня три раза судили на Западе по тому же обвинению и три раза признали невиновным. Я говорил о том, что военные власти незаконно арестовали меня. Я говорил о том, что Джефферсон заинтересован в моем осуждении. Я говорил о махинациях Уилкинсона. Думаю, что я произвел впечатление, но не столько на Маршалла, сколько на публику, заполнившую зал, публику, страшившую меня своим запахом дешевого табака и едкого пота.
Некоторое время Джефферсон надеялся с помощью «признания» доктора Болмана обвинить меня в том, что я затевал войну с Испанией. Хотя Джефферсон дал слово, что никому не передаст признания доктора Болмана, он послал копию Хэю с заранее подписанным президентским помилованием. Если доктор Болман разрешит использовать признание на суде, он будет освобожден. Доктор Болман отверг президентское помилование на том разумном основании, что, раз он ни в чем не виноват, его нельзя и помиловать. Он назвал президента подлецом, нарушившим слово. Отклик Джефферсона был скор. «Предъявите Болману обвинение в измене или правонарушении», — написал он Хэю.
По моему личному (и недоказуемому) мнению, Джефферсон тогда просто спятил. Я говорю это, проведя несколько месяцев в суде, понаблюдав за двумя его кузенами и наглядевшись не только на их бесчисленные странности, но и на редкое их сходство. Головные боли Джефферсона, взрывы раздражения и непомерные расходы на розыски и фабрикацию улик (Джефферсон никогда не тратил государственных денег) для меня подтверждают тогдашнее его безумие. Не станет человек в здравом рассудке строить правительственное обвинение на свидетельстве того, о ком доподлинно известно, что он испанский агент; такому человеку нельзя было доверить и взвода, не то что всю несчастную американскую армию.
Джефферсон вел себя как женщина, решившая погубить мужчину — или, верней, двух мужчин (Маршалл тоже был его мишенью) — за то, что ее отвергли. По мере того как дело против меня рушилось, взбешенный президент перенес огонь на самое конституцию. Он взвалил всю вину на «судебную власть, независимую от государства». Угрожал изменить конституцию. «Судей должно сменять, — гремел он, — по воле президента и конгресса».
К счастью, пока длинные летние дни все удлинялись и три поколения адвокатов построили (или погубили) свою карьеру, выступая на стороне правительства либо на моей стороне, осмотрительный Маршалл, одну за другой, обошел все ловушки, расставленные Джефферсоном.
На моей стороне среди созвездия юридических талантов был славный виргинец Эдмунд Рэндольф, служивший министром юстиции при Вашингтоне. Единственным выдающимся юристом на стороне правительства был неуместно элегантный и склонный к актерству Уильям Уирт. Главного правительственного обвинителя Джорджа Хэя вообще едва ли можно назвать юристом. Да он в этом и не нуждался, ибо готовился стать зятем Джеймса Монро. Вот она, настоящая хунта!
Первые недели перестрелки мало что дали. До приезда Уилкинсона правительство не могло приступить к обвинению. А я тем временем решил развлечь присяжных и, пожалуй, создать юридический прецедент.
Я прочитал присяжным послание Джефферсона конгрессу, обратив внимание на ту его часть, где он ссылается на разные письма о моей деятельности и на приказы, которые он в связи с этим отдал армии и флоту.
— Ваша честь, я обратился к военно-морскому министру за копиями приказов. Он отказался их представить. Попытки получить копии писем, адресованных президенту, тоже не увенчались успехом. Но я не могу строить свою защиту, не ознакомясь с тем, что говорят мои обвинители. Я должен знать, какие приказы президент или его министры отдали армии и флоту о моей персоне. Поэтому, с позволения досточтимого суда, я должен потребовать вызова в суд duces tecum[95] президента Соединенных Штатов… — Я сделал паузу и с наслаждением услышал единый вздох нескольких сот пропахших табаком глоток, — чтобы достопочтенный Томас Джефферсон явился сюда и привез с собой документы, какие необходимы для моей защиты и для отправления правосудия.
Хэй вскочил со своего места и заговорил так быстро, что начал заикаться.
— Естественно, Ваша честь, я сделаю, что аз моих силах, чтобы получить документы, и суд — и только суд — определит, существенны ли они…
— Но, мистер Хэй, — пробормотал верховный судья приглушенным голосом, который порой так напоминал шепоток его кузена-президента, — как суд определит, что существенно, что нет, если суд ни к чему не имеет доступа?
— Ваша честь, конечно, не может одобрить это… эту наглую… эт-т-ту… попытку вызвать главу исполнительной власти в суд.
— Суд считает вопрос опорным и обдумает проблему. Заседание откладывается до утра.
На другой день Хэй нашел благовидную уловку, что, мол, раз заседает не суд, а большое жюри, я лишен прав, предоставленных обвиняемому в обычном судебном процессе.
За ним выступил Лютер Мартин. Отхлебнув из глиняной фляжки глоток виски, он вышел на середину зала. Вид у него был, мягко выражаясь, неопрятный. Две ночи напролет он спал, не раздеваясь, на полу моей спальни в «Золотом орле»; я не пытался даже его растолкать. Я знал по опыту, что, если Лютер Мартин решил спать на полу (или в чулане — у него была неестественная страсть к чуланам), противиться бесполезно. Он останется там, где рухнет, громко и, надо полагать, удовлетворенно похрапывая. Но какой это блестящий юрист, пьян он или трезв!
Лютер Мартин, как и я, подозревал, что где-нибудь в военном министерстве может храниться приказ Уилкинсону с намеком на то, что моя смерть была бы чрезвычайно удобна неким заинтересованным лицам. Держа это в уме, он рассказал жюри о трудностях, с какими мы столкнулись, пытаясь получить правительственные документы. Странно, сказал он. Более чем странно. Затем внушительно отпил из своей фляжки — для поддержания сил, — и битком набитый зал замер. Никогда не видел я на сцене актера, который умел бы так держать в руках зрителей.
— Это особый случай, сэр. — Красные глазки устремились вверх, к Маршаллу, затем снова обратились в сторону большого жюри. — Перед нами удивительное дело, и президент, ни больше ни меньше, выразил предвзятое суждение о моем подзащитном, объявив в своем послании конгрессу, я цитирую, «его вина не вызывает никаких сомнений». — Лютер Мартин покачал головой, опечаленный низменностью человеческой природы и человеческим вероломством.
Напряжение в зале достигло предела. Идола толпы, само божество — Джефферсона вызывают в суд, как простого смертного. И того хуже — апостола прав человека осуждают не только за мстительность, но и за высказывание предвзятого мнения, то есть за нарушение юридического процесса.
— Может показаться, — Лютер Мартин заговорил тенором: затишье перед бурей, — что президент приписывает себе всеведение высшего судии. — Постепенный переход от тенора к баритону. — Он объявил своего бывшего вице-президента изменником перед лицом страны, которая его наградила. И пошел на него войной, спустив с цепи судебных церберов. — Баритон превратился в гомерический бас и загремел на весь зал. Никто не шевельнулся. — И неужели же президент Соединенных Штатов, затеявший эту нелепую шумиху, хочет утаить нужные суду документы, когда на карту поставлена жизнь? — Вопрос, подобно роковой пуле, рикошетом ударил в зал, отскочив от сводов Капитолия.
Лютер Мартин направил свой похожий на обрубок палец на Хэя, in loco presidentis[96] и потребовал:
— Должны ли мы заключить, что президент огорчится, если невиновность полковника Бэрра будет установлена? — Буря негодования сторонников Джефферсона. Верховный судья пригрозил очистить помещение суда от публики.
Вопрос бурно дебатировался несколько дней. Можно ли вызывать президента в суд? Хэй сказал, что как президента его вызвать нельзя, но как частное лицо — можно. Не слишком вразумительное прояснение конституционного пейзажа. Он утверждал также, что «тайная переписка» исполнительной власти неприкосновенна и прочее.
13 июня большому жюри огласили ответ Джефферсона. Он оставлял за президентом Соединенных Штатов право «решать независимо от всех других властей, какие документы, поступающие к нему как к президенту, могут быть обнародованы в интересах общества». То, что он сочтет допустимым, он, разумеется, предоставит суду. Он согласился передать нам копию письма Уилкинсона от 21 октября, но опустит те его части, какие сочтет несущественными. Что же до приказаний армии и флоту, что ж, если мы сообщим, какие именно приказы мы хотели бы видеть, он сделает все от него зависящее, чтобы выполнить нашу просьбу. Милое положение: мы должны указать, какие именно военные приказы мы хотели бы видеть — не видя их!
Маршалл принял вызов. Вопрос простой. Можно ли вызвать президента в суд, и если да, следует ли вызвать президента Джефферсона по этому делу? Маршалл решил вопрос деликатно. Да, объявил он ex cathedra[97], можно вызвать президента в суд. Ничто в тексте конституции не запрещает этого, да и никакое законодательство, «за исключением — монократ Маршалл явно возликовал в душе — королевского». Но, радостно заметил Маршалл, президент все-таки не совсем король (со скамей республиканцев раздался явственно слышимый зубовный скрежет, когда судья-федералист сравнил апостола демократии с ненавистнейшим из земных чудовищ — коронованным деспотом).
— Я обращаю ваше внимание на существенные различия, — сказал Маршалл, не повышая тона, но все же громче обычного. — Король не может ошибаться, поэтому на него нельзя возложить вину, и его имя нельзя упоминать в прениях сторон. Но поскольку президент может ошибаться и поскольку имя его можно упоминать в прениях сторон, поскольку он не король, помазанник божий, он, как и всякий человек, ответствен перед законом. — И Джон Маршалл вызвал президента Джефферсона в Ричмонд.
В зале едва не разразилась буря. Но лишь на следующий день мы начали постигать всю глубину проницательности Маршалла. Во-первых, он подтвердил право суда вызывать президента для дачи показаний. Далее, добавив — как бы походя, — что суд будет вполне удовлетворен, если ему будут представлены оригинал письма Уилкинсона и имеющие отношение к делу документы, он ловко избежал конституционного кризиса. Если только они окажутся в руках суда, президенту не будет нужды совершать утомительное путешествие из Вашингтона в Ричмонд.
Мне рассказывали, что Джефферсон буквально взбесился, узнав об этом решении, и с обратной почтой приказал Джорджу Хэю арестовать Лютера Мартина за измену: поскольку он мой старый друг, он с самого начала наверняка был посвящен в мои планы и потому причастен к измене. Ни один президент никогда не вел себя подобным образом; и будем надеяться, что это больше не повторится. Конечно же, Лютер Мартин не был арестован.
Документы своим чередом были доставлены из Вашингтона, и конституционный кризис оказался исчерпанным. Джефферсон, однако, позволил себе еще немало горьких замечаний по поводу права суда вызывать свидетелем президента. Особенно его вывело из себя язвительное замечание Маршалла о том, что «очевидно… обязанности президента как главы исполнительной власти не поглощают всего его времени и не носят постоянного характера». Этот намек на длительные отлучки Джефферсона из столицы вызвал ответный выкрик: «В Монтичелло я больше часов посвящаю служению обществу, чем здесь, в Вашингтоне!» Кузены знали, как задеть друг друга за живое.
Судьбе было угодно, чтобы в тот же день, когда Маршалл вызвал в суд Джефферсона, Джеймс Уилкинсон прибыл в таверну «Золотой орел», до отказа переполненную. Да и весь Ричмонд был переполнен до отказа. Со всех концов страны приезжали люди на знаменитый судебный процесс, все понимали, что это зрелище получше любого театра: даже самый невежественный житель лесов и тот знал, что происходит смертельная схватка между президентом и Верховным судом, между националистами и сепаратистами, между Джефферсоном и Бэрром, который даже в то время оставался героем федералистов Новой Англии и сумел бы — стоило ему только пожелать — повести их за собой и возродить умирающую партию федералистов.
Я сидел в гостиной «Золотого орла», когда туда вошел Джейми, сияя золотым шитьем мундира, эполетами и раскрасневшимся от виски лицом. Он двигался, как индюк, распустивший перья, выпячивал грудь и живот так, будто, попробуй он идти нормально, центр тяжести тела переместился бы к брюху и он рухнул бы наземь. Его сопровождали помощники и «свидетели» с Запада.
Увидев меня в окружении «маленькой шайки», Джейми странно, словно бы примирительно, взмахнул правой рукой, и в его глазах я уловил нечто вроде мольбы. Но его сразу провели в другую комнату.
Сэм Свортвут хотел вызвать его на дуэль.
— Чему это поможет? — сказал я.
— Но ведь сукин сын на два месяца бросил меня за решетку и украл мои золотые часы!
— Вызови его! — Эндрю Джексон был теперь всецело моим сторонником, открыто выражал это. Он мог себе это позволить; в письмах губернатору Клерборну и Джефферсону он так умно показал свою лояльность Союзу, что сначала его даже хотели вызвать свидетелем обвинения, но Джексон стал на весь Ричмонд провозглашать мою невиновность, и обвинение решило, что от такого свидетеля проку не будет, он может только ослабить их и без того слабые позиции.
Лютер Мартин был навеселе. Он сказал:
— Мой мальчик, не трогай сукина сына, пока я не позабавлюсь с ним в суде.
Но на другое утро, в воскресенье, когда Уилкинсон вышел подышать воздухом перед таверной, Сэм Свортвут подошел к нему вплотную и столкнул главнокомандующего в придорожную канаву. Адъютанты выхватили шпаги. Смущенные почитатели помогли «западному Вашингтону» подняться на ноги.
— Ваши секунданты найдут меня в «Золотом орле», — сказал Сэм. — Радуйтесь, что я обращаюсь с вами, как с джентльменом, коим вы не являетесь.
Уилкинсон побагровел, но ничего не ответил. Сэм вернулся в таверну, из окна которой мы с генералом Джексоном наблюдали эту сцену — увы! — не без удовольствия. Ибо почему бы не насладиться спектаклем, если мы все равно не в силах его предотвратить?
— Господи, теперь мне полегчало! — ликовал молодой Сэм.
Ликовал и Джексон:
— Я буду твоим секундантом, мальчик. Но сначала поупражняемся с пистолетами. Перед дуэлью это не вредно, правда, полковник? Даже если напротив вас такой мешок с кишками — самая крупная, клянусь всевышним, мишень по эту сторону Аллеганских гор.
— Джейми не станет стреляться, — сказал я Свортвуту, основываясь на моем отличном знакомстве с двойным — нет, тройным агентом; я оказался прав. Даже когда Свортвут вывесил плакат, объявляющий Уилкинсона трусом, генерал не ответил. В отличие от многих знакомых мне негодяев Джейми был трус.
В понедельник командующий явился в суд завоевателем. В конце концов, разве он не ставленник Джефферсона? И прибыл к тому же в родной штат президента.
Двигаясь к свидетельской трибуне, Джейми комически раскланивался на все стороны, шпоры позвякивали, кожаная портупея поскрипывала, как у перегруженной клячи.
Я делал вид, что не замечаю Джейми, пока не назвали его имя. Тогда я обернулся и быстро его оглядел. Вот и вся встреча.
Главное доказательство обвинения сводилось к моему шифрованному письму Уилкинсону. Лютер Мартин принялся допрашивать генерала по поводу письма. Почему он внес исправления в текст? Почему пытался стереть первую фразу, которая ясно свидетельствовала о том, что письмо полковника Бэрра — ответ на его собственное письмо? И почему он сказал, что его шифрованная переписка с полковником Бэрром началась в 1804 году, когда есть доказательства, что она началась еще в 1794 году? Уилкинсон запинался, противоречил себе, лгал под присягой.
Тут-то Джон Рэндольф и заключил, что генерал «негодяй до мозга костей», и огласил этот вывод в тот же вечер в переполненном баре «Золотого орла», да так, чтобы сам негодяй мог слышать.
Рэндольф, как старшина присяжных, тоже заинтересовался шифрованным письмом. Почему Уилкинсон внес в него исправления? Чтобы избежать подозрений в соучастии в планах полковника Бэрра? Ввести в заблуждение президента? Скрыть, что генерал сам был главным действующим лицом в «испанском заговоре» еще пятнадцать лет назад? Вдруг, резко повернувшись к верховному судье, Джон Рэндольф потребовал, чтобы генералу Джеймсу Уилкинсону предъявили обвинение в измене.
Обвинители растерялись. Уилкинсон бормотал что-то невразумительное. Большое жюри удалилось решать, предъявлять ли обвинение главному свидетелю правительства. Легко представить себе состояние Джефферсона, когда он узнал, что семь членов большого жюри высказались за привлечение его генерала к суду при девяти против. Весьма шаткое голосование.
24 июня большое жюри предъявило Бленнерхассету (в его отсутствие) и мне обвинение в правонарушении, заключавшемся в подготовке экспедиции против испанской колонии, и в измене Соединенным Штатам. Я не удивился. В конце концов, большое жюри состояло почти полностью из сторонников Джефферсона. И все же, когда меня под охраной вели в ричмондскую муниципальную тюрьму, я поздравил себя хотя бы с тем, что единственный серьезный свидетель, которого мог найти против меня Джефферсон, сам едва не угодил вместе со мной за решетку — на казенные хлеба.
ГЛАВА ШЕСТАЯ
Сэм Свортвут пригласил меня встретиться с ним сегодня вечером в баре гостиницы «Сити». Должен признаться, мне нелегко представить себе грузного краснолицего мужчину отважным юношей, который когда-то вызвал на дуэль командующего американской армией и чьим секундантом вызвался быть Эндрю Джексон.
— Этот вызов меня прославил, Чарли! — Сэм пил горячий ром, приправленный гвоздикой. — Тогда-то генерал Джексон и сказал, что, будь у него сын, он был бы таким же вспыльчивым сорвиголовой, и он до сих пор, хвала господу, обо мне того же мнения.
— Полковник Бэрр правда серьезно думал об отделении западных штатов?
— Конечно. Мы все об этом думали. Однажды в Ричмонде во время процесса я слышал разговор Джона Маршалла с Джоном Рэндольфом об отделении штатов. В тот вечер мы засиделись в баре — полковник Бэрр находился в тюрьме — нас было человек двенадцать, все — головастые адвокаты, кроме твоего покорного слуги, и вот мы заговорили на эту тему, и Джон Рэндольф сказал:
«Если бы я не считал, что Виргиния может выйти из Союза когда угодно, я уехал бы из Штатов в любое захолустье, лишь бы подальше отсюда». Джон Маршалл посмеялся над ним и сказал:
«Тогда поскорей ищи себе лодку, кузен Джон, потому что ни один штат никогда не будет иметь этого права».
«А что говорит конституция, братец Джон?»
«Мало ли что она говорит, — сказал верховный судья, — куда важней, о чем она умалчивает!»
«Э, братец Джон, да ты, оказывается, подлый монархист!»
«А ты, братец Джон, подлый якобинец и демократ с головы до пят».
«Нет, братец Джон, — ответил Джон Рэндольф, — не с головы до пят. Я люблю свободу, но, великий боже, ненавижу равенство!» — Дивная пара эти кузены. Свортвут поставил свой бокал.
— Чарли, тебе надо встретиться кое с кем. Кстати, там будет издатель, который хочет купить то, что ты написал.
— Сколько?
Свортвут заморгал.
— А сколько тебе платят другие?
— Две тысячи аванса, и столько же по завершении.
Я был доволен собственной наглостью. Свортвут удивленно хмыкнул — от уважения ко мне, что ли?
— Значит, две тысячи ты уже получил?
— Мне их придется вернуть.
— Тогда проси пять и соглашайся на четыре.
— Я попрошу семь и уступлю за пять. — Голова моя кружилась от этих астрономических цифр: в Европе мы с Элен и с ребенком безбедно проживем на эти деньги лет пять.
В конце длинного пыльного коридора на втором этаже мы остановились у какой-то двери. Свортвут громко постучал. Дверь отворилась. Маленькая озабоченная физиономия встретила нас шепотом:
— Заходите, заходите. Вы опаздываете. Он чуть не ушел. Надо спешить.
Мы вошли в номер. Мужчина без камзола лежал на кровати, головой к изножью, а ноги торчали на изголовье с медными инкрустациями. В правой руке он сжимал большую оплетенную бутыль виски. Напротив, в кресле с высокой спинкой, сидел еще кто-то с озабоченной физиономией. Когда мы вошли, он встал.
— Это издатель. — Свортвут кивнул на первую озабоченную физиономию. — Мистер Роберт Райт из Филадельфии. — Мы пожали друг другу руки.
— А вот этот джентльмен и будет писать книгу. — Райт показал на второго озабоченного мужчину. — Он даже почти написал ее для нашего друга. — Райт нервозно глянул на распростертого мужчину, который тихонько напевал что-то про себя. Глаза у «нашего друга» под копной спутанных седеющих волос, кажется, были закрыты.
— Я определенно рассчитываю, — сказал джентльмен, который должен был писать книгу, — на ваше содействие.
— Разумеется. — Я ничего не мог понять.
Вдруг с постели прогремел голос:
— Что это еще за парочка мексиканских педерастов?
— Педерастов? Сэм Свортвут не педераст! — Свортвут кинулся к лежащему. Они пьяно обнялись. Затем распростертый откинул прядь, закрывавшую маленькие красные глазки, и оглядел нас.
— Я чуток поторопился, Сэм. Глянь-ка на эту троицу. Троица мексиканских педерастов, и не смей со мной спорить, на эдаких у меня нюх.
Я стараюсь как могу воспроизвести речь жителя границы.
— Вставай, — отрезал Свортвут. — Садись. Я хочу познакомить тебя с моим другом Чарли Скайлером.
— Педераст, мексиканский педераст, — пробормотал человек с дикими глазами, отхлебнув большой глоток виски и не обращая внимания на мою протянутую руку.
— Чарли, это полковник Дэйви Крокетт.
Так состоялось мое знакомство со знаменитым авантюристом — конгрессменом от штата Теннесси. Все считают его интересной личностью. Не понимаю почему. В прошлом году он напечатал так называемую историю своей жизни, которую я не собираюсь читать. Говорят, она очень смешная, в стиле границы, и продали уже много экземпляров. Он звезда партии вигов, враг Джексона и Ван Бюрена.
— А теперь, — Райт выразительно посмотрел на опухшего от пьянства «писателя», — мы пишем вторую книгу. Книгу весьма секретного свойства, можно сказать. Но не секрет от вас, мистер Скайлер, коль скоро вы, полагаю, знакомы с ее предметом…
— Лично я знаю только название. А это уже кое-что, правда, Сэм? — Полковник Крокетт лег повыше на подушку. — Моя книга будет называться Жизнеописание Мартина Ван Бюрена, прямого наследника нынешнего правительства, очевидного преемника генерала Эндрю Джексона… мексиканского педераста чистейшей воды.
— Это уже не входит в название, — сказал настоящий автор.
Я так и не узнал его имени.
— А я не желаю и слова слышать супротив Старой Коряги! — Свортвут вырвал у Крокетта бутылку и отхлебнул изрядный глоток. Они очень похожи друг на друга, два постаревших рычащих сорванца. Крокетту на вид не меньше пятидесяти.
— Старая Коряга проткнул всех индейцев на Западе. Моих любимых криков и чероков, лучших жителей треклятой страны… Ведь что делает, а? Рвет наш договор с ними, а почему? Потому что хочет спереть их землю и присвоить… Ох, хорош Старый Коряга, но супротив Мэтти Вана он как брильянт супротив дерьма.
Мистер Райт попробовал выдавить из себя улыбку, но у него получилась гримаса.
— Наша книга будет касаться только мистера Ван Бюрена — а не президента…
— Заглавие! — закричал полковник Крокетт. — Я не досказал название книги: …преемника генерала Джексона… мексиканского…
— Педераста. Мы это уже слышали, Дэйви. — Свортвут вернул полковнику бутылку.
— Содержащее все про него доподлинно известное, а также краткую историю… — Подбородок Крокетта внезапно упал на грудь. Кажется, он заснул.
— Как я понимаю, у вас есть для нас интересные материалы.
Истинный автор смотрел на рукопись, торчащую из кармана моего пальто.
— Ну разумеется! — Свортвут изображал честного посредника. — Ему в самом деле удалось доказать, что Мэтти Ван не только сын Аарона Бэрра, но и его политический ставленник, секретарь, так сказать, — нет, хуже, гомункулус изменника Аарона Бэрра! — Сэм незаметно мне подмигнул: все смотрели на рукопись, которую я держал в руках.
— А доказательства? — спросил Райт и потянулся к стопке бумаги.
— Исчерпывающие. — Я был весьма сух. — Видите ли, я биограф полковника.
— Я полагал, — сказал Райт довольно резко, — что его биограф Мэттью Ливингстон Дэвис.
— Мы оба его биографы. Однако мистер Дэвис должен ждать смерти полковника. Я же этим не связан.
— А можно мы… немного ее полистаем? — Рука мистера Райта зажила собственной жизнью. Не дожидаясь, пока я передам ему страницы, он их схватил.
Около часа истинный автор и издатель читали друг другу то, что я написал, время от времени справляясь у меня или у Свортвута о подробностях, требуя дополнительных подтверждений.
— От нас не требуется педантичности, — уверил меня мистер Райт. — Стиль Дэйви Крокетта настолько басенный, что мы можем сказать все, что придет в голову.
— Восхитительно. Просто восхитительно. — Ясные глаза истинного автора выражали не только нормальную человеческую алчность, но и неожиданный для убежденного вига фанатизм.
— Думаете, вы сумеете побить Мэтти Вана? — полюбопытствовал Свортвут.
Мистер Райт мрачно кивнул.
— В конце концов, что бы ни написал Дэйви Крокетт…
— В жизни не написал ни строчки! Ненавижу книги. Грамматика, правописание — тьфу, ненавижу. — Глаза у Дэйви Крокетта все еще были закрыты.
— Ваш материал, мистер Скайлер, изложенный в стиле Крокетта, уничтожит Ван Бюрена и как личность, и как государственного мужа.
— Какого еще мужа, — раздался голос с кровати, — если б не надушенные бакенбарды, и не скажешь, мужчина он или баба, и в корсете ходит, мексиканский… — Голос смолк, Дэйви Крокетт захрапел.
Около часа мы торговались. В конце концов я получил 5400 долларов, а мистер Райт — все, что я написал, и еще кое-какие документы (судебные протоколы из Олбани и т. д.). Очевидно, книга Крокетта уже написана, однако истинный автор говорит, что ему будет нетрудно вставить мою работу в текст. Мы пожали друг другу руки.
Я бежал домой под снегом, хлопьями валившим с неба. Пинком распахнул дверь и крикнул Элен:
— Мы богаты!
На что она ответила довольно спокойно:
— Да, уж конечно, лучше быть богатыми.
— Как только родится ребенок, мы уедем из Нью-Йорка. Поедем в Испанию. В Гранаду. В Альгамбру!
Элен улыбалась счастливой улыбкой, ничего не понимая.
Сегодня самый чудесный день в моей жизни. Я богат (хотя мне надо выплатить 500 долларов, полученных от Гауэра). Теперь я могу жениться на Элен. И уехать из Нью-Йорка. А всего лучше то, что я вряд ли задену полковника Бэрра. Он никогда не свяжет меня с Дейви Крокеттом, и, учитывая стиль Крокетта, насколько я могу о нем судить, никто не воспримет серьезно ни слова, опубликованного под именем пьяного олуха. Мои беды позади.
ГЛАВА СЕДЬМАЯ
Сегодня утром впервые в этом месяце я направился в контору на Рид-стрит.
У Крафта появился новый партнер, он взял еще одного клерка (на мое место); с удивительной теплотой он принимал меня в бывшем кабинете полковника, заново обставленном, украшенном вазами с весенними цветами.
— Это все моя дочь. — Он словно оправдывался за цветы. — В июне выходит замуж.
Я поздравил его и тут же выпалил:
— Я тоже женюсь. — Никогда не могу удержаться не сказать то, что у меня на уме; точнее, о чем думаю в данную минуту.
— Добрые вести. Мы имеем честь знать юную особу?
— Нет. Она недавно приехала в Нью-Йорк из Коннектикута и остановилась у своей тетушки на Томас-стрит. — Вечно мне нужно лезть в крутой бейдевинд — если я верно употребляю мореходный термин.
— Итак, вы забросили юриспруденцию?
Я перестал ходить в контору сразу после Нового года.
— На время.
— Вам надо бы сдать наконец экзамен по праву.
— Успею. Я теперь сотрудничаю в газетах.
Крафт кивнул.
— Знаю. — Мне так приятно, когда кто-то говорит, что читает меня. — Я прочитал немало ваших вещей в «Ивнинг пост». Вы — Старожил, ведь так?
Я не стал отпираться. Я не сказал ему, что в других газетах и журналах выступаю под именем Скептика (он хвалит вигов) и Мыши с галерки, которая пишет театральные рецензия и считает Эдвина Форреста величайшим актером эпохи, что и высказала недавно по случаю его отъезда в Англию (хотя Мышь и вынуждена была признать, что ей не очень понравилась игра Форреста в «Торговце из Боготы»).
— Многие литераторы — юристы. Например, Ферпланк. Например…
Но я не дал ему развить тему. Я пришел по делу (собрать частные бумаги полковника Бэрра) и вскоре удалился.
Я нашел полковника у оконца в задней стене. Жидкое апрельское солнце озаряло его лицо: он тянется к теплу и свету, как древний подсолнечник, вдруг пустивший корни в подвале.
Я вручил ему пачку документов. Он положил их на пол возле кресла.
— Что давали вчера в театре?
— Джеймс Шеридан Ноулс сам себе устроил бенефис. — Я пересказал полковнику несколько сцен из пьес, написанных Ноулсом, в том числе из «Горбуна», шумного представления, которое так нравится публике.
— Признаюсь, скучаю по театру. — Единственная фраза полковника, которую можно истолковать как жалобу. Он отодвинулся от солнца и сразу превратился из подсолнечника в старого крота, прячущегося в нору.
— Продолжим суд века! — Бэрр взял в руки толстенный том. — Вот précis[98] моего процесса. Полная стенограмма на тысячу сто страниц. Почитай, когда будешь в меланхолии. А пока я в сжатой форме изложу тебе главное. Разумеется, в благоприятном для себя свете!
Воспоминания Аарона Бэрра — XXI
Относительно измены конституция недвусмысленно гласит: два лица должны засвидетельствовать, что изменник поднимает войну против Соединенных Штатов либо присоединяется к их врагам, помогая или сочувствуя им. Поскольку тем местом, где я якобы собирал «армию» бунтовщиков в декабре 1806 года, был остров Бленнерхассета, Джефферсону приходилось еще доказать, что я действительно совершил то преступление, в котором он обвинил меня в послании конгрессу.
Однако факты не отличались убедительностью. Обвинение сумело лишь доказать, что тридцать человек, связанных со мною, остановились на острове, спускаясь вниз по реке Огайо. Они не были вооружены. Не совершали насилия (в отличие от местной гражданской гвардии). Никому не угрожали. Говорили, что направляются в уошитокие земли.
Но поскольку генерал Уилкинсон утверждал, что эти невооруженные люди намеревались захватить Новый Орлеан и поднять революцию в Мексике, их — на основании косвенных улик — обвинили в развязывании войны против Соединенных Штатов, а меня сочли ответственным за их действия (хотя, когда развязывалась «война» против Соединенных Штатов в Виргинии, я находился в Кентукки) и тоже — на основании косвенных улик — обвинили в измене.
Надо ли говорить, что самое понятие предполагаемой измены противоречит конституции, что известно любому юристу в Соединенных Штатах, кроме Джефферсона. Он шел напролом. Хотя он собрал против меня почти пятьдесят свидетелей (больше половины оказались лжесвидетелями), не было никаких доказательств, что я развязал войну против Соединенных Штатов или советовал тридцати гражданам на острове Бленнерхассета развязать такую войну.
Во время судебного процесса губернатор Виргинии любезно предоставил мне трехкомнатное помещение в новой тюрьме подле Ричмонда. Никогда еще обо мне так не заботились. Тюремщик принял меня весьма приветливо и выразил надежду, что мне здесь будет удобно.
— Безусловно, — сказал я галантно.
— Надеюсь, сэр, вам не будет неприятно, если я буду запирать на ночь дверь? — Он показал на дверь, ведущую в мои апартаменты.
— Никоим образом, сэр. Я даже в этом заинтересован — чтобы уберечься от непрошеных гостей.
— Наш обычай, сэр, в девять часов тушить всюду огни.
— Боюсь, сэр, это невозможно. Я никогда не ложусь до двенадцати, и у меня всегда горят две свечи. — Я не добавил, что ложусь спать всегда с сожалением, пересиливая себя.
— Как угодно, сэр. Лучше бы по-другому… — Он вздохнул. — Но как угодно, сэр.
Мы стали отменными друзьями, особенно после того, как я стал делиться с ним дарами, которые ежечасно доставляли мне слуги в ливреях, — апельсины, лимоны, ананасы, малину, абрикосы пирожные и даже лед, предмет роскоши в тропической зоне.
Второго августа приехала Теодосия с супругом, они поселились в доме Лютера Мартина. Теодосия сразу же стала королевой ричмондского общества и настолько обворожила всех в «Золотом орле», несмотря на нездоровье и понятное волнение, что Лютер Мартин сказал: «Я женюсь на ней, полковник. Убью недостойного супруга, и тогда она будет моей по праву завоевателя».
— Благословляю. — Должен сознаться в тот момент я не имел бы ничего против того, чтоб кто-то убил моего зятя, который чуть не отрекся от меня, лишь бы не попасть в тюрьму по приказу Джефферсона. Олстон был человек слабохарактерный, и, кроме жены и сына, его ничто не интересовало. Однако же во имя нашей общей любви я прощал ему все.
Тем временем ко мне присоединился Бленнерхассет. Его тоже обвинили, и он, так сказать, пребывал не в лучшем расположении духа. Наша первая встреча прошла не слишком гладко главным образом оттого, что его угораздило явиться как раз, когда мои апартаменты тайком, при содействии доброго тюремщика, покидала одна ричмондская дама (молодая вдова, спешу добавить).
— Не имею желания осуждать вас, полковник…
— Тогда поддайтесь этому нежеланию, мой дорогой друг, и не осуждайте меня.
— Но безнравственность любого толка, вольность любого рода…
— Ну будет вам. — Я изо всех сил пытался смягчить виновного в кровосмешении дядюшку.
— …и к тому же — в тюрьме!
— А, понимаю. Неприлично. Понимаю, что вы хотите сказать.
— Нет, не то. — И он выложил мне, что хочет получить обратно деньги, которые внес на осуществление нашего предприятия. Поскольку я был не в состоянии их вернуть, он совсем по-донкихотски отказался нанять себе защитника. К счастью, моя адвокатская когорта исполнилась решимости спасти его от виселицы.
Правительство склонялось к мысли, что мой зять будет свидетельствовать против меня. Но мы сорвали этот замысел. В день открытия суда, третьего августа, мы с Олстоном вошли в зал вместе, я дружески держал его под руку.
У нас ушла целая неделя на отбор присяжных из предположительного списка. Как выяснилось, каждый предполагаемый присяжный придерживался того мнения, что я виновен. Мы бы до сих пор торчали в Ричмонде, не постанови Маршалл, что мнение о том, что подсудимый виновен, если таковое случайно, а не навязано, — еще не основание для отклонения кандидатуры присяжного. Это утонченное решение ублажило Джорджа Хэя. Но борьба продолжалась.
В конце концов я предложил, если обвинение не возражает, выбрать наудачу восемь человек из обсуждавшегося списка. Хэй удивился и согласился. В конце концов, весь состав присяжных считал меня виновным — и, как выяснилось, ни один из них не пришел к этому мнению случайно. Почти наугад я выбрал восемь человек, выразив уверенность, что могу положиться на честность названных джентльменов. Шаг оказался превосходным, и я сразу завоевал одного-двух сторонников; правда, большого смысла в этом не было. Я знал, что спасти меня может только закон, на присяжных рассчитывать не приходилось.
После Уилкинсона самым важным свидетелем правительства был Уильям Итон, авантюрист, называвший себя «генералом» после каких-то забавных стычек в Северной Африке, прославивших его; он облачился в невиданный берберский наряд и счел, что у него есть основания для неслыханных претензий к правительству Соединенных Штатов за якобы оказанные им услуги.
Я встречал Итона в Вашингтоне, сообщил ему что-то о своих планах в отношении Мексики. Он заинтересовался, чем все и ограничилось. А теперь вдруг он начал рассказывать всевозможные небылицы. Что я собирался захватить столицу, убить президента и так далее. Чтобы предупредить мои действия, сказал он суду, он явился к Джефферсону с предложением отправить меня куда-нибудь послом с глаз долой. И лишь из деликатности он не упомянул в разговоре с президентом, что я собирался Джефферсона убить.
Во время судебного заседания я спросил Итона о его иске Соединенным Штатам. Заплатили ему? Он попытался уклониться от ответа. Наконец неохотно признался, что вскоре после моего ареста правительство вдруг оценило справедливость его претензий, и он получил около десяти тысяч долларов.
Давала показания и семья Морганов. Их отчет о разговорах со мной не отличался полнотой и последовательностью. Тем не менее Джефферсон и их не забыл и позаботился о том, чтобы правительство признало их права на спорные земли в Индиане.
Моему начальнику штаба, доброму французу полковнику де Пейстеру, тайно предложили повышение в американской армии, если он согласится дать против меня показания. Он отказался. Подручный Джефферсона, редактор Дуэйн, обращался даже к Бленнерхассету и сказал, что, если он свалит всю вину на меня, с него снимут обвинение. К моему удивлению, Бленнерхассет тоже отказался. Быть может, он решил, что, если меня вздернут, он не увидит и пенни из тех денег, которые он пожертвовал на мое предприятие. Другие свидетели со стороны Джефферсона произвели совсем слабое впечатление.
Наконец, Маршалл спросил Хэя, есть ли у него еще «доказательства», что Бэрр находился на острове Бленнерхассета в знаменательный день десятого декабря, когда была начата «война» против Соединенных Штатов. Хэй ответил отрицательно.
Тогда Джон Уикхем предложил прекратить заслушивание свидетелей. Далее, в течение двух дней, он завораживал суд, утверждая тот факт — возвращаясь к нему сотней извилистых тропок, — что нельзя совершить измену, отсутствуя в тот момент, когда против Соединенных Штатов были предприняты военные действия. Весьма существенный аргумент для моей защиты. Ведь меня просто-напросто не было десятого декабря на острове Бленнерхассета. Но конституционный опор важнее моей шеи (хотя лично я, пожалуй, придерживался иного мнения).
Уикхем сосредоточился на старой посылке о «виновности на основании косвенных улик». В чистейшем виде это выражение означает, что любой, кто сочувствовал потенциальному изменнику, виновен в той же мере, как и сам изменник, находись он хоть за много миль от того места, где затевалась война. Уикхем напомнил суду, что конституция — единственный документ, в котором измене дается точное и недвусмысленное определение. Изменник должен быть захвачен на месте развязывания войны против Соединенных Штатов. Отсутствующие лица, которые сочувствовали этому акту или даже вдохновляли его, в конституции не упоминаются и потому не являются изменниками.
Эту точку зрения следовало сформулировать с особой осторожностью, ибо Джон Маршалл ранее допустил ошибку, вынося постановление по делу Болмана — Свортвута. Хотя Маршалл не обнаружил никаких доказательств, никаких военных действий, спровоцированных на острове Бленнерхассета, он объявил — вне сомнения, желая показать Джефферсону беспристрастность суда, — что «суд не стремится утверждать, что никто не может считаться виновным в этом преступлении, если только не поднялся с оружием в руках против своей страны. Напротив, если военные действия были открыты, то есть если группа людей действительно собралась для осуществления предательских планов, то каждый, кто принимал участие в общем заговоре, пусть мимолетное, как бы далеко ни находился он от места событий, должен рассматриваться как изменник».
Мне рассказывали, что до конца дней Маршалл сожалел об этой чудовищной ошибке, вызывающей в памяти средневековую Звездную палату[99]. Вскоре ему самому пришлось признать, что, если столь широкую сеть забросить в море, в ней запутается каждый, кто имел несчастье когда-то сказать «бог в помощь» человеку, развязавшему потом войну против Соединенных Штатов.
Обвинители не торопились использовать оружие, которое вложил в их руки Джон Маршалл. Они настолько сосредоточились на доказательстве моего пребывания десятого декабря на острове Бленнерхассета, что, когда я с легкостью доказал свое алиби, их провал произвел на жюри большее впечатление, чем он того заслуживал. Им бы пришелся кстати совет успокоиться на том, что я на расстоянии руководил людьми, собравшимися на острове, и на тех изменнических словах, которые я без разбора якобы наговорил разным лжесвидетелям, которых Джефферсон за деньги согнал в Ричмонд.
Теперь задача защиты заключалась в том, чтобы смягчить маршалловскую доктрину «измены, подтверждаемой косвенными уликами». Однако сам верховный судья двигался в ином направлении. Он изо всех сил пытался избежать возможной западни, которую себе устроил, сосредоточив внимание на более простой проблеме: были ли военные действия против Соединенных Штатов действительно развязаны десятого декабря, и если да, то может ли правительство представить двух свидетелей, как того требует конституция?
Рассуждения Уикхема были настолько убедительными и мастерскими, что обвинение потребовало устроить двухдневный перерыв (требование удовлетворили); оно потребовало также выслушать новых свидетелей — их выслушали, но толку от этого было мало.
Затем началось контрнаступление. Уильям Уирт втерся в историю американской прозы (но не юриспруденции), отменно красочно описав остров Бленнерхассета как истинный эдем, куда сатанинским искусителем бедного Бленнерхассета (чудовищный гибрид Адама и Евы) явился дьявол во плоти, Аарон Бэрр, намеренно и жестоко превративший в ад нетронутый райский островок. Мне рассказывали, что сие отменное словоизвержение до сих пор разучивается в школах нашей страны как образец… бог знает чего! Я подозреваю, что моя устоявшаяся мрачная репутация в этой республике почти полностью объясняется сегодня тем обстоятельством, что три поколения американских школьников знакомятся с Аароном Бэрром, зазубривая перлы Уильяма Уирта. Не так давно я имел удовольствие слышать, как одна из моих юных подопечных гордо цитировала филиппику Уирта против Аарона Бэрра, не понимая, что цветистыми гиперболическими фразами клеймит лишь доброго старого Болтуна.
Наступая, Джордж Хэй не слишком деликатно попытался угрожать Джону Маршаллу, напомнив ему, что судья Чейз был отстранен за предрешение постановления суда. Защита всесторонне обыграла эту угрозу. Маршалл поступил мудро, не обратив на нее внимания. В пятницу двадцать девятого августа судебное заседание закончилось защитительными речами Лютера Мартина и Эдмунда Рэндольфа.
В субботу и воскресенье Джон Маршалл готовил постановление суда. Тридцать первого августа он читал его нам три часа С юридической и конституционной точки зрения постановление во многих отношениях было слабым и противоречивым. Обезоружив себя (и конституцию) своим определением по делу Болмана-Свортвута, он по мере возможности закрывал глаза на собственное решение о том, что каждый, кто пусть косвенно соучаствовал в развязывании войны против Соединенных Штатов, столь же виновен, как и действительный участник событий, и сосредоточился на совершенно иной проблеме.
Чтобы доказать измену, правительство обязано, во-первых, доказать, что война против Соединенных Штатов действительно была развязана, и, во-вторых, доказать, что данное лицо было вовлечено в этот акт. Иными словами, дело поставили с ног на голову; выходит, правительство арестовало Аарона Бэрра за соучастие в акте войны, который еще требовалось доказать. Далее, правительство полагало, что Бэрр находился на острове, когда была развязана еще не доказанная война. С этим Маршалл разделался проворно: суд установил, что Бэрр находился в другом месте.
Затем Маршалл взялся за главный пункт обвинения: подстрекал ли Бэрр к измене других? И если да, то виновен ли он в измене? Теперь Маршалл со слоновьей грацией удалялся от своей ранее занятой позиции. Он указал, что Бэрру предъявили обвинение в развязывании воины против Соединенных Штатов в определенный день и в определенном месте. Однако в тот день Бэрра не было в том месте. Вопрос тем не менее остается: виновен ли он в подстрекательстве к измене тех, кто там находился? Если виновен, то суд вынужден утверждать, что правительство не обвинило его в этом преступлении по той ясной причине, что подстрекательство к измене, согласно конституции, не является преступленном. Среди присутствовавших в зале суда юристов пробежал шепот, когда они увидели, в какую сторону вот-вот повернет наша юридическая история.
«Подстрекать или побуждать к измене, — и голос Маршалла внезапно зазвучал яснее и громче, — по сути, значит замышлять измену. — Он сделал паузу, сознавая, без сомнения, что банальность, произнесенная с пафосом, всегда производит впечатление свежей мысли. Затем он закруглил фразу и занял место в история: — Что еще не является самой изменой». И этой формулой отменил собственное решение шестимесячной давности.
Шушуканье в зале нарастало, и Маршалл стал терпеливо разъяснять, что, без сомнения, такой закон нужен, но, поскольку его пока нет, он пойдет дальше. Между тем он все еще не убежден, что целью «скрытого и тайного сборища» на острове Бленнерхассета была война, но, если даже такое намерение существовало, отсутствие Аарона Бэрра исключает его соучастие и советы, которые он мог давать втайне собравшимся там людям, не могут, согласно конституции, рассматриваться как акт войны против Соединенных Штатов.
То был провал правительственного обвинения. Джордж Хэй швырнул бумаги на стол, и его демонстрация удостоилась внимания со стороны Маршалла, продолжавшего наисладчайшим тоном свои рассуждения.
«Конечно, суд не превысил полномочий. — В зале стояла гробовая тишина. Все знали, что теперь гнев Джефферсона обратится на верховного судью. Как ответит верховный судья? Джон Маршалл не уклонился: — Верно и то, что суд не ушел от ответственности». С прямотой, достойной Мартина Лютера, он разъяснил свою позицию и почему он с нее не сойдет, несмотря на угрозу отстранения его от должности и гонений на Верховный суд со стороны Джефферсона. На этой последней ноте присяжные удалились выполнить свой долг.
На другой день, во вторник, присяжные постановили, что «вина Бэрра, изложенная в обвинении, не доказана свидетельствами, представленными суду». Я почувствовал облегчение и… разъярился. Меня не повесят, но меня и не оправдали. Присяжные нарушили традицию, уклонившись от однозначного ответа: «виновен» или «невиновен». Маршалл счел возможным сохранить формулировку присяжных в приговоре, подчеркнув, однако, что в судебный протокол войдет обычное и недвусмысленное «невиновен».
На другой день меня освободили из тюрьмы под залог и пригласили на обед, данный Джоном Уикхемом в честь нашей победы.
В тот вечер моим утешением была Теодосия, сидевшая со мною во главе стола; и мы радовались, хотя я и знал, что мои дни в суде еще не миновали, и беспокоился о здоровье дочери. Я молил бога, чтобы она не ушла от меня вслед за матерью. Однако в тот вечер Теодосия блистала остроумием и веселилась.
ГЛАВА ВОСЬМАЯ
Полковник вдруг замолчал.
— Больше не могу.
Я положил перо.
— Вы нездоровы?
Он покачал головой.
— Нет. Устал.
— Позвать миссис Киз?
— Нет. — Он откинулся на диване, сделал глубокий вздох… Я почти приготовился к тому, что это будет его последний вздох, но, насколько я мог судить, он не болен.
Несколько минут я наблюдал за ним, не зная, что делать дальше. Наконец он открыл глаза и повернулся ко мне.
— Просто устал, — повторил он, — хотя тебе это покажется странным. Мне нелегко пережить все это снова.
Полковник показал на бесконечные тома юридических справочников, которыми пользовался.
— Ты лучше сам их просмотри. Сам реши, что мне объяснить. Я, кажется, не могу… — Он снова замолк.
— Мы перетрудились. — Я принялся пространно извиняться.
Но полковник меня не слушал. Он смотрел на портрет Теодосии. Наконец заговорил:
— В общем-то, осталось не так уж много рассказывать. Мы оставались в Ричмонде еще два месяца, меня признали невиновным в попытке вторжения в Мексику. Однако Маршалл все больше и больше пугался собственной смелости. Почти каждый вечер совершался обряд сожжения наших чучел — я к такой чести привык, но верховного судью это выводило из равновесия — он не без основания опасался умения Джефферсона баламутить толпу. И Маршалл вынес постановление, чтобы за попытку развязать войну против Мексики меня судили в Огайо. То была позорная капитуляция перед Джефферсоном и общественным мнением, вызывающая в памяти капитуляцию короля Генри перед Джеком Кейдом[100]. К счастью, штат Огайо не возбудил против меня дела, я был свободен, но знал, что за мной следят.
Я поехал с Лютером Мартином к нему в Балтимор, но толпа вынудила меня уехать. Затем я направился в Филадельфию и попытался вновь устроить свою жизнь. Я еще уповал на Мексику — надеялся чего-то достичь с помощью Англии или Франции. Оставался и Техас. Я там рассчитывал на поддержку…
Длинная пауза. Элегическая невнятица сменилась сухим изложением фактов.
— Под именем Эдвардса в июне 1808 года я отплыл в Европу. В середине июля оказался в Лондоне и как раз вовремя узнал, что брат Наполеона, Жозеф — да, наш сосед по Нью-Джерси, который едал у мадам на кухне свинину с капустой, — стал королем Испании и, разумеется, Мексики. Так окончилось мое мексиканское предприятие. Король Жозеф не стал бы помогать мне членить новоприобретенную империю. И Англия не собиралась посягать на империю прежнего монарха, от чьего имени она вторглась в Испанию, чтобы изгнать оттуда Бонапартов…
Снова длинная пауза. Затем:
— Четыре года я кое-как перебивался. Англичане не позволили мне остаться у них, я уехал в Швецию. Народ там теплый; но климат — суровый. Я переехал в Германию, посетил многочисленные княжеские дворы. Франция сначала не хотела меня впускать. Когда же меня наконец впустили — отказались выпустить. За мной следили денно и нощно. Меня так и не представили императору, а ведь я носился с планами, которые могли его заинтересовать.
Вдруг полковник широко открыл глаза в странной тревоге.
— А знаешь, Чарли, Париж мне показался точной копией Олбани накануне Революции. Те же грязные улицы и вдоль них сточные канавы. И каждый извозчик мог обдать грязью пешехода, чтоб потешить свое черное французское сердце. Но вот Олбани стал другим, а Париж все не желает покаяться в грехах.
Вошел слуга с газетами. Видя, что полковник в изнеможении, он укоризненно посмотрел на меня.
— Губернатору надо поспать, — сказал он (неизменно величает полковника «губернатором», привычка, засевшая у него от службы у губернатора Клинтона).
— Да, да, губернатор не в себе. — Полковник посмотрел на меня с улыбкой. — И сам себя не узнает. Боже, помоги губернатору, больше-то никто не выручит.
Я ушел от полковника, напичканный рассказами о судебном процессе.
ГЛАВА ДЕВЯТАЯ
Сегодня первое июня 1835 года. Надо сразу записать, а то потом не получится.
Начну снова.
Неделю назад съезд демократов в Балтиморе выдвинул Мартина Ван Бюрена и «Текумсе» Джонсона кандидатами на пост президента и вице-президента. Ван Бюрен сказал, что не стремился к этой чести. Большинство делегаций штатов заявили, что не стремились к бесчестью — выдвигать в вице-президенты любовника двух черных женщин, но им пришлось принять кандидатуру Джонсона.
Нет. Попробую еще раз.
Сегодня, часа в четыре дня, нам с Элен нанес визит профессор френологии Джордж Орсон Фуллер. Несколько месяцев назад я писал о нем в «Ивнинг пост». Он рассчитывает, что я напишу серию статей о науке френологии, на то же рассчитываем и мы с Леггетом, который не только снова на ногах, но и заправляет газетой, пока мистер Брайант в Европе.
Профессор Фуллер. Он маленького роста, с крошечными обезьяньими лапками, в черном шарфе, почти закрывающем рот. Он лыс, и каждая шишка на необыкновенном черепе сияет, как на гипсовой модели, которую он таскает с собой в коробке из-под женской шляпы.
— Весьма польщен, миссис Скайлер. Весьма польщен. — Профессор поклонился Элен, которая расчищала на рабочем столике место для гипсовой головы в натуральную величину, испещренной многочисленными линиями, как карта германских княжеств.
— Всюду беспорядок, — извинилась Элен, пристально рассматривая голову. — Может, чаю хотите или сладкой воды?
— Воды. Я не притрагиваюсь к возбуждающим напиткам. — Профессор потеребил место возле левого уха, откуда начинались бакенбарды. — Это шишка Пищеварения. — Элен смотрела на него недоуменно. — Когда она слишком развита, она свидетельствует об обжорстве и пристрастии к крепким напиткам, — объяснил он. — Как видите, у меня она не развита. А вы, — он подмигнул мне, — вы любите поесть.
— Любит, — подтвердила Элен. — Скоро растолстеет, если будет так есть.
Пока Элен готовилась, кого кормить, кого морить голодом, соответственно пищеварительным шишкам, профессор сказал мне, сколько радости доставили ему «Заметки старожила» о новой науке френологии.
— Хотя это не так ново, как принято думать. Наш основоположник, строго говоря, профессор Прохазка из Вены; его работа тысяча семьсот восемьдесят четвертого года о нервной системе связала то, что внутри черепа — мозг, — с тем, что снаружи — с конфигурацией головы.
Элен принесла профессору воды, разглядывая его, как музейный экспонат. Недавно она просила меня пригласить кого-нибудь («Если ты не стесняешься меня. Мне скучно, хоть я и не одна, там целый день кто-то шевелится». — И она любовно погладила живот).
— А теперь, мистер Скайлер, я приготовил для вас кое-что, полагаю, необычайное, с точки зрения и Старожила, и «Ивнинг пост». — Он вытащил из кармана многократно сложенный лист бумаги, тщательно его расправил. Оказалось, это рисунок головы; такая же как модель, только испещрена цифрами, а под ними прочерчены линии. — Френологическое исследование головы Мартина Ван Бюрена, которое удалось заполучить моему коллеге в Вашингтоне.
Сердце у меня упало. Когда уж я отделаюсь от мистера Ван Бюрена?
— Полагаю, «Ивнинг пост» будет в восторге — при условии, что схема аутентична.
— Очень большая голова, — сказала Элен.
— Выдающаяся голова. — Профессор любит свою работу; да и меня впечатляет обстоятельность новой науки, и я, кажется, склонен в нее поверить. Профессор довольно пространно рассуждал о голове вице-президента и его характере. Необычайно развиты Скрытность (задняя часть височного шва) и Самомнение. А также Осторожность (сильно выдающаяся теменная возвышенность) и Твердость (выпирающий стреловидный шов от темени до передней части макушки).
Хотя я еще подробно не изучил схему, которую мне оставил профессор Фуллер, я совершенно убежден, что Старожил обрадуется — хоть и не преминет побрюзжать насчет легковерия нашего времени.
Я допрашивал профессора со всей возможной тщательностью. Приводил возражения против его науки.
— Известно, например, что шишка Остроумия у драматурга Шеридана была очень слабо развита. А он считался самым остроумным писателем своего времени.
— Но ведь он не был остроумным! О, какой выдающийся критик литературы да и людей — наша наука! — Профессор изощряется в тонкостях и парадоксах. — Видите ли, остроумие Шеридана не было истинным остроумием, и френология подтвердила то, чего не мог знать ни один литературный критик: самыми выдающимися шишками Шеридана были Память и Сравнение. А они в сильном сочетании создают видимость остроумия (судите сами: Шеридан запоминает умные вещи, кем-то сказанные, а затем сравнивает их с идеалом в искусстве), однако видимость остроумия не есть еще остроумие, и это всецело подтверждается его сочинениями.
— А как у меня насчет остроумия? — Элен улыбнулась мне, наклонилась вперед.
— Оно у вас невелико, скажу вам с облегчением. Остроумие не приличествует слабому полу. Вы не возражаете, если я посмотрю? — Обезьянья лапка легко коснулась головы Элен в разных местах; профессор жужжал как пчела.
— Очень хорошо, — сказал он наконец. — У вас отменно развито Чадолюбие. — Он постучал пальцем по затылку модели. — Вот здесь. На затылочной кости. Видите? — Элен была смущена. — Любовь к детям. Сильно развита у большинства женщин и обезьян, поскольку и у женщин и у обезьян любовь к детям гораздо сильнее, чем у мужчин.
— Прекрасно! — Элен пощупала затылок. Затем, к моему изумлению, сказала: — Ой, мне надо чего-нибудь покрепче, силы поддержать. — И перед носом профессора налила себе стаканчик голландского джина.
Профессор нервно засмеялся.
— Вам, кажется, недостает Избирательности…
— Наверно. Ну, я пойду. Извините. — Элен вышла в спальню и прикрыла за собой дверь.
— У вас, мистер Скайлер, отличная Творческая шишка, как и у меня.
Профессор прикоснулся к своей голове где-то на полпути между бровью и виском.
— Видите ли, значение этой шишки открыл профессор Гэлл из Антверпена при самых любопытных обстоятельствах. Однажды он вошел со своей супругой в главную галантерейную лавку Антверпена и заметил, что голова у хозяйки необычайно развита в этом месте. Поскольку во всех прочих отношениях ее голова ничем не отличалась, он логически отнес эту шишку на счет выдающегося таланта в искусстве изготовления шляп. Однако для науки одного образца недостаточно. Требовалось подтверждение. И вот прошло много лет, и во время путешествия по Италии профессору Гэллу разрешили исследовать то, что считали черепом живописца Рафаэля, и — подумать только! — он видит ту же самую шишку.
По звукам из соседней комнаты я понял, что Элен плохо. Такое случалось нередко, я не встревожился и внимал профессору, который не слышал ничего, кроме собственного голоса.
— И вот я хочу открыть вам мой план. — Профессор деликатными движениями потер носовым платком блестящий череп, поглаживая, возбуждая шишку Интеллекта.
— Еще на заре истории человек мечтал уподобиться богам…
Я боялся, что мне предстоит выслушать целую лекцию; так оно и вышло, и вскоре Старожил поведает ее читателям «Ивнинг пост».
— Итак, мистер Скайлер, теперь у нас есть возможность превратиться в богов. Мы хотим, чтобы родился новый Шекспир? Да? Хотим? Хорошо! Тогда давайте мне здорового младенца мужского пола, и я снабжу его вот этим!
Профессор Фуллер извлек из шляпной коробки перепутанную связку кожаных ремешков и деревянных пластинок.
— Я прикреплю патентованный механизм к мягкому, еще не сформировавшемуся черепу, нежно, очень нежно, и по мере роста ребенка станут расти шишка Идеала и шишка Творчества, послушно отзываясь на нежное, но непрестанное давление пластинок. Когда голова совсем вырастет, у ее владельца будут таланты Шекспира, без присущей Эйвонскому барду безнравственности.
Тут Элен закричала.
Когда я вбежал к ней, она лежала на полу возле кровати, а ноги были раскинуты, как у куклы-марионетки с оборванными нитями.
— Прости, — сказала она, глядя на свою белую юбку, которая медленно окрашивалась в алый цвет. Сначала несколько капелек, как распускающиеся розовые бутоны, а потом — я тупо и молча глядел — целый поток.
Но вот закричал и я. Послал профессора Фуллера за доктором. Позвал соседку, у нее было девять детей, и, слава богу, она знала, что делать.
Элен спит, до отказа напичканная наркотиками: доктор пришел слишком поздно и уже ничем не помог.
— Ничего не понимаю, — все повторял он. — Ваша жена абсолютно нормальна. Непонятно, непонятно. — И по доброте сердечной он унес в старой наволочке тело нашего сына.
ГЛАВА ДЕСЯТАЯ
9 июля 1835 года
Я осчастливил профессора Джорджа Орсона Фуллера, хотя и знал, что за этим последуют возмущенные крики тех, кто не одобрял «формирование» черепа. В конце концов, мудро заметил Старожил, один из ремешков может ослабнуть, и вместо шишки Творчества разовьется шишка Разрушения. И будущий созидатель превратится в гунна Атиллу.
В то утро мы сидели с Леггетом у него в кабинете.
— Пьянство — вот твоя очередная тема. — Леггет закинул ноги на письменный стол Брайанта. Книга Вашингтона Ирвинга все лежит на том же месте, непрочитанная. Леггет выглядит страшнее смерти, но делает вид, будто совершенно здоров. Он источает доброжелательность, не возьму в толк — зачем. На улицах ему каждый день угрожают антиаболиционисты, и в редакции «Ивнинг пост» каждое окно было хоть раз да выбито.
— Считаешь, френологию я исчерпал?
— Ты исчерпал мое терпение. Вот. — Леггет вручил мне пачку памфлетов. — В Соединенных Штатах, вероятно, полмиллиона безнадежных пьяниц. Следствие греховности, утверждает современный виноторговец, а уж кому знать, как не ему. Но по-моему, это результат нашей нездоровой жизни в городах. — Он зашелся в кашле… убеждая меня в том, что воздух в Нью-Йорке нездоровый.
— Изучи горожанина. Опиши классический тип янки: тощий, дубленая кожа, крупная челюсть, маленькая голова — вот покоритель дикой природы. Покажи, как на смену ему приходит болезненное, одутловатое существо со впалой грудью и мягким животом — от злоупотребления спиртным.
— Я предпочитаю эту смену.
— Это точка зрения Старожила? Или голландца Чарли?
— Их общая точка зрения. — Как все голландцы, я отроду испытываю неприязнь к умным, безжалостным янки, которые отобрали у нас страну. Я не могу не гордиться Ван Бюреном, и, надеюсь, он станет первым президентом-голландцем.
В дверях вырос Седвик и объявил, что в соседней комнате ждет рекламодатель.
Леггет снял ноги со стола.
— Они входят в кабинет как рекламодатели. А уходят как бывшие рекламодатели. — Мы оба встали. — Элен здорова? — спросил он.
— Здорова.
— А настроение?
— Ей уже лучше. — Это правда. Но характер у нее сильно изменился. Раньше она предпочитала скрываться дома, теперь требует, чтобы мы все время выходили, встречались с людьми, развлекались. Мне, по правде говоря, не нравится такая перемена. Я работаю целый день до глубокой ночи. Когда не пишу, я читаю, и до недавнего времени думал, что она довольна нашим молчаливым сообществом — каждый занят своим делом. Но теперь молчание выводит ее из себя. Она не находит себе места. Жалуется. Когда же наконец мы с ней уедем из Нью-Йорка?
Спросил Леггета про консульство. До сегодняшнего дня я никому об этом не говорил. Мне и сейчас не хочется искушать судьбу. Суеверие.
— Машина крутится. Ван Бюрен знает, что ты сделал, и благодарен тебе за героическую сдержанность.
— Его точно выберут?
— Не сомневаюсь. Как и в том, что нам скоро выбьют последнее окно.
Леггет спросил меня про издателя Реджинальда Гауэра и про «гадкого Мэтта Дэвиса».
Я рассказал, что выплатил Гауэру все сполна.
— Кажется, оба они изрядно удивились.
Гауэр еще и разозлился, а Дэвис затаил — и неспроста — недоверие. Опасаясь, что тут не обошлось без интриг, он посоветовал Гауэру заплатить мне немного больше условленной цены, но я ответил, что просто не могу предать полковника, злоупотребить его доверием, и Гауэр сказал, что, несмотря на мою щепетильность, он черта с два заплатит мне хоть на пенни больше, чем мы договорились. А Дэвис сказал, что это трагическая потеря ценного «материала» и неужели же я не хочу защитить Соединенные Штаты от Ван Бюрена? А я сказал — и ведь истинную правду, — что мне плевать, кто будет президентом, и тогда они потеряли ко мне всякий интерес, облив холодным презрением.
Я ушел от Леггета, унося с собой дюжину обвинительных заключений против виски.
На Бродвее я неожиданно столкнулся лицом к лицу с Уильямом де ла Туш Клэнси.
— Ха! — В протяжном звуке отвратительно смешались страх и снисходительность. — На что в следующий раз обратит свой взор юный Старожил?
— На Воксхолл-гарденс, полагаю. — У меня почти физическая неприязнь к Клэнси. И все же я смотрю на него как зачарованный; замечаю, что его выпученные глаза мерцают желтоватым огнем, что он вечно чешется; то и дело высовывает язык, как ящерица, заглатывающая мух.
— На прелестных нимф, с которыми вы забавляетесь?
— И на прелестных фавнов и их похотливых дружков.
— У-гу… — Ему не удалось прикинуться веселым. — Надеюсь, вы понимаете, что порочная страсть вашего редактора к неграм день ото дня становится все непристойней. Я бы на его месте поостерегся. Как бы он просто не исчез однажды темной ночью.
— Его убьют? Или продадут в рабство?
Клэнси недавно порадовал поклонников, предложив, коль скоро институт рабства — неотъемлемая часть всякой высокой цивилизации (и особенно привился в странах, которые следовали букве и духу Ветхого и Нового завета), покупать и продавать белых бедняков наравне с черными.
— Думаю, бедный и больной мистер Леггет не дорого потянет на невольничьем рынке. Разве что больной мозг представит некий мрачный интерес для чудака-собирателя. Вы же, напротив, можете рассчитывать на хорошую цену.
— Больше ваших обычных двух долларов? — Два доллара теперь такса мужчины-проститутки.
— Куда больше! Да одни розовые голландские щечки чего стоят!
С удовольствием написал бы, что тут я придумал нечто убийственное, но от злости мне абсолютно ничего не пришло на ум, и последнее слово осталось за ним.
В окне книжной лавки объявление: новая книга полковника Крокетта поступит в продажу летом. Название пока не объявлено.
ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ
Холодный для июля день. Сегодня, впервые за несколько недель, я посетил полковника (утренние газеты с длинными некрологами по поводу кончины Джона Маршалла пробудили угрызения совести).
— К счастью, я в состоянии пережить печальную новость. — Полковник улыбнулся лукавой, уже почти совсем беззубой улыбкой. Кроме прекрасных глаз, от легендарного ангелоподобного смуглого красавца Бэрра ничего не осталось.
— Итак, в живых теперь только мы с Джемми Мэдисоном. Кто, по-твоему, скорей удалится в вечность? Генерал Джексон считает, что тут не угадаешь — как на скачках, но сам бедный старик, вероятно, обойдет нас обоих, несмотря на — и полковник взял в руку флакончик патентованного лекарства с наклейкой «Несравненное снадобье» — это восхитительное укрепляющее средство. Когда я встретился с президентом в Нью-Йорке, он не раз говорил мне, что обязан своим здоровьем только сему лекарству. Поскольку я никогда еще не видел человека в худшем здравии, на меня его заверения не действовали. Но потом я подумал: вот у Джексона пуля застряла около сердца, он страдает от десятка недугов; может, не умер только благодаря «Несравненному снадобью»? Теперь я принимаю его каждый день, строго следуя инструкции на этикетке. И должен сказать, оно действует на меня освежающе: полагаю, это смесь опиума и яблочного бренди.
Я записываю все просто с восхищением. Две исторические личности встречаются после тридцатилетнего перерыва и разговаривают о «Несравненном снадобье»!
Я рассказал полковнику, что Леггет прочитал его воспоминания и хотел бы с ним поговорить.
— Почему бы и нет? Что еще мне остается, как не рассуждать о прошлом?
Внезапную вспышку горечи прервал слуга, торжественно объявив:
— К губернатору пожаловал конгрессмен Ферпланк. — И тут же явился сам Ферпланк, отяжелевший, старый, скрюченный подагрой.
— Мистер Ферпланк теперь первейший среди наших адвокатов, — сказал полковник Бэрр, представляя нас друг другу.
— Я встречал вас, сэр, вместе с мистером Ирвингом, — начал я.
— Помню. Вы Старожил, не так ли?
У меня вспыхнули уши, я чувствовал, как к ним прилила кровь.
— Да, сэр. Стараюсь…
— Мне Старожил нравится куда больше чепухи мистера Ирвинга. Вы голландец, но, слава богу, не пишете о нас так, будто мы скопище эльфов в деревянных башмаках и о деревянных башках.
Ферпланк пытается уговорить конгресс выплатить полковнику Бэрру хотя бы часть денег, которые он истратил на нужды Революции. Он полон оптимизма. Но может быть, его, как и всех, заражает оптимизмом полковник.
ГЛАВА ДВЕНАДЦАТАЯ
27 августа 1835 года
Пишу дату…
Нет, начну еще раз. С самого начала.
Вчера утром Леггет пригласил меня в парк, где антиаболиционисты затевали митинг под председательством мэра. В последние дни по всей стране прокатилась волна бунтов — это все безумцы из Новой Англии и Нью-Йорка. Они требуют немедленного освобождения рабов и вызывают бешенство у белого большинства, которое поддерживает рабство и ненавидит чернокожих. Аболиционисты не успокоятся, пока не разрушат Соединенные Штаты. Я теперь антиаболиционист.
В общем, жуткое лето, холодное, ветреное, странное… убийственное для всех. И для меня.
Элен совсем изменилась. Да, после смерти нашего ребенка она сделалась холодная, вспыльчивая, странная. Но вчера она снова была, как прежде, любящая, нежная. Ну, а сам я стараюсь теперь поменьше работать, когда бываю дома, побольше разговаривать с ней, выходить с ней чуть не каждый вечер.
— Драка будет? — Элен нисколько не встревожилась, когда я рассказал ей о митинге.
— Надеюсь, обойдется. Там будет мэр.
— Тогда надену новую шляпку. — Величавое сооружение из крашеных перьев, плод творческих усилий некоей шляпницы.
Мы встретились с Леггетом в условленном месте: у кирпичных обломков недавно рухнувшей стены перед недостроенной гостиницей Астора.
Элен насмешливо посмотрела на Леггета.
— Ну, как насчет Луны? — Она показала на красноватый диск над недостроенным фасадом отеля. — Вы читали в «Сан» о том, кто ее населяет?
Леггет засмеялся.
— Чистейшее надувательство.
— Вы просто завидуете «Сан», — сказала Элен.
Она была права. Леггет завидовал. Все нью-йоркские редакторы завидуют грошовому листку, который заколачивает большие деньги, изо дня в день преподнося публике какую-нибудь сногсшибательную новинку. Сейчас «Сан» печатает серию статей о жизни на Луне, как ее увидел в телескоп английский астроном; абсолютная чепуха, а простачки клюнули.
Митинг в парке муниципалитета, конечно, оказался скучным. Ораторы один за другим осуждали аболиционистов, так как рабы — это собственность, а собственность священна. Весьма превозносили недавний приказ президента Джексона почтовым служащим — уничтожать всякую аболиционистскую литературу, какую они сочтут подстрекательской. Леггет отнесся с поразительной терпимостью к тому, что президент ограничивает свободу слова. Но все радикалы вроде Леггета легко отказываются от принципов, когда это им на руку, осуждая подобную легкость в других. Это во мне Старожил говорит. Становлюсь консервативным и нетерпимым.
Элен разочарована: митинг прошел без драки.
— Шляпа цела, конечно, но все же стычка не помешала бы. Ну, я пошла домой.
Я удивился. Она ведь хотела провести вечер с нами.
— Нет, нет. — Она говорила решительно. — А вы ступайте.
Мы подошли к воротам парка. Громадный лунный диск поднялся еще выше и по-прежнему отсвечивал красным… у лунных жителей война?
Я настоял на своем и проводил Элен до нашей улицы. Расстроился, что она (нет, надо быть предельно точным)… я обрадовался, что она идет домой (да-да, лишь себя мне клясть за глупость), что мы с Леггетом погуляем, как когда-то, в былые денечки.
Возле рынка Элен пожелала нам спокойной ночи. Она пошла к дому, и шляпка на ее голове колыхалась трогательно и нелепо. У двери она остановилась, помахала нам на прощанье. Скрылась в подъезде, а мы с Леггетом наняли экипаж и отправились в Воксхолл-гарденс.
Я выпил чересчур много пива и вернулся домой в полночь. Осторожно, стараясь не шуметь, зажег свечу; разделся в прихожей, пробрался в спальню и нырнул в пустую и холодную постель.
Элен оставила записку, она приколола ее, как медаль, на грудь манекена: «Я ухожу. Не ищи меня нигде. Завтра принесут молоко, я задолжала разносчику за две недели, заплати, я все забываю расплатиться и хочу сказать, что я прошу меня простить. Элен Джуэт».
Я гляжу на записку и думаю только о том, к чему относится это «прошу простить». За что? Что уходит? Или что забыла расплатиться за молоко?
ГЛАВА ТРИНАДЦАТАЯ
Мадам Таунсенд была откровенна.
— Да, Элен здесь. И не хочет вас видеть.
Комната, нет, молельня мадам Таунсенд, уставлена вазами с осенними листьями. Несмотря на волнение, я подивился, уж не рассталась ли она с Буддой (золотой идол исчез) и не обратилась ли к Пану или другому земному духу.
— Мне бы хоть поговорить с ней, сказать, что…
— Мистер Скайлер, ваше поведение неэтично. — Словно зубилом по мрамору, высекалась моя эпитафия, мой приговор. — Вы явились сюда, как мне казалось, с добрыми намерениями, я доверчиво ввела вас в нашу семью — так мы себя называем на Томас-стрит, — да, в семью. Вы вошли ко мне в доверие, я впустила вас в эту комнату, и мы столько раз вдохновенно беседовали. И вот нате вам…
Мадам Таунсенд решительно привернула фитиль лампы: на меня — ни лишней капли масла.
— Вы крадете у меня простую девушку, счастливую девушку, счастливую, несмотря на обычные неурядицы семейной жизни. Я сразу же рассчитала вороватую негритянку, против которой возражала Элен, ведь это из-за нее, и только из-за нее — если вы в состоянии примириться с правдой, — она ушла к вам из моей обители. Теперь у меня почтенная ирландка, и она очень внимательна к Элен, носит ей по десять раз на дню горячую воду, будто Элен проходит курс лечения в гостинице на курорте Саратога-Спрингс. Забудьте ее, мистер Скайлер. Вы ничего не можете ей предложить.
— Я хочу на ней жениться.
Мадам Таунсенд потянулась к Библии и прижала ее к животу, словно загораживаясь от злого духа.
— Я повторяю, сэр, вы ведете себя неэтично. Кое-что еще допустимо. Кое-что — нет. Элен это понимает. Вы — нет.
— Это вы не понимаете. Нам было хорошо.
— Вряд ли. Ведь она приходила ко мне…
— До вчерашнего вечера?
— Она приходила не реже раза в неделю. — Торжество, написанное на лице мадам Таунсенд, вдруг открыло мне, что такое жажда убить, сжать шею пальцами, пока жизнь не покинет тело. — О, она держала эти встречи в тайне от вас. Она ужасалась при мысли, что вы узнаете.
— Элен приходила сюда?
— Я принимаю не в муниципалитете.
— Она приходила сюда и встречалась с мужчинами?
Холодное лицо мадам Таунсенд стало ледяным.
— Вам не пристало задавать мне такой вопрос, а мне — отвечать. Но скажу: она приходила сюда выплакаться, рассказать, как она несчастлива с вами, как неестественно живет.
— Я вам не верю! — Хотя в такие минуты начинаешь верить в самое худшее. — Она хотела стать матерью, моей женой…
— Но не стала ни тем, ни другим. Думаю, вам лучше уйти, мистер Скайлер.
— Но ведь не собирается она кончить жизнь шлюхой?
Мадам Таунсенд позвонила в обеденный колокольчик, висевший возле ее кресла.
— Вы невежливы, сэр. Миссис О’Мэлли вас проводит.
Мне хотелось перебить все, что было в комнате.
— Я сообщу в полицию…
— Что вы сообщите? Что девушка, с которой вы сожительствовали во грехе, которая забеременела от вас, вернулась ко мне и счастлива? Они посмеются над вами, как посмеялась бы я, если бы еще умела смеяться. Но, увы, я умею лишь горевать о вселенском грехе.
Из главной залы появилась миссис О’Мэлли.
— В какую комнату проводить, мэ-эм?
— Проводить в парадную дверь, миссис О’Мэлли, и, если у него еще остался здравый смысл, он пойдет в церковь.
— Вот до чего дошло? — Миссис О’Мэлли глянула на меня, как на прокаженного.
Я вышел на Томас-стрит и ни разу не оглянулся, боясь увидеть в окне смеющуюся надо мной Элен. Нет, она не смеется над такими вещами, но и не плачет. Просто досадует.
Подобно Пигмалиону, я больше года создавал мою Элен Джуэт, а теперь она возвращается к прежней Элен Джуэт. Но может быть, вся она — создание мадам Таунсенд, данное мне взаймы, даваемое взаймы каждому, кто заплатит по счету?
Примет ли меня Элен, если я заплачу? Мысль такая отвратительная, что больше я ни о чем думать не могу. Но почему же она была со мной несчастлива?
ГЛАВА ЧЕТЫРНАДЦАТАЯ
20 ноября 1835 года
Думаю, сегодня Уильям Леггет стал самым ненавистным человеком в Нью-Йорке; конечно же, он и самый отважный. Этой осенью я провел немало времени в его обществе, и, хоть моя неприязнь к политике не исчезла, я получал удовольствие, наблюдая, как он будоражит Таммани-холл. Члены его, видимо, сторонники Джексона; но поскольку многие «воины» тайно субсидируются Банком, они, по сути, виги, вроде Мэттью Дэвиса и Мордекая Ноя.
Несколько недель назад я пошел с Леггетом на собрание в вигвам Таммани. Мы вошли в переполненный зал, когда Мордекай Ной громил иммигрантов.
— Они разрушат нашу демократию! — кричал он. Сам Ной не пользуется популярностью и сейчас старается угодить аудитории, взвинтить ее. Это ему удалось. — Надо ввести более жесткие ограничения на выборах. Затруднить участие в выборах подонкам, католическим подонкам… — Страшное слово произнесено, и зал замер. — …которые теперь тысячами высаживаются на наших берегах и привозят с собой лихорадку, католическую заразу, ведь, поверьте моему слову, католицизм и деспотизм — одно и то же!
Крики одобрения; овацией руководил Мэттью Дэвис. Леггет плюхнулся в кресло рядом со мной.
— Неслыханно! — пробормотал он.
Затем заговорил Дэвис — об организации, именовавшейся Демократической ассоциацией коренных американцев.
— С июля наша ассоциация заручилась значительной поддержкой в городе, мы рассчитываем и на ваше содействие — общества святого Таммани. Наша газета «Дух семьдесят шестого»…
Леггет вскочил.
— Мистер Дэвис, а ваша Демократическая ассоциация собирается поддержать демократического кандидата мистера Ван Бюрена? Или эта тайная корпорация вигов затеяла отнять голоса у подлинно демократической партии?
По залу прокатилось шиканье. Дэвис говорил необычайно спокойно (он умеет лгать с честнейшим видом).
— Наша ассоциация существует только для сохранения коренных американских институтов. Разумеется, никто из присутствующих не хочет, чтобы среди наших избирателей доминировали нищие иностранцы, слепо послушные честолюбивому духовенству, вознамерившемуся превратить нашу страну в нечто вроде европейского католического государства. — Несколько осуждающих голосов по адресу Дэвиса, но антикатолицизм — популярный лозунг, и виги эксплуатируют его при каждом удобном случае. Я отлично понимаю его привлекательность. Не люблю ирландцев и ирландских монахов. Правда, Леггет убедил меня, что иммигранты гораздо менее опасны для нас, чем их политические противники.
— По-моему, мистер Дэвис, ваша последняя кампания, будто бы направленная против папы, на самом деле обращена против президента Джексона и оплачивается — как и вы — мистером Бидлом и его Банком!
Гром аплодисментов со скамей радикалов, неодобрительные крики большинства.
— Я не знал, мистер Леггет, что вы такой приверженец генерала Джексона. — Мордекай Ной снова вскочил. — Наш добрый президент — да сохранят его все христианские святые, как принято говорить в Девятом округе, — недавно запретил распространение по почте аболиционистской литературы. Наш добрый президент сказал, что не хочет гражданской войны из-за проблемы рабства. А что скажете вы, мистер Леггет? Прав или неправ наш добрый президент?
Леггет остался верен себе.
— Я против того, чтобы грошовый почтальон решал, что имеют право читать граждане страны. — Шиканье антиаболиционистов почти заглушило его голос. — Я склонен поддержать… — Голос Леггета, когда он того хочет, становится мощным инструментом, — аболиционистов, да, аболиционистов, несмотря на весь их фанатизм! — Зал дрожал от неистовых криков, в воздух взметнулись кулаки, попахивало дракой. В Таммани все до единого ненавидят аболиционистов.
Голос Ноя перекрыл общий шум.
— Станете ли вы защищать того, кто с факелом в руке собирается поджечь Белый дом?
— Силой, — вопил Леггет в ответ, — не одолеть фанатизм! — Но гневные крики нескольких сотен людей заглушили его. Его не желали слушать, и он направился к выходу. Я последовал за ним по проходу между скамьями. Еще несколько поклонников Леггета потянулись за нами.
Вдруг воцарилась тишина: все глаза следили за нашим исходом.
Дэвис заговорил, успокаивая зал:
— Мистер Леггет не поддерживает усилий президента, направленных на предотвращение гражданской войны. Мы же, члены Демократической ассоциации коренных американцев, поддерживаем нашего президента.
Леггет остановился у двери.
— Я поддерживаю прежде всего свободу слова, а потом уже любого президента!
Зал снова загремел. Для среднего американца свобода слова означает лишь свободу повторять то, что говорят все, и ничего больше.
— Вы за гражданскую войну, мистер Леггет! — кричал ему вдогонку Ной. — Никакой вы не друг президенту Джексону!
То был конец Уильяма Леггета. На следующий день почтовое ведомство прекратило свою рекламу в «Ивнинг пост». Вскоре после этого общество Таммани отказалось печатать в «Ивнинг пост» объявления. И что еще хуже, рабочий люд, всегда поддерживавший Леггета, отвернулся от него. Это больше всего его уязвило.
— Ничего не понимаю. Работяги ведь те же рабы. И все же они ненавидят свободных негров на Севере.
— Они боятся за свою работу. — Я дал обычное объяснение — за неимением иного.
Сам я не очень-то люблю чернокожих — свободных или рабов, — но мне нравится умение Леггета встать у всех поперек дороги — у Джексона, у рабочих, у Таммани, у аболиционистов и у антиаболиционистов. Он вроде полковника Бэрра. Нет, он благородней.
Полковник Бэрр не по своему выбору и не по своей вине оказался на пути у нью-йоркских магнатов и у виргинской хунты, и, Когда они объединились против него, его благородство проявилось лишь в умении смириться со злой участью. Леггет же решился пойти против наших правителей с открытым забралом. Теперь ему конец.
В захудалом баре неподалеку от Файв-пойнтс Леггет мне сказал:
— Сегодня я сбросил тяжесть с плеч. — Он в необычно приподнятом настроении, несмотря на нездоровье и поражение. — Я ушел из «Ивнинг пост».
— Чем ты теперь займешься?
— Буду издавать собственную газету.
— Что говорит мистер Брайант?
— Сегодня он дважды рассказал мне про собачку, которая лаяла на Везувий. Но он добрый человек. — Леггет поглощал пиво кружку за кружкой. — Пойти бы к мадам Таунсенд… — Он осекся. — Что, слишком много воспоминаний?
— О да, — сказал я. Леггет думает, что Элен уехала домой, в Коннектикут.
Новый кошмар: Леггет идет к мадам Таунсенд и его провожают в комнату Элен. Мадам Таунсенд будет рада отплатить мне сполна. А Элен?
Мы направились во вновь открытое заведение рядом с церковью на Перл-стрит. Кажется, Леггет забыл свои обычные страхи. Я-то уж точно забыл. Девушки тут, в основном немки, очень чистые. Но главное, здесь нет мадам Таунсенд. Владелец заведения — приятный пожилой немецкий джентльмен, бывший клоун в гамбургском цирке (у меня вошло в привычку изъясняться в стиле Старожила, его статеек для «Ивнинг пост» — факты, факты и только факты!).
Мы ушли только на рассвете.
Я, кажется, схватил триппер. Жжение при мочеиспускании и воспаление крайней плоти. Что бы сказал Старожил?
ГЛАВА ПЯТНАДЦАТАЯ
18 декабря 1835 года
Как и все жители города, сегодня ночью я не сомкнул глаз. Половина Первого округа сгорела дотла.
Дантовский ад: лед и пламень. Ужасающий перезвон колоколов, шум пожарных насосов и рушащихся домов. Полночное небо пылало малиновым заревом. Каждый грамотный житель Нью-Йорка говорит о последних днях Помпеи.
Я рад, что мне не придется описывать увиденное: перед глазами стоят зловещие картины Уолл-стрит в пламени. Ледяной ветер и огонь — явная аномалия.
Вдруг новое здание торговой биржи захлестывает мощная огненная волна. Спустя минуту я увидел сквозь стену статую Александра Гамильтона, что высится в главном зале.
Несколько молодых моряков бросились к зданию и попытались спасти статую. Они стащили ее с пьедестала, но тут полиция выгнала их на улицу — за мгновение до того, как здание с грохотом рухнуло, и Гамильтон исчез под обломками. (Его неудавшимся спасением руководил молодой офицер с военно-морской верфи — сын банкира, разумеется.)
Пожарники направляли шланги на пламя, но вода из насосов не шла. Вернее, шла, но тут же превращалась в сталактиты.
У всех сегодня глаза красные от дыма, не говоря уже о слезах. Уничтожено около девятнадцати городских кварталов (примерно семьсот домов). Общие потери исчисляются пятнадцатью миллионами долларов; значит, с сегодняшнего утра все страховые компании города разорены.
В полдень мы с Леггетом шли по Уолл-стрит. Руины еще дымятся. На берегу реки Норт огонь еще бушует, правда не сильно.
— Конец света. — Ничего лучшего я не мог придумать.
— Если бы! Кое-кому из наших бизнесменов было бы в самый раз, — нерешительно добавил Леггет.
Подошла группа пьяных ирландцев, каждый держал в руках украденную бутылку шампанского. Леггета сразу узнали.
— Там они получат не больше пяти процентов прибыли, — сказал один. Должен сознаться, мы не без труда разобрались в его словах из-за грубого ирландского акцента, но, когда он ткнул большим пальцем вниз — на руины торговой биржи (она теперь как разрушенный римский храм) — и сказал что-то насчет «аристократов», мы уловили, что он имеет в виду. Леггет усмехнулся и вздернул большой палец кверху.
Лавочники на боковых улицах мрачно рылись в золе в поисках того, что пощадило пламя. На Перл-стрит милями валяется на тротуарах полусгоревшая одежда. На Фултон-стрит — мебель. Каждая улица напоминает базар под открытым небом, где торгуют обгорелым хламом. Бедняки тащат, что попадет под руку, особенно продукты… а свиньи устроили себе национальный праздник и свирепствуют. Целыми армиями движутся они вдоль улиц, роются в развалинах, жадно пожирают бесчисленные остатки обедов; единственный радостный звук в городе — их визг и хрюканье, когда они находят деликатесы в тех местах, где когда-то стояли таверны, бакалейные лавки, дома.
Вскоре мы посетили полковника Бэрра. Полковник искренне обрадовался, увидев Леггета.
— Садитесь. Расскажите что-нибудь приятное. Я ведь очень стар, знаете ли. — Полковник метнул в Леггета вовсе не старческий взгляд.
— Торговая биржа в развалинах… не правда ли, приятно? — подыгрывал Леггет полковнику.
— Такое новое, дорогое здание.
— Погибла статуя Гамильтона, — добавил я.
— О пламя, очистительное пламя! Оно не щадит ни живых, ни бронзовые их подделки. — Полковник поежился, хотя в комнате было душно. — Теперь, Чарли, ты понимаешь, почему меня так тянет к теплу? Собираюсь перейти в иной мир и, так сказать, заранее готовлюсь.
Полковник сказал Леггету, что огорчен его уходом из «Ивнинг пост».
— Все потому, что вы пытались найти общий язык с политиками, говоря с ними на языке морали. Странный способ общения, должен заметить.
— И, очевидно, обреченный на неудачу. — Леггет постарался как можно незаметней кашлянуть в платок. Мы с полковником отвернулись.
— Разумеется, обреченный, — согласился полковник. — Хотя американцы вечно оправдывают личные интересы аргументами морали, их подлинные интересы вне моральных категорий. И все же, как ни парадоксально, только американцы — хотя и немногие — иногда пытаются придерживаться морали в политике.
— Все влияние вашего деда.
— Хоть бы от него был какой-нибудь толк!
Леггет, к моему удивлению, не был склонен к полемике, не упомянул «мексиканский проект» полковника. Спрашивал полковника о годах, проведенных в Европе. Я делал заметки, хотя не представляю, как втиснуть их беседу в теперешние мемуары.
— Вы правда были знакомы с Джереми Бэнтамом? — Изумление в тоне Леггета не слишком понравилось полковнику.
— Да, и Джереми Бэнтам был правда знаком со мной, мистер Леггет.
Сознаюсь, до сегодняшнего дня Бэнтам был для меня пустым звуком; он хорошо известен в юридических кругах тем, что обвинил величайшую фигуру в юриспруденции Блэкстоуна в чрезмерном благоволении к сильным мира сего, которое помешало правовым реформам.
— Я считаю его лучшим умом нашего времени. — Леггет не раз говорил это о других, и всегда с вполне искренним пафосом.
— Да, удивительный ум, — согласился полковник. — Когда я встретил Бэнтама в 1808 году, он писал уже сорок лет. И только два человека в Америке его понимали. Галлатэн и я. Я ставлю его выше Монтескье. Конечно, он понимал право, как никто — ни до, ни после. Я не раз останавливался у него под Лондоном. Чудаковатый, маленький, совсем карлик. — Полковник всегда говорит о небольшом росте других, совершенно забывая о своем.
— Я часто цитирую многие его высказывания о демократии.
— Вот как? — вежливо отозвался полковник. — Бэнтам, конечно, тяготел к демократии, хотя так и не вкусил ее. Он любил повторять старинный афоризм о «большем счастье для большего числа» людей.
— Вы в это не верите?
Полковник ответил на вопрос деликатно:
— Кто не желает счастья для всех? Я просто не уверен в том, достижимо ли оно.
— Уверяю вас, что нет, и… — начал Леггет.
Но полковник его не слушал. Прошлое теперь для него гораздо ярче настоящего. Все-таки он очень стар.
— В доме Бэнтама под Лондоном мы работали за одним длиннющим столом, а за нашей спиной пылал громадный камин — мы оба вечно мерзли. Мы молча работали часами. Иногда он задавал мне вопросы об американских законах. Он занимался систематизацией английских законов. Систематизировать. А знаете, ведь он сам изобрел этот глагол. И еще он изобрел глагол «преуменьшать». Мне нравится «систематизировать», но я никогда не мог согласиться с «преуменьшать».
— А с «преувеличивать»? — То была моя единственная попытка поддержать разговор.
— И разумеется, Бэнтам интересовался освобождением Мексики. Даже хотел одно время отправиться туда со мной. Мы бы с ним вместе создали идеальное общество. Он собрал весь материал по Мексике, какой только можно. Флора, фауна, экономика. Особенно манил его климат, пока он не натолкнулся на статистику смертности. «Очень уж зловещие цифры, — сказал он. — Я хочу долго жить, Бэрр. Мне столько еще надо сделать, а ведь похоже на то, что я и года не протяну, став одним из ваших подданных. Они мрут в юном возрасте в огромных количествах от малопривлекательных болезней». Я попытался его убедить, что вместе мы продлим — даже «преувеличим» — продолжительность жизни аборигенов, а заодно и своей, но он отнесся к этому скептически.
— Вы принимаете знаменитый бэнтамовский принцип полезности?
— А кто его не принимает? Кроме, разумеется, Чарли, который о нем просто не слышал.
Сегодня я мишень для его насмешек. Я аккуратно, как школьник, делал заметки. Очевидно, Бэнтам считал, что у людей лишь два стремленья: нажива и наслаждение, — он счел эти стремленья основой человеческого существования (ненавидя апостола Павла) и пытался построить на них философию, краеугольным камнем которой стала красноречивая защита ростовщичества. В Нью-Йорке он бы чувствовал себя как дома.
Заговорили о путешествиях полковника. Леггет изумился, узнав, что полковник Бэрр в бытность свою в Европе посетил Веймар в начале 1810 года и встречал там Гёте.
— Должен сознаться, господин Гёте не был главной целью моей поездки в Веймар. — Полковник закурил сигару. — Веймар лежал милях в семидесяти от моего маршрута, но я сделал détour [101], чтобы нанести визит одной даме при княжеском дворе. Она была восхитительна, как и сам Веймар. Прелестное миниатюрное княжество и благородная личность во главе всего, в том числе и театра, где я видел пьесу по-французски, на коем языке мы изъяснялись с господином Гёте. Вряд ли мы могли сказать друг другу что-то значительное. Я тогда не прочитал ни строчки из написанного им, да и он проявлял весьма слабый интерес к Соединенным Штатам.
Любопытно. Он совершенно исчез из моей памяти, но я хорошо помню его любовницу, очень полную, и жену, бывшую любовницу, тоже очень полную, но лучше всех — элегантную баронессу фон Штейн — мадам Рекамье герцогства, если не его любовницу, то любимую подругу. Тоже довольно дородная. Еще припоминаю, что господин Гёте интересовался морфологией животных. Он нашел кусочек обезьяньей кости — кажется, от челюсти — по его мнению, точно такой, как у человека. Он с нею очень носился.
Леггет спросил о нескольких деятелях наполеоновской Франции, которых Бэрр встречал в Париже. Между прочим мы узнали, что Талейран не умел вести себя за столом. Великий министр отправлял в рот кусок за куском. Набив это отверстие до отказа, он начинал медленно, отвратительно чавкая, пережевывать пищу. Полковник сыпал анекдотами, о политике помалкивал. С Леггетом он держится осмотрительно, как, впрочем, со всеми журналистами.
Единственная попытка Леггета повернуть разговор на тему западной авантюры полковника почти не удалась:
— Бедняга Джейми Уилкинсон кончил свои дни очень печально. Я только что узнал, что он умер в Мексике, пристрастившись к опиуму. Последние годы — как и подобает — он распространял Библию от имени Американской библейской ассоциации.
Вошел слуга: пора уходить.
— Я с нетерпением жду вашей новой газеты, мистер Леггет.
— Я тоже.
— Чарли, приходи поскорей, я попробую собрать все, что осталось от моего остроумия.
Я сказал, что приду на следующей неделе. Полковник доволен, что я много пишу для газет.
— Но помни, два блистательных человека, о который мы говорили сегодня, были юристами.
— Нет уж, я не позволю ему это забыть, — сказал Леггет.
День вдруг разгулялся. На востоке стелется бледный дым. Повсюду шныряют темные фигуры жуликов, ищущих, чем бы поживиться. В воздухе стоит запах мокрого пепла.
Никогда еще я не чувствовал себя таким несчастным.
1836
ГЛАВА ПЕРВАЯ
11 апреля 1836 года, воскресенье
После долгого вечера с Фицгрином Халлеком в таверне «Шекспир» я хотел как следует отоспаться.
Но на рассвете хозяйка ворвалась ко мне в комнату с криком:
— Бегите, мистер Скайлер! За вами пришли!
Я глупо смотрел на нее, голова у меня трещала.
— Кто пришел? — Но она уже убежала наверх, очевидно, чтобы укрыться на чердаке.
Это была полиция. Два тщедушных человечка со свирепыми усами сжимали стеки.
— Чарльз Скайлер?
— Да. — Теперь я проснулся, но все совершалось точно во сне.
— Что ж, пойдемте с нами. Одевайтесь. Только не делайте глупостей.
Я выпрыгнул из постели, они отпрянули назад, напуганные больше моего.
— Только не делайте глупостей. — Таков был их главный совет. Поэтому я вообще ничего не делал, лишь натянул одежду.
Они не сказали мне, за что меня арестовали, — и о своем упущении вскоре прочитают в «Ивнинг пост».
Капитан в полицейском управлении встретил меня словами:
— Недалеко ушел! — Он поздравил моих конвоиров за проявленную ими находчивость и смелость.
К тому времени мой первый испуг (кто скажет с уверенностью, что ни в чем не провинился?) уступил место возмущению. Старожил не допустит, чтобы с ним обращались, как с ирландским воришкой.
— Во-первых, я хочу знать, почему меня задержали. Далее, я требую послать за моим адвокатом мистером Крафтом на Рид-стрит…
— Вы задержаны за убийство, Чарли, приятель. Поэтому если у вас на уме освобождение под залог…
— Убийство? — Мне бы хоть сесть на стул. Эльма Сэндс. Я убил Эльму Сэндс. Вот все, что я мог придумать. Я едва не лишился рассудка. Но слышал, как мой голос холодно спросил: — Кого же я убил? и почему? и где?
Откуда-то издалека до меня донесся ответ:
— Вчера ночью между одиннадцатью и двенадцатью часами вы вошли в комнату некой Элен Джуэт, в непорядочном заведении, которое содержит Розанна Таунсенд. Вы зарубили топором означенную Элен Джуэт в ее постели. Затем вы подожгли постель и выскочили в окно. Во дворе вы перелезли через забор. Затем вы… — Я окаменел. Голос говорил еще что-то, но я уже не слышал. Я потерял сознание.
Меня освободили еще до наступления темноты. Мадам Таунсенд призналась в ошибке. По словам новой служанки, давшей описание последнего «клиента» Элен, она решила, что это я. Истинным убийцей оказался некто Ричард Робинсон, и он уже в Брайдвеллской тюрьме. Служанка его опознала. Кроме того, кусок ткани на топорике соответствовал ткани плаща, а брюки у него перемазаны белилами (забор позади дома на Томас-стрит только что покрасили). И наконец, когда Робинсона арестовали, у него нашли миниатюру, которую я подарил Элен.
ГЛАВА ВТОРАЯ
Я сказал служанке, что, если мадам Таунсенд меня не примет, я подам в суд на них обеих за ложный арест и за клевету.
Мадам Таунсенд согласилась меня принять.
— Меня сбило с толку описание молодого человека, какое дала наша новая служанка.
— Вы лгунья и шлюха.
— Вам подобные платят мне за то и за другое. — Мадам Таунсенд круто повернулась, зацепив взметнувшейся юбкой пачку религиозных проспектов.
— Кто ее убил? Почему он ее убил?
— Я могу вам только солгать.
Я приблизился к ней почти вплотную, до меня доносился слабый запах, исходивший от нее, кисловатый запах страха.
— Ричард Робинсон.
— Кто он?
— Клерк у мистера Хоукси. Ему девятнадцать лет. Он всегда приходил к Элен. К несчастью, новая служанка его еще ни разу не видела, и поэтому…
— Почему он это сделал?
— Не знаю.
— Если он поднялся к ней в одиннадцать, то…
— Нет, в десять. В одиннадцать служанка подала им шампанского. Элен дремала. Молодой человек лежал на кровати и читал газету. Потом служанка увидела, что из-под двери, запертой изнутри, идет дым. Мы выломали дверь. Элен, вся в крови, зверски убитая, лежала на объятой пламенем кровати.
— Почему он это сделал?
— А почему вы забрали ее из моего дома?
— Потому что я… я хотел, чтобы она осталась со мной.
— Та же самая сила, которая побудила вас ее забрать, толкнула его на убийство. Похоть глупа, мистер Скайлер, и опасна для того, на кого устремлена.
ГЛАВА ТРЕТЬЯ
Я передал Брайанту мой отчет о ложном аресте. Он прочитал его внимательно и разорвал в клочья.
— Вам повезло, что ни одна газета не упомянула еще вашего имени в связи с этим… глубоко печальным, мерзким делом.
Брайант вне себя, я таким его еще не видел. А я спокоен, полон энергии, испытываю острое желание кого-нибудь убить, лучше всего — Ричарда Робинсона или Розанну Таунсенд.
— Откровенно говоря, я удивлен. Где вы могли встретиться с подобной молодой особой?
— Я знал ее давно. — Я говорил правду.
— Не хочу об этом слышать, мистер Скайлер. Я уверен, у вас были самые невинные отношения. Я абсолютно убежден, что ни один джентльмен просто не мог бывать в таком… в таком заведении или водить знакомство с подобной особой.
Я не верю, что Брайант говорит серьезно. Может быть, у него не было никогда личной жизни? Но я уважаю его рассудительность. Он сказал мне довольно веско, что коль скоро я рассчитываю получить место на государственной службе, то я, наверное, рехнулся, если собираюсь афишировать свою связь с Элен.
Элен больше нет.
ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ
6 июня 1836 года
Особняк Джея собираются сносить.
Всю неделю друзья и родственники полковника (со стороны Эдвардсов) перевозили его имущество в гостиницу Уинанта на Статен-Айленд.
Тесной гурьбой мы входим в квартиру в подвальном этаже и выходим с книгами, бумагами, картинами. Каждый день я вижу мистера Дэвиса, Сэма Свортвута, судью Огдена Эдвардса — кузена полковника, который живет на Статен-Айленде, — это по его настоянию совершается переезд. (Эдвардс, тот самый судья, который недавно заявил, что любые союзы рабочих следует рассматривать как «преступный заговор»; он не принадлежит к числу любимцев Леггета.)
Миссис Киз льет слезы и клянется, что будет навещать полковника, носить ему еду. Слуга уже нашел себе нового «губернатора».
Полковник пал духом. Мне кажется, он угасает. Но когда ему хочется поговорить (что случается нечасто), ум его всегда ясен.
Через несколько дней после убийства Элен я пришел навестить его. Он заметил, что я чем-то удручен, хотя я ему ничего не сказал. Я не рассказал про Элен, даже когда он обсуждал со мной эту историю, ее теперь обсуждают все, весь город. Мне остается только молчать, прикидываться равнодушным.
— Ты расстроен, Чарли. Все время кусаешь ногти. Плохой признак.
— Извините меня. Правда плохой признак. Что-то мне невесело, иной раз думаю: как жить дальше?
— Надо просто жить, Чарли.
— Иногда это просто нестерпимо.
— Тогда умри. Все мы умрем. Но умирать надо, как говорится, мужественно.
Мы с Сэмом Свортвутом сопровождали полковника в лодке на Статен-Айленд. Погода стояла прекрасная. Теплый ветер с запада подернул серебром гладь реки. Полковник лежал на подстилке и в последний раз смотрел, как вдалеке исчезает Нью-Йорк. Легко написать такое, а поверить трудно. Втайне я думаю, оба мы ждем, что он проснется однажды, выпрыгнет из постели и крикнет: «Вперед, в Техас!» — и начнет свою блистательную жизнь сначала.
Широкая шляпа прикрывает от солнца голову полковника, прячет от нас его глаза. Молча разглядывает он корабельные мачты, заслоняющие берег в том месте, где когда-то был Ричмонд-хилл.
— Прошлой ночью мне снился Квебек. — Бэрр говорил так тихо, что только я слышал его. — Мне кажется, это был Квебек. Я катился на санках. По снежному склону. С такой быстротой. Очень приятное ощущение.
Сэм Свортвут сошел с носа лодки, на котором он восседал гордым осанистым украшением.
— Вам понравится Статен-Айленд, полковник. Знаете, он все тот же, те же большие здания и сады.
— О, Сэм. Статен-Айленд — земной рай. — Полковник сохранил юмор. — Я бывал там во время Революции совсем молодым, моложе, чем сейчас Чарли, мы подплывали по ночам к укромным бухтам, крадучись пробирались через леса. — Он замолчал, будто потерял ход мысли. Но нет, и когда он снова заговорил, в голосе звучала необычайная печаль. — К счастью, я всегда попадал на остров ночью. Будь это днем, я, может, взглянул бы в эту сторону и вдруг бы увидел самого себя на реке спустя полвека, в лодке — полутруп, хотя все еще полон величия! — Он покачал головой. — Не знаю, что подумал бы молодой Аарон… и что он думает, если спрятался сейчас за зелеными деревьями и смотрит в нашу сторону.
Судья Эдвардс поджидает нас на пристани. С ним доктор и (к ужасу полковника) преподобный П. Дж. Ван Пелт.
Я иду по набережной рядом с носилками полковника к гостинице Уинанта.
— Если ты услышишь, — прошептал мне полковник по дороге, — что я умер в лоне голландской реформатской церкви, знай, что либо я совсем свихнулся под конец, либо духовные особы лжесвидетельствуют.
— Я включу это в ваши мемуары. Но почему бы вам не удивить всех и не выздороветь?
— Больше не хочу. — Полковник подмигнул мне, когда носильщики сильно качнули носилки. — Не в том дело, что я уже никуда не гожусь. В конце концов, мой дядюшка дожил до ста лет, и, значит, я просто юноша и еще двадцать лет могу гоняться за неверным счастьем.
Гостиница Уинанта небольшая, но чистая и приятная. Комнаты полковника расположены на втором этаже, есть балкон, где можно подышать воздухом в хорошую погоду. Хозяин гостиницы — медлительный человек с красным лицом, он гордится честью, которую собирается оказать ему полковник, умерев в его доме. Еще большее впечатление на него производит его сосед, судья Эдвардс, бодрый, юркий господин, ничуть не похожий на полковника, но явно к нему привязанный и ему преданный.
ГЛАВА ПЯТАЯ
7 июня 1836 года
Суд закончился, он очень походил на процесс Эльмы Сэндс, с той разницей, что тогда оставалось сомнение, действительно ли Леви Викс убил Эльму Сэндс; теперь же никто не сомневается в том, что Ричард Робинсон убил Элен Джуэт.
Последние три дня я провел в суде; еле нашел свободное место. К счастью, Старожила любезно встречают повсюду.
В первый же день в суде я понял, что где-то видел Робинсона раньше. Красивый румяный молодой человек, одетый по последней моде. Он весьма популярен: половина зала заполнена молодыми клерками, такими же, как он сам, они явно ему симпатизируют, впрочем, от них не отстают судья и присяжные.
Мадам Таунсенд не удалось произвести благоприятное впечатление, а ссылки ее на Библию вызвали общий смех. Не лучше выглядели и девицы, которые по очереди засвидетельствовали, что Робинсон был на Томас-стрит в ночь убийства. Всякий раз, когда кто-нибудь из девиц говорил, клерки хихикали, а свидетельницы начинали краснеть и заикаться.
На второй день суда для всех уже стало очевидным, что Робинсон убил Элен (по неясным причинам); столь же очевидным казалось, что привлекательный юноша с хорошо подвешенным языком, попавший в компанию греховных женщин, заслуживает снисхождения суда. Да и кто такая, в сущности, Элен Джуэт? Мусор, который надо поскорее вымести за дверь. Конечно, никто, кроме меня, не хотел, чтобы сильная розовая шея хрустнула на виселице в городской тюрьме.
О, чего бы я ни отдал, чтобы хоть часок пройтись Тамерланом по нью-йоркским улицам! Мадам Таунсенд — выпотрошить. Голову судьи водрузить на пику. Робинсона четвертовать, медленно разрубить на части.
От этих грез о мести меня пробудила знакомая фигура, пробиравшаяся мимо по проходу. Это был Уильям де ла Туш Клэнси, при виде меня он ухмыльнулся. И не без оснований. Я сразу вспомнил все.
Клэнси с мужчиной-проституткой притаились в тени Воксхолл-гарденс; Элен тогда насмехалась над юношей. Юноша был Ричард Робинсон!
Я чуть не закричал: «Стойте! У меня есть доказательства!» Но я ничего не сказал; нет у меня никаких доказательств. Я могу лишь предполагать.
Мадам Таунсенд показала, что Робинсон нравился Элен, а он «считал ее хорошенькой — для девицы — ну, девицы такого сорта — в том месте, куда меня заманили, и я не мог воспротивиться, — а я так хотел удержаться, Ваша честь, хотел сберечь свои деньги, чтобы жениться». Слезы текли из больших голубых глаз.
Обвинение так и не установило мотива преступления (а найти его было необходимо — подлинный или выдуманный), и умный адвокат одну за другой отвел все улики. Свежая побелка есть на многих заборах и дверях, а потому — на многих невинных брючинах. Миниатюра (вернут ли ее мне? и хочу ли я ее получить?) была подарена Робинсону за несколько недель до убийства. Следы ткани на топорике? Что ж, никто не отрицает, плащ лежал на топорике, который оставила в комнате служанка О’Мэлли.
Но если Робинсон невиновен, кто же виновен?
Защита дала мастерский ответ на очевидный вопрос.
«Вскоре после того, как Робинсон вышел, уже около полуночи кто-то проник в комнату Элен Джуэт. Остановимся на мгновение и взглянем на известные нам детали в ином свете. К примеру, дорога, которой, как полагает обвинение, шел от дома Робинсон — то есть двором и через частокол, — вполне могла быть дорогой к дому, по которой прошел настоящий убийца, и есть немалая вероятность, что мы найдем его, господа присяжные, — да, немалая вероятность».
Тут у меня остановилось дыхание, мне казалось, что весь зал слышит, как стучит мое сердце.
— Потому что в этом городе живет человек, с которым сожительствовала несчастная Элен Джуэт. От которого у нее родился мертвый ребенок, человек ревнивый, мстительный, от которого она сбежала, сбежала, опасаясь за свою жизнь. И из-за этого чудовища сатанинская обитель на Томас-стрит стала не только обителью греха для Элен Джуэт, но и — да поможет господь бедной девушке — последним, безопасным прибежищем.
Я долго не мог прийти в себя. У меня чуть не остановилось сердце. Как можно хладнокровнее я перебирал в уме уголовный кодекс. Осмыслил свидетельские показания. Я не нашел достаточных оснований для привлечения меня к суду и никаких — для обвинения. В конце концов, я сидел с Фицгрином Халлеком до двух часов ночи.
После пятнадцатиминутного «размышления» присяжные оправдали Робинсона. Дело еще не закрыто, и, приняв снотворное, я все же просыпаюсь после четырех часов сна и не могу заснуть до рассвета, ожидая, что за мной придут.
Я даже посмотрел на себя в зеркало и сказал:
— Ты убил Эльму Сэндс!
ГЛАВА ШЕСТАЯ
30 июня 1836 года
Утром я получил письмо с вашингтонским почтовым штемпелем. В него вложена толстая белая карточка со следующей надписью: «Президент просит (вписано) мистера Скайлера оказать ему честь своим присутствием на обеде в понедельник, 9 июля, в 5 часов. Убедительная просьба ответить». Просьбу президента я выполнил за несколько минут, которые ушли на то, чтоб настрочить согласие. Еще двадцать минут ушли на дорогу к почте; там я получил полное удовлетворение, увидев выражение лица почтового служащего, когда я протянул ему письмо с бросающимся в глаза незамысловатым адресом: «Президенту США, Белый дом, Вашингтон».
— Все хотят устроиться на государственную службу! — выдавил из себя бедняга. Я великодушно улыбнулся, заплатил за марку и отправился на Пайн-стрит.
Брайант обрадовался, но не удивился.
— Мистер Ван Бюрен в таких вещах пунктуален. Именно в этом, кстати, секрет его успеха. Он никогда не забывает ни долгов, ни оскорблений.
— Я и не надеялся, что все будет так быстро.
— Наверное, генерал Джексон сгорает от нетерпения познакомиться со Старожилом. — Мне вдруг стало не по себе от мысли встретить лицом к лицу славного воина. — Полагаю, это доказательство доверия к вам мистера Ван Бюрена, коль скоро он приглашает вас в Белый дом еще до своего избрания.
— И его самонадеянности, — пришлось мне добавить. — Но все равно, я уеду из Нью-Йорка в любом случае: ждет меня государственная служба или нет.
— Нам будет не хватать Старожила. Но вы сможете писать нам из Европы. Вы, разумеется, правы: за границу надо уезжать молодым. — Брайант до сих пор не может простить мне связь с Элен Джуэт. Хотя Леггет и пытался убедить его, что я невинный, сбившийся с пути юноша, Брайант уже махнул на меня рукой и считает недостойным спасения. Что и говорить, он прав.
Потом он с удовольствием (так он сказал, во всяком случае) прочитал мое описание ужасающей поездки Старожила по новой железной дороге Бруклин — Ямайка[102]. Заплатил мне, извинился, объяснил, что занят: ему предстояло написать некролог по только что почившему Джеймсу Мэдисону.
ГЛАВА СЕДЬМАЯ
Полковник очень слаб, он не выходит из комнаты. Я застал его в постели. Все одеяло было завалено газетами, в руке — недокуренная сигара. Он уже слышал новость.
— Значит, все-таки пережил их всех? А ты пришел вовремя, поможешь мне написать письмо Долли. У нее, я думаю, нет ни пенни. Сынок промотал все. — Полковник благодушествовал. — Не могу представить, как она будет жить, бедная девочка. Обожала сорить деньгами.
Полковник продиктовал любезное письмо и с трудом его подписал, у него теперь дрожат руки. Затем, пока я надписывал конверт, он без сил откинулся на подушки.
— Но ведь Джемми на пять лет старше меня, — пробормотал он, глядя на темные воды Атлантики.
— Вы часто видите преподобного Ван Пелта?
— Приходит ко мне при всякой возможности. Но он тактичен. Пока не просил меня исповедаться. Но ведь он уж не так молод, а у меня на исповедь уйдет лет десять, только начать. Говоря по правде, он только раз допустил бестактность. Спросил, рассчитываю ли я на «спасение». Довольно-таки невежливый вопрос, тебе не кажется?
— Что вы ему ответили?
— Мне кажется, — сказал я ему, — отвечать на этот вопрос было бы с моей стороны нескромностью.
Я рассказал полковнику о приглашении в Белый дом. Он удивился.
— Кто же это устроил? И с какой целью?
— Леггет и Брайант. Я… я собираюсь написать о генерале Джексоне в Белом доме.
Полковник посмотрел на меня задумчиво.
— Мэтти покажется тебе приятным и добрым. Он тебе понравится. Кстати, я писал ему о тебе.
Я смотрел на полковника невинными глазами.
— Вы думаете, мистер Ван Бюрен будет присутствовать на обеде?
— Весьма вероятно, Чарли.
— Упомянуть мне вас?
— Если ты не упомянешь меня — он сам упомянет. — Полковник попросил почитать ему вслух. — Знаю, тебе скучно, но на меня это действует лучше снотворного.
Со столика у изголовья постели я взял «Тристрама Шенди» и читал ему целый час. Нас обоих чтение позабавило. Эту книгу даже лучше читать вслух.
— Я люблю Стерна, — сказал полковник, — и жалею, что пришел к нему с таким опозданием. Ей-богу, читай я в юности побольше Стерна и поменьше Вольтера, я, возможно, понял бы, что на земле есть место для нас обоих — и для Гамильтона, и для меня.
Прежде чем отпустить меня, полковник дал мне совет, как держаться в Белом доме.
— Должно быть, там очень натянутая атмосфера, особенно без женщин. — Он улыбнулся при внезапном воспоминаний. — Долли всегда таскала в руках книгу, чтобы было о чем поговорить с посетителем. «Что это за книга?» — опросила однажды моя дочь. «Дон Кихот», — сказала Долли. — Неизменный «Дон Кихот». Когда Теодосия спросила, что она думает о Сервантесе, Долли сказала: «Если бы я ее прочитала, мне было бы скучно занимать гостей. А так, с годами, я узнала от нервозных посетителей почти все содержание». — Полковник коротко засмеялся. — Долли и без денег не пропадет. Говорят, Даниэль Уэбстер за ней приударяет, а, коль скоро он не отказывается ни от одной взятки, у него хватит денег поддержать прежний образ жизни Долли.
ГЛАВА ВОСЬМАЯ
8 июля 1836 года. Город Вашингтон
Если уж это не ад, не знаю, что же называется адом! Никогда еще мне не было так жарко. Теперь я понимаю, почему полковник Бэрр хотел стать президентом — чтоб наслаждаться удушливой влажной жарой унылого тропического болота.
Конгресс распущен на каникулы с 4 июля, и все меня уверяют, будто в городе никого нет. Не понимаю, что это значит, ведь прежде всего нет никакого города. Перед гостиницей «Индийская королева», где я остановился, идет полоска мощеной дороги и вскоре исчезает в лесной грязи. В Вашингтоне нет центра, или, точнее, тут несколько центров. Один — Капитолий, внушительное, хоть и немного смехотворное здание на диком заросшем холме. Белый дом тоже производит внушительное впечатление, он расположен на другом конце Пенсильвания авеню; однако пустота между двумя величавыми полюсами несколько принижает величие обоих.
Утро я провел в Капитолии. Внутренняя отделка зала заседаний сената очень красива, хотя впечатление портит черный липкий ковер, заплеванный табачной жвачкой, несмотря на обилие громадных плевательниц. Два раба лениво чистили ковер. Даже чернокожие разомлели от жары.
Я хотел нанести визит вице-президенту, но его на месте не оказалось. Я оставил визитную карточку. Леггет советовал мне попытаться встретиться с несколькими людьми. Я попытался, но вскоре капитулировал. Во время каникул конгресса все скрылись в горы или куда-то еще. Очевидно, в летнюю жару в Вашингтоне не остается никого, кроме чернокожих, зато они буквально повсюду. Они выводят меня из себя, ибо я никогда раньше не бывал на Юге и никогда воочию не видел раба. Кстати, слово «раб» не употребляется в этой части мира. Во всяком случае, аболиционисты научили белых южан держать ухо востро. Говорят о слугах, о чернокожих, о людях, но никогда — о рабах.
Вечер я провел в баре гостиницы, попивая в компании приезжих с Запада. Они сыпали анекдотами про Старую Корягу. К собственному моему изумлению, я не рассказал им, где обедаю завтра. Мой характер меняется к лучшему. Я узнал, что и президент, и вице-президент уезжают из города десятого. Значит, завтра в Белом доме состоится прощальный обед сезона.
ГЛАВА ДЕВЯТАЯ
9 июля 1836 года
Десять часов. Душная ночь. Москиты гудят около моей постели; выключить бы свет и заснуть, но я не могу. Мне надо сразу все описать.
В четыре часа тридцать минут я отправился в Белый дом; стояла нестерпимая жара, и я шел очень медленно, опасаясь, как бы не растаял мой новый воротничок. Странное ощущение — разодеться для дворцового приема и идти по пыльным пустырям; за твоим шествием по еще не проложенным улицам наблюдают только негритята; направление будущих улиц отмечено грубыми каменными указателями с многообещающими надписями, вроде «Коннектикут авеню».
Единственный привратник Белого дома жевал табачную жвачку и не обращал на меня внимания, покуда я шел по тропинке к главному подъезду, где уже стояли экипажи других гостей. Видимо, я единственный явился пешком.
Я подошел к подъезду в тот миг, когда Эдвард Ливингстон с супругой выходили из нового экипажа. Для своей клички Красавчик Нед мистер Ливингстон обладает довольно заурядной внешностью. Миссис Ливингстон была, должно быть, красива в молодые годы, но теперь отяжелела и у нее большие черные круги под глазами.
Я проследовал за Ливингстонами в прохладу главного зала, где чернокожий портье или дворецкий (надо выяснить, как называется президентская челядь) в смешных желтых шлепанцах (чтобы бесшумно передвигаться?) низко кланялся каждому гостю и приглашал в Овальный кабинет.
Меня сразу же поразило убожество обстановки. Выцветшие шторы запылились, стулья чуть не все сломаны и кое-как починены; на ковре следы от табачной жвачки, хотя и здесь изобилие невычищенных плевательниц. Сама комната внушительных размеров, из нее открывается изумительный вид на реку Потомак и скрытые в дымке сине-зеленые горы Виргинии на другой стороне реки. На бурой лужайке под окном я увидел первых светлячков: значит, уже вечер.
— Отличное место для дворца. — Ко мне обращался молодой человек, который, как оказалось, выполнял какую-то миссию английского правительства. Я так и не узнал его имени, но почувствовал крайнюю признательность к нему — наконец нашелся собеседник. Вашингтонские политические деятели ничуть не отличаются от тех, кто заполняет обычно бар в вигваме Таммани-холла. Они стоят почти вплотную друг к другу, говорят приглушенно, громко смеются над чем-то непроизнесенным и подозрительно оглядывают особей других племен.
— Кто эти знатные господа? — спросил молодой англичанин.
— Я здесь тоже впервые, — признался я. Но я показал ему Ливингстонов, которых мне доводилось видеть в Нью-Йорке. А в общем, мы были как в открытом море, разглядывая красочный демократический зверинец государственных мужей, потеющих в камзолах (да позволено будет мне сказать то, что не к лицу Старожилу), изрядно воняющих в жарком помещении. Несколько человек с Запада вырядились, как жители границы, а их подруги жизни оделись по последней парижской моде. Я замечаю, что у всех с Запада желтые лица. Малярия? А у южан лица красные. От виски?
В комнату неслышно вошел вице-президент, и, как по условному сигналу, гости веером расположились перед ним, предоставляя ему возможность, поворачиваясь то направо, то налево, подходя то к одному, то к другому, поговорить тихим голосом с каждым. Он являл, разумеется, самую элегантную фигуру в комнате, и даже шумливые гости с Запада, вынужденные признать его столь же очевидную, сколь естественную исключительность, приглушали голоса, говоря с ним. Некоторые из их дам сделали реверанс, будто перед ними сам монарх.
Ван Бюрен немедленно распознал, кто я такой.
— Мистер Скайлер. Я благодарен вам, что вы нашли возможным приехать.
— Для меня это такая честь, сэр, самая… — Я тут же сбился.
— Это честь для нас, если мне позволительно говорить и от имени президента. — Я снова заметил, что мы с ним одного роста.
— Я хотел вам сказать, сэр, что я… ну, что я далек от политики. От всех этих дел.
— Разумеется. Разумеется. — Мягкий голос твердо оборвал попытку разоткровенничаться. Если шишки Дипломатии и Сдержанности передаются по наследству, то понятно, откуда они у Ван Бюрена. Он разительно похож на полковника. — Нам доставляют удовольствие заметки Старожила. Очень милое чтение. — Потом он сказал что-то отрывистое по-голландски.
— Боюсь, сэр, я…
Снова очаровательная улыбка.
— Вы не владеете нашим отмирающим языком?
— Нет, сэр. Я не говорю по-голландски.
В другом конце комнаты вдруг все задвигалось. Я услышал шепот: «Президент». Но Ван Бюрен по-прежнему уделял все свое внимание мне.
— Что слышно о полковнике Бэрре?
Признаюсь, рассказывая ему о переселении полковника на Статен-Айленд, я устремил внимание (но не взгляд) на входную дверь, на пороге которой только что появился генерал Джексон.
— Передайте ему, что я навещу его, если успею до выборов. — Я постарался скрыть изумление. Ни один кандидат, желающий стать президентом, не навещает открыто полковника Бэрра. — Однако, — продолжал он как ни в чем не бывало, — если я не попаду на Статен-Айленд, передайте, что в мыслях я всегда с ним.
Уголком глаза я видел в самом центре комнаты высокую худую фигуру в черном.
— Вы многое потеряли, мистер Скайлер, ибо вам не довелось знать Аарона Бэрра в расцвете сил. Для всех нас он был божеством.
— По-моему, он блестящий человек, сэр, и не имеет себе равных.
— Он очень любит вас. Он недавно написал мне об этом. — Слегка поклонившись и прошептав «с вашего позволения», вице-президент повернулся ко мне спиной и приблизился к старому генералу, который стоял очень прямо под сломанным, пыльным канделябром.
Веер, каковым расположились гости при появлении Ван Бюрена, сменился более целесообразным колесом, а в центре его поместился президент, держа в левой руке черную трость, как скипетр.
Гости устремлялись к нему, как колесные спицы. Каждого представлял секретарь, но президент, видимо, знал чуть не всех в лицо и здоровался, не давая секретарю договорить.
Со мной обстояло иначе.
— Мистер Скайлер из Нью-Йорка, — сказал секретарь, сверясь со списком.
Когда я пожимал странно мягкую руку победителя при Новом Орлеане, у меня закружилась голова. Я низко поклонился. Президент сказал:
— Добрый вечер, сэр. Мистер Ван Бюрен хорошего мнения о вас. Вы оказали нам честь своим присутствием. — В вежливой форме заключалась небрежность, в глазах же было иное. Когда он с тобой говорит, он смотрит только на тебя. Глаза хищника, подумалось мне, глаза убийцы, но тут я вспомнил глаза-незабудки Ричарда Робинсона. Нет, у Джексона глаза карающего ангела или сатаны, управляющего пытками в аду. Живое, настороженное высокомерие голубых глаз тревожит и томит. Такие глаза я видел у волка в клетке. Совершенно не помню, о чем мы говорили. К счастью, нас пригласили к столу.
Президент подал руку миссис Ливингстон и направился в столовую. За ним потянулись остальные. Я заметил, что он движется медленно, будто превозмогая боль. Мертвенно-бледное лицо и белые перистые волосы уподобляют его истощенному снежному человеку, сморщившемуся на летнем солнце. Просто чудо, что он дотягивает второй срок в Белом доме.
Президент ел только рис и не притронулся к вину. Остальные объедались. Да и как тут не объедаться? Никогда я так вкусно и много не ел.
Дама слева от меня все свое внимание направила на сенатора, сидевшего слева от нее, и мы с ней не обменялись ни словом, зато жена западного конгрессмена (он дважды назвал мне ее имя, и я дважды его забыл) была более чем любезна.
— Мне кажется, генерал прекрасно справляется без жены. Конечно, та девочка была мила, но это все же не жена, верно? Он знает толк в еде. Никогда я так хорошо не ела в этом доме при его предшественниках. Адамсы встречали вареной говядиной и жутким холодом.
Повсюду в Вашингтоне ходят слухи, что президент разорен и завтра уезжает домой спасать свое имение. Если он обанкротился, я знаю почему. Слишком щедро принимает гостей.
Мы сидели за длинным столом, на нем через равные промежутки стояли высокие лампы. Нас обслуживали двадцать лакеев в ливреях. Возле каждого гостя лежала салфетка, выложенная клеверным листом. В центре салфетки ломтик белого хлеба — изрядное облегчение после кукурузного, который подают на Юге. Справа от каждой тарелки располагалась рощица хрусталя разных размеров для разных вин. Я насчитал у себя девять бокалов.
Параллельно столу, за которым сидели мы, тянулся другой, такой же длины, уставленный всевозможными горячими и холодными блюдами. Лакеи брали их оттуда и обносили гостей поочередно, нашептывая: «Говядины, сэр? Фазана, сэр?»
На первое подали густую уху с очищенной от костей рыбиной на отдельной тарелке. По бокалам разлили шерри.
Моя соседка уху одобрила.
— А вот и мэрилендские крабы! — воскликнула она, радостно погружая ложку в дымящуюся тарелку. — Крабы — одна из здешних редких радостей. Я обнаружил, что мужчины и женщины, всю жизнь положившие на то, чтобы попасть в Вашингтон и существовать там на счет казны, все до единого проводят свои славные дни, сетуя на судьбу. Послушать их — так Детройт, Цинциннати, Мемфис куда привлекательнее столицы.
На смену рыбному блюду (ничего вкуснее краба я еще не пробовал) подали утку и фазана. Я с изумлением смотрел, как моя соседка хватает утиную ножку и четвертушку фазана.
— Знаете, мой муж такой затейник — стреляет уток прямо из окна гостиницы. Мы ведь живем на другом конце Кей-стрит, где начинаются болота. Так весело, когда он палит по птицам, хоть некоторые ваши несчастные янки в гостинице жалуются на шум.
Утку я не люблю; фазан еще ничего, если не жесткий. Мне попался жесткий кусок. Ну, да бог с ним. Затем подали целый окорок и целую индюшку на одном большом блюде; они возвышались, как две горы над предгорьями из бараньих отбивных, мяса в сладком соусе и куропаток.
Моя соседка облизнула губы. Ну и толстуха! Боюсь, что Старожил плохо выполняет свой долг. Описание распадается на отрывки, но то же самое получилось с президентским обедом. Мне уже делалось дурно.
— А, эти окорока привозят с того берега, откуда-то из-под Александрии! Какая коптильня там у старого негра! Мы все к нему ездим. — Она положила себе окорока и индейки (не ножку), взяла баранью отбивную (вилка на секунду замерла в воздухе — не взять ли вторую, а затем вонзилась в потрошки). Я изо всех сил старался за ней поспеть.
— Вы пишете о политике, мистер Скайлер? — Она уже установила мою связь с радикальной, неприличной (она хихикнула, демонстрируя свою серьезность) «Ивнинг пост».
— Не слишком часто. Пишу безделицы. О старом Нью-Йорке, о театрах и…
Что же именно пишет Старожил? Отвергает все современное, чтобы ублажить пожилых читателей, сердитых на Леггета.
Теперь нас обносят гарнирами. Моя соседка попробовала от каждого. Я — почти от каждого. Подавали макароны и пирог с дичью (вкус до сих пор у меня во рту), шпинат, цветную капусту, тушеный сельдерей… а тем временем перед каждым в бокалах не убывали заморские вина девяти марок.
Мы просидели за столом два с половиной часа; я понял, как мудро поступает президент, не притрагиваясь ни к чему, кроме риса. Интересно, противно ему на нас смотреть или нет? Неизвестно. Миссис Ливингстон слева от него очень жизнерадостна, а иностранная дама справа — очень красива. Время от времени он обращался и к мужчинам, но я не слышал, что он говорил. Голос у него резковатый, но не противный и уж определенно негромкий. Все подражают ему и кричат: «Клянусь всевышним!» — как полоумные старые петухи, но выходит вовсе непохоже. Эндрю Джексон — само достоинство и утонченная обходительность и похож скорее на полковника Бэрра и других героев Революции. Если Ван Бюрена выберут в ноябре, он будет первым президентом Соединенных Штатов, который не родился подданным английского короля.
Я смотрел на Эндрю Джексона глазами Старожила и, несмотря на великолепие приема, почти не сомневался, что бледный старик во главе стола страдает от физической боли и что у него неудачная челюсть: она смещается во рту, когда он поджимает тонкие губы.
— Боже! — Моя соседка выплюнула — другого слова не подберешь — на тарелку целую кучу дроби. — Можно подумать, в эту несчастную куропатку палили, как на войне.
И я, подальше от греха, принялся за индейку, запивая ее мадерой. Дама с Запада восхваляла мистера Ван Бюрена, который сидел напротив, любезно улыбаясь и почти ни к кому не обращаясь ни с чем, кроме вежливых фраз.
— У нас в Вашингтоне его называют «маленький волшебник». В самую точку! Да, да! Как у него все ловко и политично выходит! Знаете, мой муж говорит, что Мэтти Ван как тигр в ночи выходит на добычу! — Очевидно, ей очень нравилась эта фраза, потому что она повторила ее дважды, чтобы я потом подтвердил авторство конгрессмена из Огайо (теперь я припоминаю, что они из Толедо).
— Конечно, мы счастливы… мы в восторге, что он станет президентом, и пусть мистер Клей думает, как ему угодно, сам-то он, правда, приятнейший сенатор, несмотря на пристрастие к виски и азартным играм. Я стою за умеренность.
Старожил привел ей весьма любопытные статистические данные о числе пьяниц в Соединенных Штатах. На нее это не произвело впечатления.
— Но нам снова будет недоставать нежной женской руки. Мистер Ван Бюрен не только вдовец, у него нет ни дочерей, ни невесток. Что ж, придется приспосабливаться к новому холостяку в милом доме. Конечно, от жены иной раз одно мучение. Говорят, миссис Монро была такая чванливая, что ей в Восточной комнате построили помост и она восседала королевой на троне, принимая hoi polloi[103].
Я рассказал ей про Долли Мэдисон и «Дон Кихота». Может быть, я что-то спутал. Она даже не улыбнулась.
Принесли мороженое самых фантастических конфигураций, с бланманже, печеньями и кремом. Затем на столе выросли пирамиды фруктов. Я думал, что вот-вот умру. И еще я напился, как и большинство гостей. Но Вашингтон хоть и южный город, а заправляют им люди с Запада. Стало быть, хоть пьют здесь куда больше, чем в Нью-Йорке, но на людях напиваются реже.
Пошли тосты под шампанское. Выпили за здоровье президента. Он провозгласил тост за наше здоровье. Мистер Ван Бюрен поднял тост за благополучный исход завтрашней поездки президента. Президент предложил выпить за избрание Ван Бюрена. И так далее.
Затем президент поднялся и повел гостей в гостиную, где лакеи уже держали подносы с кофе.
Ван Бюрен спросил, понравился ли мне обед.
— Да, сэр, только я никогда не видел такого обилия еды. Я не смог отдать ей должное.
— Не беда, уверен, что Старожил никогда и ни в чем не уступит янки. — Комизм заключался в том, что «янки» он произнес на голландский манер — «джанки», а это по-голландски «лающая собака». Но тут его увели от меня другие, обладавшие большим правом на будущий источник почестей.
Я поговорил с Эдвардом Ливингстоном. Он был сама любезность и просил передать привет полковнику. С пьяной отвагой я упомянул про выборы 1800 года.
Ливингстон, казалось, был не прочь поговорить про время, как он выразился, тяжких испытаний. И опасностей, к тому же.
— Порой мы думали, что мы так никогда и не выберем президента.
— Но вы поддерживали Джефферсона при всех баллотировках.
— О да. Несмотря на искушение.
— Вы о полковнике?
Ливингстон принял таинственный вид.
— Полковник Бэрр очень хотел стать президентом.
Я не поверил своим ушам и не смог удержаться от вопроса:
— Но если бы он хотел победить, достаточно было одного его слова мистеру Байарду из Делавэра.
Ливингстон улыбнулся.
— Он не мог произнести это слово, ибо хотел быть президентом от республиканцев. А у него все голоса были от федералистов. Он хотел, чтобы я, Лайон и Клейборн и еще один-два республиканца проголосовали за него, а не за Джефферсона.
— Он просил вас голосовать за него?
Ливингстон сделал вид, будто не слышит вопроса.
— Полковник Бэрр неудачливый искатель приключений, я так ему и сказал, когда он навестил меня в Новом Орлеане. Но он, несомненно, стал бы лучшим президентом, чем мистер Джефферсон, ибо во всех отношениях был его благородней. Боюсь, мы совершили ошибку. И пострадали.
Не дождусь, когда спрошу полковника, правду ли мне сказал Ливингстон. Полковник всегда утверждал, что Ливингстонов подкупил Джефферсон. Может, он перекупил их у него? Непонятно.
Я пробрался поближе к президенту. И оказывается, к моему огорчению — лишь для того, чтобы услышать о смерти полковника Крокетта в Техасе.
— Многие годы у нас с полковником Крокеттом существовали разногласия. Но должен признать, он пал прекрасной смертью, достойной мужчины, — торжественно произнес президент.
Кто-то с Запада изложил нам самую последнюю и самую героическую версию о том, как полковника Крокетта с горсткой техасцев убил мексиканец Санта-Анна, а Сэм Хьюстон потом взял его в плен. Вот ирония: тридцать лет назад Аарона Бэрра за то же самое сочли изменником, а теперь пресса твердит о «Руке Провидения, которая указала Союзу штатов неизбежный путь на Запад».
— А что вы думаете о полковнике Крокетте, Мэтти? — пристал к вице-президенту изрядно выпивший человек с Запада.
— Я совершенно разделяю мнение президента. Он погиб прекрасной смертью, достойной мужчины. — «Маленький волшебник» широко взмахнул рукой. — Разумеется, у меня тоже были с ним кое-какие расхождения.
— Да, сэр, — сказал президент, вдруг помрачнев, — и эти расхождения Дэйви изложил в книге, которую я не хотел бы держать у себя в доме. — Лицо Джексона стало заливаться краской. Я же, уверен, ничуть не покраснел.
— Я не читал книгу, но мне рассказывали, что Дэйви написал обо мне в чрезвычайно… чрезвычайно юмористических тонах. — К моему облегчению, грозу пронесло. Никто еще не связал моего имени с книгой полковника Крокетта. Но вряд ли кто ее читал. Даже я сам не читал ее. Славная смерть автора совершенно затмила его упражнения в жанре политической клеветы. Мир предпочитает помнить Дэйви Крокетта легендарным героем, который голыми руками отбивается от мексиканских орд и падает наконец среди развалин Аламо, сраженный… мексиканскими педерастами?
ГЛАВА ДЕСЯТАЯ
Мистер Брайант остался доволен моим описанием «Обеда в Белом доме», помог добавить кое-какие политические подробности.
— Вы произвели хорошее впечатление на мистера Ван Бюрена, — уверил он меня.
— Откуда мне знать? Он ничего не сказал.
— А когда он что-либо говорит? Но в ноябре его выберут, а вы наверняка получите назначение. Теперь же позвольте набросать вам небольшой путеводитель по Европе. — И в течение часа вечно занятой редактор «Ивнинг пост» составлял для меня список мест, какие мне надлежит посетить. Любопытно, скольких американских писателей влекло Средиземное море: Ирвинга — Гранада, Купера — Сорренто, Брайанта — Рим; не говоря уже о таких, как я: будь у меня деньги, я осел бы там навсегда.
Я вышел из редакции на Пайн-стрит, пошел пешком к Бродвею и услышал, что меня окликает — нет, ко мне взывает — женский голос:
— Шарло! — Я повернулся и увидел золоченую карету и в ней мадам. — Залезай-ка, залезай! — Я последовал приказанию. Кто посмеет ее ослушаться.
Я не видел мадам два гада, но она совсем не изменилась.
— Я была в Саратога-Спрингс, pour la santé[104]. На Бэтери! — крикнула она кучеру, добавив с мерзкой ухмылкой: — По развалинам! — Она посмотрела на меня красными глазами. — Должна признаться, меня иной раз бросает в frisson[105], когда смотрю на то, что огонь сделал со всеми этими злыми долларопоклонниками. — Вот уж не ожидал услышать из уст мадам осуждение источника ее величия, предмета ее всепоглощающей страсти. — Почему я вас так редко вижу, Шарло? Почему вы меня покинули?
— Я так занят.
— Знаю. J’ai lu vos pièces![106] Какой талант! Вы должны написать о моем доме. Это все, что осталось от Нью-Йорка. А теперь скажите мне… скажите правду. Как он? — Очевидно, она думает обо всех развалинах сразу.
— Я не видел полковника с июля. Он был тогда очень слаб. Почти не разговаривал.
— О, бедняга! Можно мне навестить его до завершения развода? То есть до середины сентября. — Она вдруг нахмурилась. — Mon Dieu![107] Неужели мне придется после развода сменить герб?
Я тупо смотрел на нее.
— А я-то думала, что Старожил все замечает.
Ага, дверцы кареты украшены и вице-президентской печатью, и фамильным гербом Бэрров!
— Разумеется, — сказал я твердо и радостно, — вам придется его закрасить.
Мадам вздохнула. Конечно, ей не повезло, но вид обгоревших домов на Уильям-стрит вернул ее в хорошее расположение духа. Нищие еще роются среди развалин, несмотря на многочисленные объявления, грозящие карой. Всю нижнюю часть Манхэттена займут коммерческие здания. Обитатели переезжают вверх, на Четвертую улицу и даже дальше. Я тоже переезжаю.
На Бэтери карета остановилась, мы остались внутри, наблюдая обычный парад. Напротив продавались гречишные оладьи, и я сразу вспомнил, что целый день ничего не ел.
— Я не знала другого такого мужчины — sauf l'Empereur [108]. — Мадам вдруг шмыгнула носом. Слезы? Вряд ли, наверное, насморк.
— Вы должны его навестить.
— Ему там не плохо?
— Думаю, сносно. Судья Эдвардс смотрит за ним, все его навещают.
А я так и не выбрался к нему после возвращения из Вашингтона. Написал, но ответа не получил. В ближайшие дни обязательно поеду, расскажу о неплатежеспособности президента Джексона: мысль о любом президенте, умирающем в нищете, действует на полковника благотворно.
— Наша любовь была как пламя, Шарло. — Мадам бросила мечтательный взор на реку Норт, как бы ожидая, что старый возлюбленный ураганом примчится к нам со Статен-Айленда. — С самого начала, когда я была еще jeune fille en fleur[109] и мы встретились во французской кондитерской, а полковник был красивейший мужчина, какого мне только приходилось видеть, его обожали все женщины Нью-Йорка, — с той самой минуты он поклялся и я поклялась, что мы будем вместе. И мы были вместе! В ту летнюю ночь, когда мы обвенчались, я впервые была в его объятиях… — Я не верил своим ушам! — И я подумала: enfin[110] я обрела покой. Но нет, я слишком доверчива, слишком романтична. Я не понимала — но как я могла понять? — что уже поздно и для меня, и для него, для нас обоих. Потому что его характер давно уже сформировался, и он не мог отказаться от эгоистических холостяцких привычек. В тот день, когда я узнала про его garçonnière[111] и про шлюху миссис Макманус, я поняла, что любовь, о которой я мечтала всю жизнь, — всепоглощающая любовь — pas possible! C’est ca[112], сказала я себе и поручила мистеру Александру Гамильтону возбудить дело о разводе.
— Значит, не потому, что он истратил ваши деньги?
— Кто подал вам эту мысль? — воскликнула женщина, подавшая мне эту мысль. — Деньги на то и существуют, чтобы их тратить, n’est-ce pas[113]? — Голос у мадам стал совершенно другой. — Нет, я женщина, Шарло, страстная, совершенно… совершенно… — Она запнулась в поисках подходящего слова. Так много слов пришло на ум каждому из нас, что я решил промолчать, чтоб не брякнуть лишнего.
— Мне нужен был герой, мужчина. Он был и мужчина и герой. Но он так и не стал безраздельно моим. Но даже и после всего…. — Один глаз у нее слезился — от виски. — Передай, что я каждый день поминаю его в молитвах.
— Непременно.
Мадам тихонько шмыгнула носом.
— Я навещу его, когда развод оформят окончательно.
Мадам приказала кучеру довезти нас до дома Леггета.
— Раз вы увидите моего обожаемого Аарона раньше меня, скажите, что мое сердце принадлежит ему навсегда. Еще скажите, что, если у него сохранилась расписка от продажи лошадей и кареты, пусть пришлет мне копию. Она нужна мне для моей бухгалтерии. Он поймет.
ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ
14 сентября 1836 года
Сегодня в два часа дня Аарон Бэрр скончался в возрасте восьмидесяти лет и семи месяцев.
Я был у Леггета, мы работали над первым номером новой газеты, когда посыльный от мистера Брайанта передал мне эту весть.
— Ты напишешь для нас некролог? — деловито осведомился Леггет.
— Нет, нет. Мне надо его увидеть. — Странное замешательство овладело мной.
— Некого видеть, — сказал Леггет. — Твоего старого друга больше нет.
— Да, да, но мне надо быть с ним рядом. — И я отправился на Статен-Айленд; у подъезда гостиницы Уинанта толпились родственники и друзья.
— Пойдемте наверх, — сказал мне мистер Дэвис. — Я провожу вас. — Мы поднялись вместе по узкой лестнице. — Он умер легкой смертью. Почти до самого конца был в сознании. Последним его словом было «мадам».
— Это о жене? — Я поразился.
Дэвис пожал плечами.
— Неизвестно. Мне показалось, он обращался к женщине, что сидела у его изголовья, к миссис Киз. Она все еще там.
Миссис Киз плакала у окна, в тусклом свете сумерек, закрыв ладонями лицо, на фоне морского пейзажа. Рядом, низко склонив голову, молился преподобный Ван Пелт.
Полковник лежал на узкой кровати, укрытый до подбородка одеялом. Единственная лампа под потолком освещала его лицо. Старики на смертном одре обычно выглядят удивительно моложаво. Полковник выглядел бы точно так же, как в день моего последнего визита, если бы не то, что я принял за мыльную пену на висках и что оказалось гипсом; уже сняли посмертную маску. Обычное его лицо (будто он заснул с легкой усмешкой на губах), и все же я заметил в мертвом то, что в живом редко замечаешь: какой он маленький, почти как подросток.
На столике у его изголовья портрет Теодосии повернули лицом к стене. Рядом с портретом лежала раскрытая книга. «Тристрам Шенди»? Восьмигранные очки полковника заложены на какой-то странице.
Дэвис торжественно смотрел на полковника.
— Его похоронят шестнадцатого в Принстонском колледже. Так он желал, так и они хотят.
Вдруг звучный голос заполнил комнату.
— Проходит образ мира сего… — Это вступил преподобный Ван Пелт.
— Послание Коринфянам, глава седьмая, — уточнила миссис Киз, рыдая.
— Все суета! — суетно объявил священнослужитель.
— Он умер в лоне церкви? — спросил я.
Преподобный Ван Пелт покачал головой.
— Нет. Я, верно, его упустил. Он попросил под конец…
Ему не дал договорить Аарон Колумб Бэрр. Увидев умершего отца, он зарыдал. С розами в руках он опустился на колени у изголовья. Это так подействовало на миссис Киз, что она зарыдала еще громче, а преподобный Ван Пелт, кажется, сам чуть не заплакал, заразившись бурной демонстрацией чувств.
Я выбежал из комнаты с мокрыми глазами; как я мечтал еще раз поговорить с полковником!
В холле уже лилось виски. На удивление спокойная Джейн Макманус оказалась тут как тут.
— Я только вчера его видела, — сказала она мне. — Полковник знал, что умирает. Он мне сказал: «Будто плывешь по реке в лодке, и берег уходит все дальше и дальше». А больше ничего не сказал. Он в последние дни мало говорил. И никаких болей. И вот он заплыл слишком далеко и нас покинул.
Я подумал о санях, скользящих по заснеженному склону, холодном ветре, обжигающем лицо, об ощущении падения и полета. Все кончено.
Сэм Свортвут, естественно, был душой поминок.
— Пей, Чарли! Он бы хотел, чтобы у нас было хорошее настроение. Ты ведь знаешь.
— Но у меня плохое настроение.
— Что ж, я покажу тебе кое-что, и ты посмеешься. — Он извлек из кармана юридический документ. — Клянусь богом, документ прибыл через час после его смерти. Это свидетельство о разводе. Полковник Бэрр более не состоит в браке с Элизой Боуэн. Он свободный человек, Чарли!
1840
8 декабря 1840 года, Амальфи, Королевство обеих Сицилий
На закате я сидел на террасе своего дома, мучительно думая, как лучше описать зимнюю окраску раскинувшегося внизу моря; как оттенки молочно-голубые и зеленые вдруг переходят в темнейший сапфир (нет, нет, только без драгоценных камней — это жульничество), рождают темную синеву, похожую… на темную синеву Средиземного моря в конце зимнего солнечного дня. Так я и не сумел описать то, что вижу каждый вечер с террасы виллы. Придется прибегнуть к простейшим определениям: туман предвещает хорошую погоду, стирает грань между морем и небом, они сливаются в одну стихию, и кажется, будто находишься в центре холодного опалового пламени. Ладно, пусть один драгоценный камень остается. Вашингтон Ирвинг понатыкал бы их целую дюжину.
В сотый раз я принимаюсь за описание, чтобы только занять перо, пока я пытаюсь осмыслить все, что произошло со мной с того мгновения, когда Панталеоне возник на террасе со встревоженным лицом — он всегда такой, когда приходит какой-нибудь американец и ему надо объявлять очередное варварское имя.
— Signor Consul, c’è un americano, un colonello[114]. — «Сводуз» — вот какое имя я услышал. Поскольку по долгу службы я обязан быть дома для американских путешественников — особенно полковников, — я велел Панталеоне проводить посетителя на террасу.
Я поправил сюртук. Мне пришлось одеться по всей форме, потому что то был день праздника непорочного зачатия и я должен был представлять Соединенные Штаты на центральной площади во время торжеств.
Под белой аркой, открывающей вид на море, возникла большая рыхлая фигура.
— Чарли, если ты не рад меня видеть — да и что за радость! — я тут же повернусь кругом и спущусь по тем же ступенькам, по каким только что взобрался. Господи, никогда не видел столько ступеней, а тут это называют улицей. Дай только дух переведу. А ты ведь неплохо устроился, ей-богу. Один вид чего стоит!
Произнося эту тираду, Сэм Свортвут подошел ко мне. Я смотрел на него, как кретин. Что делать? Послать его к черту? Вызвать полицию? Я стоял, окаменев, и понимал, что не слишком блистательно представляю славную республику. Интересно, в отчаянье гадал я, как бы поступил на моем месте Вашингтон Ирвинг?
Как большой пес в ожидании пинка, Сэм нерешительно протянул мне лапу. К его облегчению, я оцепенело пожал ее.
— Давненько я тебя не видел, Чарли.
— Давненько! — отозвался я глупо. Слава богу, хоть собственное имя не повторил.
К счастью, внизу, в порту Амальфи, громко хлопнул фейерверк и завершил первую стадию нашей беседы.
— Что это? — Сэм подскочил, будто в него стреляли.
— Фейерверк. Начало праздника. Сейчас начнется шествие и…
— Я так и подумал, там что-то вроде нашего Четвертого июля.
— Садись.
Что мне оставалось делать? Он похвалил вид с террасы. А кто его не похвалит? Вилла, которую я снимаю, расположена по соседству с разрушенной сторожевой башней старой сумасшедшей королевы Неаполя. Внизу под нами втиснулся в скалистую долину Амальфи: белые стены, красные крыши, мавританский собор с зеленым глазурованным куполом и желтой черепицей. Узкие террасы над городом сверкают апельсиновыми садами и темнеют зарослями дикого лавра. Сэм Свортвут тут — как омнибус с Четвертой улицы, чудом занесенный в Аркадию.
— Я сомневался, что консул — это ты, пока один американский шкипер тебя не описал, и я понял, что не бывает двух людей с одинаковой внешностью и фамилией. Вон моя лодка. — Он показал красивый шлюп. Я его заметил еще утром, совершая консульский обход; в основном, я обхожу американские корабли и обсуждаю с капитанами, каким образом удобнее освободить моряков, арестованных накануне. Являя собой помесь мирового судьи с судовым капелланом, я вынужден таскать под мышкой захватанную Библию, и американцы целуют ее, давая присягу. Я называю ее книгой лжесвидетелей.
— Я здесь уже полтора года…
— Знаю. А раньше ты был в Антверпене. Я как раз на днях видел книгу, которую ты там написал. Что-то о Нидерландах, о твоих путешествиях.
— Да, что-то вроде. — Все вечно забывают название книги, которое придумал мне остряк-издатель.
— Дома не бывал с тех пор, как получил место консула в Антверпене?
— Вице-консула. Нет, не бывал.
— А я уж больше года, как уехал.
— Знаю.
Ракета, пущенная в гавани, медленно пересекла бледный серп новой луны и взорвалась белыми огнями.
— Знаешь, Чарли, меня здорово скрутила депрессия тридцать седьмого года. Скверное время, как тебе, наверное, известно. Связался в Англии с угольными шахтами. Утверждали, что они надежны, как золото, и, как всегда, ошиблись. Ну, меня выпотрошило дочиста. И мне пришлось… бежать.
В августе 1839 года Самюэль Свортвут, инспектор нью-йоркского порта, отплыл в Англию. Через несколько недель обнаружилось, что он украл один миллион двести пятьдесят тысяч долларов государственных денег — самая большая сумма, когда-либо похищенная американским чиновником, а возможно, и вообще американцем. Когда спадет первая волна возмущения, Сэм Свортвут, без сомнения, станет героем фольклора. А пока он подмочил репутацию бывшего президента Джексона, на которого легла ответственность за наставление Сэма на стезю, приведшую его к столь вопиющему воровству. Связанный с воровством скандал вдобавок помог кандидату вигов Уильяму Генри Гаррисону побить президента Мартина Ван Бюрена на выборах в прошлом месяце. Печально, что в итоге всей этой истории весной в Амальфи появится новый американский консул. Хотя экстравагантность Сэма произвела на меня должное впечатление, я отнюдь не пришел в восторг от того, что потерял из-за него место.
— В Нью-Йорке был большой переполох. — Сэм смотрел на облачко дыма в том месте над луной, где только что взорвалась ракета. — Всякие недоразумения по поводу… моих дел.
— Еще бы.
— Я много путешествую. Испания. Франция. Теперь вот плывем вдоль итальянского побережья, уже несколько недель. Потом направимся в Северную Африку. Говорят, в Алжире прелестно.
На террасе появилась моя жена. Сэм вскочил. Я представил их друг другу.
— Высокая честь, донна Каролина. — Сэм поцеловал ей руку.
Супруга извинилась, что не говорит по-английски; значит, она не желает говорить на этом языке, думает, что разговор будет скучный. На самом-то деле она владеет английским, немецким, французским и, разумеется, итальянским; ее отец — швейцарский барон Йост Йозеф де Тракслер, в прошлом паж при дворе последнего короля обеих Сицилий; пажом был и ее дед со стороны матери (неаполитанец испанского происхождения). Я встретил семью Тракслеров, когда меня впервые представили королю Фердинанду в Казерте. После года острых схваток со старшими членами семейства по вопросам религии и собственности (у них и того и другого вдосталь, а у меня — ни того ни другого) мы обвенчались шесть месяцев назад. В июне у нас будет ребенок.
— Хотите кофе? — Каролина говорила по-английски медленно, тщательно выговаривая слова.
— Если у вас не найдется ничего покрепче.
Каролина ушла, а Панталеоне принес Сэму бутылку бренди, тот пил его будто чай.
— Признаюсь, Чарли, я тоскую по дому. Вот уж не думал, что затоскую при такой-то красоте. — Он показал на море. Тут с неба упала звезда. Мое консульство.
— Вряд ли ты сможешь вернуться. — Мне вдруг захотелось помучить его за то зло, какое он причинил президенту Ван Бюрену, не говоря уже обо мне.
— Ну, теперь-то, когда всплыла вся история… — Он пробормотал что-то и замолк. Слава богу, хоть не лезет с «объяснениями». Затем он повернулся ко мне. — А как ты, Чарли? Когда думаешь переселиться с красоткой женой в богоизбранную страну?
— Мне кажется, она предпочитает жить в католической стране.
— А ты?
— Не знаю. — Я не собирался рассказывать Сэму, что Каролина не испытывает ни малейшего желания видеть Америку, мечтает поселиться близ Станса в Унтервальдене, в Швейцарии, где расположен замок Тракслеров. К сожалению, Швейцария слишком безмятежна, слишком романтична, на мой сегодняшний вкус. Я уже не интересуюсь розами и мавританскими арками. Я интересуюсь политической ситуацией в Неаполе (а ведь когда-то дела Таммани нисколько меня не занимали!). Я с нетерпением жду следующей революционной волны, которая так же неизбежна, как новое извержение дымящегося Везувия. А когда она накатит… что мне делать? Я выбегу на улицу и залаю. Такова моя натура. Пока Леггет превращается в прах, я превращаюсь в Леггета.
Свортвут говорил о Леггете:
— Надо отдать должное Мэтти Вану: он не помнил зла. Когда газета Леггета разорилась, Мэтти Ван назначил его посланником в Гватемалу, хотя его никто об этом не просил.
— Но Леггет всегда поддерживал президента.
— Вовсе не всегда. — Сэм подмигнул. Потом отпил изрядный глоток, и в тоне его появилась сентиментальность. — Бедняга. Так и не попал в Гватемалу.
В мае прошлого года, когда Леггет умер, я написал его вдове, и та ответила пространным письмом; к несчастью, мешок, в котором было письмо, попал в воду в заливе Салерно, и чернила расплылись. Я так и не знаю, от чего Леггет умер, хотя догадаться нетрудно.
— Ты можешь остановиться у нас, — сказал я, сообразив по огням на площади, что шествие начинается и скоро мне придется представлять мою страну.
— Нет, нет. Спасибо. Я останусь на борту. У меня подобралась отличная английская команда. Прекрасный капитан — тоже англичанин, большой любитель виста и бренди.
— Я должен приступить к своим обязанностям, — сказал я.
Сэм встал.
— Народ тут, кажется, приветливый. — Его мало интересуют иностранцы.
Каролина уже спустилась на площадь, и мы с Сэмом прошли вдвоем тысячу ступенек по пути к центральной площади. Зеленое небо соприкасалось с зеленым морем, у них были общие звезды и лунный серп.
— Что с твоей книгой о полковнике Бэрре?
— Жду, когда мистер Дэвис опубликует его биографию.
Два года назад Дэвис издал дневники полковника, и, хотя многие места он опустил, книга все равно шокировала американскую публику, и репутация полковника стала еще ужасней, чем раньше.
Свортвут промолчал. Глубоко вздохнул. Он был уже пьян.
— Он очень любил тебя, полковник, очень любил.
— А я любил его. — Не желая говорить с Сэмом о полковнике, я быстро пошел вперед и поздоровался с крестьянской семьей, которая обогнала нас, торопясь на праздник.
— Да, сэр, он любил тебя больше всех… или почти больше всех.
— Рад слышать. — Я наклонил голову и зашагал быстрее.
Свортвут старался не отставать.
— Кстати, полковник написал Мэтти Вану о тебе… со Статен-Айленда.
— Знаю.
— Просил его присмотреть за тобой. И еще просил устроить тебя на это место. — Свортвут засмеялся. — О, вся эта ситуация очень веселила полковника. Ты ведь знаешь, то, что шокировало многих, его только забавляло. «Почему бы Мэтти не позаботиться о юном Чарли? — сказал мне полковник. — В конце концов, он же его старший брат».
Я как вкопанный остановился у поворота лестницы.
— Что ты сказал?
Свортвут с трудом удерживал равновесие — его громадная фигура покачивалась в сгущающихся сумерках.
— Извини, Чарли. Я думал, ты знаешь.
— Я ничего не знал.
— Извини, — повторил Свортвут.
Мы расстались на площади.
Цветные огни усыпали деревья, они казались игрушечными. Толпа стояла так плотно, что я сумел протиснуться к подножию лестницы собора только с помощью карабинера.
Ничего не видя перед собой, я поднялся по ступенькам к деревянному помосту, сооруженному для нескольких знатных особ. Меня приветствовали мэр, представитель короля, моя супруга. У главного входа в собор оркестранты в парадных формах играли марши. В порту грохотал фейерверк. Я был оглушен и ослеплен.
Я раскланивался во все стороны, делал вид, что мне очень интересно, но не мог думать ни о чем, кроме полковника Бэрра; я думал о том, что мы так и не сказали друг другу: он — из деликатности, я — по неведению.
— Ессо la Vergine![115] — Каролина хлопала в ладоши. Когда на площади появилось высокое, богато убранное изображение Девы Марии на высоких носилках, толпа исторгла стон. Фимиам из курильниц обвивался вокруг идола. Величественный епископ возглавлял процессию.
Рвались ракеты. На темное море сыпался дождь белых звезд. Ослепительные красные, желтые, зеленые огни. Громкая музыка. Приторный фимиам. Очертания мира вдруг стали расплываться, у меня мутилось в глазах. «Только бы не упасть, только бы не умереть», — говорил я себе, держась за руку Каролины, и усилием воли я заставил себя не упасть, выжить.
Серебряные одежды развевались на морском ветру, фигура Девы, увенчанная короной, была прямо напротив нас.
— Ah, chiedi una grazia! Chiedi una grazia[116], — шептала мне на ухо Каролина. — Загадай желание! Быстро! Она исполнит!
Но я не мог загадать ни одного желания — их все уже исполнил мой отец Аарон Бэрр.
ОТ АВТОРА
Почему исторический роман, а не история? Для меня привлекательность исторического романа в том, что можно быть скрупулезным (или беззаботным), как историк, сохраняя за собой право не только перемещать события, но, что гораздо важнее, мотивировать поступки, а добросовестный историк никогда себе этого не позволит.
Я истратил очень много лет на подготовку и сочинение «Бэрра» и старался держаться известных фактов. В трех случаях я позволил себе некоторую вольность. Джеймс Уилкинсон прибыл в Кембридж только через год после отъезда Бэрра. Джонатан Дейтон, по правде говоря, не был с Бэрром во время похода в Канаду. Элегическая беседа Чарли с Эдвардом Ливингстоном в июле 1836 года вполне объяснима, хоть и несколько сверхъестественна, учитывая, что посол Ливингстон умер на два месяца раньше в нескольких милях от моего старого дома в округе Датчес. Я воскресил Ливингстона, ибо он мне понадобился именно тогда. В остальном персонажи романа в должном месте в должное время делают то, что они делали в действительности.
Разумеется, я примыслил диалоги, но по мере возможности использовал подлинные фразы. Конечно, мнения Джефферсона, высказанные в этой книге, взяты из жизни и выражены часто собственными его словами. Он очень много писал и говорил обо всем. В общем и целом о Джефферсоне я гораздо более высокого мнения, чем Бэрр; с другой стороны, я не разделяю его пристрастия к Джексону. Хотя роман написан с точки зрения Бэрра, рассказанное в нем — история, а не выдумка. Все персонажи существовали в действительности (в том числе Элен Джуэт и мадам Таунсенд), кроме Чарли Скайлера, навеянного в основном личностью малоизвестного романиста Чарльза Бэрдетта, да еще Уильяма де ла Туш Клэнси, который, разумеется, никем не навеян.
Я предполагал снабдить роман библиографией, но источники бесконечны и все — политика. Американская история стала сегодня полем битвы, и я бы предпочел остаться в стороне. Я хочу, однако, сознаться в пристрастии (и я уже слышу чарующий свист пуль, как сказал бы Вашингтон) к небольшой блистательной работе Леонарда У. Леви под названием «Джефферсон и гражданские свободы».
Ошибок и анахронизмов должно быть немного. Но если они все же есть, я, как Ричард Никсон, беру на себя всю ответственность, не перекладывая вину на редактора рукописи Линна Ст. С. Стронга или ученого-историка Мэри-Джо Клайн, которые не дали мне ничем пренебречь.
Г. В.
7 июня 1973 года
ГОР ВИДАЛ И АМЕРИКАНСКАЯ ИСТОРИЯ
Одна из традиций издательского дела на Западе — помещать на суперобложке новой книги резюме рецензий и отзывов о ней. Конечно, только положительных. В соответствии с этой традицией и в попятных рекламных целях открывается исторический роман американского писателя Гора Видала «Вице-президент Бэрр» (в оригинале — «Бэрр»), впервые увидевший свет в октябре 1973 года и выдержавший массу переизданий. Критики нашли книгу превосходной во многих отношениях. Основное достоинство ее, по мнению американской критики, — величайшая политическая злободневность. Как сказано в «Нью таймс»: «Прекрасное, своевременное лекарство для любого гражданина, впавшего в уныние при виде низких людей на высоких постах». Оно и понятно — «Бэрр» поступил на книжный рынок в то время, когда начал раскручиваться маховик Уотергейта.
«Нью-Йорк таймс бук ревью», обычно делающий погоду в оценке новых произведений, не счел возможным однозначно отнестись к книге. Журнал напечатал в одном номере (28 октября 1973 г.) две полярно противоположные рецензии. Случай редкий, обнаруживший порядочное разномыслие по поводу написанного Видалом. Авторы затеяли академический спор о принципиальном значении исторического романа, ограниченный, впрочем, размерами рецензий. Д. Дангерфилд упрекнул Видала в злоупотреблении «вымыслом». Д. Леонард, взявший писателя под защиту, не согласен с тем, что «творческое воображение историка и романиста рознятся, как яблоко и апельсин, и не могут одновременно произрастать на древе одной книги… Если Шекспир и был самым плохим историком из всех, писавших об английских королях, тем не менее мы пошли бы скорее пировать с шекспировскими Генрихами, чем с подлинными королями». Видал, идущий с точки зрения Леонарда, по стопам Шекспира, не заслуживает упрека.
Обвинение, предъявленное великому драматургу, вряд ли правомерно. Советский профессор М. А. Барг пришел, например, к противоположным выводам. Свою блестящую книгу «Шекспир и история» (1976) он энергично закончил: «Нет более глубокого и тонкого знатока этого мира (средневековой Англии. — Н. Я.), более надежного руководителя для тех, кто стремится его познать, чем Уильям Шекспир». Но это уже в порядке полемики с Д. Леонардом.
При генеральной оценке «Бэрра» нельзя упускать из виду функциональную роль исторического романа вообще. Жанр этот тесно связан с открытым еще древними дидактическим значением истории. Верно подмечено, что полночь — лучший час для вылета музы истории, которая, как сова Минервы, пускается в путь с двенадцатым ударом часов. Придворные историки далекого прошлого знали, когда наступит этот «звездный час», и оттачивали к нему свои гусиные перья. Чем хуже шли дела в настоящем, тем неудержимее становился порыв почерпнуть оптимизм на будущее в прошлом. Под неистовыми перьями оно идеализировалось и преображалось, укрепляя уверенность тех, кто заказывал или ждал исторических сочинении, в том, что они наследники надежного дела.
Лакировка прошлого, впрочем, путь очень прямолинейный и не всегда эффективный. Иной раз куда сильнее действует пессимистический взгляд на историю. Видал напомнил стране, только что пережившей Уотергейт и многое другое, о ее прошлом. Мрачно и ядовито изобразил социальные язвы, безобразившие лицо юных Соединенных Штатов. Не удивляйтесь, драгоценные соотечественники, и не впадайте в отчаяние, то, что вы видите, неизбежные издержки нашего строя. Они были всегда, они есть и будут. И сегодня США не лучше, чем были вчера. Таково в самом кратком изложении послание писателя своей родине.
* * *
Видал родился в 1925 году в семье преподавателя военной академии Вест-Пойнт. В детские и юношеские годы на него, вероятно, оказал наибольшее влияние дед по линии матери. Ослепнув в 11 лет, дед тем не менее преуспел на поприще политики, стал сенатором от штата Оклахома. Будущий писатель провел многие годы в его доме, читая слепцу протоколы конгресса, газеты, политическую литературу, а в Вашингтоне нередко служил поводырем. Юношей Видал сменил свое имя Юджин на Гор — фамилию деда, и с тех пор известен как Гор Видал.
В годы войны Видал служит на флоте, на унылом транспортном судне, бороздившем тихоокеанские воды у Алеутских островов. Там, на борту, он написал свой первый роман, «Виллпво», тепло встреченный критикой. Роман признали одним из значительных произведений о войне.
Видал пробует перо в новой области — работает для телевидения. Успешно сотрудничает в Голливуде, пишет сценарии и, наконец, пьесы. К романам он вернется позднее.
На рубеже пятидесятых и шестидесятых годов — резкий зигзаг в жизни процветающего писателя: его внезапно охватила политическая эйфория, оставившая после себя немало жертв. Родившийся на подступах и во время президентских выборов «стиль» Кеннеди, он, подобно иным скорым на заключения интеллектуалам, принял за рассвет, если угодно, «интеллигентности» в американской политической жизни. Писателю предстояло понять, и довольно скоро, что то был ложный рассвет, но в те годы он с головой окунулся в политику при самых, как ему казалось, благоприятных предзнаменованиях. Он был состоятелен, молод, не забыл и без устали напоминал другим о маститом деде-сенаторе, поддерживал дружеские отношения с Элеонорой Рузвельт, наконец, доводился сводным братом Жаклин Кеннеди — все это в совокупности не делало его чужим при дворе Джона Фицджеральда Кеннеди. Вдохновляло и то, что пьеса «Самый достойный» о закулисной борьбе во время выборов, с шумным успехом шла на Бродвее в 1960 году. Ей была суждена долгая сценическая жизнь — 520 представлений, экранизация.
Видал, видимо, уверовал, что нащупал нерв американской политической жизни, а посему в динамической и даже агрессивной манере провел кампанию по выборам в палату представителей конгресса США от 29-го округа штата Нью-Йорк. Он мобилизовал все — от платформы демократической партии до личного участия в кампании именитых интеллектуалов и… проиграл. Правда, статистика утешала: никогда с выборов 1910 года в этом округе, цитадели республиканцев, не отдавали столько голосов демократу, да и сам кандидат в президенты Д. Кеннеди собрал в нем меньше голосов, чем Видал, претендовавший на место в палате представителей.
Хотя он и не попал в конгресс, но, на правах родственника, был принят в Белом доме. Вблизи оказалось возможным измерить громадную дистанцию, отделяющую первосвященников политики от простых смертных типа Видала. Для равенства, пусть очень приблизительного, к человеку должен прилагаться пост. У Видала его не было, писательская слава не в счет. Это глубоко травмировало литератора, и шрамы легли не только на самолюбие, они легко различимы, стоит прочитать любые страницы книг Видала, касающиеся американских политических нравов. Оскомина от американской политики отныне неотъемлемая черта его творческого почерка.
Клану Кеннеди он быстро и эффективно отомстил доступным оружием — пером. Его эссе «Святое семейство» прозвучало очень громко и вызвало профессиональный интерес историков, занимающихся Соединенными Штатами. С тех пор много воды утекло под мостами Тибра в Риме, где с 1963 года живет подавляющую часть времени американский писатель Гор Видал. Были убиты Джон и Роберт Кеннеди, но Видал не меняет своих оценок.
Безуспешная попытка проникнуть в Капитолий, неудачный опыт приобщения к американской политике подарили миру проницательного писателя с обостренным интересом именно к политической жизни США. Во всяком случае, избавили от эвентуальной опасности, которую он хотел навлечь на себя. Видал любит без тени юмора повторять: «Единственное, чего я действительно хотел в жизни, — стать президентом США». Не попав в профессиональные политики, он занялся исследованием интересующего феномена — функционирования политического механизма США — со стороны.
Результаты разысканий Видала, по словам журнала «Тайм», поместившего 1 марта 1976 года обзорную статью о его творчестве, малоутешительны: «Его политические эссе (как эссеист Видал, с его отточенным, изящным стилем и тонкостью суждений, видимо, ныне не знает себе равных в американской литературе. — Н. Я.) не написаны, а вытравлены кислотой. Он постоянно поносит, хотя и непоследовательно, американских избирателей за то, что они слишком глупы, чтобы избрать должных лидеров, а капиталистическую олигархию — за систематический обман простого люда…» Тем не менее он все еще надеется вопреки самой надежде, лично присутствует на предвыборных съездах демократической партии: «Как может писатель отказаться от фантазии: съезд безнадежно зашел в тупик, внезапное пробуждение делегатов, восстание здравого смысла, приглушенные голоса переходят в рев. В свете юпитеров из леса микрофонов наконец выступает Самый достойный». Это, однако, мираж в иссушенной политической пустыне. Как заметил Видал о выборах 1976 года: «Безразлично, кого выберут. Не работает сама система. Наши выборы — дорогостоящий спектакль для прославления владельцев страны».
Но как все это случилось? Может быть, нынешние порядки были изначально запрограммированы в политической модели, по которой создавались и существуют США? Вероятно, по мере творческого возмужания Видал стал задаваться этими вопросами и попытался ответить на них в трилогии, первый том которой, «Бэрр», увидел свет через шесть лет после третьего — известного советскому читателю — романа «Вашингтон, округ Колумбия», а последний по времени выхода, по второй в трилогии, «1876», появился весной 1976 года.
Хронология понятна в свете еще не отшумевшего празднования 200-летнего юбилея страны: Соединенные Штаты на заре национальной истории, через 100 лет и в канун вступления в третий век своего существования. Логика очевидна: в конце XVIII столетия в Америке завязались узлы, которые не развязать и по сей день. Взгляд с высоты сегодняшнего дня, по замыслу Видала, позволяет установить: современные тенденции американской политической жизни и сопутствующие им нравы обозначились четко различимым пунктиром уже в те времена, когда отцы-основатели США были молоды.
Для этого потребовалось выстроить исторические факты в порядке, отвечающем творческому замыслу Видала. Пострадала ли при этом история, и если да, то каковы размеры ущерба, нанесенного вторжением романиста в сферу, являвшуюся монопольным достоянием штатных служителей Клио?
* * *
Видал начал с того, что создал вымышленного героя — журналиста Ч. Скайлера и поручил ему осветить самый темный угол прославленного в американской истории треугольника: Джефферсон — Гамильтон — Бэрр. Руками Скайлера Видал перекопал вековые наслоения в том углу и из них вылепил в высшей степени противоречивый, неожиданный для историков образ Бэрра. В художественном отношении успех несомненный.
Видаловский Бэрр вместе со Скайлером бросает ретроспективный взгляд на американскую политическую жизнь 200–150-летней давности. Здесь кончается вымысел писателя и начинается работа талантливого исследователя, анатомирующего прошлое скальпелем, отточенным современными методами исторического анализа. Сообщаемое Видалом достоверно, и если отступления есть, то они весьма правдоподобны, во всяком случае, замещают «белые пятна», оставленные, по нехватке материала, историками. Оправданно ли это, как, впрочем, и сама манера изложения, когда нить повествования разматывается отнюдь не последовательно? Применительно к реконструкции Бэрра не только оправданно, но, вероятно, это единственно возможный ход.
В отличие от Джефферсона и Гамильтона литературное наследие Бэрра близко к нулю, если не считать немногих сохранившихся писем к обеим Теодосиям. Но если бы на старости лет он взялся за мемуары, то, несомненно, предвосхитил бы Видала, ибо, как заметил Бэрр в письме к дочери, есть два способа рассказывать: «Один — начинать с самого старого события и постепенно приближаться к концу истории. Так обычно поступают философы и историки. Другой — начинать от самых последних событий… как всегда делают влюбленные и поэты. Я могу даже сослаться на Гомера и Виргилия в пользу второго способа…»
Видал и избрал рекомендованный Бэрром второй способ. Преимущество его налицо. О штормовых годах Войны за независимость и основания Соединенных Штатов рассказывает не юнец офицер, а умудренный и удрученный жизненным опытом старик, пребывающий, по воле писателя, в твердой памяти. Бэрр бойко и неутомимо растолковывает новейшую ревизионистскую концепцию Войны за независимость, сложившуюся в американской историографии в начале второй половины XX века. Она ближе к истине, чем благостные легенды и мифы о прошлом страны, против которых восстал отнюдь не один Бэрр, а немало уступающих Видалу в юморе историков. Вслед за всеми войнами, которые вела страна, начиная от борьбы за независимость в 1775–1783 гг., обеих мировых и кончая Вьетнамом, в общине историков возникло ревизионистское направление, объявившее еще один ушедший в прошлое вооруженный конфликт ненужным. Это доказывалось с различной степенью страстности и убедительности, у каждой волны «пересмотра» был свой гребень, на котором вздымались самые одержимые.
С точки зрения типологии ревизионизма Видала — Бэрра, вероятно, уместно отнести к умеренным иконоборцам. Роман не оставляет сомнения — руководители восставших колоний подняли оружие против метрополии не в интересах абстрактной и прекрасной свободы, а руководствуясь очень земными, по большей части меркантильными соображениями. На бой с королевской ратью позвал не ясноглазый Идеалист, а Собственник, защищавший неприкосновенность своих денежных сундуков, плантаций и рабов, против поползновений заокеанских любителей поживиться на американский счет.
Отсюда очень заземленные образы хрестоматийных героев; им всем крепко досталось от Видала, начиная от воителя Вашингтона и кончая философом Джефферсоном. Реакция специалистов на откровения романа в этом отношении не пойдет, однако, дальше восклицания: «Мы это знали!» Шока не последует. Так было. Видал просто подобрал факты в угодном ему направлении и искусно расставил акценты, выпукло показав, что и на заре американской истории в ней не было ничего возвышенного. Небесполезное напоминание для тех, кто ужасался, полагая, что Уотергейт обнажил разрыв времен в стране «бога и моей». Нет, ответил Видал «Бэрром», так было, так будет. Внимательнее читайте отечественную историю.
Достоверность событий Войны за независимость в изображении Видала сомнений не вызывает, хотя не обошлось без промахов. Вашингтон не был бедняком, вступая в брак с Мартой, а она не обладала богатейшим состоянием в Виргинии. Едва ли можно согласиться с тем, что, если бы не ошибки американцев в сражении при Монмусском суде, «англичане были бы уничтожены». Видал явно преувеличил эти ошибки. Напрасно пытается он и спасти репутацию генерала Ли. Неточна характеристика пятитомной биографии Вашингтона, написанной Д. Маршаллом: «Потребовался целый том, чтобы его герой… только появился на свет». Педантичный верховный судья и не думал посвящать первый том Вашингтону, а почитал его «вводным», дав обзор истории Америки со времен Колумба.
Все это меркнет перед тем, что Видал точно почувствовал и передал дух эпохи — война без героики. Роман — полемика с нынешним поколением американцев, горько сетующих на то, что они-де стали непохожи на суровых и воинственных предков. Видал напоминает, что полководцы войны, в огне которой родились Соединенные Штаты, лучше обращались с конторскими книгами, чем с пушками, и искуснее владели пером, нежели шпагой. Устами Бэрра очень здраво говорится о причинах победы США над Англией, о чем обычно умалчивают в американских патриотических сочинениях. К исходу войны армия США «почти полностью перестала существовать из-за отсутствия денег, а также из-за мистической веры конгресса в победу, которая как-нибудь все равно будет на нашей стороне просто благодаря союзу с Францией… В каком-то смысле конгресс оказался прав. Французы и в самом деле победили за нас англичан. Без них мы, конечно, были бы все еще английской колонией — удручающий факт, который мы давно уже забыли, точно так же, как и теперь пытаемся выкинуть из памяти ту легкость, с которой небольшому английскому отряду удалось выгнать из Белого дома президента Мэдисона и поджечь город Вашингтон. (В августе 1814 г., во время англо-американской войны 1812–1814 гг. — Н. Я.). К счастью, наш народ всегда предпочитал легенду действительности».
И все же, деканонизируя хрестоматийных американских героев, особенно президентов виргинской «династии», или, как именовал их Бэрр, «хунты» (термин выбран Видалом, как мы увидим, исключительно точно), романист иной раз излишне заостряет здравую в основе точку зрения. Они действительно приступили к строительству американской империи, но отнюдь не всегда ожидали сиюминутного личного материального вознаграждения за свои труды. Что дело обстояло именно так, подтверждают хотя бы ламентации Бэрра по поводу того, что немало отцов-основателей окончили свою жизнь если не буквально в нищете, то в стесненных обстоятельствах. Джефферсон тому выдающийся пример. Побудительным мотивом их деятельности, помимо прочего, было стремление к славе, почитанию потомков.
Что же касается обогащения истории творческим воображением, то, надо полагать, оно состоялось, и это понимают ученые-историки. Профессор Артур Шлезингер, с обычным для него снобизмом высказавшийся о «Бэрре» на страницах журнала «Атлантик» (июнь 1974 г.), тем не менее признал: «Вдохнув жизнь в исторического деятеля, писатели и драматурги могут ошибиться и едва ли изменят суждения специалистов. Но сила их воображения может побудить историков к новому взгляду… В результате творческое воображение может оплодотворить историческую мысль и послужить расширению и обогащению понимания истории».
«Новый» же взгляд, с которым едва ли согласится Шлезингер, направивший свои изыскания в сторону «имперского президентства», заключается, пожалуй, в том, что для должного понимания политического механизма в США нужно помнить: они возникли 200 лет назад и существуют по сей день как олигархическая республика. Римский прецедент в глазах отцов-основателей, гордившихся своим классическим образованием, был бесконечно ценным, ибо указывал на опасность единоличного правления, для стабильности американской модели правления совершенно обязательно рассредоточение власти среди олигархии с сопутствующим ее разделением на законодательную, исполнительную и судебную, а также на федеральном, штатном и местных уровнях. (Здесь и гениальность догадки Видала — Бэрра: виргинская «хунта»!) Плюс отсечение противоположных концов спектра политической радуги, центр которой занимает господство денежного мешка, трансформирующего деньги во власть. Центр стоит незыблемо, хотя на периферии спектра бушуют иной раз ожесточенные бои — за или против классической американской «демократии».
Эти-то сражения и в фокусе внимания Видала — от времен Вашингтона и Джефферсона до «джексоновской демократии». Писатель все же схватил и отразил преимущественно внешнюю сторону событий. Его книга — в какой-то степени журнал боевых действий на второстепенных театрах. На рубеже XVIII и XIX веков отбивались от покушений справа, а при Джексоне применяли разнообразные средства, включая Таммани-холл, чтобы инкорпорировать популистский протест в рамки укоренившейся системы. Эти бои не могли иметь и не имели решающего исхода, ибо и не были задуманы, чтобы поколебать основу основ заокеанской республики — принцип частной собственности.
Яростная полемика Бэрра с Джефферсоном поразит разве не знающих вплотную американской истории, открытий здесь нет. Фактическая сторона, отягощенная куда большим количеством деталей, освещена в книгах, написанных точно на ту же тему, что и роман Видала. «Муки честолюбия. Джефферсон, Гамильтон, Бэрр» Д. Дэниелса[117]— лишь один пример. Дело не в пересказе известного, а в интерпретации. Все станет на свои места, если принять в соображение мелкий, но многозначительный штрих: в послесловии к роману Видал назвал лишь одну книгу из использованных им, нашел ее «блистательной» и признался в «пристрастии» к ней. Это работа Л. Леви «Джефферсон и гражданские свободы». Заголовок ее в таком виде мало что скажет читателю, а полностью он звучит: «Джефферсон и гражданские свободы: оборотная сторона медали»[118]. Если бы он был воспроизведен полностью, тогда можно было бы легко понять, что Бэрр, помимо прочего, обладал качествами провидца, сумев пересказать содержание книги, появившейся через сто с лишним лет после его смерти.
При всем том конфликт Бэрр — Джефферсон, как он выписан Видалом, вызывает жгучий интерес. Вновь звучит рефрен — так было, так будет. Попытка исполнительной власти узурпировать не принадлежащие ей прерогативы с Джефферсоном в роли архизлодея. Требования верховного судьи Маршалла, чтобы президент представил суду документы, — чем это отличается от требования, обращенного к Никсону в разгар уотергейтского скандала: передать суду магнитофонные записи бесед в Белом доме? Постоянные сетования на рост федеральной бюрократии. А попытки президента затеять войну с Испанией под благовидными предлогами «освобождения» или «освобождение», путем покупки, жителей Луизианы — разве это не прямая параллель с необъявленной «президентской» войной во Вьетнаме? Наконец, всепроникающее лицемерие в американском обществе — от Белого дома и Капитолия до рассуждений содержательницы публичного дома о боге? Коррупция сверху донизу и т. д. Вывод напрашивается сам собой — прошлое США ни на волос не лучше настоящего при всей условности исторических аналогий.
Болезненные уколы искрометной прозы Видала, однако, не выходят за рамки «американской политической традиции», которую очень верно сформулировал в 1948 году основатель теории «согласия» в историографии США Р. Хофштадтер: все политические споры в этой стране не затрагивают священного института частной собственности. Время от времени в приглушенных тонах об этом свидетельствует и Видал, начиная от упоминания о восстании Д. Шейса и кончая озабоченностью эгалитарными тенденциями, выявившимися при расширении избирательных прав во времена «джексоновской демократии». Он указывает и водораздел, когда стали решительно пресекать любые помыслы о «разделе богатств» — Французская революция. Но все же «демократия» расширялась. Как именно — свидетельствует Бэрр, описывая «джексоновскую демократию». Припомнив Гамильтона, он наставительно произнес: «Что он подумал бы теперь, когда „быдло“, как он называл народ, управляет, или мы по крайней мере льстим ему, делая вид, что оно управляет».
Хотя Видал начал писать своего «Бэрра» задолго до Уотергейта, он заканчивал книгу летом 1973 года, когда скандал в высшем эшелоне власти уже выплеснул на страну лавину грязи. Завершающие штрихи Видал набрасывал, определенно имея в виду случившееся. В результате «Бэрр» и продолжение его — роман «1876» — вошли в обойму американской литературы об Уотергейте, которая естественным образом примыкает к старой американской традиции «разгребателей грязи». Разоблачения Уотергейта, по большому счету, — лишь очередные раскопки в уже перекопанном месте. Но чего достигнут изобличители, к которым можно смело причислить Видала?
Златослов профессор Д. Гэлбрейт заметил по поводу усилий «разгребателей грязи» в связи с Уотергейтом: «Они, конечно, преуспели — что-то, хоть немногое, изменится. По крайней мере хищники-монополисты какое-то время будут с большей осторожностью вступать в сделки с членами правительства или чиновниками. Организаторы избирательных кампаний отныне будут руководствоваться, в общем, обыденной мудростью — неприличное поведение в политике хотя, быть может, и не аморально, но неразумно, и деньги будут вручаться и тратиться с большей осмотрительностью».
Что же касается целей самих разоблачителей, которые, разумеется, действуют в отведенных им в США рамках, то Гэлбрейт, хорошо овладевший секретами ремесла, сказал: «Люди любят разоблачение коррупции и даже мошенничества на вершине власти. Это дает им осознание конечной справедливости в мире — плутов рано или поздно изловят… Примерно так случилось с Ричардом Никсоном. Наконец, изобличенные всегда выглядят глупыми. В результате разгребания грязи мы можем смотреть на Джона Митчелла или Джона Эрлихмана и положительно гордиться тем, что мы-то умнее. По этим причинам разгребатель грязи получает не только профессиональное уважение своих коллег, по и круглую сумму наличными»[119].
Видал куда как преуспел во всем этом, соорудив подмостки, с которых простой смертный может свысока взглянуть на Вашингтона, Д. Адамса, Джефферсона, Мэдисона, Монро и Джексона, если перечислять только президентов США, не говоря уже о множестве лиц второго положения, особенно американских генералов Войны за независимость. Тенденцию эту он блистательно продолжил в романе «1876». Вымышленный герой «Бэрра» Ч. Скайлер, теперь 62-летний, является из Европы в США и находит там разгул коррупции и моральной деградации. Направо и налево он бросает замечания типа: «Признаю, что нашим президентам почти нечего делать. Правит конгресс, и именно он в основном ворует… Последние восемь недель кампании по выборам президента самые важные. С точки зрения выяснения, кто у кого крал… Американцы всегда жили настоящим. Нынешнее поколение не отличается от моего, за исключением того, что у него больше прошлого для забвения».
И последнее, тесно связанное с предыдущим. Энергичный стиль Видала и категоричность в оценках всего и вся — не что иное, как защитный панцирь мастера против окружающего его мира. Надо думать, он легко раним.
Что дело обстоит именно так, писатель очень серьезно и печально сказал в 1975 году, когда отпраздновал свое пятидесятилетие. Дата приметная в жизни любого человека, заставляющая оглянуться вокруг. В эти дни он побывал в Вашингтоне, городе политической мечты своей молодости. Встретился со многими, торопившимися взглянуть на крупного писателя. И вот что произошло, по словам Видала: «Моя сестра пригласила группу молодых демократов, олицетворение лучших надежд нового либерализма, встретиться со мной. Все они выглядели на восемнадцать лет и говорили мне „сэр“. Я вглядывался в их юные, взволнованные лица и думал — какие интересные люди, но мысль эта тут же оборвалась: я заметил, что стоило мне заговорить о Генри Адамсе, как они стали с трудом подавлять зевки»[120].
Новое подтверждение того, что с возрастающей с годами горечью наблюдает в США писатель. «Год траура был бы куда уместней — по нашей утраченной невинности, нашим ущемленным свободам, нашим убывающим ресурсам, нашей гибнущей среде обитания», — сказал он недавно в связи с двухсотлетним юбилеем США.
Профессор H. Н. Яковлев
Примечания
1
Таммани-холл — политическая организация демократической партии в Нью-Йорке, основанная в 1789 году как благотворительное общество-братство. Названо по имени вождя индейского племени в Делавэре, которого потом стали в шутку называть святым, покровителем Соединенных Штатов. В ранние годы в обществе соблюдался своеобразный индейский ритуал, помещение общества называлось вигвамом, его руководители — вождями, его члены — воинами и т. д. В наши дни название общества служит синонимом политической коррупции. — Здесь и далее примечания переводчиков.
(обратно)2
Английский врач и писатель (1605–1682).
(обратно)3
Английский юрист и философ (1748–1832).
(обратно)4
Отказ штата признать закон, принятый конгрессом.
(обратно)5
Скайлер — одна из старейших голландских фамилий Нью-Йорка. Филип Скайлер (1733–1804) был государственным деятелем и генералом во время Американской революции.
(обратно)6
Крошка (франц.).
(обратно)7
Тетушка (франц.).
(обратно)8
Бедняге (франц.).
(обратно)9
Упал (франц.).
(обратно)10
Саму себя (франц.).
(обратно)11
Территориями назывались районы, еще не получившие статуса самостоятельного штата. Техас стал штатом в 1845 году.
(обратно)12
Всю семью (франц.).
(обратно)13
Разумеется, тетя (франц.).
(обратно)14
Англичане (франц.).
(обратно)15
Мерзкие англичане (франц.).
(обратно)16
Войдите, мой супруг (франц.).
(обратно)17
Американский поэт (1790–1867).
(обратно)18
Пристрастие (франц.).
(обратно)19
Американский священнослужитель и религиозный мыслитель (1703–1758).
(обратно)20
Бэрр обыгрывает библейское выражение «…не проворным достается успешный бег, не храбрым — победа…».
(обратно)21
Честное слово (франц.).
(обратно)22
Разве нет (франц.).
(обратно)23
Губернатора (франц.).
(обратно)24
Разумеется (франц.).
(обратно)25
Четвертое июля — национальный праздник США День Независимости (день принятия Декларации независимости 4 июля 1776 года).
(обратно)26
Желанной гостьей (франц.).
(обратно)27
Сзади (франц.).
(обратно)28
Обожание (франц.).
(обратно)29
Как император. Да здравствует Наполеон! (франц.).
(обратно)30
Бедняга (франц.).
(обратно)31
Обожаемой (франц.).
(обратно)32
Сладости (франц.).
(обратно)33
Биографию (франц.).
(обратно)34
Моя крошка (франц.).
(обратно)35
Меня ужасает (франц.).
(обратно)36
Произведение английского писателя и проповедника-пуританина Джона Беньяна (1628–1688).
(обратно)37
В цвету (франц.).
(обратно)38
Санкюлотом (франц.).
(обратно)39
На свежем воздухе (итал.).
(обратно)40
Непременное условие, качество (лат.).
(обратно)41
Пусть будет стыдно тому, кто плохо об этом подумает (франц.).
(обратно)42
По конституции, президентом может быть избран только уроженец США. Александр Гамильтон родился в Вест-Индии.
(обратно)43
Пристрастие (франц.).
(обратно)44
Несколько тысяч немецких наемников-гессенцев входили в состав английских войск, сражавшихся против армии Вашингтона.
(обратно)45
Катастрофой (франц.).
(обратно)46
В прошлом — Джумел (франц.).
(обратно)47
Невероятно Шарло (франц.).
(обратно)48
В Джерси-Сити у него есть девушка (франц.).
(обратно)49
Силы (франц.).
(обратно)50
По меньшей мере графиня (франц.).
(обратно)51
Девочек (франц.).
(обратно)52
Добрый день, мадемуазель (франц.).
(обратно)53
На пути (франц.).
(обратно)54
Ателье (франц.).
(обратно)55
Дружками (франц.).
(обратно)56
Приподнятое (франц.).
(обратно)57
Раздел венерических болезней (франц.).
(обратно)58
Радостей любви (франц.).
(обратно)59
Ночной горшок (франц.).
(обратно)60
Ирвинг впервые начал печататься под этим псевдонимом, публикуя заметки о нью-йоркских нравах.
(обратно)61
По конституции США, судьи назначаются президентом и утверждаются конгрессом.
(обратно)62
Вдвоем (франц.).
(обратно)63
И Его величество король испанский (франц.).
(обратно)64
Здесь — к насильственным действиям (франц.).
(обратно)65
По Цельсию — около 40°.
(обратно)66
Во время англо-американской войны 1812–1814 годов.
(обратно)67
По должности, по служебному положению (лат.).
(обратно)68
Оскорбление царствующей персоны.
(обратно)69
Ионафан — по Библии, сын Саула, любимый друг царя Давида.
(обратно)70
Прозвище, данное Джефферсоном сторонникам Англии.
(обратно)71
Черт! (франц.).
(обратно)72
В чем дело? (франц.).
(обратно)73
И ты [сын мой] (лат.) — слова Юлия Цезаря, обращенные к Бруту.
(обратно)74
От «pro tempore» (лат.). Президент pro tempore — временно исполняющий обязанности президента, обычно лидер большинства в сенате США.
(обратно)75
Моя вина (лат). Здесь: покаяние, признание собственных ошибок (лат.).
(обратно)76
Ужасно (франц.).
(обратно)77
Римский император (51–96), известный своей жестокостью.
(обратно)78
Римский император (245–313), прославившийся военными походами и умелым правлением.
(обратно)79
Гиббон, Эдвард (1737–1794) — английский историк, автор знаменитой работы «Закат и падение Римской империи».
(обратно)80
Ваше превосходительство… Мой генерал! (франц.).
(обратно)81
Текумсе (1768–1813) — вождь индейского племени, защищавший земли индейцев от белых, а затем, в войне 1812 года, бригадный генерал в британской армии. Убит в 1813 году в битве при Темзе.
(обратно)82
Цинциннат (519–439 до н. э.), призванный римским сенатом в период опасности, после войны сложил с себя диктаторство и вернулся к мирной уединенной жизни. В его честь Вашингтон назвал общество офицеров-ветеранов Войны за независимость.
(обратно)83
От мертвых истины не требуется (лат).
(обратно)84
Вечно веселый (франц.). Шутка строится на том, что merry по-английски — веселый.
(обратно)85
Первый английский генерал-губернатор в Индии (1772–1818). Суд над ним по обвинению в предательстве длился семь лет.
(обратно)86
Перевод В. Рогова.
(обратно)87
Бэрр произносит слова Призрака отца Гамлета, обращенные к Гамлету.
(обратно)88
С существа дела (лат.).
(обратно)89
На чай (франц.).
(обратно)90
За неимением лучшего (франц.).
(обратно)91
Голдсмит, Оливер (1728–1774) — английский писатель, автор романа «Векфильдский священник».
(обратно)92
Закон о неприкосновенности личности (лат.).
(обратно)93
Замечание, брошенное вскользь (лат.).
(обратно)94
Томас Салли (1783–1872) — американский портретист, автор известного портрета Джефферсона.
(обратно)95
Буквально: «явиться, имея при себе» (лат.) — форма судебной повестки, обязывающая предоставить суду затребованные документы или иные доказательства под угрозой привлечения к уголовной ответственности.
(обратно)96
Вместо президента (лат.).
(обратно)97
С кафедры (лат.). В переносном смысле — авторитетно, безапелляционно.
(обратно)98
Краткое изложение (франц.).
(обратно)99
Тайный верховный суд в Англии, упраздненный в 1641 г. В переносном смысле — тайное судилище, застенок.
(обратно)100
Джек Кейд — глава мятежа против Генри VI. В 1450 г. мятежники захватили Лондон. В том же году Кейд был казнен.
(обратно)101
Крюк (франц.).
(обратно)102
Ямайка — местечко на Лонг-Айленде.
(обратно)103
Простонародье (греч.).
(обратно)104
Ради здоровья (франц.).
(обратно)105
Дрожь (франц.).
(обратно)106
Я читала ваши статьи! (франц.).
(обратно)107
Боже! (франц.).
(обратно)108
Исключая императора (франц.).
(обратно)109
Девушка в цвету (франц.).
(обратно)110
Наконец (франц.).
(обратно)111
Холостяцкая квартира (франц.).
(обратно)112
Невозможна! Вот так (франц.).
(обратно)113
Не так ли? (франц.).
(обратно)114
Сеньор консул, там один американец, полковник (итал.).
(обратно)115
Вот она, Дева! (итал.).
(обратно)116
Проси ее о милости (итал.).
(обратно)117
D. Daniels. Ordeal of ambition. Jefferson, Hamilton, Burr. N. Y., 1970.
(обратно)118
L. Levy. Jefferson and civil liberties. A dark side. N. Y., 1956.
(обратно)119
J. К. Galbraith. «Atlantic». June, 1974, р. 102.
(обратно)120
«Time». 1 III. 1976.
(обратно)
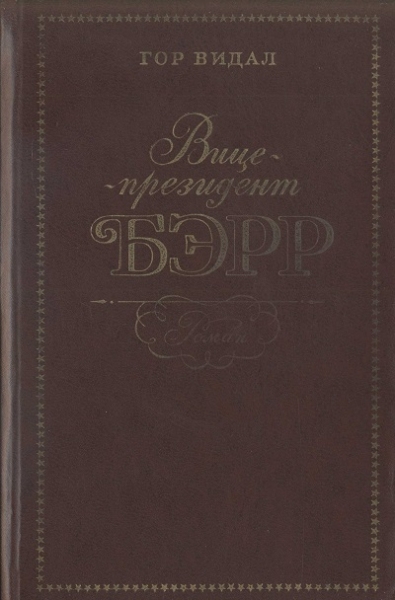


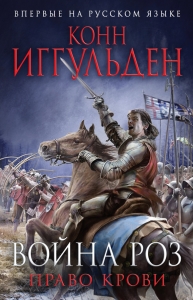



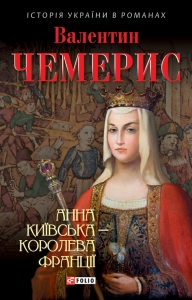


Комментарии к книге «Вице-президент Бэрр», Гор Видал
Всего 0 комментариев