Ёжи Журек Казанова
От издательства
«Какие умы, какие замечательные судьбы и какие трагические, бесславные финалы, когда в лучшем случае после смерти их ожидало забвение, а в худшем — непонимание и насмешливая ирония потомков», — писал Е. Карпович в книге «Замечательные и загадочные личности XVIII и XIX столетий». Но то ли потомки изменились, то ли серьезный писатель, не предполагая в нас эдакого легкомыслия, ошибся. Потому что слава адептов тайных лож и неутомимых искателей приключений, авантюристов и шарлатанов, талантливых мошенников и мыслителей — одним словом, личностей типа Калиостро и Казановы, Гурджиева и Маты Хари жива. И вряд ли можно однозначно утверждать, что она окрашена лучами иронии или желания доискаться правды за узорчатыми решетками вымысла.
«…Интересом своим к Калиостро Марина меня увлекла, и я зачитывалась в ту зиму французскими романами о нем — «Жозефом Бальзамо» и другими» — так писала Анастасия Цветаева в «Воспоминаниях» о литературных привязанностях своей юности. Шло первое десятилетие нашего жесткого, рационального века. Но сейчас, в последнее его десятилетие, книги о головокружительных событиях, связанных с этими неординарными людьми, пользуются едва ли не большей популярностью, чем французские романы у читателей серебряного века.
В большей степени это побудило издательство АРМАДА начать публикацию новой серии художественных романов, названной «Великие авантюристы». Свою роль сыграло и то, что в редакционном портфеле скопилось за последнее время несколько интересных, частью — новых, частью — переводных, мало известных российскому читателю книг об incognito давнего и недавнего прошлого, людях невероятно одаренных, но использовавших свои таланты не по божьей воле.
Чего хотели они? Власти? Богатства? Славы? Какие великие или мелочные цели преследовали? Тешили самолюбие, подчиняя своему гипнотическому влиянию сотни и тысячи современников, или были мучениками обстоятельств, уготовивших им торную дорогу от дворца до эшафота?
Фигаро, веселый пройдоха и философ, главный герой комедии Бомарше, восклицает: «Поверьте мне, я же лучше, чем моя репутация!» Мог ли так сказать о себе загадочный миссионер граф Калиостро или вечный изгнанник Казанова? Или они были бы более правдивы, говоря: «Когда мне будет назначено предстать перед Господом, когда мне, обманщику, лжепророку, придется сбросить плащ ухищрений и притворства перед высшим судией, я не смогу назвать ни одного своего благородного поступка, не смогу припомнить ни единого мгновения, которое дало бы мне утешение среди вечных мук!»[1]
Судите сами. Открывая одну за другой книги новой серии, перелистывая новые страницы судеб блестящих и бессмертных…
Энциклопедический словарь Изд. Брокгауза и Ефрона. Т. XIIIA СПб., 1893
КАЗАНОВА (Джованни Джакомо Казанова де Сенгальт — дворянский титул, который он себе присвоил) (1725–1798) — авантюрист, родом из Венеции. Изучив право, он хотел принять духовный сан, но запутался в любовных похождениях и был исключен из семинарии. Побывав в Неаполе, Риме, Константинополе, Париже, он вернулся в Венецию, где за обман и богохульство в 1755 г. был заключен в тюрьму. В 1776 г. он бежал в Париж, где завоевал себе положение магией и спекуляциями и основательно изучил тамошнюю общественную и частную жизнь. После новых странствований по Европе он прибыл в Берлин, где имел аудиенцию у Фридриха Великого, очень интересно описанную в его мемуарах. Он должен был получить место начальника кадетского корпуса, но направился в Петербург, затем в Варшаву, откуда бежал по случаю дуэли с Браницким, и вел скитальческую жизнь в Австрии, Германии, Франции, Испании, Италии, всюду переживая множество приключений.
Получив позволение вернуться в Венецию, он сделался здесь в 1775 г. тайным агентом инквизиционного трибунала по внутренней службе в городе, но из-за аллегорического романа, в котором был оскорблен дворянин Гримальди, должен был в 1782 г. вновь оставить Венецию и поселился в Чехии, в замке графа Вальдштейна, вместе с которым занимался кабалистикой и алхимией.
Мемуары Казановы вышли в свет уже после его смерти («Mémoires écrits par lui-même», Лпц., П., Брюс., 1826—1838; нов. изд. П.» 1880; в немецкой обработке В. Шютца — еще ранее, под заглавием «Aus den Memoiren des Venetianers I. С. de Seingalt», Лпц., 1822—1828). Они доходят до 1773 г., содержат много ценных культурно-исторических и даже исторических данных и дают резко очерченные портреты личностей, имевших значение в политике.
Из остальных сочинений Казановы главные: «Istoria delle turbulenze della Polonia dalla morte di Elisabet Petrowna fino alla pace fra la Russia e la Porta ottomana» (Грац, 1774); «Histoire de ma fuite des prisons de la République de Venise, qu'on appelle les Plombs» (Прага, 1788); «Icosaméron» (Прага, 1788-1790); «Solution du probleme de-liaque démontrée» (Дрезден, 1790). Ср. Barthold, «Die geschichtlichen Persönlichkeiten in C.'s Memoiren» (Берлин, 1845) и сообщения Bachet в сборнике «Le Livre» (Париж, 1881); об исторической ценности мемуаров см. также D'Ancona, «Un avventuriere del secolo XVIII» (в «Nuova Antologia», 1882, февраль и август).
Казанова
Память
Воспоминание тяжелое и мрачное, как ночной кошмар…
Она уже была под ним — женщина с певучим именем, которое он смешно коверкал, со светлой, будто прозрачной, кожей; он сжимал нагое тело в объятиях и чувствовал, как в такт с резкими движениями бедер ее ногти царапают его спину. Ему не хотелось, чтобы она раздевалась, он бы предпочел постепенно извлекать волнующие прелести из шелестящих одежд, но она сама скинула все с себя с быстротой и решительностью, весьма неожиданными для известных своей холодностью представительниц северной расы. Из тщеславия — а кто бы, черт побери, на его месте не возгордился! — он приписал это исключительно своей мужской неотразимости. Она была его добычей, очередной жертвой изощренных маневров, испытанных в спальнях всей Европы, но вместе с тем просто милым существом, дарящим ему тепло и нежность в этой стране холода и подозрительности. И потому он ей был по-человечески и по-мужски благодарен и с истинным удовольствием, неторопливо и сосредоточенно, отыскивал на ее теле тайные уголки — источники страсти, — а найдя, продолжал поиски, расширяя их и углубляя; он уже почти любил эту чужую женщину со знакомым телом.
Что-то громыхнуло за дверью, раз, другой; женщина встревоженно дернулась, однако он, уже на пороге высшего блаженства, ничего не слышал и не замечал, еще минута — и огненный заряд полетит в загадочную тьму. Он был готов — но тут с треском распахнулась дверь, и в комнату ворвался пугающий свет, а с ним холод и люди, толпа людей. Женщина выскользнула из-под него, упала, как кошка, за кровать, а он остался — спиной к опасности, обнаженный, извергающий семя в разворошенную постель. Он еще был животным и — пока холодное острие не коснулось беззащитного затылка, пока грубая рука не рванула волосы, пока глаза не ослепил поднесенный к лицу факел — на четвереньках кинулся к окну. Женщина с диким воплем попыталась его удержать, желая то ли помочь нападающим, то ли спасти хотя бы каплю сверкающего тепла, которое он щедро рассеивал вокруг, но не успела. Он сорвал занавеску и не задумываясь прыгнул. Стекло разлетелось на тысячу окровавленных брызг, он вылетел на галерею и, — не теряя ни секунды, инстинктивно чувствуя, что на карту поставлена жизнь, — бросился бежать, не разбирая дороги.
Опоясывающая дворец галерея, колючий кустарник, посыпанная гравием аллея, потом скверно замощенная дорога, темные контуры каких-то строений. Поначалу он не ощущал ни холода, ни боли в подошвах, молотящих мерзлую землю с тем же ожесточением, с каким минуту назад его мужское естество терзало жаркое лоно женщины со светлой, будто прозрачной кожей. Он не слышал погони, он ничего не слышал, кроме шума крови в висках и хриплого, рвущего грудь дыхания. Что делать, куда бежать? Далеко ему, закутанному лишь в обрывок занавески, не уйти. Надо где-нибудь спрятаться, переждать, разузнать, в чем дело, что, тысяча чертей, произошло! Ревнивый муж или любовник?
Он перескочил через какую-то ограду, потом еще через одну, потом — оледенелые ветки то подталкивали, то задерживали его — продрался сквозь живую изгородь. Теряя последние силы, бежал между рядами колючих кустов, по острому гравию, не гладя по сторонам, уже почти не веря в благополучный исход. И вдруг увидел дом, несколько освещенных окон, какие-то фигуры в полуоткрытых дверях балкона. Сил будто прибавилось, с языка уже готово было сорваться: «Я — Джакомо Казанова, благородный кавалер, да не смутят вас мой наряд и обстоятельства…» — но тут внезапный порыв морозного ветра, словно поджидавшего минуты, когда к нему вернется надежда, пронизал его насквозь, и он захлебнулся сухим, раздирающим горло кашлем.
Переведя дыхание, Казанова без колебаний устремился вперед, к свету, к теплу, к людям. Они примут его, должны принять. Спрячут, помогут выяснить это дикое недоразумение. Ведь его совесть чиста! Черт… Пьетро, его Пьетро, он что здесь делает?.. Посреди комнаты наступило отрезвление, и по спине поползли мурашки — уже не от холода, а от ужаса: что за чудовищный сон во сне, кошмар в кошмаре… он попал в лапы тех, от кого бежал, это их рожи, искривленные яростью и презрительным торжеством, это они — страшные люди в мундирах и их главарь в штатском, и… из водопада волос, которые она невозмутимо расчесывала, чуть ли не кокетливо глянула женщина с певучим именем и прозрачной кожей. Дьявольщина!
— Я дворянин, господа, — прохрипел он в зловещей тишине, — и не позволю так с собой обращаться.
Скрипнули кожаные башмаки штатского. Пьетро, этот трус Пьетро, скрючился у стены. Коренастый блондин с выпученными глазами сделал шаг в его сторону.
— Никакой ты не дворянин, Казанова, — в руке у лупоглазого сверкнула обнаженная шпага, — взбесившийся жеребец, по которому узда плачет.
И молниеносным, точным движением шпаги сорвал остатки занавески. Казанова подскочил, обезумев от ярости, чуть не кинулся на него с голыми руками, голыми ногами, голой грудью и незащищенным горлом, но замер, с ужасом увидев нацеленное в пах острие.
— А может, просто шелудивый пес, которому надо отрезать яйца.
Пьетро, трус Пьетро поспешил ему на помощь, оттолкнулся от стены и, растопырив руки, бросился на жандармов, отшвырнул одного, другого… Третий, тощий и долговязый, с неожиданным для такого верзилы проворством, обнажил саблю и, размахнувшись, ударил с нечеловеческой силой. Пресвятая Богородица! Голова Пьетро как-то странно вывернулась, отделилась от шеи и, точно мяч, который Джакомо когда-то видел при английском дворе, покатилась под ноги расчесывающей волосы женщины.
Не успев понять, что произошло, он уже сжимал в объятиях — как недавно эту женщину, чье лицо сейчас исказилось от жуткого крика, — теплый, истекающий кровью труп.
Очнулся он в тревоге: не кричал ли сквозь сон. Похоже, нет — попутчики сидели спокойно. Старший, с виду купец, дремал, широко разинув рот. От него исходила какая-то непонятная, грозная и одновременно внушающая уважение, сила. Короткие мускулистые руки с крепко, будто звенья неразрывной цепи, сплетенными пальцами, открытый рот, с шумом и чавканьем всасывающий и с вулканической мощью выбрасывающий воздух. Такая пасть может заглотнуть, в мгновение ока разжевать и выплюнуть весь мир. Народ, у которого такие купцы, не пропадет, не то что наш, без тени зависти подумал Джакомо. Если он в самом деле купец. Если не кто-то совсем другой. Что ж, государство, имеющее таких филеров, тоже не пропадет.
Второй был гораздо моложе, хотя старался выглядеть и держаться солидно. Холодное, чуть презрительное выражение лица; каждая деталь одежды, каждый жест тщательно продуманы — типичная примета честолюбивых юнцов без гроша в кармане, мечтающих о блестящей карьере. Всю дорогу он помалкивал, занимаясь своими делами. Просматривал какие-то счета, на постоялых дворах быстро исчезал и даже обедал отдельно, у себя в комнате. Джакомо, в общем-то, был ему за такую сдержанность благодарен; он и сам в разговоры предпочитал не вступать, уяснив для себя после всего пережитого по крайней мере одно: здесь, в этой страшной стране, никому и ни в чем нельзя доверять. От пытавшегося втянуть его в беседу купца отделывался пустыми фразами, ел что давали, спал где придется, по сторонам не глазел, вопросов не задавал. Чем незаметнее он будет, тем лучше.
Но сейчас ему невмоготу было молчать, невмоготу было оставаться наедине с воспоминаниями. Глотку забила пыль; он откашлялся, но все равно сумел только невнятно прохрипеть:
— Далеко еще до границы?
Молодой человек словно ждал вопроса. Спокойно, не отрываясь от своих бумаг, произнес:
— Границу мы пересекли полчаса назад. Вы спали.
Джакомо понадобилось не меньше минуты, чтобы в это поверить. Выходит, они уже в Польше. Он с любопытством выглянул из оконца коляски — запыленного и грязного, как все вокруг. Даже солнцу не удавалось пробиться сквозь сплошную серость. Порыжелый папоротник, заболоченная, густо заросшая травой излучина, чуть подальше — стадо тощих овец. Ничего нового. Ничего необычного.
— А проверка паспортов?
Молодой человек поднял глаза, с едва заметным раздражением глянул на Казанову.
— Здесь граница закрыта только с одной стороны. Проверяют тех, кто въезжает в Россию. А кто выезжает… — пренебрежительно махнул рукой, — это решается в другом месте и в другое время. Опасности, во всяком случае, следует ждать оттуда, а не от нас.
— О какой опасности вы говорите?
Ничего интересного услышать он не рассчитывал, но надо было как-то поддержать едва завязавшийся разговор. Граница позади, теперь он сам себе господин, может делать все, что заблагорассудится. Даже вести скучную беседу.
— Малые народы подобны недугу. — Юнец заметно оживился, скривил губы в презрительной усмешке. — Норовят ударить исподтишка. Засылают своих купцов, эмиссаров, мутят чернь. Императорскую власть уважать не желают.
Джакомо посмотрел молокососу прямо в глаза, чего уже давно не делал и — как ему в последнее время казалось — никогда делать не будет. Шпик или дурак? В удивительно светлых глазах трудно было что-нибудь прочитать. Вероятно, и то и другое.
— Вы поляк?
Молодой человек нервно заерзал на сиденье, словно далеко не первый ответ на этот вопрос должен был чем-то отличаться от предыдущих; кровь ударила ему в лицо, залила щеки темным румянцем.
— Нет. А почему вы спрашиваете? Я — подданный ее величества императрицы российской. Имею такую честь.
«Шпик по профессии, дурак от природы, — с неприязнью подумал Казанова. — И вдобавок враль.
На ночлег остановились в небольшом литовском местечке. Стайки босоногих оборванных ребятишек, полуразвалившиеся дома, бородатые евреи, шумно обсуждающие перед постоялым двором свои дела. Здесь Казанова особенно остро почувствовал себя чужим — пожалуй, еще острее, чем там, откуда приехал. В конце концов, страшных русских мужиков он видел лишь из окна коляски, а служанки на почтовых станциях, рослые сметливые девахи, мало чем отличались от тосканских или баварских крестьянок, охочих и до крепких шуточек, и до любовных забав. Ощущения близости знакомых краев не появилось. Дрезден, Париж, родная Венеция по-прежнему были очень далеко. Здесь можно было усомниться в их реальности; впрочем, в этом захолустье все вызывало сомнения и уж тем более существование прекрасных богатых городов, дворцов, заполненных яркой толпой улиц: где-то за тридевять земель, в другом мире, возможно — тут Джакомо почувствовал ледяной укол в сердце, — нигде.
На постоялом дворе он, подобно неразговорчивому юнцу, заперся в отведенной ему комнате и пролежал, погрузившись в чуткую, без сновидений, дремоту, до вечера. Позвонил, чтобы принесли ужин, потом крикнул в сумрачное жерло коридора, но никто не отозвался. Пришлось самому сойти вниз.
На лестнице он немного постоял, колеблясь. Может, лучше вернуться, может быть, каждый шаг, каждая поскрипывающая под ногами ступенька приближает его к очередной опасности, затаившейся там, внизу. Зачем искушать судьбу — не благоразумнее ли спрятаться, подождать до утра?
В столовую Джакомо вошел с неприятным чувством досады: видать, стареет, начинает бояться того, что еще недавно вызывало лишь дрожь возбуждения, — будь то неожиданность, приключение или даже опасность.
За одним из столов он увидел своего пожилого попутчика, но, хотя тот приветливо ему помахал, подзывая к себе, не принял приглашения. Рядом двое бородатых иностранцев беседовали по-немецки — тоже, наверно, купцы, кого еще занесет в такую глушь. Младший улыбнулся, указал место рядом с собой:
— Bitte[2].
О нет, никаких купцов. Вежливо поклонившись, сел за пустой стол у окна, заказал мясо и водку — особого выбора, впрочем, и не было. Местное пиво он пить не рисковал, а к водке успел привыкнуть. Можно снести даже ее мерзкий запах, чтобы насладиться вспыхивающим в теле огнем.
Тогда давно — как давно? — далеко отсюда — далеко ли? — первый глоток обжег язык, второй, поглубже, распалил огонь под ребрами, третий разбудил скованные холодом пальцы. Крепко обхватив кружку, он выпил все до дна. Зазвонили колокола, закричали вспугнутые набатом птицы. Двенадцать. Мир вернулся во всей своей унылой реальности: щербатая кружка, заскорузлые от грязи пальцы; потеки на стенах, в углу куча полуистлевшей соломы, застланной обрывком занавески, в которую он закутался, убегая; вот каков теперь был его мир. Сколько он тут находится? Который уже день слышит колокольный звон и пронзительный крик воронья? Не помнит, не знает. Этот кудлатый монах мог бы, наверно, сказать, но молчит как рыба. Неделю? Месяц? От холода и голода сознание помутилось, пропало чувство времени. Его, почти голого, втолкнули в какую-то клетку и заперли дверь на засов. Вот все, что он помнил. Потом был хаос — мыслей и незнакомых ощущений. Он заново познал каждый уголок своего тела, каждый участок кожи — пока сидел, скрючившись, спасаясь от морозного воздуха, сползающего ночью со стен. Никто к нему не заглядывал, если не считать угрюмого монаха, приносившего — один раз на рассвете, второй раз в сумерках, в точном согласии со строгими правилами загадочного и изнурительного поста, — кусок хлеба и кружку воды. О нем забыли, в минуты просветления со страхом думал Казанова, продержат в этой вонючей конуре до самой смерти. За что? Из-за какой-то безмозглой шлюхи. У него были сотни куда лучше, чем она. Ради некоторых даже стоило немного помучиться — не так, конечно. А уж эта…
Он настолько ослабел, что не в силах был даже подползти к окну. И вдруг — кружка водки. Варварство, конечно, но и обещание перемен. Теперь его наконец выпустят. Выпустят и извинятся. Выплатят компенсацию. Никакие деньги не помогут забыть пережитое, поэтому скромничать он не станет. Да и царица славится своей щедростью, пусть только узнает правду — а она узнает, уж об этом он позаботится, успешнее, чем в первый раз.
Но если… Кружка с грохотом покатилась по полу. Если все совсем не так, как он думает. Если… Кажется, приговоренным к смерти дают напоследок выпить водки. Леденящий душу страх заставил Джакомо приподняться, схватить монаха за широкий рукав рясы; под рясой было поддето что-то теплое, какие-то тряпки, и почему-то это привело его в ярость.
Перед ним был один из тех, кто уготовил ему такую жалкую участь: негодяй, мучитель, палач. Встав на колени и выпрямившись, Казанова с усилием прохрипел монаху прямо в лицо:
— Нет в твоем сердце Бога! Почему ты молчишь? Что вы собираетесь со мной сделать?
Монах отечески положил руку ему на голову и открыл рот, из которого вырвался ужасающий клекот. На месте языка была темная, будто поросшая плесенью култышка.
Бородатый корчмарь наклонился к нему и пробормотал что-то на ломаном французском. Такая фамильярность его возмутила.
— Чего тебе?
Ответ нетрудно было угадать, поглядев на недвусмысленную ухмылку старика.
— Девочки, вельможный пан. Не желаете? Это лучше, чем водка.
— У вас тут есть женщины?
Ухмылка превратилась в улыбку, а фамильярность — в заботливое участие.
— Первый сорт. Такие, что еще никогда. В первый раз.
Теперь уж и Казанова улыбнулся. Этот рефрен можно услышать в каждом борделе, в любом уголке Европы. Итак, мы в Европе. По совести говоря, ему никто не был нужен — ни девственница, ни шлюха, — но какой-то безрассудный страх помешал отказаться. Может, не стоит сегодня ночью быть одному. Пускай хоть толстая деваха с красными ногами и огрубевшими от работы в поле руками залезет в постель. Лучше это, чем холод одиночества.
— Хорошо. Пришли какую-нибудь. Попозже.
Он проговорил это торопливо: его внимание уже было занято другим. За соседним столом, где сидели мужчины, одетые по местной моде — Джакомо еще не научился различать, по-мужицки или по-барски, — на которых он лишь изредка мельком посматривал, вдруг что-то странным образом изменилось. Пока он ел, пил и с тупым отвращением гадал, что его ждет в пути, ничего интересного там не происходило: тарелки передавались из рук в руки, сотрапезники громко переговаривались — как за любым другим столиком. Но внезапно вся посуда перекочевала в один угол, а мужчины замерли, неотрывно, словно в ожидании чуда, глядя на неоструганные доски столешницы. Лишь через минуту Казанова понял, что уставились они не на стол, а на вытянутые над ним и словно бы что-то обхватывающие руки безусого юнца, совсем еще мальчика. Поражало его лицо — напряженное, даже страдальческое, с каплями пота на висках. Он тяжело дышал, будто боролся с невидимым противником.
Казанова хотел уже отвернуться — слишком надолго затянулась эта пантомима, должно быть, какие-то сектанты, самых ярых представителей которых, проповедующих якобы единственно истинную веру, можно встретить в этой части света, — как вдруг заметил, что ладони подростка медленно раздвигаются. Один за другим, словно преодолевая огромное сопротивление, пальцы оторвались друг от друга, а в образовавшемся промежутке, не касаясь человеческого тела, повисла блестящая монетка. Над столом, между растопыренными пальцами, — о диво! — застыл медный грош.
Джакомо искренне обрадовался: давненько ему не случалось пополнять свою коллекцию чудес. Последним был карлик Гвен, лилипут с не меньшей, чем у него, мужской принадлежностью, которого, отправляясь в путешествие, пришлось оставить при берлинском дворе. Поначалу, глядя на мужчин за соседним столом, он решил, что это шулеры, препирающиеся из-за дележа добычи, однако теперь почувствовал, что обманом тут и не пахнет, а даже если это и жульничество, то виртуозное, которое дорого стоит.
Уже почти не сомневаясь, что тоскливую монотонность путешествия нарушило нечто действительно интересное, Казанова встал, чтобы получше разглядеть чудесную монету, но в эту минуту воздух в комнате сотрясся от грохота и из окна посыпались стекла. Загремели выстрелы: один, второй, третий; близко, совсем рядом, захлопали торопливо закрываемые ставни, раздались крики, кто-то ломился в дверь. Монета покатилась по столу, мужчины вскочили. Подросток какое-то мгновение еще стоял в летаргическом оцепенении, но через секунду в руке у него, как и у прочих, оказался пистолет с длинным дулом. В комнату ворвались двое вооруженных людей; один держался за окровавленное плечо.
— Жандармы!
И бросились к своим, едва не опрокинув толстого купца. Джакомо упал на пол: не хватало еще в этой поганой дыре схлопотать случайную пулю. Зря он не послушался внутреннего голоса: надо было дожидаться рассвета наверху. Однако и в этом через минуту усомнился: сверху послышался стук переворачиваемой мебели и топот подкованных сапог. Мужчины в столовой наугад палили по окнам, дым заволакивал углы, щипал глаза. За спиной у Казановы кто-то зашевелился; обернувшись, чтобы не дать застигнуть себя врасплох, он увидел подростка, дулом пистолета выковыривающего что-то из щели в полу. Монета, та самая чудесная монета. И вот она уже у мальчика в руке; обтерев от пыли, он молниеносно засунул ее в рот.
Над головами грохнуло, с потолка полетели щепки; еще немного, и нападающие, кто бы они ни были — жандармы или дьяволы во плоти, — просунут в окна дула своих винтовок и перестреляют всех, как уток, со страхом подумал Казанова: бежать было некуда — и со стороны лестницы доносилась пальба. Хорошо б хоть узнать, за что погибаешь, но похоже, провидение намерено отказать ему в этой милости. Внезапно все стихло, выстрелы прекратились, даже стоны раненых и причитания корчмаря на секунду смолкли.
— Выходить!
Рядом учащенно, прерывисто дышал подросток. Джакомо краем глаза заметил, что он возится с пистолетом, напрягся, готовясь совершить отчаянный поступок. Однако не сопротивлялся, когда Казанова отнял у него пистолет и отшвырнул далеко к стене.
Предзакатное солнце, багряное и грозное, светило прямо в глаза, когда их выводили из корчмы во двор. Все произошло столь внезапно и быстро, что лишь сейчас на смену страху пришло удивление. Откуда тут русские жандармы? Ведь граница давно осталась позади.
Солдаты — человек десять или пятнадцать, уже в зимних просторных шинелях и меховых папахах, возбужденные перестрелкой и победой, — стояли, направив штыки на выходящих. Один, раскосый, придерживал окровавленную руку. За их спинами, у трухлявого забора, лошади, куда более спокойные, чем люди, пощипывали бурьян. Вокруг царило пугающее молчание, будто все понимали, что никакие слова не нужны, будто гром выстрелов, отголоски схватки, стоны раненых и треск разбиваемой мебели принадлежали уже далекому прошлому, а настоящим управляла жестокая, мстительная тишина, за минуту до приведения в исполнение приговора объединяющая побежденных и победителей. Даже немецкие купцы переступили порог без единого слова.
Подросток шел рядом с Джакомо, низко опустив голову, избегая торжествующих взглядов солдат.
— Кто стрелял?
Возле овина спокойно покуривал сигару молодой щеголеватый офицер, внимательно оглядывая каждого, кто выходил из корчмы. Пожилой купец что-то ему сказал, но офицер жестом приказал ему отойти. Подозвав одного из задержанных — мужчину в грубой кожаной куртке, — он повторил вопрос, замахнулся. Мужчина, согнувшись пополам, повалился на колени у его ног. И тут застывшая посреди двора кучка людей рассыпалась, точно от мощного толчка. Кто-то, убегая, чуть не сбил Казанову с ног; чтобы не упасть, он вцепился в подростка. То, что случилось в следующую секунду, заставило его крепче сжать пальцы: теперь он удерживал бешено вырывающегося паренька, а не держался за него. Из смешавшихся рядов внезапно выскочили трое мужчин. Двое успели подбежать к лошадям, третий с проткнутою штыком глоткой упал в крапиву. Выстрелы грянули, когда беглецы были уже на конях. Младший, совсем еще мальчишка, с душераздирающим криком скрючился в седле и обмяк, как тряпичная кукла. Старший, в разорванной белой рубахе, смял шеренгу солдат, опрокинув двоих, стоявших поблизости, резко, будто перед барьером, пришпорил лошадь и, привстав в стременах, красивый и страшный, поскакал вперед.
Его догнали две пули — на рубашке расцвели два кровавых пятна. Судорожно выпрямившись и раскинув руки, он грянулся навзничь на спину коня. Испуганного сивку уже ничто не могло остановить: тяжелым галопом он понес в проулок между домов бессильно свисающее с седла тело.
Мальчик перестал вырываться, но Казанова не ослаблял хватки, чувствуя, как худенькое тело сотрясается от отчаянных беззвучных рыданий. Сам он был близок к помешательству. Зажмурился — лишь бы не видеть, что разъяренные солдаты делают с трупами. И что теперь сделают с ними. Боже, подумал, отсеки от неправедности мира мои грехи, не дай им смешаться с этой кровавой мерзостью. Тогда я готов погибнуть — как те. Лучше умереть, чем жить в таком мире.
Мальчик зарыдал в голос, и это отрезвило Джакомо. Отпустив его и одернув сюртук, он шагнул вперед. Одновременно все пришло в движение: немецкие купцы заговорщически зашептались, остальные засуетились, выстроились в ряд, поправляя одежду, приглаживая волосы, словно от этого зависела их жизнь. Хотя, может, и зависела, как знать. Солдаты с винтовками наперевес возвращались.
Офицер — бледный, явно напуганный произошедшим — вертел в руке шпагу, которую не успел пустить в ход. Вот сейчас, пора!
— Господин поручик, — спокойно, словно обращаясь к партнеру за карточным столом, сказал Казанова, — я — кавалер де Сенгальт, гражданин Венеции, по поручению полковника Астафьева направляюсь в Варшаву.
Офицер поднял на него водянистые безжизненные глаза:
— Знаю.
Надо рискнуть, другого выхода нет.
— Что здесь, собственно, происходит?
Офицер, кажется, заколебался; возможно, сейчас решается судьба — его, Казановы, и всех остальных.
— Бунтовщики. Не дают нам покоя.
Шпага, однако, вернулась в ножны. Небрежный взмах руки — и распаленная легкой победой солдатня выстроилась в шеренгу: для экзекуции.
— Со мной еще слуга.
Офицер кивнул. Можно идти, их никто не держит. Казанова обернулся, но мальчика на прежнем месте не было. Еще минуту назад совершенно потерянный, он, точно обретя недюжинную силу, огромными скачками пересекал двор, лавируя между солдатами. Грянул одинокий выстрел, но маленький чудотворец уже достиг спасительной ограды, перемахнул через нее и мгновенно — кажется, ко всеобщему облегчению — скрылся в кустах.
Офицер иронически скривил губы:
— Сами видите, что это за сволочи.
Астафьев… Казанову ошеломила роскошь помещения, в котором он впервые услышал эту фамилию. Никакого сравнения с Мрачной и грязной конурой, куда его время от времени таскали, чтобы бестолково расспрашивать о разных вещах, не отвечая на его вопросы и не обращая внимания на протесты. На полу толстый, во весь пол, красный ковер, невольно вызывающий сравнение с огромной лужей запекшейся крови. Подумав так, Джакомо содрогнулся, но тут же сообразил, что на это его мучители и рассчитывали. Лишь бы его запугать, побольней уколоть, унизить. Это просто новое издевательство: иначе зачем было вызывать сюда, в эту шикарную комнату, грязного, голодного, оборванного узника. Он всегда заботился о своей внешности и — хотя понимал, что это довольно глупо, — почувствовал ненависть к двум сидящим за столом офицерам прежде всего потому, что они заставили его прийти в полуистлевших от сырости лохмотьях. Руки у него были скованы за спиной, так что даже привести себя в порядок он не мог.
— Я — поэт и философ, — начал он, стараясь, чтобы вдруг ослабевший голос звучал более-менее твердо. Похоже, они своего добились: ему было страшно, по-настоящему страшно. Но молчать нельзя.
— Я — гражданин иностранного государства и требую свидания со своим консулом.
— Заткнись, тебя пока не спрашивают. — Один из офицеров, помоложе, с грубым, изрытым оспинами лицом, привстал на стуле. — Понятно?
Старший, на первый взгляд недалекий и добродушный, остановил его жестом:
— Не горячитесь, господа, все можно обсудить спокойно. Прежде всего, позвольте представиться. Я — полковник Астафьев, а это капитан Куц, я бы сказал, моя правая рука, если б своей несдержанностью он не доставлял мне порой немало хлопот. Ну а вы?
— Что — я?
— Может, и вы представитесь?
Нетрудно было понять, что это хорошо продуманная игра, что под кажущейся любезностью таится насмешка, однако спокойное лицо Астафьева вселяло смутную надежу. И Джакомо призвал на помощь все свое мужество и самообладание.
— Произошла чудовищная ошибка. Я буду жаловаться государыне императрице.
Куц, если б мог, убил бы его на месте: Астафьев только усмехнулся.
— Не знаю, представится ли вам возможность. Вы обвиняетесь в оскорблении чести ее величества — так у нас рассматривается насилие над придворной дамой.
— Это ложь. Абсурд.
— Есть и другие обвинения. — Астафьев сделал вид, будто заглядывает в лежащие на столе бумаги. — Например, сопротивление представителям власти.
— На меня напали.
— Подготовка политических покушений.
Необходимо взять себя в руки, и немедленно. Они ведь хотят, обрушив на него ворох диких, нелепейших обвинений, вывести его из равновесия. И, подавив жалобные слова протеста, Джакомо произнес негромко, но решительно:
— Неправда.
Из-под добродушной маски вдруг сверкнул волчий глаз: Астафьев глянул испытующе, помолчал, будто раздумывая, какую избрать тактику, однако вернулся к прежней:
— Разве я говорю, что это правда? Мы с вами тут для того и сидим, чтобы разобраться. Но если вы будете все отрицать, ни к чему не придем. Верно?
— Да.
— Ну, видите. Одно-единственное «да» убедит нас скорее, чем тысяча «нет». — Он поднялся с неожиданной для грузного человека легкостью. — Я вас оставляю, господа. К сожалению, господин Казанова, у меня и без вас много хлопот.
Капитан, пока Астафьев не ушел, не произнес ни слова. Удобно развалился на стуле, поковырял ногтем в зубе, отодвинул бумаги.
— Ну-ка, покажи своего насильника. Свидетели рассказывают о нем чудеса.
Казанова невольно вздохнул. Краем глаза он заметил, что на пороге появились двое рослых солдат. Будут бить?
— Это ниже моего достоинства. Клянусь.
Куц издевательски засмеялся:
— Вытаскивай, не клянись.
Будто лишь сейчас заметив, что у Джакомо скованы руки, он коротким жестом подозвал солдат — так отдают команды хорошо выдрессированным собакам. Один обхватил Казанову, второй принялся стаскивать панталоны. Джакомо был настолько слаб, что солдаты, вероятно, и не почувствовали его сопротивления. Слов, приличествующих случаю, он не знал — пришлось воспользоваться их лексиконом. И он разразился проклятиями, смысла которых не понимал, но которые привык слышать от своих тюремщиков. Капитан Куц в ярости выскочил из-за стола.
— Эй, полегче, еще одно слово — и ты пожалеешь!
Приблизился, обдал Казанову нечистым дыханием:
— О матушке я готов поговорить, только о твоей.
— Ее императорскому величеству…
— Молчать!
— …обо всем станет известно!
Офицер, сообразив, что оскорбления не касаются коронованной особы, остыл и язвительно усмехнулся:
— Не воображай о себе слишком много. Не такой уж ты особенный. А может, я ошибаюсь?
Солдат, возившийся с его панталонами, дернул в последний раз; то, что должно было упасть, упало, а что должно было появиться — появилось. Капитан помрачнел.
— Н-да, пожалуй, ошибаюсь. Отпустите его.
Солдаты неуклюже, цепляясь сапогами за край ковра, отскочили, оставив его со спущенными штанами и скованными руками, с трудом удерживающего равновесие, молящего Бога только об одном: чтобы его дружок правильно оценил обстановку и не вздумал продемонстрировать свои возможности. Куц, окончательно успокоившись, неторопливо вернулся за стол.
— А ты знаешь, что мы можем сделать с таким особенным? С такой принадлежностью? — И рывком выдвинул ящик письменного стола. — Видишь это?
Ненормальный, подумал Казанова с отчаянием, он в руках безумца.
— Ящик. На вид просто ящик. У нас тут особо не развернешься. Горы, говорят, низкие, море мелкое, шлюхи никудышные, и с деньгами туго. Но стоит оглядеться — обязательно найдется что-нибудь, годящееся в дело. Взять хотя бы ящик. Вроде обыкновенный, а если подумать не совсем. Видишь — в него можно засунуть даже кое-что необыкновенное.
И внезапно с треском захлопнул ящик. Казанова согнулся в три погибели, словно его скрутила настоящая боль. Господи, что они хотят с ним сделать?
— Теперь понимаешь? Хорошо бы, понял.
«Я его убью, — подумал Казанова, — пусть только освободят руки. Задушу мерзавца, проломлю башку стулом. Мерин, болван щербатый, червяк, которого и раздавить противно. А потом… потом будь что будет».
— Что от меня требуется? — негромко вырвалось у него вместо вертевшихся на языке заряженных ненавистью слов.
Куц удовлетворенно откинулся на спинку стула: теперь он знал, с кем имеет дело.
— Так уже лучше. А вопросы здесь задаем мы.
Насладившись унижением Казановы, он вдруг рявкнул на солдат:
— Приведите его в порядок! Быстро! Вы что, в борделе служите, вашу мать…
Лапа — грязная, провонявшая махоркой и ружейной смазкой — схватила его дружка, которого ласкали самые нежные уста и руки Европы, и запихнула внутрь некогда элегантных панталон.
Куц не стал дожидаться, пока они закончат:
— Фамилия?
Знакомая игра; это даже неплохо: по крайней мере, можно говорить правду.
— Джакомо Казанова.
— Дальше!
— Родился в Венеции, второго апреля тысяча семьсот двадцать пятого года, отец — Гаэтано Джузеппе Джакомо, мать — Джанетта Фаруси.
— Дальше!
— Я — поэт и философ.
— Да? Что-то не верится; у поэта и философа не должно быть столько грехов на совести. Если у него вообще есть совесть.
«У тебя уж точно нету», — безо всякого удовлетворения подумал Казанова.
— Эта женщина заманила меня в ловушку. Не понимаю только зачем.
— Какая женщина?
— Та, в чьем доме меня схватили.
— Фамилия?
— Не знаю, это скорее у вас нужно спросить.
Куц грохнул кулаком по столу:
— Твоя, болван.
— Казанова. Джованни Джакомо.
Одно дело — знать игру, а другое — играть по принуждению. Жгучий стыд волной подкатил к горлу.
— Кто тебя сюда прислал?
— Никто. Я путешествую ради удовольствия. И ради науки.
— Врешь. Ты прусский и французский, шпион.
«А ты — черномазый китаец». Но вслух ничего не сказал, нарушил правила этой игры с неравными силами. Куц, побагровев от бешенства, вылупил свои коровьи, не подходящие к угрюмой физиономии глаза.
— Отвечать!
— Ничей я не шпион. Я — поэт и философ. Кроме того, занимаюсь математикой и астрономией, а также практическими проблемами прикладного характера.
— Да? Но в первый раз тебя задержали в дворцовом парке. И какие же практические проблемы ты там решал?
Минуту назад оледеневший от страха, Джакомо мгновенно оттаял. Вот оно что, вот чем он навлек на себя подозрения! Теперь понятно, откуда взялось неприятное ощущение, будто он уже где-то встречал своего мучителя. Солнечное морозное утро. С манускриптом — единственным достойным внимания плодом пустых петербургских недель, — с манускриптом, полным собственных и чужих идей по оздоровлению мира, он нервно кружил по аллеям парка. И дождался: узнал в женщине, окруженной свитой офицеров в парадных мундирах — хороводом разряженных золотом и серебром петухов, — царицу Екатерину. Она была ниже ростом и полнее, чем он себе представлял. Но ведь особа, занимающаяся преобразованием мира, и не должна походить на ангела. Достаточно им быть.
Когда он, набравшись решимости, быстро направился в их сторону, от свиты царицы отделились двое рослых мужчин. Они спокойно шагали ему навстречу, казалось нисколько им не интересуясь. И лишь когда с ним поравнялись, выяснилось, что это не так. Сильные руки схватили его под мышки, приподняли, повернули и, то подталкивая, то волоча, затащили в густой кустарник. Тогда он и увидел человека со злым лицом и коровьими глазами. И теперь знает, с кем его уже однажды свела судьба.
Да, это капитан Куц в темном гражданском платье стоял в кустах, слегка покачиваясь и ковыряя спичкой в зубах. С привычной скукой выслушал доклад тех двоих, приказал его обыскать и пренебрежительно махнул рукой. Пусть убирается, да поскорее. Манускрипт разорвал на четыре части. «Чтобы я тебя здесь больше не видел». Все.
— Могло быть хуже, — буркнул Куц, видимо недовольный своей ролью в той истории: возможно, неправильно себя повел, не проявил достаточной бдительности; лучше к этому не возвращаться. И поспешил переменить тему. — Что тут у нас еще? — притворился, будто изучает документы. — Ах да: планирование побега из тюрьмы и попытка бегства.
— Не понимаю, о чем вы.
— Ты что, об этом не думал? Такой тертый калач… никогда не поверю.
— А вы бы не думали?
Ошибка. Джакомо осознал свой промах, едва открыл рот, но тщеславное желание показать, что его голыми руками не возьмешь, заставило забыть об осмотрительности.
— Я? Упаси Бог! — Куц громко расхохотался, но тут же посерьезнел. На лице у него появилось какое-то новое, хитрое выражение. Похоже, приготовился к очередной атаке. — Видите ли, господин Казанова или как вас там на самом деле зовут, мы рассматриваем человека целиком, не отделяя мыслей от поступков. Согласитесь: преступному действию всегда предшествует преступное намерение, то есть мысль. Логично, правда? Почему же надо карать только за результаты, а не искоренять причины? Преступные мысли — прошу обратить внимание на эти мудрые слова, — преступные мысли заслуживают наказания в не меньшей степени, чем их противозаконные последствия. Мы поняли друг друга?
— Нет.
— Нет? Жаль, Придется повторить. Мысль о побеге, в чем вы фактически признались…
— Я ни в чем не признаюсь.
Кипя от возмущения, Джакомо подался вперед, бдительные солдаты кинулись к нему, но Куц остановил их движением руки.
— Нет уж, давай придерживаться фактов. Мысль о побеге de facto — не что иное, как попытка убежать. А это уже серьезно. Серьезно и небезопасно. Взять хотя бы твоего слугу.
— Я ни в чем не признаюсь и требую свидания с консулом моей страны.
Куц старался скрыть разочарование, однако ярость прорывалась сквозь каждое его слово.
— Вздор. Заладил одно и то же. Консула ему подавай! Хочешь, чтобы он тебе припомнил, как несколько лет назад ты, точно крыса, удирал из венецианской тюрьмы и до сих пор находишься в розыске?
— Я хочу увидеться с консулом, — отчеканил Джакомо. Необходимо твердо держаться одной линии, иначе они задурят ему голову недомолвками и своей дьявольской казуистикой.
Куц уже овладел собой.
— А впрочем, почему бы и нет, — сказал он с усмешкой, заранее уверенный в ошеломительном впечатлении, которое произведут его слова. — Предположим, он перед тобой.
Джакомо отвел глаза. Паяц. Не заслуживает, чтоб на него смотрели.
— Что, думаешь, невозможно? Очень даже возможно. Мир не стоит на месте. Представь на минутку: в один прекрасный день ваша гордая, но, увы, довольно маленькая страна с Божьей и людской помощью становится нашей. Ведь и не такое можно вообразить, верно? И тогда… кто знает? Может, я заслужу звание консула. Твоего консула. А если это уже произошло? Много ли мы, запертые в четырех стенах, знаем о том, что творится на свете? Надеюсь, ты понимаешь, что тогда я буду вынужден относиться к тебе менее снисходительно? Побег из нашей тюрьмы…
— Попрошу так не шутить.
— Коли страна наша, то и ты наш, и тюрьмы, и даже преступления. То есть преступления, конечно, ваши. Но суды наши. Логично, а?
Молчать, не отвечать, не давать повода для торжества. Но именно это оказалось Казанове не под силу. Хватило нескольких недель вынужденного уединения, чтобы он превратился в болтуна.
— В цивилизованном мире ни один закон не имеет обратной силы.
Куцу только это и нужно было. Встав, он прошелся взад-вперед, еще раз оценивающе оглядел Казанову.
— Вот, вот — ваш цивилизованный мир. Римские прописные истины, высокие понятия о чести, о моральных ценностях, вся эта трепотня о правах человека. Чешете без умолку языком — да у вас яйца от этого отвалились. Ну, может, про тебя такого не скажешь. Человек, отдельно взятый человек, — ничто, нуль, мусор. Палец, которым в лучшем случае можно поковырять в носу. А если правильно сложить пять пальцев… видишь, что получается?
Он сунул, под нос Казанове кулак.
— Кулак, вот что! В кулак надо людишек! Всех до единого! Тогда можно говорить о настоящей цивилизации. Тут только сила нужна, а не римские истины. А как ты, собственно, убежал?
Казанова вздрогнул, сам не зная от чего — то ли от холода, то ли от страха. В вопросе таилась какая-то подковырка — что им до событий десятилетней давности? Ни молчать, ни говорить не хотелось, и он, кашлянув, пробормотал:
— Из Дворца дожей? По крыше.
Куц еще сильнее сжал пальцы. Кулак налился кровью, но капитан его не убирал.
— Громче. Здесь не исповедальня, а я не поп.
Сил держать фасон уже не осталось. Джакомо чувствовал, что вот-вот сломается. Как десять лет назад в Венеции, когда едва не обезумел от одиночества. Но тогда он убежал, а сейчас?
— Господа, чего вы от меня хотите?
Лицо Куца было непроницаемо.
— Ты что, оглох? Рассказывай, как убежал из тюрьмы.
Жандармы уехали, побросав на крестьянский воз тела убитых и забрав с собой связанного мужчину в кожаной куртке. Один Казанова проводил их взглядом — остальные, крадучись, поспешили вернуться в корчму. Купцы снова принялись пить и есть, подбадривая себя громкими возгласами. Джакомо о еде и думать не мог. Поднявшись в комнату, он с облегчением закрыл за собою дверь. Теперь, пообещал себе, до утра никакая сила его отсюда не вытащит. Зря он не поверил своему предчувствию: не следовало спускаться вниз, можно было подождать в постели, пока утихнет пальба.
Хотя… Труп, обнаруженный именно наверху, в коридоре, — убитый, вероятно, случайной пулей глупый юнец, тащившийся за ним от самого Петербурга, молчаливый шпик, замертво упавший возле собственной двери, которую неосмотрительно приоткрыл, подстрекаемый скорее всего любопытством, — доказывал как раз обратное. Он-то уцелел, хотя и пережил все это: стрельбу, смерть попытавшихся убежать мужчин, издевательства над остальными, страх за себя и за странного паренька, сейчас, возможно, прячущегося где-нибудь в капустном поле.
Надо было помочь этим людям (или даже спасти?), сославшись на полковника Астафьева, — пускай бы у него от одного воспоминания о полковнике и этом кошмарном капитане Куце разболелись голова и живот… Что ж, видно, так должно было быть. Его жизни суждено оборваться в другой раз и — смилуйся, Господи! — в другом месте. Только не здесь, не здесь.
Но что же все-таки произошло? Чего хотели эти несчастные, которых российские жандармы преследуют в их собственной стране? На бандитов они не походили. Впрочем, как знать… Разве он, к примеру, похож на шпиона? А эти немецкие купцы? Черт знает, кто они на самом деле.
«Ни в чем нельзя быть уверенным», — повалившись на хрустящий сенник, уныло подумал Джакомо, полный решимости не подниматься до самого отъезда.
Однако уже через мгновенье тревожная мысль заставила его вскочить. Если б маленькая порция свинца и ему, а не только тому юнцу продырявила мозг, тогда бы его — возможно, без издевательств, но, разумеется, безо всякого почтения — бросили в безымянную могилу у кладбищенской стены на краю даже не Европы — на краю света. И никто бы не узнал, кого прикрыл милосердный песок: ведь он путешествует инкогнито, а тот бедолага — едва ли не единственный, кто мог бы кое-что о нем рассказать, — гнил бы рядом, в соседней могиле. Нет, этого нельзя допустить. Ни за что. Все, кого он любил, ненавидел или даже просто встречал в своих странствиях, равно как и те, для кого был лишь героем передаваемых из уст в уста легенд, должны узнать, кто такой Джакомо Казанова на самом деле. Точно жертва кораблекрушения на необитаемом острове, он обязан сообщить о себе миру. Хоть бы и отсюда — из литовского местечка, затерявшегося на полпути между Петербургом и Варшавой.
Много лет он не мог на это решиться. Но сейчас, оставшись наедине с собой, пожалуй, еще более одинокий, чем в петербургской темнице, сейчас, когда даже приставленный к нему соглядатай с пулей в черепе отправился в свой рай, понял: пора! Вынул из сумки все необходимое, отточил перо и пододвинул к кровати колченогий стол.
«Пред лицом Всемогущего Господа и Пресвятой Девы, вдохновляемый — как и на протяжении всей прошлой жизни, смею полагать, — их благосклонностью, приступаю к описанию своих заслуг и провинностей, своих приключений — чудесных и, возможно, греховных, и да послужат мне в том память и совесть. Сорок лет, прожитые мною на этой земле…»
Минутку, задумался, нет, кажется, сорок один. Если хорошенько посчитать… Сделанное открытие его огорчило. Сорок один — немелодично звучит, некрасивая какая-то цифра. И вообще, долой высокопарно-унылый тон. Перечеркнул все, что написал. Надо по-другому.
«Люди немногое придумали для расправы с ближними. Сырые подземелья или раскаленные чердаки извечно служат единственной цели — лишить человека человеческого облика. Пишу со знанием дела: мне довелось побывать и там и там. Заточенный более десяти лет назад инквизиторами в венецианский Дворец дожей, метко прозванный Тюрьмой Под Свинцовой Крышей, по обвинению, дотоле мне неведомому, — нельзя же считать основанием для него книги «Лопатка Соломона», «Зекорбен», «Пикатрикс», которые глупцы почитают магическими, а умные — всего лишь забавными, — я вынужден был бежать с чудовищно жаркого чердака, спасаясь от печальной перспективы провести остаток дней в этом пекле».
Уже лучше. Но все равно не так. Начать надо, пожалуй, с начала, с момента ареста, с того страшного утра, когда палачи Великого Инквизитора обшаривали комнаты, он же тщательно и неторопливо мылся, брился, причесывался, а потом надел кружевную рубашку, белые чулки, лучший шелковый фрак, плащ и огромную шляпу с белым пером, точно отправлялся не в тюрьму, а на свадьбу. Много месяцев спустя, уже пробив дыру в потолке камеры, выломав свинцовые плиты крыши, выкарабкавшись наружу, с акробатической ловкостью пробравшись над пропастью Большого канала, одолев множество запоров и дверей, больно поранившись при выламывании последней двери, он остановился у подножия громадной дворцовой лестницы и, достав из предусмотрительно прихваченного с собой узелка одежду, облачил свое истерзанное тело в кружевную рубашку и шелковый фрак, натянул белые чулки и надел шляпу с белым пером. И в таком наряде переступил порог, отделяющий его от свободы. Не как узник, а как молодожен. Быть может, только чуть утомленный приготовлениями к свадебному торжеству.
Недовольный собой, Казанова поднялся из-за стола. Десять лет — это вечность. Что общего между ним тогдашним и ним сегодняшним? Разве что геморрой, который он приобрел за пятнадцать дней, в течение которых его желудок отказывался работать.
Тогда, в Петербурге, писалось куда лучше. После нескольких недель одиночества и темноты его наконец перевели в более приличную светлую камеру, и у него появился друг — лист бумаги, с которым он мог разговаривать, ссориться, делиться фантастическими идеями. Если его хотели сломить, если распоряжение Куца было злой шуткой, придуманной, чтобы вывести его из равновесия, — они просчитались. Он описывал свое бегство на разные лады и испытывал все большее удовлетворение. И хотя лишь в воображении заменял одну — реальную — тюрьму другой и Дворец дожей находился не в Петербурге, а в его родной Венеции, это путешествие во времени и пространстве обладало какой-то живительной мощью, помогало обрести утраченную веру в свои силы: ведь тогда ему удалось бежать. И он не торопился, растягивал удовольствие, возвращался к началу, добавлял новые подробности, утолщал потолок и утяжелял свинцовые плиты крыши, нагнетал напряжение и усугублял опасность, а когда уже приближался к последнему препятствию — дворцовой двери, начинал все заново, и так много раз, зная, что в конце этой истории его ждет величайшая награда — свобода.
В камеру зачастили посетители: офицеры и генералы, увешанные орденами, как ряженые на карнавальном параде. Они молча разглядывали его, будто зверя в клетке или приговоренного к смертной казни. Наконец, когда он в очередной раз балансировал над пропастью Canale Grande[3], пытаясь протащить в выломанное оконце спасительную лестницу, его вызвали к капитану Куцу.
На сей раз он был приведен не в дворцовую залу, а в комнату, очень похожую на камеру, разве что побольше размером и прилично обставленную.
Куц долго молчал, исподлобья его разглядывая. В глазах капитана Джакомо уловил что-то схожее с праздным любопытством разряженных манекенов в мундирах, насмехавшихся над его лохмотьями, патлами и всклокоченной бородой. Теперь, выбритому и одетому в чужую, слишком просторную, но опрятную одежду, ему было легче это сносить. И даже не важно, заговорит капитан или нет.
— Драться умеешь?
Куц не говорил, а рубил. Слова его резанули слух Казановы как свист палаша. Что ж, надо закрыться и нанести ответный удар.
— Умею. Если таковое уместно сказать человеку, одержавшему победу в тридцати поединках и лишь в трех раненному.
Выпад не произвел на Куца особого впечатления. Джакомо собрался его повторить, припомнить какие-нибудь смачные подробности — например, как он дрался сразу с двумя гасконцами и уложил их с маху одним ударом, однако капитан его опередил:
— Сейчас проверим.
Откуда у него в руках взялись две шпаги, только дьяволу известно. Одна была защищена металлическим наконечником. Эту шпагу Куц и протянул Казанове, но тут сообразил, что узник все еще скован. Подбежал солдат, громадный усатый детина, провонявший махоркой и сапожной ваксой, и через минуту Джакомо уже растирал онемевшие запястья и со злорадством представлял себе, как проучит этого офицеришку. Если его хотят спровоцировать — пожалуйста, он согласен; если подталкивают к самоубийству — он и на это готов, только сначала прикончит Куца, а там пускай кончают и с ним. Все лучше, чем медленно подыхать за решеткой. Джакомо взвесил на руке шпагу; металлический колпачок на конце лишал ее изящества и нарушал гармонию пропорций. С разочарованием провел пальцем по тупому лезвию.
— Это все равно что драть бабу через тряпочку. — Куц громко загоготал. — Не слишком приятно, хотя иногда необходимо. А за себя не бойся, — добавил уже без смеха, мизинцем пробуя острие своей шпаги. — Останешься цел.
Открылся, а за дурацкое оскорбление и не составит труда отплатить.
— Я не боюсь, — сказал Казанова, вкладывая в это «я» ровно столько язвительности и высокомерия, сколько требовалось, чтобы удар не просто достиг цели, но и был чрезвычайно изыскан. Подействовало: капитан потемнел лицом и, подскочив к узнику, нетерпеливо гаркнул:
— Готов?
Конечно; еще только подтянуть панталоны, пригладить волосы, перекреститься… нет, это лишнее, тюремщик может подумать, что он и вправду боится, достаточно легкого поклона — дань традиции, этой матери чести, — и…
— Готов.
— Давай.
Казанова неторопливо шагнул вперед; незачем сразу атаковать, для начала надо подразнить этого самоуверенного глупца. Шпаги скрестились — раз, второй. Куц спустил свою.
— Ну, смелей. Больше ничего не умеешь? Не пойму, ты бабу потрошишь или дерешься?
Сейчас увидишь, кого я распотрошу, сукин сын, мысленно выругался Казанова и стремительно бросился на противника. Двумя быстрыми выпадами он загнал Куца в угол и уже замахнулся, чтобы нанести свой коронный удар — точно рассчитанный укол в середину груди, конец острия попадает в шею, — но Куц яростно замахал руками, отгоняя солдата.
— Вон, скотина. Кто тебя просил?!
Верзила поднял ружье, собираясь ударить — только, видно, не знал, чем бить: штыком или прикладом, да и не был уверен, не ослышался ли; лишь повторное «вон!» и властный жест капитана заставили его отступить обратно к двери. Куц задыхался от бешенства, однако объясняться не стал — противник того не заслуживал.
— Продолжай.
Они снова схватились посреди комнаты. Казанова уже овладел собой, хладнокровнее рассчитывал силы. Позволил капитану припереть себя к стене, почувствовал его прокисшее дыхание на лице и боль в запястье — теперь уже не от наручников, а от рукоятки шпаги Куца. Резко оттолкнулся от стены, отбросил капитана с такой силой, что тот, зацепившись за кресло, ничком упал на пол. Опустил шпагу; ярость, душившая его минуту назад, схлынула. Не станет же он добивать лежачего. И без того ясно — победа за ним. Он удовлетворен — пускай даже сейчас это ровным счетом ничего не значит.
Но Куц не позволил ему насладиться победой; перекатился на спину, вытянул руку со шпагой:
— Ну! Продолжай!
Казанова, недоумевая, сделал было шаг вперед, но тут же попятился.
— Ну!
Ненормальный или любитель острых ощущений, мелькнула мысль, однако, заметив, как беспокойно переминается с ноги на ногу солдат у порога, Джакомо понял, что ошибается. Ни то ни другое. На подлость толкает, подловить хочет на бесчестном поступке, унизить, а то и прикончить. В порядке самозащиты — так это потом назовут. Верзила у двери только того и ждет. Нужно спутать их планы, обезоружить спокойствием и уравновешенностью. Расправил плечи, крепче сжал рукоятку все еще опущенной шпаги. Раз они не соблюдают правил, он будет строго их придерживаться. Благородством ответит на хамство. Выдержкой — на разнузданность. С хрустом суставов расправил плечи. Замер, вытянувшись во весь рост, насмешливо поглядывая на распростертую на полу нелепую фигуру одного из своих мучителей и топчущегося у порога другого.
— Это недостойно благородного человека, — произнес спокойно, уже уверенный: его взяла!
Куц язвительно рассмеялся:
— Благородного дурака! Пользоваться нужно такими ситуациями.
Казанова, стараясь не терять самообладания, приблизился к неторопливо поднимающемуся с пола офицеру, приставил к его горлу конец шпаги.
— Так?
Даже сквозь металлический колпачок чувствовалось, как пульсирует кровь противника; не будь этого предохранителя, они бы по-другому поговорили. Или вообще обошлись без слов. Капитан побагровел, однако не перестал усмехаться.
— Именно так, господин Казанова. Вы делаете успехи.
А ведь можно было во время схватки сорвать с острия нашлепку — это заняло бы долю секунды, не больше, — и тогда ему сейчас не пришлось бы смотреть, как этот спесивый хам хладнокровно отодвигает от себя его бессильное, тупое оружие. Если бы у него в руке была настоящая шпага…
И вдруг… Куц, будто угадав его мысли, с прежней усмешкой, которая, видно, казалась ему не язвительной, а загадочной, протянул Джакомо свою шпагу, сам же взял этот кастрированный железный прут.
— Позабавились — и довольно. Сейчас я тебе преподам урок.
Времени на размышления не оставалось. Встав в позицию, Казанова приготовился к неизбежному. Быть может, лишь теперь над ним нависла настоящая опасность: узник с обнаженной шпагой лицом к лицу с тюремщиком — ничего хорошего это не сулило, но что было делать… Не он устанавливает правила игры, а этот безумец, сейчас брюзгливо наставляющий солдата. Трус! Должно быть, втолковывает, когда пуле и штыку надлежит прийти на помощь шпаге. Но, едва он так подумал, стражник вышел, оставив их одних.
— Теперь берегись. Увидишь такое, чего, наверное, никогда не видел. Начинай.
— С удовольствием.
Он с трудом сдержал дрожь в голосе. Капитан отступил на шаг.
— На успех не рассчитывай. Я умею драться.
Еще два шага назад, и Куц коснулся спиной стены, широко расставил и согнул в коленях ноги. Шпагу он держал как-то странно, точно не колоть собирался, а бить плашмя. Казанова кинулся вперед, намереваясь ограничиться одним ударом. Увидеть страх в глазах противника — больше ему ничего не нужно. Не хочет он ни убивать, ни ранить. Пусть этот скотина убедится, кто из них дурак, будет в следующий раз знать, каково оскорблять честь дворянина.
Но удар не попал в цель. Капитан Куц — уже не капитан, уже не Куц, а исчадие ада — с пронзительным криком отскочил вбок, молниеносно повернулся и точно направленным пинком выбил шпагу у Казановы из рук. Теперь уже его оцепеневшей шеи касалась шпага дьявола, а лицо окатила волна пропахшего серой дыхания.
— Ну что? Понял? Мы здесь — не в пример вам в вашей говенной Европе — не только о том, как пожрать да пообжиматься, думаем. Мы, сам видишь, трудимся как муравьи, новых путей ищем, к соседям через забор заглядываем, учиться и у черта не зазорно, даже если он желтый. Мощь свою укрепляем, понял? Это великое дело, ради него ничем не жалко пожертвовать. Понимаешь, что я говорю, ты, венецианский козел?
Джакомо понял одно: при малейшей попытке оказать сопротивление ему каюк, этот безумец не задумавшись ткнет его в шею.
— Да, — через силу прохрипел он и закрыл глаза, чтобы не видеть торжества на лице капитана. Почувствовал какое-то движение: вот сейчас, через секунду все будет кончено. «Убийца, наверно, отвел руку, чтобы удобнее было размахнуться. Пресвятая Дева, не допусти…»
— Что здесь происходит?
Это не был голос Куца. С порога на них изумленно смотрел полковник Астафьев.
— Вы сошли с ума, капитан. Немедленно отпустите заключенного.
— Так точно.
Куц мгновенно преобразился: гордость победителя уступила место суетливому подобострастию. «Как шакал перед львом», — подумал Казанова, прислоняясь к стене, чтобы не упасть.
— Убрать это безобразие. Быстро.
Крикнули солдата, и тот бросился убирать, поднимать, расставлять по местам. Куц попросил разрешения уйти, на что полковник только махнул рукой: идите. Когда дверь за капитаном закрылась, деревянный табурет вернулся в угол, бумаги — на стол, а солдат — на свое место, полковник Астафьев удобно развалился в кресле.
— Надеюсь, с вами ничего не случилось.
В его словах прозвучало скорее утверждение, нежели вопрос, — нужно было быть глухим, а прежде всего глупцом, чтобы этого не услышать. Хотя кровь еще стучала в висках, а ненависть комом стояла в горле, Казанове ни тем ни другим выглядеть не хотелось.
— Ничего.
— Это хорошо, очень хорошо. Видите, с кем приходится работать. Фанатик. Утопист. Такие, как капитан Куц, рано или поздно создают угрозу порядку, за установление которого столь ревностно борются. Слишком многое норовят поставить с ног на голову. Мы здесь, как правило, или любим власть, или ее боимся. Либо любовь, либо страх, так есть и всегда было. А он хочет — поистине безумная идея! — чтобы власть любили из страха. Эдакое скрещение слона с мухой, грубо говоря. Но мы с вами обойдемся без грубых выражений. Почему вы не садитесь?
Казанова опасливо покосился на табурет, стоявший далеко от него, в углу. Астафьев кивнул солдату.
Джакомо опять заметил в глазах полковника волчий блеск; как и на первом допросе, инстинкт подсказал ему, что нужно держаться настороже.
— Ведь с вами дурно обошлись, применили насилие, верно?
Казанова с облегчением сел на твердый табурет:
— Я бы этого не сказал.
— Да или нет?
— Нет.
— Отлично. И никаких претензий к следствию не предъявляете?
— Произошло трагическое недоразумение. Меня обвиняют в поступках, которых я не совершал. Какое насилие?! Я познакомился с этой дамой задолго до того и — позволю себе польстить — в подобных методах нужды не испытывал.
Добродушная улыбка Астафьева требовала полностью ему довериться.
— Согласен, господин Казанова, но сейчас речь идет не о ваших методах, а о наших: моих ну и, скажем, капитана Куца. Против них вы ничего не имеете? В таком случае попрошу подписать это заявление.
Буквы перед глазами разбегались, как тараканы, налезали одна на другую. Смысл отдельных слов с трудом достигал сознания: заявляю, хорошее обращение, обязуюсь, тайна следствия, клянусь Всемогущим Богом. Казанова положил бумагу на стол. Садиться не стал — понимал, что с любезностями покончено.
— Я ничего не подпишу. Требую свидания с консулом моего государства.
Полковник уже не прикидывался благодушным — эта часть игры закончилась.
— Он ждет за дверью, — произнес с едва заметным раздражением и щелчком подтолкнул бумагу к Джакомо. — Ну, теперь подпишешь?
Венецианского сановника он представлял себе старикашкой, мумифицировавшимся на дипломатической службе, и не ошибся. Астафьева вскоре сменил иссохший старец, с трудом скрывающий желание закончить едва начавшуюся беседу.
— В сложившейся ситуации мы мало что можем для вас сделать, дорогой господин Казанова. Да и ваше положение на родине было, мягко говоря, весьма специфическим. Если не ошибаюсь, вас до сих пор разыскивают.
— Меня бросили в тюрьму незаконно. Обвинения не доказаны.
Разговор начался на венецианском диалекте, теперь же консул перешел на французский, будто затруднялся произносить слова на родном языке или хотел, чтобы его легче понимали те, что подслушивали под дверью.
— Сегодня, к сожалению, этого сказать нельзя. Вам, по крайней мере, известно, в чем вас обвиняют. Утешение, конечно, слабоватое, но, могу вас заверить, в России далеко не каждый этого удостаивается. Вам бы следовало хорошенько подумать, прежде чем пускаться в рискованные любовные авантюры.
Надо бы возражать, убеждать, спорить, но уже не было ни сил, ни охоты. Пусть оставят его в покое, отведут обратно в камеру: лежать на твердых нарах и то приятнее, чем беседовать с сановным соплеменником. И все же:
— Эта женщина, эта дама, — поспешно поправился Джакомо, — и не пыталась сопротивляться. Если вы понимаете, что я имею в виду.
— Стараюсь понять. — Консул иронически усмехнулся. — И в общем-то, у меня нет оснований сомневаться в правдивости ваших Слов. Но сейчас она утверждает нечто противоположное. Говорит, вы ее изнасиловали.
— Шлюха, лживая шлюха.
— Ко всему прочему эта женщина, эта дама — одна из фрейлин царицы, которым надлежит сохранять чистоту весталок, покуда императрица не выдает их замуж.
Казанова поперхнулся тяжелым, точно кашель, смехом:
— Вот это да — а я и не подозревал, что шворю весталку Впечатление было такое, будто до меня там уже побывал по меньшей мере кавалерийский полк. Если вы понимаете, что я имею в виду.
Старик медленно поднялся с кресла, взял шляпу и палку.
— Не уверен, убедителен ли этот аргумент. Я бы даже не советовал на него ссылаться. Как бы он не оказался в вашей жизни последним. У этой женщины, этой дамы, а вернее, барышни — весьма высокопоставленные покровители. И пятеро братьев, которые, боюсь, с вами не согласятся.
— Вы мне не поможете? — Джакомо уже остыл и старался трезво оценить ситуацию. Зря он понадеялся на консула. Рассчитывать можно только на себя.
Старик ответил не сразу. Но колебался он лишь мгновение. Здесь, в четырех стенах камеры, наедине с истощенным узником в полуистлевшей от сырости одежде, не было нужды маскировать правду уклончивыми речами опытного дипломата.
— Нет, не могу. Это повредило бы нашим интересам в Европе. А такого допустить нельзя. Ни в коем случае.
— Ни в коем случае? Это все, что мне может сказать посланник моего любезного отечества?
Джакомо вложил в этот вопрос весь сарказм и боль человека, попавшего в безвыходное положение, но голос его жалобно дрогнул. Старик был уже возле двери, обернулся; взгляд его, кажется, потеплел.
— Нашего маленького отечества, — добавил он и постучал, чтобы его выпустили. — А сказать я могу вам только одно. Положитесь на Бога.
Положиться на Бога? Он давно уже перестал рассчитывать на его поддержку. Уповая исключительно на благосклонность Всевышнего, не проживешь, и только человек, лишенный воображения, а быть может, и совести, сочтет эту истину кощунственной. Впервые Джакомо понял это однажды вечером в Тюрьме Под Свинцовой Крышей.
Он стоял на чердаке, куда его выпускали на ежедневную короткую прогулку, и неотрывно смотрел вверх, в оконце, за которым виднелся кусочек неба. Вечерело, но небесная синева казалась еще не замутненной. Свет, слишком слабый, как луч надежды, подогревал желание жить. Близкий к помешательству — иногда он это отчетливо сознавал — Джакомо всматривался в клочок свободы за окном, напряженно раздумывая, как отыскать к ней путь.
Внезапно толстая деревянная балка, на которую опиралась крыша, дрогнула, изогнулась вправо и тут же медленно, как бы пульсируя, начала выпрямляться, с кряхтеньем и стонами возвращаясь в прежнее положение. Поскольку одновременно и Казанову качнуло, он понял, что это не приступ безумия, а землетрясение. Значит, его мольбы услышаны. Он вырвется на свободу, проклятые стены его темницы падут. Пусть развалится эта обитель низости, пусть, как подстреленный на бегу человек, рухнет на площадь Святого Марка и рассыплется, превратится в груды щебня и фонтаны пыли. Он же, в худшем случае, погибнет под развалинами. Лучше смерть, чем такая жизнь без жизни.
Тюремщики, отпиравшие дверь его камеры, этой раскаленной солнцем клетки, куда ему предстояло вернуться, от страха замерли, прижавшись к стене, бормоча молитвы. Болваны, кому они осмеливаются молиться? И о чем просят Всевышнего? Чтобы он сохранил его узилище?
Когда толчок повторился, когда застонала свинцовая крыша, заскрипели стропила и заколыхался пол, Джакомо заорал во всю глотку, словно криком хотел усилить мощь удара:
— Еще раз, еще раз, великий Боже! Сильнее!
Тюремщики убежали, насмерть перепуганные внезапным помешательством мира, но грохот через минуту прекратился, и вместо свинцовых плит, обломков каменных глыб и деревянных балок на голову Казановы осела туча пыли.
На том все и кончилось. Толчки больше не повторились. Господь его не услышал. Еще год ему предстояло томиться во враждебных стенах, прежде чем удалось убежать, чтобы спустя десять лет исповедоваться в этом поступке капитану Куцу. Но с тех пор он твердо усвоил, что рассчитывать можно только на себя.
«Впоследствии я узнал, что тот толчок в Венеции был отголоском землетрясения, разрушившего Лисабон».
Джакомо отложил перо — утомился, да и получилось не так, как хотелось. Который уж раз он пытается об этом рассказать! Может, сейчас и начинать не стоило? Вычеркнул последнюю фразу. Ничего не значащие общие слова. «Впоследствии я узнал…» Да ведь за этим «узнал» кроется прекраснейшая из всех, которые ему доводилось видеть, грудь, а за «впоследствии» — дивные лондонские месяцы, проведенные под одной крышей с прелестной Полиной. Имеет он право хоть раз сказать себе, что наделал глупостей не из низких побуждений, а потому, что решил поступить как порядочный человек? Но разве это утешение?! Если б не дурацкая порядочность, его жизнь, возможно, сложилась бы по-другому. Он не позволил бы ей уехать, удержал, поклялся любить до гробовой доски. Быть может, теперь у него был бы дом, семья, жена, помогающая выращивать картофель, куча детей — таких же крепеньких, как картофелины. И уж конечно бы его не занесло сюда — на край света, в убогое и унылое захолустье, где решительно все против него ополчилось. Даже блохи! Стукнул кулаком по столу; пламя свечи затрепетало.
И все же повторил попытку. «Впоследствии я узнал от некой близкой мне дамы…» Нет, нет, не то. И не так. Зачеркнул, с силой нажав на перо, аж брызнули во все стороны чернила. Что было, то было, и незачем без конца ворошить прошлое, так и спятить недолго. А тогда путь один: в поганую могилу у кладбищенской ограды.
Джакомо был недоволен собой. Вдохновение не приходило. Он слишком устал, вот в чем причина. Взялся за перо полуживым от усталости, оттого что ни фраза, то новый стиль, что ни абзац, то новая тема, мешанина мыслей, воспоминаний, времен. Женщины, тюрьмы, коровьи глаза Куца.
Необходимо упорядочить этот хаос, иначе никому, кроме него самого, не захочется разбираться в его записках. Где Рим, где Крым, а где Петербург. Откуда он убежал, а куда его затащили силой. Кого он любил, а с кем только спал. И при чем тут ящик стола, причем тут консул. Спокойнее надо писать, обдумывая каждое слово. Тогда все само упорядочится.
Быть может. Но не сейчас и не здесь. Какое спокойствие, какое обуздание хаоса, когда с той минуты, как он пересек границу-неграницу, мир вокруг взбесился. Царские войска, хозяйничающие в королевской Польше, чудесная монета, сама удерживающаяся в воздухе, стрельба в корчме, смрад перегара и пороха, безудержная дрожь мальчика, которого он пытался спасти, и взмахи хлыста в такт шагам офицера среди лежащих на земле тел. Да еще сраженный пулей у его порога шпик. Сумасшедший дом. Пожалуй, прав был скотина Астафьев: это ненормальная страна.
Он еще написал: «Записки я начал в Польше, по пути из Петербурга в Варшаву, в приграничном местечке, названия которого не знаю. Как меня сюда занесло — уже совершенно другая история». И отложил перо. Но — сто тысяч волчьих клыков! — назойливые мысли отложить не удалось.
Через два дня после беседы с консулом его привели к Астафьеву. Полковник заговорил не сразу; сесть тоже не предложил. В его поведении было нечто новое: возможно, решение уже принято, приговор вынесен… «Сейчас, — с содроганием подумал Казанова, — сейчас они за меня возьмутся. Наверно, будут бить». Он каждый день слышит за стеной стоны истязаемых. С какой стати должны пощадить его? Его, человека, от которого отреклось даже собственное отечество. Ну и пускай бьют. Он умрет без единой жалобы. Ему больше не хочется жить на этом свете.
— Вы когда-нибудь бывали в Польше?
— Нет, — машинально ответил Джакомо, еще не успев понять смысл вопроса, и поспешно добавил: — Никогда. В Польше я никогда не был.
— Но в ближайшее время собираетесь?!
То ли вопросительный, то ли утвердительный тон Астафьева совершенно сбил его с толку. Чего еще им надо? Хотят обвинить в новом бесчестном поступке? Или, может быть… Кровь ударила в голову, внезапная надежда окатила горячей волной. Безопаснее всего, решил он, говорить правду.
— Да. Признаться, у меня было такое намерение.
— Было? А сейчас уже нет?
Он не услышал в голосе полковника ожидаемой насмешки. Это, вероятно, тоже неспроста. Они обсуждают планы на будущее как два свободных человека. Неужели…
— Почему же? Если мне вообще дозволено иметь какие-либо намерения.
Астафьев не ответил, но все: легкая улыбка на лице, обмакнутое в чернила перо, отсутствие охраны у дверей — указывало, что плохого ждать не приходится.
— Что вам известно об этой стране?
Он бы мог сказать: «В Париже у меня была любовница полька, красивая, нежная, похожая на Полину; знай ты, как она открывалась передо мной в любовном экстазе и как кричала от наслаждения на своем странном шелестящем языке, понял бы, что об этой стране мне известно больше других. И больше, чем я могу тебе рассказать».
— Немногое. Собственно, почти ничего. У них там новый король.
— Это уже кое-что.
— Станислав Август[4].
Астафьев встал, но не из уважения к польскому королю.
— Станислав Август. Кличка Телок. Так его называют враги. И друзья, которых он в последнее время стал забывать. И в отношениях с которыми стал забываться. Что еще? Что о нем говорят в мире?
Казанова был не прочь рассказать, что о Станиславе Августе говорят в мире: что он бывший любовник царицы, тогда еще, правда, не царицы — великой княгини, и что именно она посадила его на польский престол, но прикусил язык.
— Честолюбив. Неплохой правитель…
На сей раз инстинкт его подвел. Не только глаза, но и все лицо Астафьева было волчьим.
— Чепуху городишь, сударь. Плохой он правитель, вернее, никакой. В стране ширится анархия, учащаются нападения на наших сограждан, купцов, путешественников, дипломатов. Под угрозой наши интересы. И честь. Понятно?
Надо бы ответить: а какое мне дело до вашей чести, если вы попираете мою, которая мне куда дороже. И ваши интересы меня мало заботят, от своих болит голова. Как я могу осуждать мятежников, если не знаю, против кого и чего они бунтуют, как могу возмущаться нападениями на мирных граждан, если на меня самого напали в стране, призывающей к борьбе с анархией. Но с этим волком надо вести себя как лиса: поджать хвост и улепетывать, заметая следы.
— Не знаю, достаточно ли я осведомлен, но мне все представляется в несколько ином свете. В конце концов, богатство мира неисчерпаемо, и в Польше я надеюсь найти то же, что в других его уголках. Красивых женщин, друзей, благосклонного монарха. — Прервался на секунду, сглотнул. — Деньги.
Астафьев снова сел; от его возбуждения не осталось и следа. Испытующе, как шулер на шулера, посмотрел на Казанову:
— Деньги?
— Если честно, много денег. В последнее время я сильно поиздержался: некоторые мои начинания зашли в тупик. Но деньги нужны не мне лично. Я не о прибылях забочусь. Дело, которому я служу, имеет колоссальное значение — говорю это без ложной скромности, ибо всякая ложь мне противна, — колоссальное значение для всего мира. Потому, в частности, я и прибыл в вашу замечательную страну, потому пытался поговорить с ее императорским величеством.
— Эка! Ты, что ли, масон?
— Не о том речь.
— А о чем?
Отлично. Ему позволяют высказаться, это уже хорошо. Нельзя упустить такой шанс, надо, воспользовавшись случаем, сказать как можно больше.
— Без преувеличения — о будущем человечества. Имя его — Solanum, это по латыни, но мне больше нравится слово картофель[5]. Пожалуйста, не смейтесь. Картофель — клубни неприхотливого растения: на любой почве растет безо всякого ухода. В такой стране, как ваша, с его помощью можно будет раз и навсегда покончить с голодом, накормить миллионы людей и домашних животных, которые, размножаясь, дадут в избытке мясо, шкуры и жир.
— Чепуха!
— Не чепуха, а сущая правда. А крахмал для тканей, мука для выпечки, игрушки для детей…
— Кончай нести ахинею. Что мы, картошку не видели?
— Видели, но знаете слишком мало. Этот деликатес с барских столов должен стать доступным каждому: необходимо расширять посевы, разъяснять крестьянам его преимущества. Позвольте стране разбогатеть.
— Будет, сударь, нас сейчас не это интересует.
Казанова чувствовал, что Астафьев не знает, сердиться или смеяться, но любопытство побеждает желание заткнуть ему рот. Для начала неплохо.
— Позволю себе также обратить ваше внимание на то, что из клубней можно без труда гнать превосходную водку.
— У нас есть своя, получше.
Казанова рискнул пойти несколько дальше:
— Эта обойдется вдвое дешевле.
— Если ты не масон, то, уж наверно, еврей! Вдвое дешевле?
— Ручаюсь.
— Ну хорошо, допустим. Но тебе-то какая корысть?
Выслушает, теперь уж несомненно выслушает. Возможно, еще не все потеряно. Возможно, судьба наконец ему улыбнется. У полковника власть, связи, он сумеет убедить кого надо. Еще пригодится кучка картофелин, спрятанных несчастным Пьетро в погребе на постоялом дворе, еще оправдаются слухи о благосклонной фортуне, поджидающей смельчаков в этой стране. Чувство собственного достоинства — вот что сейчас должен увидеть Астафьев на его лице.
— Моя фирма, вернее, предприятие, которое я возглавляю, может поставлять отборную рассаду с наших уже не первый год возделываемых полей на севере Франции, где — прошу обратить внимание — климат ненамного мягче здешнего.
Надо поторопиться — растопыренная пятерня полковника поднялась над столом и застыла, словно готовясь к удару.
— Еще у меня есть разработанный в мельчайших подробностях проект публичной лотереи, которая может принести казне немалый доход, а народ изрядно потешить. Примерно год назад я организовал такую лотерею в Париже и смею судить…
— Довольно!
Пятерня со стуком опустилась на стол, веером разлетелись бумаги.
— Деньги мы дадим. В ближайшее время вы отправитесь в Варшаву. Мы вас только слегка подучим, снабдим всем необходимым — и в путь. Ну как?
Неужели вправду удастся выскочить из этой переделки живым? И похоже, не с пустым карманом. Ясно, что нужно ответить. И он ответил:
— Хорошо. — И прикусил язык: не стоило так легко соглашаться. — Но… я хотел бы сам все изложить государыне императрице.
— Это излишне. — Астафьев приподнялся, словно намереваясь из уважения к ее величеству вытянуться во фрунт. Однако, передумав, неуклюже опустился обратно на стул. — Кстати, не кто иной, как ее императорское величество, всемилостивейшая государыня Екатерина Вторая, поручила нам заняться вашей персоной. Сама государыня.
Тогда Казанова спросил — не мог не спросить:
— Что… от меня требуется?
— Сущая чепуха. Проникнуть в ближайшее окружение короля и завоевать его расположение. Не сомневаюсь, что вы с этой задачей справитесь. Хотя бы при помощи картофеля.
— Solanum?
— Solanum.
— А потом что?
— Ничего. — Астафьев сделал паузу, как опытный игрок перед решительным ударом. — Разумеется, до получения дальнейших инструкций.
— От кого?
— Не твоя забота. Когда понадобится, мы тебя найдем. Только не пытайся обманывать. У нас очень длинные руки. Уж поверь.
Запугивают, вместо того чтобы заплатить, скупердяи. Но он не позволит так с собой обращаться, не на того напали.
— Простите… — Казанова схватился за сердце, будто лишь сейчас до него дошел смысл сделанного полковником предложения, — я что, шпионить должен?! Клянусь честью венецианца…
Астафьев добродушно усмехнулся:
— Кончай ты о чести. Мы оба знаем, сколько она стоит.
— Сколько?
Полковник с трудом изобразил удивление:
— Что — сколько?
— Сколько я получу?
— За что?
— Да ведь… я до сих пор не знаю за что.
Астафьев не переставал улыбаться:
— Видишь: и я не знаю сколько.
И, давая понять, что разговор окончен, открыл ящик и принялся складывать в него бумаги. Ну это уж чересчур! Мерзавцы, обмануть хотят и даже этого не скрывают. Люби их из страха, работай из страха, наешься страха. Не дождетесь. Он этого дерьма есть не станет. Пускай сами, сволочи, жрут. Этот, со своей хитрой ухмылкой, ничуть не лучше Куца. Даже ящик у них общий. Джакомо громко сглотнул.
— А если я… не могу согласиться…
Ящик с треском захлопнулся. Казанова скорее увидел, чем услышал, как с губ Астафьева сорвалось тихое и зловещее:
— Что?
Медленно, но неуклонно Джакомо пробуждался от крепкого и мучительного сна. Он был один, убегал, за ним гнались. Преследователей своих не видел, только чувствовал: они рядом; незримые, дотрагиваются до него, точно в детской игре, все смелей и бесцеремоннее. Он окружен, но не в состоянии бежать дальше, не может пошевельнуться — сверху навалилась какая-то тяжесть, чье-то дыхание щекочет шею. Это был не сон — рядом кто-то лежал, безмолвный и неподвижный. От страха он окончательно пришел в себя. Сейчас его убьют. Кто? Люди Астафьева или покровители мальчика-чудотворца? А может, трое убитых — за то, что их не спас? Хотя нет — у смерти дыхание зловонное, а он чувствует на шее нежное, теплое дуновение. Женщина?
Ну конечно. Он вспомнил обещание корчмаря. Девственница. Невелика радость. После такого дня ему только шлюхи не хватает. Поняла, верно, что он не спит, быстро повернулась и прильнула к его руке губами. Джакомо раздраженно ее оттолкнул — пусть убирается, не нужна она ему, не сегодня. Сейчас ему только спать хочется. Она свалилась с кровати, но тут же прыгнула обратно, торопливо бормоча что-то непонятное. Движения резкие, угловатые; Джакомо приподнялся, чтобы ее разглядеть, но; ткнувшись носом в острый локоть, упал на подушки. Обозлившись, хотел ее ударить, промахнулся. Она и не подумала убегать, оседлала его, крепко, будто в отчаянии, сдавила коленями. Он попытался, изловчившись, сбросить ее с себя, но она действовала решительнее и быстрее.
Казанова перестал сопротивляться: теперь уже не он определял, что будет дальше. Поднял голову его дружок, сам знающий, как себя вести, нетерпеливо напрягся, готовый дарить и получать наслаждение. Джакомо всегда подозревал, что этот алчный господинчик отдает ему лишь часть удовольствия.
Ни лица, ни тела девушки он не видел, в темноте даже собственное существование казалось малореальным, но и дружок, и шлюха подавали несомненные признаки жизни. А может, это все еще сон? В пленившем его почти бесплотном призраке было что-то от недавнего мучительного кошмара. Нужно на нее посмотреть, нужно разглядеть тело, с которым ему предстоит соединиться. Нащупал рукой стол, свечку.
Господи, а если то, что он посчитал признаком жизни, на самом деле — нечто противоположное, если исполняемый на нем страстный любовный танец — предвестник смерти, если танцовщица — сама смерть? Вот сейчас уставит на него пустые глазницы, издевательски ощерит зубы… пусть только вспыхнет огонек свечи.
Не вспыхнет — свечка выскользнула из пальцев и упала на пол. Да и не нужен был никакой свет — девушка, словно угадав, что творится в его душе, склонилась над ним, от ее волос повеяло неприятным запахом, лица коснулись крошечные остроконечные грудки. Заира? Его маленькая Заира? Приехала за ним из Петербурга… Но зачем? Чтобы любить его? Чтобы убить? Ведь об ином расставании она и слышать не хотела. Но от Заиры так пахнуть не может, он бы не допустил, чтобы ее волосы пропитались кухонным чадом. Тысяча чертей, он испугался обыкновенной местечковой шлюхи. Воображает черт-те чего, когда надо поскорее дать ей заработать и наконец уснуть.
И все же что-то тут было не так. Она хотела его принять, но не могла, не умела управлять своим телом. Видно, и впрямь впервые, подумал Джакомо без прежней неприязни, чувствуя, как от этой мысли усиливается возбуждение. Что ж, он покажет, на что способен. Ей будет что вспоминать всю жизнь. И крепко обхватил девушку, удивившись, сколь тщедушное существо у него в объятиях. А еще больше удивился, ощупав ее бедра, худые и пряменькие, как у ребенка, а потом, когда она уже была под ним, удивление вытеснило все прочие чувства: в том месте, где он ожидал найти кудрявый бугорок, пальцы коснулись гладкой шелковистой кожи. Нет, это не Заира.
Джакомо отпрянул как ошпаренный. Это же не девушка, а девочка, почти ребенок, да и не почти, а самый настоящий ребенок. Правда, с грудками, но все равно… Как он раньше не понял. Оторвавшись от девочки, соскочил с кровати и принялся лихорадочно одеваться: кто знает, не очередная ли это ловушка, возможно, его хотят обвинить в совращении малолетних, а тут еще этот торчащий фанфарон — ни один суд его не оправдает. Ну нет, в такую историю он себя втянуть не позволит. А корчмарю за этот сюрприз изукрасит рожу.
С трудом — да, это было нелегко! — влез в панталоны и стал ощупью искать рубашку, но тут услышал, что девочка плачет. И не всхлипывает стыдливо, а рыдает, громко и отчаянно. В чем дело, черт побери? Он достал деньги, взвесил на ладони, выбрал дукат. Пусть это хоть немного скрасит ее безрадостное существование, может, вспомнит его добрым словом. Однако девочка крепко сжала пальцы в кулак, не позволяя всунуть монету, а когда он присел рядом с ней на кровать, забарабанила по его груди кулачками.
— Тише. — Он нежно, но крепко обнял малютку; она не противилась, прижалась к нему, замерла, как оцепеневший от страха зверек. — Не бойся, я тебя не обижу.
Что говорят таким взрослым детям? То же, что и всем.
— Ты кто?
Она не ответила, наверно, не поняла — да и откуда ей знать французский, — но, не успел он еще раз, отчетливее, повторить вопрос, послышался тихий, тоненький, как она сама, голос:
— Сара.
— Тебя кто сюда прислал, Сара?
Она рванулась с неожиданной силой:
— Никто. Я сама.
И успокоилась; тогда он ее отпустил, и девочка быстро соскочила с кровати. Нет, все-таки она чем-то похожа на Заиру. Такая же темпераментная дикарка!
— Я хочу на тебя посмотреть. Можно?
Внезапно почувствовал на губах ее маленькие теплые губки.
— Нельзя.
Едва ли не кокетливо чмокнула его, повернулась на пятках и кинулась бежать. Джакомо протянул руку, но схватил только воздух. Она была уже на пороге; в тусклом свете коридора мелькнула маленькая фигурка с развевающейся гривой огненно-рыжих волос. Метнулась к лестнице… сейчас исчезнет. Ну нет, он не намерен сдаваться! И, словно в него бес вселился, забыв про усталость и более чем скромный наряд, выскочил в коридор. Шлепая босыми ступнями, помчался вниз по лестнице вслед за огненным пятном. И вдруг огонек скрылся из глаз.
Еще одна лестница; темнота сгущается; полуоткрытая дверь — вероятно, за нею она и спряталась. Споткнувшись о порог и потеряв равновесие, Джакомо полетел вперед, в темноту. Merde[6]. Упал, больно ударился, затрещали, ломаясь, доски, откуда-то что-то вывалилось и, прежде чем он успел подняться, плюхнулось ему на грудь. Это уж никак не была Сара. Казанова высвободил руку, пощупал, не веря себе, отгоняя страшную догадку, от которой зашевелились волосы на всем теле. Святые угодники, за что?! Цепенея от отвращения, собрал последние силы, сбросил с себя мерзкий груз и вскочил. Дверь, словно по его желанию, дрогнула от сквозняка, и сноп света, ворвавшийся из коридора, подтвердил, что минуту назад на нем действительно лежал скелет. Теперь у его ног громоздилась куча костей; отделившийся от хребта череп с немой угрозой скалил зубы. Рехнуться можно!
Стремительно отскочив назад, Джакомо вытянул руки и, согнув ноги в коленях — как его учил в Петербурге раскосый наставник, — приготовился отразить нападение.
Никто, однако, на него не нападал, хотя в тишине, как ему показалось, слышалось чье-то дыхание.
— Сара.
Молчание. Джакомо стало стыдно за свой шепот.
— Сара!
Ответа не последовало, и шелест дыхания как будто бы оборвался. Казанова осторожно приподнял крышку стоявшего поблизости сундука — второй скелет вытаращил на него пустые глазницы; заглянул в соседний — третий. Либо он постепенно сходит с ума, либо попал в разбойничье логово! О корчмарях, убивающих своих постояльцев, ему не раз доводилось читать в газетах, И — что гораздо хуже — о безумцах, воображающих подобное, тоже.
— Позвольте узнать, что вы здесь делаете?
От тихого голоса корчмаря чуть не раскололась голова. Негодяй явился убить его, как и этих несчастных. Сара была лишь приманкой, дьявольской хитростью! Ну нет, Джакомо Казанову так просто не возьмешь, и убийца сейчас в этом убедится. Схватив с пола крепкую голень, он, точно палицу, поднял ее над головой. И, когда корчмарь, вытянув руку со свечой, осторожно шагнул вперед, бросился на него, как раненый лесной кот, схватил за шиворот, втянул внутрь и пинком захлопнул дверь.
— Это еще что? Ты зачем пришел? Говори, не то проломлю башку.
Еврей, увидев рассыпавшиеся по полу кости, вздохнул:
— Я знал, что добром это не кончится. Купцы из Ганновера везут товар барыне.
— Какие купцы, какой барыне? Ты что несешь, мерзавец?!
— Ай, что такое вельможный пан говорит. Это скелеты для графини Раевской. В ее парк.
— Что?
Только теперь Джакомо понял, отчего ему показалась странной кость, которой он собирался размозжить голову разбойникам, защищая свою жизнь и скелет, — она была неестественно легкой и гладкой.
— Так они не настоящие?
— Папье-маше. Их делают из лакированного папье-маше. И за какие деньги! Чтоб я хоть раз в жизни держал в руках половину!
Казанова отпустил корчмаря, перевел дух. Скелеты из папье-маше, сто тысяч чертей! Его атаковал поддельный скелет, нет, это, пожалуй, хуже, чем помешательство, — и с облегчением расхохотался. Вот каким товаром торгуют немецкие купцы. Ну и потеха! Сам бы он до такого в жизни не додумался. Что за безумный день в безумной стране. Вместе со смехом Джакомо точно выплюнул из себя страх. Впрочем, еще не все ясно. Пока рано откладывать костяную палицу.
— Ты что себе позволяешь?! Совести у тебя нет! Кого обещал прислать?
Корчмарь согнулся в поклоне:
— Нижайше прошу прощения… Не получилось… Обе заняты господином офицером.
— И кого же ты прислал?
— Никого.
— Никого?
Джакомо достаточно хорошо разбирался в людях, чтобы не верить корчмарю, но себя знал не хуже, потому и не усомнился, что на сей раз интуиция его не обманывает: корчмарь не врал. Конечно, старый сводник не преминул бы заработать на Саре, однако на сей раз он ни при чем.
— Никого так никого, — пробормотал Казанова и бросил голень в ближайший сундук.
— А что случилось, сударь?
Он не ошибся: еврей непритворно встревожен, хотя и старается унять дрожь в голосе.
— Что могло случиться? Геморрой не дает уснуть.
Корчмарь, ничего больше не сказав, поставил свечку на пол и принялся наводить порядок. Казанова увидел на его перекошенном, покрытом каплями пота лице гримасу смертельного ужаса. Чего он боится? Вернее, кого? Может, кости вовсе не искусственные, не стоило верить старому лгуну. Нагнулся и поднял лежащий под ногами череп. Раздался странный звук, похожий на стон; корчмарь поспешно закашлял. Последние сомнения отпали: в подвале, кроме них, есть кто-то еще. Он действительно минуту назад слышал чье-то дыхание. Сара? Пожалуй, нет, этот зверек не просидел бы так долго не шевелясь.
Держа в одной руке свечу, а в другой — созданный человеческими руками, а не божественным промыслом череп, Джакомо раздвинул сундуки и протиснулся к стене. На соломенной подстилке лежал мальчик — его мальчик-чудотворец. Левая рука у него была обмотана тряпкой в бурых пятнах крови, глаза блестели от страха и жара. Он не шелохнулся — покорно ждал нового удара судьбы.
Казанова не столько услышал, сколько почуял опасность. Обернуться он бы не успел, отскочить было некуда, оставалось только толкнуть всем телом гору ящиков. Корчмарь — грузная туша, скорее смешная, чем внушающая опасение, — грохнулся на пол. Джакомо кое-как устоял, но нечаянно сломал свечу, которую держал в руке, и горячий стеарин обрызгал рубашку. Выругавшись, он потянулся за шпагой, но… пальцы угодили в глазницы шутовского черепа, и, пытаясь их высвободить, Джакомо осознал, где он и что — полуголый и босой — здесь делает. И только пнул корчмаря в зад.
— Болван, — сказал, преодолевая хрипоту, — человека от волка не можешь отличить? Отнеси его наверх, ко мне в комнату.
Череп как трофей сунул под мышку. Расправил плечи — затрещал застывший на груди стеарин.
— И никогда не бросайся на дворянина сзади.
На следующее утро Казанова проснулся лишь в полдень. Иногда на него нападала такая неодолимая сонливость, и он не удивился, а обрадовался, посчитав это признаком здоровья и молодости. Когда-то, после изнурительных гулянок, он мог проспать и двое суток кряду, а потом, выпив вина, вновь возродиться для бурной жизни, но в последнее время что-то в его организме разладилось. В тюрьме он сутками не смыкал глаз, теперь же частенько засыпал мертвым сном, однако, проснувшись, не испытывал облегчения. Даже вино не помогало: его одолевали апатия и отвращение к собственной персоне и ко всему вокруг. Только страх, что эти чужие бескрайние пространства поглотят его навсегда, что он никогда больше не увидит своего мира, заставлял вставать, мыться, бриться, одеваться и ждать отъезда. Впрочем, и в дороге он постоянно дремал — что еще оставалось делать? Горы низкие, море мелкое, шлюхи никудышные… Все понятнее становилось, что тогда имел в виду Куц.
Но со вчерашнего дня… Воспоминание о вчерашнем дне мгновенно отрезвило Казанову. Он открыл глаза. Мальчик лежал в углу на подстилке. Спал, а может, был без сознания. Свежее пятно крови на тряпке, заменяющей бинт, не сулило ничего доброго. «Дрыхну, вместо того чтобы действовать», — подумал Джакомо, злясь на себя, и вылез из постели. Наступил на валяющиеся с вечера на полу записки. Пускай лежат, там им и место. Жалкие полуправды и полулжи.
Мальчик не спал и был в сознании. Только не шевелился, уставившись перед собой мертвым невидящим взором. Бледный и испуганный, он вызывал сочувствие, но и только — ничего необычного в нем не было.
— Не бойся, рядом со мной тебе ничто не грозит.
Со смутной надеждой посмотрел на пальцы мальчика, но и в них не заметил ничего необыкновенного. Нормальные, может, чуть широковатые ладони, кожа на которых еще не огрубела от работы, грязные ногти — желание нравиться женщинам пока еще не заставляло за ними следить. А ведь эти руки могут творить чудеса — он видел собственными глазами. Осторожно снял окровавленную повязку. Пуля разорвала рукав, разворотила мышцы предплечья, но кости и нервы, кажется, не задеты. Джакомо легонько ощупал палец за пальцем, согнул и разогнул каждый. Дело обстояло лучше, чем он предполагал. Неделя-другая, и рука заживет. Уж он об этом позаботится. А тогда… Вся Варшава, да что там Варшава — Вена, Париж будут рвать мальчика на части, умолять продемонстрировать редкостное искусство, дремлющее в грязных пальцах с обломанными ногтями.
— Как тебя зовут?
Мальчик впервые посмотрел на него, беззвучно пошевелил губами. Ладно, не надо его мучить.
— Потом скажешь.
— Иеремия.
Голос был тихий, но отчетливый. Иеремия? Боже, все здесь не как у людей. Даже имена.
— Красивое имя. Но я буду называть тебя Пьетро.
— Иеремия.
«Никому ты не нужен, Пьетро, — подумал Джакомо, удивленный, с каким достоинством подросток произнес свое имя. — Господь свидетель, Пьетро, я хотел воздать тебе должное, но ничего у меня не получилось, никому ты не нужен, да и неудивительно. По правде говоря, ты был прохвост и на руку нечист, господина своего не слишком-то почитал, а если и бросился на его защиту — за что поплатился головой, — видать, у тебя ум помрачился или ужалила пчела. Пускай будет Иеремия». Дать мальчику имя своего слуги Джакомо хотел не без задней мысли, за что тут же себя осудил: сейчас ничто не должно отвлекать его от высшей цели.
— А это что? — Он легонько коснулся руки Иеремии. — Магнетизм?
Подросток растерянно пожал плечами.
— Кто тебя научил, кто показал?
— Отец.
— Отец. Что с ним?
На глаза Иеремии навернулись слезы: ну конечно, как он сразу не догадался: вчера был убит его отец, интересно, который? Должно быть, тот, прошитый пулями, в белой рубашке. Джакомо вспомнил, как они с мальчиком обнялись на пороге корчмы и как дико закричал Иеремия, когда бессильное тело отца свалилось на конский зад. Теперь он тихо и горько плакал. Пускай. По крайней мере раз в жизни выплачется всласть. Мужчине не стыдно оплакивать отца. А тем более мальчику, еще не ставшему настоящим мужчиной.
— Я тебя увезу. В Варшаву, а то и дальше. А пока раздобуду что-нибудь поесть.
Быстро одевшись, Казанова спустился вниз. Надо уносить ноги из этой дыры, да поскорее, подумал он, проходя мимо двери, у которой накануне нашли его ангела-хранителя с продырявленной головой. Какой-то рок тяготеет над этим местом. Множество неразрешимых проблем наслаиваются одна на другую, вязкие, как болотный ил, готовые затянуть его с головой.
Внизу все было тщательно прибрано, и если б не следы от пуль на бревенчатом потолке да забитое досками окно, ничто бы не напоминало о вчерашней схватке. Пусто. И к нему никто не выходит. Может, опять какая-то напасть выкурила отсюда людей? Почему не видно ни оставшегося в живых попутчика, ни здоровенных угрюмых возниц, за всю дорогу не проронивших ни слова? Небось все уже во дворе и ждут его преспокойно. Ничего, подождут, не отправляться же в путь натощак. Проверить правильность своей догадки Джакомо не мог, поскольку сел напротив заколоченного окна. А если все уехали? Эта мысль заставила его вскочить и чуть ли не бегом броситься к двери.
Коляски не было. Толстый неуклюжий батрак выдергивал трухлявые колья из поваленной изгороди, два поросенка копошились в грязи, повизгивая от удовольствия. Повозок ганноверских купцов тоже не было. Уехали. Подлецы! Оставили его среди этой мерзости, грязи и свиней. Ну уж нет! Он ни минуты тут не задержится. Ни минуты! Кинулся обратно, на пороге столкнулся с корчмарем, в ярости на него обрушился: где коляска, кто разрешил уехать, почему его не разбудили, скоты, негодяи, разбойники, — и, не слушая объяснений хозяина — вельможный пан спал как убитый и ни за что не желал просыпаться, — хрястнул старика по физиономии, раз, другой, у того из носа потекла кровавая юшка, он неразборчиво, смиренно что-то забормотал. Казанова оттолкнул его — еще замарает кровью последнюю чистую рубашку — и тут заметил, что они уже не одни. Сбежавшаяся прислуга исподтишка наблюдала за необычной сценой. Из-за спин высунулась рыжая голова. Сара, его ночная гостья. Девочка была очень хороша собой — несмотря на растерянность, Джакомо успел это заметить.
Ему стало стыдно: скорее всего, несчастный старик говорит правду, он вполне мог спать как убитый, теперь это с ним часто случалось — быть может, так человек привыкает к неминуемому вечному сну. Вытащил полкроны и уже протянул корчмарю, как вдруг по выражению лиц уставившихся на них зевак, по сверкающим то ли от радости, то ли от страха глазам Сары, по нескрываемым ухмылкам двух дородных девах, вероятно его несостоявшихся возлюбленных, по тому, как смущенно потупился тощий слуга, понял, что никто здесь не сочувствует старику. Возможно, он не зря залепил ему оплеуху. И Джакомо положил монету на стол.
— Завтрак! Один сюда и один наверх.
Уже успокоившийся, склонный признать, что неожиданное осложнение, хоть и не приблизило его к цели, внесло в нудное путешествие приятное разнообразие, Казанова стал разглядывать хлопотавшую у стола девочку. Сколько ей может быть? Тринадцать, двенадцать? Даже для своих лет она была невелика ростом, но безукоризненно сложена. Худенькая, проворная, полная очарования юности, хотя лицо, несмотря на улыбку, по-взрослому задумчиво и серьезно. Ребенок. Женщина. И эта огненная копна волос, словно у мученицы с ренессансной картины. Придет время — не одного самца воспламенит.
Но можно ли быть уверенным, что именно она — странный ночной призрак? Зачем полезла к нему в постель? Корчмарь ее не посылал. Кто же тогда? Сама надумала? На шлюху не похожа, но то, что пыталась с ним делать, не вяжется с ребячьей внешностью и поведением. Правда, ему не раз и не два случалось забавляться с ее ровесницами — взять хотя бы тринадцатилетнюю Заиру, — но и Заира и другие были уже настоящими, созревшими под южным солнцем женщинами, а эта — совсем еще дитя.
— Ты — Сара? Сара?
Девочка весело фыркнула:
— Меня зовут Этель.
Не она, значит. Джакомо почувствовал легкое разочарование: на этот раз интуиция его обманула. Жизнь куда бедней воображения. Но если не она, то кто? Уж наверняка ни одна из ядреных кухонных девок, приспособленных хозяином для подобного рода услуг. Обвел взглядом комнату. Корчмарь, держась на почтительном расстоянии, исподлобья за ним наблюдал. Вернулась Этель с кувшинчиком кофе. Глядя на нее, Казанова принял решение. Он это все опишет; правда, вчерашние сочинения устилают пол, но, даст Бог, сегодня, завтра, в ближайшие дни дело пойдет на лад. И вовсе не нужно утруждать себя поисками истины. Это была Этель, ну конечно, Этель, кое-что он все же запомнил. Маленькое, хрупкое, проворное существо — да, это ее движения, ее фигурка. Этель. Рыжеволосая еврейская девочка из местечка у российской границы. Он ей прибавит годик-другой, немножко бедер, немножко грудок и… возьмет: вначале нежно, не оскорбляя девичьих чувств, а потом резко, даже грубо, чтобы пробудить в ней женщину. Да, так и напишет. Но что было на самом деле?
— Ты правда не Сара?
Он попытался ее обнять, но девочка ловко увернулась, поставила перед ним кофе.
— Сара — моя сестра.
И вот уже перед ним обе. Казанова не поверил своим глазам; впрочем, даже самый убежденный рационалист, увидев сестричек, усомнился бы, в здравом ли он уме. На Джакомо с недетской серьезностью глядели два нежно обнявшихся одинаковых рыжеволосых зверька. Ждут чего-то или хотят что-то сказать? Выходит, интуиция его не обманула: Сара — это Этель, Этель — Сара. Двойняшки! Его восхищение могло бы стать вдвое сильнее, если б и без того не было беспредельным. Даже жалкие платьишки из мешковины не лишали девочек очарования. А если их красиво одеть…
Этель первая оторвалась от сестры, прыснула и, круто повернувшись, убежала на кухню. Теперь Казанове показалось, что он смог бы их различить. Сара была явно смущена: глаза потуплены, улыбка скорее испуганная, чем лукавая.
— Пожалуйста, — еле слышно прошептала она, — я вас очень прошу…
Не нужно ни о чем беспокоиться и ни о чем его просить.
— Сара, — он встал и взял девочку за руку, — я…
Рукав платья задрался, и, прежде чем она высвободила, а вернее, вырвала руку, Джакомо увидел пониже локтя громадный кровоподтек. Девочка, сникнув, побрела к лестнице, как побитая собачонка с поджатым хвостом. Погоди, хотел он сказать, чего ты боишься, что означает ужасный синяк на руке, не убегай, но не успел: Сара с неожиданной резвостью побежала по ступенькам наверх, а над столиком нависла грузная туша корчмаря.
— Лошади поданы, ясновельможный пан.
А, лошади, очень хорошо, отлично, все возвращается на круги своя, надо ехать. Хотя нет, есть еще одно дело.
— Это твои дочери?
— Чертовки эти? Упаси Бог. Не мои. Одного бедного человека… он умер.
— Сироты?
Корчмарь заколебался: осторожничает, хотя не знает, с какой стороны ждать подвоха.
— С голоду не помирают…
— Торгуешь ими?
Старик на всякий случай попятился, схватился за голову.
— Разрази меня гром! Что вам эти чертовки наговорили? Врут как по писаному. Неблагодарные.
— Ничего они мне не говорили, — пробормотал Джакомо, с трудом удерживаясь от смеха — очень уж забавно жестикулировал старый корчмарь. — Но гляди у меня: они еще дети. — Полез в потайной карман, чего делать не следовало бы, но ведь такое случается не каждый день, и вытащил две золотые монеты. — Заботься о них, малышки того стоят.
Может, и не торгует, но бьет безусловно, подумал, вспомнив про синяк, а увидев, как лицо корчмаря внезапно залилось краской — не от смущения, а от жадности, — засомневался, принесут ли его два дуката пользу Этель и Саре. Тысяча чертей — весь мир он своими руками не исправит.
В пути
Лошади ждали во дворе. То ли смеяться, то ли опять дать кому-нибудь по роже! Две тощие клячи, одна запряженная в телегу, вторая — для него — под седлом. Возница в тулупе и меховой шапке, несмотря на не по-осеннему теплый день, курил какое-то вонючее зелье. В луже вповалку лежали разомлевшие поросята. Толстый батрак ставил упавший забор, латая ветками дыры. Можно ехать.
Мальчик сошел вниз сам, но был слишком слаб, чтобы сидеть на козлах, и ему накидали соломы на дно телеги.
Тощая кобыла влажными губами охватила Казанову за руку.
— А тебе чего надо? — пробормотал он и похлопал ее по морде. — Разве я виноват, что на тебе поеду? Не я занимался устройством этого мира.
Тронулись. Здешним миром, похоже, вообще никто не занимался, думал Джакомо, проезжая мимо вросших в землю покосившихся домишек, навозных куч, из которых жижа текла прямо на улицу, людей с тяжелыми сонными взглядами. Есть, видно, такие уголки, где ни Бог, ни, Разум, ни История еще ничего не добились, — заповедники безнадежности, острова дикарства. Вне времени, за пределами государств и народов. Особый мир, прозябающий рядом с нормальным, развивающимся, где правят законы и в чести философия. И где все сущее увенчано высочайшим достижением человеческого духа — искусством. А какой дух способен оживить этот червивый клочок материи, какое искусство может здесь родиться? Разве что искусство выживания, которым, судя по всему, упорно стараются овладеть эти босые и кудлатые бедолаги, нехотя уступающие ему дорогу.
Надо написать об этом Вольтеру. Чванливый мыслитель, одержимый идеей Разума, конечно, высмеет его малодушные сомнения, возможно, припишет их неправильному питанию или избытку семени в организме, но кто, если разобраться, видит мир в истинном свете — он, проникающий в самые дикие уголки, или окопавшийся в своей деревенской глуши философ? Впервые он написал Вольтеру несколько лет назад, тронутый его громким негодованием по поводу землетрясения в Лисабоне[7], того самого землетрясения, которое в него, Казанову, заточенного на раскаленном чердаке венецианского Дворца дожей, сперва вселило сладостную надежду на освобождение, а затем, всего минуту спустя, — горечь сомнения в милосердии Всевышнего. Разве не подобная причина заставила французского философа взяться за перо? Потом они наконец встретились и — хотелось бы сказать — друг другу понравились, но это не было правдой. Или, во всяком случае, было неполной правдой; с тех пор Джакомо предпочитал с Вольтером переписываться, а не беседовать. Все, что тот говорил, было полновесным, гладким, до омерзения самоуверенным; в его речах не оставалось места сомнению, злобе, глупости. Разве мир таков? Где? Даже в деревенской глуши ничего подобного нету.
Странное существо с огромной детской, но совершенно лысой головой выкатилось на кривых ногах на середину дороги и остановилось, разинув рот. За собой уродец тащил на веревке что-то бесформенное, не то обрывок шкуры, не то тряпку — вроде тех, что были на нем. Когда они приблизились, привязанный к веревке комок зашевелился: это была тощая, дрожащая от смертельного ужаса крыса. Два несчастных создания — в обоих было и что-то человеческое, и что-то звериное — уставились на путников. Возница щелкнул кнутом и смачно выругался. Уродец, в последнюю секунду выскочив из-под лошадиных копыт, выпустил из рук веревку. Освободившаяся крыса метнулась в сторону и, волоча за собой свои путы, нырнула в придорожные кусты. Вдогонку ей неслось беспомощное нечеловеческое бормотание кретина.
Ну как тут не усомниться в разумности устройства мира? Как сохранить веру в прогресс, в цивилизацию и науку, развитие которых предрекает Вольтер? «Вряд ли, дорогой друг, — казалось, слышал Казанова его голос, — кому-ни-будь удастся логически доказать, что в этом уголке никогда не воцарится Дух Прогресса, не накормит этих людей, не обует, не причешет, как тебя, не позаботится о чистоте ногтей, не научит читать и писать, а затем и употреблять женщин утонченными способами. Так будет, так должно быть, это лишь вопрос времени. Можешь мне поверить — исключительно вопрос времени. У мира нет иного выхода, он обречен двигаться в этом направлении. Так подсказывает логика, королева наук, а с королевой мы, люди чести, не имеем права спорить».
Отлично, но предположим, он республиканец и никакой королеве повиноваться не намерен. А уж тем более, гм-м, царице, пусть это будет даже Царица Наук, а не, например, некая конкретная государыня, к которой маэстро питает весьма неожиданную слабость. Поглядел бы хоть, с кем эту слабость разделяет…
Джакомо вспомнилась последняя встреча с Куцем. Все уже было позади, он шел не на допрос, а чуть ли не на аудиенцию. Его наставникам предстояло лишь поставить точку, напутствовать новичка, новообретенного борца за общее дело. Куц для этого не очень-то подходил. Когда улетучился страх, который он вначале внушал, оказалось, что капитан просто глупец. Его излюбленные хамские шуточки о том, что для полного счастья всех надо зажать в кулак, о происках сатаны и отрезанных яйцах перестали казаться на свой лад забавными; к тому же Казанова их выучил наизусть. И тем не менее Куц ухитрился напоследок нанести ему чувствительный удар. Вольтер. Преклоняется перед императрицей, восхищается ее умением задавать тон Европе и даже миру. Это, пожалуй, кое-что значит, а?
— Каждому — ну, почти каждому — дозволено иметь собственное мнение, — осторожно заметил Джакомо: ведь он сам, пока ему не протерли грязной тряпкой глаза, разделял это заблуждение, — а уж тем более такому человеку, как Вольтер.
— Что тебя с ним связывает?
Куц не сумел сохранить тон непринужденной беседы — куда ему, полицейскому до мозга костей. Вот он — долгожданный шанс. К черту осторожность, что теперь ему может сделать этот паяц! И Джакомо с заговорщическим видом нагнулся к капитану:
— Нить. Нас связывает некая нить.
— Чего, чего?
— Нить взаимопонимания, вернее, даже заговора, преследующего крайне секретную цель.
— Например?
— Например, охмурение власть имущих притворной лестью.
— Ты! — Капитан побагровел от бессильной злобы. — Полегче, тебе это может дорого обойтись.
— Я постараюсь, чтобы дорого это обошлось вам, сударь, — отрезал Казанова и встал.
Больше он Куцу не сказал ни слова.
Они проезжали мимо последних, похоже заброшенных, лачуг. Хотя нет — две уродливые старухи, скаля беззубые десны, показывали на них искореженными подагрой пальцами. Джакомо приветливо им улыбнулся: пусть еще сильней удивятся.
Значит, это — всего лишь вопрос времени? А если время принесет какую-нибудь неожиданность? Может быть, здешний люд не пожелает ждать и двинется против течения, наплевав на посулы философов. Не их мир тогда погибнет — наш. Не выдержит натиска толпы, жестокости, грубой силы. Не разум восторжествует, а глупость, не добро, а зло. Дух Прогресса никого не накормит — сам будет проглочен в первую очередь. Не мы станем этих людей причесывать, а они сорвут с нас парики и обреют наголо. И отмывать их мы не будем, а сами зарастем грязью. И утонченным ласкам обучить не сумеем — это они нас будут учить скотскому насилию. Кто знает, как оно будет? Даже величайшие философы могут ошибаться.
Как только выехали из местечка, Казанова отогнал от себя эти мысли. Впереди открылось красивейшее бескрайнее пространство, пересеченное лентой большака и на горизонте окаймленное лесом. Мальчик спал — по-прежнему казалось, что жизнь в нем едва теплится. К счастью, было тепло и солнечно, легкий ветерок гнал облака на юг. Джакомо пришпорил лошадь, потрепал по холке, подивился, с какой легкостью эта кляча его несет. И все-таки разок кольнула тревога: что его там, за горизонтом, ждет? Остригут наголо или нахлобучат два парика сразу?
Впрочем, теперь можно было подумать о совершенно другом.
Например, о том, что у него с утра болит голова, и в нормальных условиях — в Париже, Лондоне, Дрездене — он бы сегодня не встал с постели, продремал до вечера, а то и до завтрашнего утра. Или, черт побери, наоборот: он пока еще не полный рамоли, рано ему валяться без дела, ну конечно, он бы завлек в постель опытную красотку и приказал лечить себя всеми известными ей способами. Какой-нибудь, несомненно, помог бы, голова, в конце концов, всего лишь часть тела.
Или — в Мадриде, Риме, Берлине — он бы отправился на верховую прогулку. Почти как сейчас, хотя… можно ли сравнивать! В безупречно скроенном костюме для верховой езды грациозно вскочил бы на спину стройного скакуна английских кровей или арабской кобылы, умело подкованных, привыкших цокать копытами по усыпанным гравием аллеям, а не — как эта кляча — по грязным проселкам и лесным буеракам. Повстречал бы приятелей — знатного рода, склонных к философским беседам, не в пример здешним сычам, недоумкам и шпионам. Всякая боль бы мгновенно прошла.
Кобыла, словно почувствовав себя оскорбленной, вскинула морду и громко заржала. Они въезжали в невысокий сосновый лесок, где в овражках между деревьями уже лежали крупитчатые пласты снега. Джакомо оглянулся: телега с Иеремией и пожитками медленно, почти незаметно для глаза, ползла сзади, отстав метров на двести — триста. Решив их подождать, придержал лошадь.
А почему бы, впрочем, вернулся он к прежним размышлениям, не объединить одно с другим? Овладеть красоткой на лошади. Подобного опыта он не имел, но надо же когда-то попробовать. Разумеется, после предварительной прикидки —-не каждая на такое способна. Вначале проверить все до мелочи. Мышцы бедер и живота, например, должны быть крепкими, иначе на скаку женщине его в себе не удержать, однако не слишком мясистыми — ни он, ни один конь на свете не любят толстух.
А соответствие ее глубины его длине — это тоже потребует тщательного исследования, чтобы потом не вылететь из седла: сперва из одного, грозящего переломить его торчащее сокровище, и вслед за тем из другого, настоящего, — так и шею будет недолго сломать. Короче, вход должен быть достаточно тесным и расположенным ближе к животу, чем к ягодицам. Тогда барышне будет легче обхватить его ногами и держать в себе до самого конца. Он уже давно убедился — а если без ложной скромности, то еще в детстве, когда не сумел подобраться сзади к притворяющейся спящей кузине, — что у каждой женщины ее полузакрытая раковина находится в только ей одной свойственном месте. Ниже, выше, спереди, сзади или между. Да, да. Никаких закономерностей. По глазам этого не угадаешь. Вот с Полиной получилось бы. Когда-то его поразила одна лондонская шлюха, у которой бугорок Венеры, обнаружился чуть ли не на животе, но она была тяжелая и расплывшаяся и для таких забав не годилась.
Бинетти[8] — о да, Бинетти могла все. Ее дырочка — по необходимости — оказывалась то спереди, то сзади, а иногда он начинал сомневаться, есть ли вообще. Вот кого он бы с удовольствием посадил на эту клячу. Они бы без всяких слов знали, что делать.
Джакомо шлепнул кобылу по холке. Телегу подождем дальше. Тронулись шагом. Так и будет — они поедут шагом. Спокойно, чтобы он мог беспрепятственно проникнуть в горячую щелку, насадить барышню на себя и почувствовать ее ноги на своих бедрах, а руки — на шее. Седло, разумеется, должно быть не таким, возможно, сойдет и обычный плед, брошенный на конский круп. Вначале не надо будет подгонять лошадь, их устроит мерное покачивание — вверх, вниз. Он обнажит ее груди, пусть и им достанутся ласки.
Но потом… Джакомо нетерпеливо натянул поводья. Быстрее! Кляча не послушалась и припустила тяжелой рысью, только когда он несколько раз пришпорил ее каблуками. Рысь — вот наилучший ритм для зрелой любви — не суматошного перепихивания юнцов, а утонченных, но отнюдь не вялых ласк, какими опытный мужчина может одарить женщину. Нужно покрепче ее обхватить, сжать в объятиях, чтоб не упала при чересчур резких движениях, почувствовать под ладонями ягодицы. И вот она уже выпрямила ноги, как и он свои, вдавила лошади в брюхо, несущееся над землей, над травой и камнями, среди брызг грязи. Теперь до боли напрячь бедра, чтобы не вылететь из седла. Что это: еще наслаждение или уже борьба за жизнь?
Еще… Да, это должна быть Бинетти с ее подвижной дырочкой; она внезапно выскользнет из-под него, перевернется над лошадиным крупом и выпятит ягодицы. Он шлепнет кобылу по заду влажной от пота ладонью, и они помчатся бешеным галопом. Тогда он снова войдет в нее, проткнет чуть ли не насквозь, заполонит собой каждый уголок ее тела и заставит прокричать все слова любви, какие известны миру. А потом будь что будет — пусть они захлебнутся воздухом, со свистом летящим навстречу, пусть на них упадут с головокружительной скоростью проносящиеся мимо деревья, пусть их оглушит храп лошади и зальет срывающаяся с ее морды пена.
Джакомо услышал испуганное ржанье кобылы, увидел, как ее хребет странно изогнулся, клонясь к земле, и почувствовал, что какая-то могучая сила выдергивает его из седла. Больше он уже ничего не видел, ничего не слышал и ничего не ощущал. Когда очнулся — не зная, где он: в аду или пока только в чистилище, — увидел над собой озабоченные, испуганные мордашки Этель и Сары. Откуда они взялись? Заметив, что он открыл глаза, девочки так просияли, что Джакомо поспешил зажмуриться. Нет, это, наверно, рай. Откуда-то издалека донеслось жалобное ржание. Земля? И вдруг все понял. Он упал с лошади. Просто упал. Значит, все же земля.
Совершенно напрасно, размышлял Казанова несколько часов спустя, совершенно напрасно он согласился взять девчонок. Одному Богу известно, чем это обернется, а у него и своих забот предостаточно — как тут справляться с чужими? Путь далекий, страна дикая, ехать не на чем — не на этой же подводе явиться в Варшаву! — вокруг все больше вооруженных людей, а он проявляет такое легкомыслие. Сперва дал волю лошади, затем сантиментам… Забыл, сколь серьезное дело — борьба за жизнь, глупец, подумал о себе, как о ком-то постороннем. Обернулся, несмотря на боль в правом плече, — девочки молча прижимались друг к другу, словно перепуганные цыплята, и казалось, ничего хорошего не ждали. При первом удобном случае он отошлет их обратно. Жаль, что не отослал сразу.
Но что сделано, то сделано. Согнав возницу с козел — пусть займется своей норовистой кобылой, — Джакомо ухватил левой рукой поводья — левой, потому что правая болела при каждом движении. Иеремии пришлось сесть и подвинуться, чтобы Этель и Сара могли примоститься с ним рядом. Так и ехали.
Увидел бы его сейчас кто-нибудь из друзей или врагов… Он, король салонов и спален, дворянин до мозга костей — пусть не по рождению, дворянское звание заслужено жизнью, — трясется на козлах везущей странных детей крестьянской телеги, в сопровождении босоногого, уже не старающегося скрыть враждебность возницы. Заросший, оборванный, грязный. Унижаемый, преследуемый, превращенный в шпиона и исполнителя неведомых приговоров. Друзья прослезились бы, враги расхохотались. Плевать — и на тех, и на других; Надо взять себя в руки и показать, что еще есть порох в пороховнице. Цель уже близка: они со своим дружком, подумал, соскакивая с телеги, Джакомо, сровняют этот дворец с землей, не будь он Казановой. В противном случае он готов называться Его Сиятельством Скопцом.
Они остановились у окружающей дворцовый парк ограды, на берегу резвого ручья. К воде спустились все — даже девочки, до сих пор с отчаянным упорством отказывавшиеся покидать свое место на возу, даже Иеремия, оживившийся, несмотря на утомительный день в пути. Шум воды, холодок стекающих по лицу капель успокаивали, но отдыхать еще не настало время. Надо побриться и переодеться. Казанова вынул из саквояжа бритвенный прибор. Застонал, когда попробовал поднести бритву к лицу. Девочки мгновенно к нему подскочили.
Никуда я их не отошлю, подумал он минуту спустя, сидя на придорожном камне и подставив лицо Этель, которая намылила ему щеки, а затем принялась осторожно и ловко сбривать щетину. Оставлю этой графине Раевской, или как там ее, добавил мысленно после того, как Сара обмыла ему лицо и осушила кожу подолом рубашки. Потом девочки одели его в шелка, обули в лакированные башмаки с золотыми пряжками, помогли натянуть густо напудренный парик. Теперь он уже не был уверен, что вообще их кому-нибудь оставит.
Возницу он отправил, заплатив за обещание молчать серебряную монету, а остальным велел спокойно дожидаться его у ограды. Теперь можно идти. Приостановившись в начале ведущей к дворцу аллеи, Джакомо поправил парик, подтянул чересчур свободные панталоны, машинально проверил, на месте ли его дружок — на месте, — и отважно устремился вперед, вполголоса напомнив себе, что на кону самая высокая ставка.
Примерно на полпути Казанова вновь почувствовал себя юным, полным энергии и оптимизма. С удовольствием подумывал об ужине, на который позволит себя пригласить неизвестной пока графине, вероятно немолодой, толстой и некрасивой. Дворец, однако, вынужден был он признать, издалека производил прекрасное впечатление. Такое строение из белого камня, с идеальными пропорциями не принесло бы стыда даже Риму или Венеции. В саду уже горели факелы. В их свете сверкали вечерние туалеты дам, парики мужчин и ливреи лакеев. Только теперь Казанова заметил укрытые в боковых аллеях экипажи, покуривающих махорку кучеров, лошадей, жующих овес. Похоже, он попал на прием; что ж, тем лучше, звезды сегодня к нему благоволят.
Через секунду, правда, он в этом усомнился, увидев, как из-за спин оживленно беседующих гостей вырвался огромный черный пес. Увы! Собака большими скачками неслась прямо на него. Джакомо заколебался: броситься на эту скотину со шпагой или, проявив рыцарское самообладание, позволить себя сожрать. Выбирать не пришлось — воздух сотрясся от грома. Пес, точно ему перешибли хребет, обмяк и упал на разъехавшиеся лапы. Джакомо схватился за шпагу, хотел кинуться под защиту деревьев, спрятаться от неведомой опасности, но не успел. Гром повторился, однако над головой рассыпалась не смертоносная картечь, а гирлянда разноцветных огней. Пес, как наказанный ребенком щенок, поджав хвост, поплелся обратно.
Лучше и придумать было нельзя. Казанова шел по усыпанной гравием дорожке, а над ним поминутно вспыхивали яркие звезды, елочки, короны и амурчики. Небеса и впрямь сегодня благосклонны к нему — фейерверк начался как по заказу. Придав лицу выражение благородной решимости, Джакомо направился к группе дам, возле которых суетилось особенно много слуг. Он догадался, что одна из них — хозяйка, графиня Раевская. Скрюченная размалеванная старушонка в розовом платье? Остроносое чучело с огромным коком на голове? А может, рыхлая толстуха с выглядывающим из глубокого выреза зобом?
Однако нет — к счастью, нет. Графиня была еще молодой женщиной с чувственным ртом и высокой грудью. Казанова отлично понимал, сколь важно сразу произвести хорошее впечатление, но, чтобы перекричать возбужденный гомон, заговорить вынужден был громче, чем ему хотелось. Графиня позволит извиниться за вторжение и представиться? Граф де Сенгальт, прибыл прямо из Петербурга, куда его привели дела государственного значения… собственно, прежде всего следовало бы объяснить любезной хозяйке, каким образом он тут очутился…
Графиня глянула на него рассеянно и засмеялась, увидев, как две одинаковые легавые свалились в пруд в погоне за догорающим фантомом.
— Считайте себя нашим гостем, граф.
И ни слова больше, ни взгляда. Будет сложнее, чем ему представлялось. Чертов фейерверк. Не слышно, что говорят, не видно, к кому обращаются. Заколебался было, но быстро преодолел растерянность, не смешался с толпой гостей.
— Граф Орлов[9] говорил мне о вас…
— Вы знаете графа Орлова? — Старушка в розовом платье, как курочка, повернула к нему голову. Ответить он не успел: вмешалась графиня:
— Вам не кажется, что наша жизнь подобна потешным огням — длится один краткий миг и гаснет, не позволив собою насытиться?
На сей раз во взгляде хозяйки сверкнула искорка интереса к его персоне, а возможно, и обещание. Это вселяло надежду. Джакомо шагнул вперед, чтобы получше рассмотреть графиню. Груди наверняка уже обвисли, подумал, а вслух произнес:
— Верная мысль и прекрасные слова, графиня. Хотя и печальные.
Не забыл улыбнуться старушке:
— Разумеется, я отлично знаю графа Орлова.
Графиня внезапно рассмеялась, повернулась на каблуках и, ничего не сказав, поплыла по площадке перед дворцом, увлекая всех за собой. Казанова на секунду остался один — с улыбкой, застывшей на лице, и графом Орловым — на устах.
— Убить короля? — Джакомо отшвырнул шпагу, клинок с треском воткнулся в деревянный пол. — Никогда. И не пытайтесь меня уговорить.
Он взмок от пота и возмущения. Стоявший в непринужденной позе у столба, подпирающего потолок зала для фехтования, Орлов деланно засмеялся:
— А кто вас уговаривает? Я сказал: обезвредить, а не убить. Это разные вещи.
— Вы сказали — убить, граф.
Орлов поморщился — возможно, заметил, что столб, к которому он прислонился, почернел от грязных и потных спин многих поколений мужчин, обучавшихся здесь фехтовальному искусству.
— Быть может. Мой французский иногда меня подводит. Обезвредить — вот наиболее подходящее слово. Подтолкнуть в нашу сторону, воззвать к здравому смыслу или даже… кто знает… поучить уму-разуму; да, это еще точнее. Какой смысл покушаться на жизнь человека, с которым мы еще недавно превосходно понимали друг друга, которому помогли на выборах взамен за некие, между нами говоря, вполне определенные обещания. А теперь он начал о них забывать. Понятно, первые годы правления, упоение властью — всякий возомнит, что мир у его ног, что любые мечты осуществимы, что враг слаб, а друзья снисходительны. Годик мы подождали, и хватит. Надо напомнить господину Телку, кто он и скольким нам обязан. — Граф приблизился к задыхающемуся от гнева Казанове. — Надеемся, вам об этом напоминать не придется.
Создатель, из чего ты сотворил таких людей — из клыков, когтей, рогов?
— Императрица об этом знает?
Граф язвительно усмехнулся, словно угадал его мысли.
— Не будьте ребенком. В противном случае я бы не стал делиться с вами секретами как-никак государственной важности. И не портите пол — на содержание этого зала казна тратит немало денег.
Джакомо нагнулся, но Орлов его опередил, ловко схватил шпагу, засучив рукава.
— Поглядим, чему вас здесь научили.
Казанова взял другую шпагу у приземистого учителя, скромно дожидающегося в углу окончания беседы, встал в позицию.
Схватка была короткой. Применив освоенный несколько дней назад прием, Джакомо открыл левый бок, а когда Орлов попался на удочку, без труда сунул шпагу ему под мышку. Если б он захотел — если бы захотел и вдобавок был самоубийцей, — ему бы ничего не стоило прикончить противника, насадить на острие, как мотылька на булавку. Граф это тоже понял. Слегка побледнел, но улыбаться не перестал.
— Недурно, весьма недурно.
Джакомо отступил, однако шпаги из руки не выпустил. Чего-то он еще недопонимал.
— Что от меня требуется?
Граф Орлов уже успел овладеть собой, тем более что за спиной Казановы стоял коротышка учитель. Не сомневаясь в эффекте, снял перчатку и хлестнул Джакомо по лицу.
— Живым добраться до Варшавы.
На задах дворца были расставлены столы, ломившиеся от яств и напитков. Сервировка поражала изысканностью. Тончайший фарфор, английское серебро, вилки и ножи возле тарелок. Такого богатства и светского лоска Казанова здесь увидеть не ожидал — даже загляделся невольно, забыв о графине. Впрочем, слишком усердно навязывать ей своё общество было бы опрометчиво: пусть сама проявит к нему интерес. И Джакомо занял место в дальнем конце стола. Слева сидел курносый подросток, справа — увы! — дряхлая старушонка, по сравнению с которой та, в розовом платье, казалась олицетворением молодости. Его соседи, вероятно, состояли в отдаленном родстве с хозяйкой — слишком отдаленном, чтобы оказаться полезными, — но выбирать не приходилось, и Джакомо пустил в ход свои чары.
— Один мой парижский приятель, врач, — разглагольствовал он, не выпуская из рук изрядного куска косульего окорока, — ветеринарный врач, а стало быть, человек в данной материи весьма сведущий, утверждает, что животные обладают невероятной биологической силой, которой их наделила сама природа. Это особого рода магнетизм, действующий на расстоянии в несколько метров. Его можно ощутить простым прикосновением. Тепло-холодно. Чем теплее зверь, тем больше в нем этой силы, то есть жизни. Правда, из всякого правила есть исключения.
Откусил кусочек: мясо было превосходно прожарено, приятно пахло дымом костра.
— Вот эта косуля, например, до сих пор теплая, хотя жизни в ней, пожалуй, уже не осталось.
Никто ни улыбкой, ни словом не отозвался на шутку. Ну и пускай, из кожи вон лезть он не станет. Зато вдоволь поест настоящего мяса вместо вонючей падали, которой его до сих пор потчевали в паршивых придорожных корчмах. И послушает звуки человеческих голосов, шелест светской беседы вместо грубой солдатской брани. И отдохнет под музыку еврейского оркестра от надоедливого скрипа конской упряжи.
Ну и выпьет хорошего вина вместо сатанинской мочи, которую эти варвары называют водкой. Здесь, в гостеприимном, веселом и уютном уголке, все пережитое за последние месяцы и даже дни кажется лишь кошмарным наваждением, а все эти Куцы, Астафьевы, Орловы — ночными мороками, которых ничего не стоит прогнать одним взмахом руки с зажатым в пальцах куском мяса.
Внезапно Джакомо почувствовал на себе чей-то пристальный взгляд. Незаметно, со сноровкой привыкшей к преследованию дичи, огляделся. С другого конца стола ему заговорщически улыбался русский офицер, накануне руководивший захватом корчмы. Казанова мгновенно вернулся на землю. Не время витать в облаках. Сейчас нельзя расслабляться.
— Что самое интересное, — еще раз попробовал он привлечь внимание соседей, — что самое интересное, подобной магнетической силой обладаем и мы, люди, хотя не подозреваем об этом. Но я готов доказать, что с ее помощью можно переносить горы. При желании, разумеется. Что бы вы сказали, если бы я сейчас выпустил из рук этот кусок благородного косульего мяса, а он, как ни в чем не бывало, остался висеть в воздухе?
И театральным жестом поднял левую руку, словно собирался исполнить свое обещание, но зрители остались, на удивление, безразличными. Подросток поглядывал на него с некоторым испугом, старушка увлеченно облизывала косточки. Джакомо громко кашлянул, однако она даже не шелохнулась. Еще громче — никакого впечатления. Наклонился к мальчику:
— Она глухая?
Тот не ответил, только робко пошевелил губами.
— Не слышит?
Мальчик снова беззвучно произнес какую-то фразу и наконец решился:
— Простите, я не понимаю по-французски.
Окорок косули не повис в воздухе, удерживаемый магнетической силой, а грохнулся на серебряную тарелку.
Кто-то положил руку Джакомо на плечо:
— Вот мы и встретились, герр Казанова.
Купец из Ганновера. Раньше он своих попутчиков не заметил, хотя, вероятно, они здесь давно. Странно: ведь купчишек за один стол с дворянами не сажают. И откуда этот тип знает его фамилию? Насколько помнит, он ему не представлялся. И что за фамильярность!
— Неисповедимы пути Господни, герр…
Купца за его спиной уже не было. Джакомо увидел только высокую фигуру, исчезающую в темноте.
Этот эпизод раздосадовал его и заставил удвоить бдительность. Даже в таком приятном уголке нет покоя. Сперва этот офицеришка, теперь бородач из Ганновера. Похоже, они связаны какой-то таинственной нитью. Но что у них может быть общего? Стараясь не привлекать к себе внимания, Джакомо вышел из-за стола. Сунул в карман кусок коврижки, прихватил яблоко. Как бы там ни было, хоть его свита, примостившаяся у ограды дворца, подкрепится чем Бог послал..
Пробираясь между оживленно беседующими гостями, Казанова настороженно озирался по сторонам. Какой-то лакей, длиннорукий тощий верзила, пошатнувшись, упал, едва не потащив его за собой, и теперь неуклюже пытался подняться с помощью столь же нетвердо стоящего на ногах франта в сбившемся набок парике. Прислуга в такую пору пьяна? Странновато; впрочем, разве судьба не должна быть одинаково расположена ко всем?
За пределами освещенного круга, у подножия лестницы, ведущей в сад, стояли простые деревянные сундуки, небрежно прикрытые попоной. Пахнуло смолой и краской. Джакомо приостановился, сунул руку под крышку ближайшего сундука. Ну конечно: знакомая адская вонь и дьявольское содержимое. Скелеты из лакированного папье-маше. И тот, безголовый, чей череп мирно лежит в его дорожной сумке, тоже, вероятно, здесь. Какая все-таки мерзость! Забава для ненормальных баб с извращенными наклонностями. Рука наткнулась на что-то скользкое и холодное. Брр! Это уж точно не кость из папье-маше. Казанова отскочил, крышка с грохотом захлопнулась. Какой-то детина, дремавший за сундуками, встал, угрожающе что-то бормоча. Испугаться Джакомо не успел — к ним приближалась графиня. Детина тоже ее увидел, мгновенно затянулся и поспешил ретироваться.
— Удивляетесь?
Графиня показалась Джакомо озабоченной, пожалуй, даже растерянной. Он хотел было возразить, но светская болтовня ему уже осточертела, да и не хотелось напрягать усталый ум, чтобы изрекать банальности в столь необычной ситуации. Удивляется? Чему? В последнее время он столько всякого навидался, что удивить его могло бы лишь собственное удивление. И в ответ только улыбнулся, хотя предпочел бы пожать плечами.
— Я мечтала создать рай на земле, сады, дворец Дианы, храмы, располагающие к размышлению о бренности всего сущего. Там бы нашлось место этим… фигурам. Но теперь… теперь не до того.
«Мне бы твои заботы, глупая женщина, — подумал Джакомо. — И твои деньги. Уж я бы их на поддельные скелеты тратить не стал. Скорее на тела из плоти и крови». Однако, когда графиня непринужденно, словно старого знакомца, взяла его за руку, несколько изменил свое о ней мнение.
— Не подумайте, что здесь всегда так. Честно говоря, я не очень люблю людей, просто сегодня особый случай.
Сучка ощенилась или супруг прислал из Парижа письмо с требованием развода?
— Я это чувствую. — Джакомо ответил на ее пожатие, с грустью подумав, что единственное испытываемое им сейчас чувство — бессильная апатия, тоска, парализующая мозг и эмоции. Ничего ему, в сущности, не хотелось, а ведь должно было быть совсем наоборот; может, причина в вине, а возможно, он просто стареет; впрочем, не следует забывать, что ему здесь предстоит сделать и каким способом, нельзя лежать, когда стоишь, и молчать, когда надо говорить, без лошадей из этой глуши не вырваться, не увидеть не только Парижа, но и Варшавы, грудь, однако, у графини недурна, пожалуй, очень даже недурна, вряд ли у нее есть дети.
— Это, собственно, прощальный вечер. Я собираюсь уехать. Здесь становится небезопасно. Леса кишат вооруженными людьми. Никто не знает, кто они и чего хотят. А я даже знать не хочу. Уезжаю и, быть может, никогда не вернусь.
Казанова начал просыпаться.
— В Петербург?
— Шутите — пока в Варшаву.
Все, что в нем дремало, мгновенно пробудилось, что готовилось ко сну — воспряло, ожили чувства и память. Кровь, горячая кровь, вновь побежала по жилам. Он снова стал собой — мудрецом и силачом, хитрой лисой и быком, всех подчиняющим своей мужской мощи, кавалером де Сенгальт и Джакомо Казановой в одном лице. Вот он, долгожданный шанс!
— Что за совпадение! — воскликнул он и продвинулся поближе, чтобы графиня смогла уловить запах французской лаванды, который, смешиваясь с потом, неизменно действовал лучше любого приворотного зелья. — Я бы охотно к вам присоединился, да боюсь, мои лошади не скоро еще придут в себя.
И с графиней произошла перемена: Джакомо не сомневался, что румянец на ее щеках — следствие скрытого возбуждения.
— Такие у вас скверные лошади?
— Им здорово досталось — скакали целый день и целую ночь.
— Вредно так переутомляться.
И словно бы невзначай подняла руку. Груди так и просили, чтобы к ним прикоснулись.
— Вы разрешите воспользоваться вашей каретой?
— Как знать — возможно.
И больше ничего, ни тени улыбки — железное самообладание. Но Джакомо уже понял, что рыбка проглотила крючок.
Он лишь на секунду выпустил руку графини, чтобы отдать распоряжение пожилому лакею, похожему на неровно остриженного пуделя: там, за воротами, его ждет прислуга, надо ими заняться. Старик замешкался — то ли недослышал, то ли не понял, что ему приказали, — однако, когда рука Казановы снова сжала локоток графини Раевской, засуетился: да, да, не извольте беспокоиться, ясновельможный пан.
— Ты его знаешь?
— Кого?
Ну конечно, одурманенный усталостью, вином и любовной баталией, он принимает мысли за слова.
— Короля. Вашего короля.
Они лежали, отдыхая, на прохладной постели. Она шевельнула ногой, покоящейся на его груди.
— Да. Кажется, мы с ним даже в дальнем родстве.
В первый момент Джакомо чуть не поддался желанию дать деру. Он уже видел, как соскакивает с кровати, торопливо хватает одежду и стремглав бежит по коридорам дворца, по опустевшему двору, через парк в лес — лишь бы подальше от западни, в очередной раз поставленной женщиной, близкой к монаршьей особе. Однако продолжал лежать. Что ему может грозить? — это не Петербург, и польский король — не российская императрица. Скорей бы уж следовало опасаться ревнивого мужа, но, кажется, муж не ревнив и уже несколько лет живет с любовницей в Париже. Глупец, не понимает, что потерял. Джакомо приподнял голову, чтобы лучше видеть графиню. Он наблюдал за ней и во время любовных игр — надо же пополнять закрома памяти, — а их тела, залитые голубоватым лунным светом, как раз являли собой картину, которую стоило запомнить и даже описать. И теперь он с удовольствием рассматривал сильные бедра, твердые выпуклые ягодицы, требующие, чтобы их гладили, похлопывали, тискали и раздвигали. Ничего больше не было видно: графиня лежала так, как он ее оставил, на животе, зарывшись головой в подушки. Только ноги перебросила через него, словно хотела таким способом удержать. Могло ли повезти больше?
Положил руку на атласное бедро, нежно погладил. Графиня не шелохнулась, но его это не обескуражило. Он и сам еще не был готов и предпочитал, наслаждаясь, медленно ее возбуждать. У нее было великолепное тело, и она умела им пользоваться. В первый раз, правда, отдалась ему как неопытная девушка, но потом — будто прежде лишь испытывала его возможности — перехватила инициативу. Он был ее добычей, а не она — его. И ему вовсе не помешало, что она сама его раздела, а затем велела раздеть себя, и покрывала поцелуями его тело, и направляла его губы, и наконец, после первого сомнамбулического соития, его оседлала, и затем позаботилась, чтобы он оказался наверху. Такими умеют быть только зрелые женщины. Робкими и бесстыдными, невинными и разнузданными одновременно. Он бы не был собой, если б не смог этого оценить. Но все же его мужская гордость была чуточку уязвлена.
— Почему ты спрашиваешь?
Властная женщина даже в постели остается властной; похоже было, податливость боролась в графине с привычкою управлять. Но теперь пришел его черед. Он покажет, на что способен. Рука Джакомо скользнула вверх по внутренней стороне бедра. Другая рука поискала грудь.
— Я — исследователь нравов. Объездил уже всю Европу. Моя миссия… — На этом слове он запнулся, но тут же решительно продолжил: — По просьбе короля Франции и королевского географического общества я изучаю жизнь разных народов, знакомлюсь с монархами, их окружением, придворными церемониями.
— Ты шпион?
Груди, чьи нежные венцы начали твердеть и приподниматься под его пальцами, задрожали от сдавленного смеха.
— Скорее философ. Это весьма несхожие профессии, можешь мне поверить. Меня интересует не худшее в человеке, а лучшее.
— В женщине?
— В человеке.
Он почувствовал ее пальцы, а затем и губы на животе. Пожалуй, тут долго не сдержишься.
— А что самое лучшее в мужчине?
— То, что ты имеешь в виду.
Пока Джакомо подыскивал подходящие слова для продолжения беседы, то, что имела в виду его новая любовница, все смелей набухало. Она хотела о чем-то спросить, но он закрыл ей ладонью рот.
— Лучшее в мужчине то, что служит другим.
И, перевернув на спину, примостившись у нее между ногами, стал губами водить по животу, постепенно спускаясь вниз. Графиня рванулась, но он держал крепко.
— Умение управлять. Это меня больше всего интересует. Искусство властвовать. Я намерен написать об этом трактат.
Провел языком вокруг пупка.
— Ты представишь меня королю?
— Когда только захочешь!
Голос ее вдруг стал покорным, напряженным от ожидания. Но Джакомо не спешил.
— Он был любовником царицы? Это правда?
Она опять, еще решительнее, попыталась освободиться, оттолкнула его обеими руками, но и на этот раз не смогла вырваться из крепких объятий.
— Правда. Но она тогда еще не была царицей.
Теперь он уже был близко, совсем близко к цели. Губами, кончиком языка, носом, подбородком изучал границы чувствительности роскошного тела. Гладил, нажимал, мял, наслаждался, но туда, где его ждали, пока не заглядывал.
— Это она посадила его на трон?
— Иди ко мне, милый.
То был уже стон, мольба — не только тела, но и души. Возможно, этих слов он и ждал. Так не обращаются к случайному любовнику, неразборчивому бабнику, коллекционеру постельных приключений. Так человек говорит с человеком. Растрогавшись, Джакомо потерял бдительность, и графиня судорожно сжала бедра. Больше он ничего не видел, ничего не слышал. Целиком утонул во влажной пульсирующей щели, нежной, но способной и задушить. Собрав остатки сил, вырвался и, ежесекундно соскальзывая в алчное чрево, стал взбираться вверх по кудрявому, остро пахнущему бугорку. Она схватила его за уши, стараясь удержать, но он не сдавался. Еще не время, ему еще кое-что нужно узнать, о чем-то важном спросить, быть может, от этого зависит его судьба. Просто необходимо… Даже ценой потери ушей.
— Послушай, — выдавил он, с трудом переведя дыхание, понимая, что ее страсть сейчас сокрушит его сопротивление, — а у вас в Варшаве есть французская лотерея?
И был готов.
Ранним утром, когда туман едва начал подниматься с лугов и лишь смутный свет предвещал солнечный день, Джакомо — босиком и в одном белье — вышел на террасу дворца. Пораженный открывшимся видом, он не почувствовал ни холода, ни сырости каменных плит. Стволы могучих деревьев окаймляли тянувшиеся до самого горизонта луга. В отдалении мирно паслось стадо косуль. Большие черно-белые птицы кружили над прудом. Здесь не требовалось доказательств, что Бог существует, а законы Истории разумны. Все было на своих местах — прекрасное, спокойное, безмятежное.
Наверное, стоило только захотеть, и он бы мог любоваться этими рассветами до конца своих дней, бок о бок с красивой и нежной любовницей. Стоило только захотеть… Джакомо с грустью отогнал эту мысль: да хоть бы и захотел — за него решают другие. Он не сможет остаться, не сможет любить эту великолепную женщину, спящую сейчас глубоким сном в нескольких шагах от него, не будет кормить косуль, косить траву на лугу и писать мемуары в библиотеке на втором этаже. Другие… Пусть и они попадут в ад, раз вознамерились осудить его на вечные муки.
Вдалеке едва слышно прозвучал выстрел. Косули бросились врассыпную, птицы над прудом, раскинув крылья, взмыли в небо. На опушке леса появился всадник и мгновенно исчез.
Лишь теперь Джакомо почувствовал, что дрожит от холода. Сволочи, свиньи, не радуйтесь, не на того напали. Он еще им покажет.
Оделся тихонько, чтобы не разбудить графиню, и сошел вниз. Ему не хотелось стеснять ее своим присутствием: утро — не лучшая пора для ночных любовников. Они еще познакомятся поближе — впереди много времени. Здесь, а главным образом — в дороге. Сколько дней отделяет их от Варшавы? Пять, десять? Успеют друг другом насытиться.
Во дворе было пусто, только садовник заравнивал грабельками вмятины от колес на гравии аллеи. Больше никаких следов вчерашнего празднества не осталось. Видно, не вся прислуга ночью была пьяна. Джакомо услыхал голоса, доносящиеся из низкого крыла дворца, и направился в ту сторону. Поколебавшись, вошел в дом. Две босые девахи, сидя на корточках, соскребали со стенок котлов остатки пищи. От них исходила такая первобытная сила и чувственность, что Казанова загляделся не совсем бескорыстно. Закусил губу, на мгновение, краткое, как вздох, ощутил сладкий вкус свободы. Хотел спросить про своих, про Иеремию и девочек, но посудомойки, едва услышав и увидев его, разразились таким хохотом, что Джакомо захотелось поскорее уйти. «Что за черт? — взглянул он на свое отражение в оконном стекле. — Перепачкался чем-нибудь или криво надел парик? Темнота», — пробормотал, слегка — совсем чуточку — уязвленный. Приятнее было бы, конечно, запомнить их широкие задницы, чем этот идиотский смех. Опять закусил губу, но прежнее ощущение не вернулось.
Потом он зашел в конюшню. Так и есть: вся его троица спала на соломенной подстилке в углу пустого стойла. Двойняшки, по своему обыкновению крепко обнявшись, буквально переплетясь рыжими кудрями. Иеремия у них в ногах, напряженно вытянувшийся, бледный. На худеньком лице мелькнула тень улыбки — мальчик словно почувствовал, что его спаситель рядом. Пускай спят. Сегодня им нечего делать. А если вдруг нагрянет корчмарь, прислуга графини выгонит его в три шеи.
Джакомо прошелся по конюшне; лошади дружелюбно зафыркали. Хорошо бы оседлать какую-нибудь и отправиться на утреннюю прогулку. Однако, после вчерашнего случая, лучше не рисковать. Вдруг его взгляд наткнулся на перекинутые через загородку стойла мундиры российских жандармов. Уносить ноги? Нет, достаточно ступать потише. Да и чего ему бояться? Хамства этой солдатни? От хамства не умирают. Подошел поближе. Лежащие вповалку тела в грязном белье, широко разбросанные ноги, голые груди, головы, утопающие в соломе. На миг от страшного подозрения перехватило дух. Убиты? Перерезаны, как бараны, в отместку за тех поляков? Да нет, похоже, бараны живы. Лежащий с краю солдат пробормотал что-то протяжно и тоскливо — может быть, пожаловался своей подружке? — потом напрягся и с шумом выпустил прямо Казанове в лицо смрадный гейзер. Скоты! Перепившиеся скоты! Как он сразу не догадался. Пьянь вонючая! И таких боится вся Европа? Напрасно. Достаточно хорошенько их поить, и можно жить спокойно.
Джакомо осмотрелся в поисках офицера, но того в конюшне не было. Небось храпит где-нибудь во дворце. Тоже скотина — еще похуже этих.
Никем не задерживаемый, Казанова вышел через заднюю дверь.
В тени конюшни стояли возы ганноверских купцов. Шесть, девять, двенадцать. Вот не думал, что их столько. Часть сундуков уже сгрузили, но еще немало осталось на телегах. Нет, тут кто-то определенно сошел с ума. Кому и зачем понадобилась такая уйма поддельных скелетов? Сколько храмов Дианы нужно этой нищей стране?
Казанова приблизился к возам. Неужели и здесь никого трезвого? Похоже, вообще никого. Да и зачем охранять эту мерзость — только безумец может на нее польститься. Впрочем, что это? Из груды как попало сваленных сундуков выглядывал весьма любопытный предмет. Тонкой — вероятно, миланской, а возможно, дрезденской — работы портшез. Сущее чудо. Оконца из хрустального стекла, изящные дверцы с серебряной инкрустацией, черного дерева шесты для носильщиков, тоже украшенные серебром. Игрушка! В самый раз для него.
Оглядевшись украдкой, Джакомо залез внутрь. Там тоже было великолепно: мягко, шелковисто, уютно. Надо уговорить графиню купить ему этот портшез. Уж такую-то мелочь он заслужил.
Развалившись на подушках, Джакомо вытянул ноги и — сам не заметив как — уснул. Но далеко не убежал: сон, вскоре ему приснившийся, оказался ничуть не приятнее яви последних недель.
Он в огромной бальной зале, мимо проносятся разряженные пары, лица у танцующих застывшие, незнакомые. Чем сильнее его к ним тянет, тем больше они отдаляются. В конце концов он остается в центре пустого круга один. Что ж: коли так, один и будет танцевать. Покажет, что такое настоящий танец. В тишине, поскольку музыки нет — слышен только шелест перешептываний да покашливания, — легко, стремительно подымает ногу для первого пируэта и, ради пущего эффекта, замирает, как вдруг видит, что через всю залу к нему несется пятнистый пес со злобно ощеренной пастью. Еще секунда, и зверь с рычанием впивается ему в икру. Опустить ногу нельзя, будет испорчено все впечатление… но откуда в бальной зале пес?.. Черт, никак его не стряхнешь, сейчас вырвет клок мяса, не говоря уж о лучших панталонах, — и Джакомо заканчивает пируэт, подпрыгивает, раскланивается с вцепившимся в икру, рычащим, как сатанинский оркестр, дворовым псом.
Очнулся Казанова с неприятным ощущением, будто сон продолжается наяву. Рычание почему-то не прекратилось. Джакомо выглянул в окошечко портшеза. Пятнистая дворняга из сна возилась с чем-то, на первый взгляд похожим на крысу. Крыса? Такая большая и вдобавок белая? Господи, да это же барсучий хвост, магический талисман, подарок маркизы д'Юрфе![10] Как он попал в пасть к этой твари?
Резко вскочил, не удержавшись, упал обратно на мягкие подушки, однако успел увидеть нечто, до глубины души его возмутившее.
Кофр, его кофр, стоял открытый на сундуке, и один из ганноверских купцов — тот, что пониже ростом, заросший по самые глаза бородой, — грязными пальцами ощупывал рукава его дорожного кафтана. Что он себе воображает, дикарь! Думает, кто-то бросил эти прекрасные вещи?! Сейчас получит по роже — зубы полетят. Жаль, нет под рукой шпаги…
И Джакомо в ярости выскочил из портшеза, готовый орать, бить, увечить. Однако слова застряли в глотке, а ноги вросли в песок двора: за спиной кудлатого мерзавца какие-то молодые люди в полувоенной форме разбивали сундуки с фальшивыми скелетами и вытаскивали оттуда обвернутые тряпьем винтовки.
Бородатый купец, увидав Казанову, ничуть не смутился, удостоил его лишь беглым взглядом и снова запустил руки в кофр. Это уже слишком! Шайка грабителей и контрабандистов! Джакомо замахнулся ногой на пса, но тот вместе с барсучьим хвостом маркизы д’Юрфе нырнул под сундуки.
— Стой!. — каким-то противным, петушиным голосом завопил Джакомо. — Вы что себе позволяете!
Простецкого вида парни, склонившиеся над очередным сундуком, посмотрели на него с любопытством, без тени страха. Что происходит? Такая безмятежность под носом у российских жандармов! Кто рехнулся — они или он? Может быть, все это ему снится? Медленно двинулся вперед. Сейчас он проверит. Но не себя ущипнет, а бородатого ворюгу, да так, что у того мигом пройдет охота рыться в чужих вещах.
— Где они у тебя? — Из рукава кафтана, который тот ощупывал, вдруг высунулось дуло пистолета. — Где документы?
Казанове показалось, будто волосатые лапы шарят по его телу.
— В заднице, — буркнул он и бесстрашно приблизился. Пистолет был его, а он не имел привычки возить с собой заряженное оружие. — И тебе там место.
— Ни шагу дальше. — Бородач швырнул кафтан ему под ноги. — Ни шагу.
Подойти как можно ближе — это правило накрепко вбил Казанове в голову раскосый учитель, — вот так, и плевать, что придется наступить на собственный кафтан. Остальное не составляло труда: два быстрых удара — по запястью и по шее, — и купец, выронив пистолет, упал на колени.
— Видишь. — Джакомо невозмутимо, больше на него не глядя, отряхнул кафтан от песка. — Видишь, сколь неосмотрительно поднимать руку на ближнего, если кишка тонка. — Заметил краем глаза, что тот намеревается сделать, и пинком отшвырнул пистолет в сторону. — Если кишка тонка и пистолет не заряжен. — И, не будучи уверен, понимает ли бородатый, что ему говорят, на всякий случай добавил по-немецки: — А рука зачешется — поковыряйся у себя в заднице.
Своеобразные у графини гости, подумал он, наклоняясь за пистолетом и не спуская глаз с подозрительно не проявляющих интереса к происходящему молодцов возле сундуков. Они и не подумали броситься купцу на помощь, кажется, даже усмехались украдкой — значит, не ганноверцев люди. Чьи же тогда? Наверно, слуги графини. Зачем ей столько оружия? Кто знает. Кто здесь вообще хоть что-нибудь знает. Черт, цел ли картофель? К счастью, мешочек был на месте. Что этот бородатый искал? Какие документы?
— Соберешь все и принесешь во дворец, понял? — Джакомо помахал пистолетом перед носом у поднимающегося с земли купца. — Не то я тебя… пиф-паф.
И шутки ради нажал на спуск, целясь в портшез. Грянул выстрел, настоящий выстрел, хрустальное окошечко разлетелось вдребезги. Казанова оцепенел: кто-то зарядил пистолет, значит, этот болван не просто его пугал, он мог его застрелить, пробить голову, продырявить живот. Боже, еще бы секунда — и… Если бы, кинувшись на бородача, он допустил малейшую ошибку или не слишком сильно его напугал…
Купец не стал ждать, пока смолкнет гром выстрела, а Казанова поймет, что произошло, — вскочив, неуклюже пустился наутек. Пес бросил остатки барсучьего хвоста и помчался за ним.
Санта Мадонна, он мог погибнуть по глупой случайности, как последний дурак, от руки еще большего дурака, который даже не понимал, на кого замахнулся. И это после фантастической ночи, когда он решил начать новую прекрасную жизнь.
Ярость прибавила Казанове сил; догнав в несколько скачков бородача, он пнул его в зад — раз, другой; потом, вплотную приблизившись, третий; потом, отскочив, изогнувшись, четвертый; и, снова выпрямившись, сопя от бешенства, пятый; так они выкатились из-за угла конюшни во двор.
Часовой у ворот, завидев пистолет Казановы, угрожающе направил на него дуло, хотел что-то крикнуть, но вдруг обмяк и со стоном выронил ружье. Из-за дворца, размахивая саблями и стреляя на скаку, вылетели десятка два верховых. Бородач бросился на землю, закрыл голову руками. Да, это не вчерашний фейерверк; пули откалывали от дверей щепки, всадники приближались: одни — в бело-голубых мундирах, другие — в чем попало. Поляки, подумал Казанова, доблестные поляки! Наконец-то. Пришел конец его мучениям, сейчас он им все объяснит, скажет, кто он такой. Нет, немного позже — сейчас они в нем увидят просто удобную мишень.
Раздумывать не было времени. Перепрыгнув через упавшего часового, Джакомо влетел в конюшню, не забыв выбросить пистолет и пригнуться — в суматохе русские могли принять его за одного из нападающих. Однако жандармы сами были в панике. Полураздетые, заспанные, еще не протрезвевшие, они вываливались из стойла, толкаясь, сбивая друг друга с ног, вопя и изрыгая проклятия. Н-да, это называется: из огня да в полымя. Пока им было не до него, но некоторые, подбадривая себя криком, уже схватили винтовки и могли в любой момент их на нем опробовать.
Попятившись, Джакомо нырнул в ближайшее стойло. Оттуда ему было видно, как двое более-менее трезвых солдат принялись сооружать у ворот баррикаду. По конюшне носился с перепугу сорвавшийся с привязи гнедой жеребец, пронзительным ржаньем полоша остальных лошадей. Кобыла, в чьем стойле Казанова нашел убежище, к счастью, была крепче привязана и не сумела достать его копытами. Впрочем, как знать, не затопчет ли она его минуту спустя в отместку за всех тех кобыл, на которых ему доводилось ездить. Глупо было бы сгнить в куче лошадиного навоза.
Раздались первые хлопки выстрелов — стреляли, вероятно, в окно: с потолка посыпалась труха. Джакомо наступил на что-то теплое и дрожащее. Преодолевая отвращение, поглядел вниз: пес, бело-черный призрак из недавнего сна. Отбросил его пинком — только этой твари сейчас не хватало, — но пес снова к нему подполз. Казанову он сейчас боялся меньше всех. Святой Марк! Ну и положеньице! Не успев проснуться, угодил в дьявольскую западню. Надо было оставаться с графиней, а не изображать деликатного любовника. Графиня, вот кто его вызволит. Только бы раньше не прикончили.
— Не допустить, чтоб тебя прикончили, понял? — сказал он собаке и, ощутив внезапный прилив энергии, изобретательности и воли к жизни, покинул свое ненадежное убежище. Задняя дверь. Вот где спасение. Бросился к двери вдоль левой стены; надо думать, у них хватит ума не двигаться с места. Хотя бы до них добраться. Казанову обогнал скачущий бешеным галопом гнедой; сзади тяжело топали сапоги, раздавались хриплые выкрики: жандармы тоже сообразили, как можно спастись, и, подгоняемые выстрелами и ударами в ворота, в панике устремились туда же, куда и он. Теперь за спиной у Джакомо была отчаянно вопящая толпа полубезумных и полуодетых людей, а впереди — ошалелый жеребец, дьявол во плоти, изрыгающий пену, грозящий затоптать каждого, кто попадемся на пути.
Продолжалось это недолго. Гнедой, испугавшись несущейся вслед за ним оравы, присел на задние ноги, повернулся и бросился ей навстречу. В ту же минуту створки ворот распахнулись, открыв шеренгу солдат, изготовившихся с колена стрелять в конюшню. Грянул залп, но, прежде чем пули сразили коня на пороге свободы, прежде чем воздух сотрясли мольбы с снисхождении, стоны раненых, хрип умирающих и глухие удары о землю безжизненных тел, прежде чем раздался крик победителей: «Да здравствует Заремба!», прежде чем все это — ужасное и незабываемое — произошло, пятнистый пес, обалдевший от страха, запутался в ногах у Казановы, и тот упал, счастливо избежав выпущенной недрогнувшей рукой пули.
Вели его одного; это, конечно, большая честь, но уж очень неподходящее сопровождение. Он ведь друг, а не враг. Даже эти простые парни в нелепой форме и, на его взгляд, слишком неряшливые для служивых могли бы сообразить. Правда, они не понимают по-французски, а к бессвязным объяснениям Иеремии — в конце концов, всего лишь мальчишки — вряд ли отнеслись всерьез. Впрочем, не важно: главное, он жив и не получил ни царапины. Остальное сейчас выяснится. А разок — только этот, один-единственный раз — он готов пройти по двору под конвоем.
Разобраться во внезапно воцарившемся хаосе было нелегко. Двор забит людьми, конными и пешими; на обширный луг за конюшней въезжает вереница обозных телег. Мощь прибывшего отряда поразила Джакомо: к фронтону дворца подкатили даже две небольшие пушки. Несчастным жандармам — окровавленным, полуголым и, несомненно, уже протрезвевшим, — выстроенным в неровную шеренгу перед конюшней, надеяться, ясное дело, не на что. Как вчера тем полякам, подумал Казанова, как вчера нам.
Графиню он увидел на террасе, в окружении нескольких офицеров. Наконец-то. Не будь он такой дурак, стоял бы сейчас подле нее — улыбающийся, невозмутимый, восхищающий провинциальных рубак светскими манерами, — а не брел под конвоем, заляпанный конским навозом, в синяках от ушибов. Но ничего, терпеть осталось недолго.
Помахал рукой — что такое? Графиня не ответила и, прежде чем он успел повторить свой жест, повернулась и скрылась во дворце. Господи, наверное, не заметила его в этой толпе, а то и не узнала. Спокойно, ничего страшного. Конечно же надо вначале привести себя в порядок, а уж потом показываться графине и тому, чье имя выкрикивали оборванные солдаты, — Зарембе, какому-то распоряжающемуся здесь Зарембе.
Но вещи… ведь кофр остался там, около портшеза, рядом с горой винтовок — Джакомо оглянулся, — которые теперь грузят на подводы обоза. Нужно за ним послать — Иеремию с каким-нибудь солдатом поздоровее, или нет, пусть потрудится этот бородатый болван, который хотел его обокрасть и даже застрелить, пускай, скотина, хоть несколькими каплями пота заплатит за то, что учинил. А он, так и быть, ничего не скажет его хозяину.
Но, когда минуту спустя увидел обоих купцов, дружески похлопывающих по плечам офицеров Зарембы, а они, заметив его, насмешливо и злобно оскалились, в душу закралось сомнение: уж не обернется ли все не так, как он думал, а совсем даже по-другому.
— Не унижайтесь, — брезгливо поморщился офицер, когда Казанова в очередной раз бросился к двери, — придет время, нас выпустят.
— Я не намерен ждать. — Он так сильно ударил ногой в дверь, что почувствовал боль в ступне. Но это был пустяк по сравнению с горькой обидой: его, не выслушав, не обращая внимания на протесты, молча затолкали в затхлый погреб, загроможденный бочками с кислой капустой; следом туда впихнули того самого русского офицера, которого на протяжении последних двух дней он видит уже в третий раз. Где графиня, неужели забыла о нем, забыла, какую они провели ночь, и, возможно, сейчас занимается любовью с кем-то другим… Еще раз пнул дверь, но она не поддалась, а караульный снаружи остался глух и нем.
— Я требую отвести меня к полковнику Зарембе!
Сколько часов он тут сидит? Три, пять, а сколько еще продержат? Наверняка не обошлось без ганноверских гнид; ничего, он им отплатит, только бы выбраться из этого подвала.
— Он такой же полковник, как я генерал. Банда, а не войско. Небось даже охраны не выставили.
— Кто б говорил, — фыркнул Казанова. — Уж вы-то точно не генерал. В лучшем случае поручик, вожак пьяного стада, которое позволяет без сопротивления себя перебить, а до того — протащить под самым носом сотни винтовок. Другое дело — убивать беззащитных людей…
Пусть попробует броситься — ему все равно, он его убьет! Невыносимо сидеть под замком, не зная, что впереди, мучаясь от дурных предчувствий. И еще это презрительное спокойствие русского, невесть на чем основанная уверенность, что все закончится благополучно, — с ума можно сойти! Офицер, однако, словно разгадав его намерения, и не подумал подняться с кучи полуистлевших веревок, на которых сидел. Но страшные — потому что правдивые! — слова остались висеть в воздухе между ними, требуя ответа.
— Я не дам вам пощечины по одной простой причине: неохота вставать, — тихим, бесцветным голосом произнес поручик, — кроме того, это противоречит моим принципам. Надеюсь, вы понимаете, что по долгу службы я обязан прежде всего исполнять приказы. Ваша служба, полагаю, требует от вас того же.
Джакомо пропустил обидный намек мимо ушей, даже рассмеялся.
— Хотите меня убедить, что вам было приказано закрыть глаза на целый транспорт оружия, доставленного Зарембе у вас под носом? И пожертвовать своими солдатами? Полно шутить! Никто не поверит.
— А в то, что вы — обыкновенный путешественник, поверят?
Удар попал в цель, но, вероятно, случайно. Он вчера что-то вякнул насчет Астафьева, но это вполне могло сойти за блеф, мало ли народу знает полковника.
— Что вы хотите этим сказать?
— Только одно: государство это — странное, люди — странные, вот и приказы могут быть странными.
В полумраке Джакомо не видел лица офицера, но был уверен, что тот не улыбается. Либо перед ним тихий помешанный, потерявший последний разум от недавнего шока, либо здесь творится нечто, здравому уму непостижимое. На всякий случай, чтоб не дразнить безумца, Казанова удержался от язвительных комментариев.
— Когда нас выпустят?
— Как только стемнеет.
Опять эта наглая уверенность в голосе; нет, он и вправду сумасшедший.
— Нас не прикончат?
— Нет.
— Откуда вам это известно?
— Известно. Никогда прежде такого не бывало.
Если он не сумасшедший, значит, по меньшей мере, дурак, и за такие шуточки следовало бы съездить по этой самонадеянной роже. Повернувшись к поручику спиной, Джакомо снова подошел к двери. Пожалуй, можно посильнее ударить ногой или навалиться плечом, и она слетит с петель, но что толку — дальше железная решетка, заставляющая расстаться с мыслью о бегстве.
— Я не шучу, — поручик словно прочитал оскорбительные мысли Казановы, — что бы вам ни казалось. Мундиры на нас, как видите, разные, мы враждуем, друг за другом охотимся, но по сути — одна большая семья. И напрасно вы удивляетесь.
— Я не удивляюсь, я слушаю. — Джакомо снова взглянул на поручика: откуда, черт подери, у него сигара? Сатанинские штучки?
— В любой семье случаются неурядицы, раздоры, порой и ненависть вспыхивает. Тем не менее семья остается семьей, а при наличии родственных связей кое-чего делать нельзя.
— Вы друг друга убиваете, чего уж больше?
Поручик, похоже ждавший такого обвинения, пренебрежительно махнул рукой.
— Это все пустяки. Не знаю, сумеете ли вы правильно понять. Особого вреда никто никому не приносит — ни мы им, ни они нам.
Не от чего прикурить, мнет сигару в руке. Ненормальный все-таки. Пусть чешет языком. Он лучше займется подвальным окошком, попробует выломать решетку.
— Не верите. А это правда, чистая правда. Таким образом поддерживается некое равновесие. Мы просто необходимы друг другу.
— Это я как раз вижу. — Джакомо подпрыгнул и, на мгновение повиснув на прутьях решетки, увидел неподалеку, в кустах, обнаженное тело и рядом фонтанчики песка, будто вылетающие из-под земли. — Ваших людей хоронят.
— Такое, увы, неизбежно. Весьма сожалею. Они, вероятно, тоже. Поймите, простой солдат жесток и не всегда может с собой совладать. Впрочем, это все мелочи, и не стоит их раздувать — так и суть заслонить нетрудно.
Боится — Казанова только сейчас заметил на лбу офицера капельки пота, — просто боится.
— Ни один хищник — вам, вероятно, доводилось слыхать, — не задирает без нужды дичь, которой кормится. Так и мы. Поверьте. Если б Заремба с нами расправился, сюда бы нагрянула целая рать и от его сброда мокрого места бы не осталось. Он это отлично знает. И потому кусается, как матерый волк: больно, но редко.
— Чего же ваш волк в таком случае добивается?
— Славы. И она у него есть. Мы обеспечиваем ему эту славу. А взамен поддерживаем относительное спокойствие на границе.
— Спокойствием это можно назвать только при очень богатом воображении.
— Согласен. Назовем это контролируемой напряженностью. Нам, видите ли, не очень-то на руку расправа с Зарембой, или как там его на самом деле зовут. Это бы только повредило репутации короля, которому вовсе не хочется прослыть тираном. Да и нам бы не поздоровилось. В награду за доблесть нас бы отправили на Кавказ — драться с горцами, а сюда прислали какой-нибудь жалкий гарнизон.
Слова поручика ничуть не успокаивали Казанову, да и его самого, по-видимому, тоже: он говорил все громче и взволнованнее.
— Не понимаю, зачем вы мне все это рассказываете.
Поручик еще больше разгорячился, он уже почти кричал:
— Вы, иностранцы, не желаете нас понять, выдумываете про Польшу и Россию всякие небылицы.
— Чего уж тут понимать — поляки вас ненавидят, и не без оснований.
Офицер резко привстал, быть может, с намерением броситься на обидчика, но закашлялся, сник и умолк. Когда же снова заговорил, в его голосе не было и следа прежней запальчивости.
— Ненавидят, считаете. Возможно. Но, пожалуй, не больше, чем друг друга. Думаете, Заремба воюет с нами, с Россией? Нет, он борется с собственным государем, которому мы помогаем, как и его единомышленники, и коронное войско. Получается, для таких Заремб, что мы, что польские сторонники короля — один черт. Это братоубийственная война, поляк дерется с поляком, вот оно что.
— Ваши доводы весьма убедительны. Стало быть, вы поляк?
— Да. С моей точки зрения.
Поручик напомнил Казанове Куца с его парадоксальными суждениями и поступками. И вдруг, словно в подтверждение этому, отгрыз кончик сигары, сунул в рот и принялся энергично жевать. Н-да… Пора привести его в чувство.
— Тогда чего же вы боитесь, поручик? Свой среди своих…
Офицер ответил не сразу. Джакомо уже хотел спросить про графиню: какова ее роль во всем этом, но не успел — его собеседник запихнул в рот еще кусок сигары, скривился, но ни крошки не выплюнул.
— Боюсь, в моих рассуждениях есть слабые места. Достаточно небольшого перекоса — и равновесию конец. Если Заремба уверует в свою звезду… Он никогда большим умом не отличался. Эти немцы… О контрабанде оружия мы не договаривались. Словом, если я ошибаюсь, дела наши плохи.
— Меня попрошу не припутывать. — Неужто этот тип полагает, что он позволит поставить себя на одну доску с заурядным офицеришкой, — себя, гражданина иностранного государства, которое не посягает ни на чьи границы и ни с кем не воюет; кроме того, он здесь гость, а к гостям даже при самых диких нравах относятся с уважением, и уж наверняка это известно худосочному умнику с пастью, забитой табачной жвачкой. Или он прикидывается глупцом? — И выплюньте наконец эту пакость.
Поручик ухмыльнулся. Паяц!
— Это на всякий случай. Меня кинет в жар, затрясет, а вы закричите, что я умираю. Может, тогда они поймут, что переборщили. Вы вот не верите в парадоксы, и зря: я впаду в беспамятство, а они опомнятся.
Да, он не верит в парадоксы, он вообще не верит ни единому слову поручика — очень уж все это смахивает на шутовство, если не на безумие, — однако главное уловил: их жизнь под угрозой. Здесь происходит нечто, чего он не предусмотрел. На чашу весов поставлены чьи-то кровожадные интересы. Возможно, через секунду мир полетит в тартарары, и о нем никто не вспомнит, даже графиня, видимо запертая в одной из комнат наверху, еще более беспомощная, чем он. Нельзя, ни в коем случае нельзя сидеть сложа руки в ожидании чуда.
Джакомо внимательно осмотрелся. Есть же отсюда еще какой-нибудь выход. Погреб не тюрьма, он предназначен всего лишь для хранения капусты. И увидел: высоко над головой на сером фоне потолка более темный квадрат — вероятно, плотно закрытый люк. Должно быть, осенью через него в подвал сбрасывают капусту, а потом уже шинкуют и квасят в бочках. И наверняка где-то лежит широкая деревянная доска, по которой скатываются кочаны, — он видел такие в Германии у богатых крестьян, которым предлагал — и небезуспешно — картофельную рассаду. Но этого чуда не произошло — доски не было. Бочки. Если поставить одну на другую, а сверху еще одну… надо попробовать. Казанова поднатужился, но бочка не шелохнулась. Ничего не выйдет.
— Помогите, — отдуваясь, машинально пробормотал он; ясно было, что и вдвоем бочку не сдвинуть, но его раздражала безучастность поручика. — Посмотрим, не удастся ли выбраться этим путем.
Офицер не двинулся с места:
— К сожалению, не могу вам помочь. Это бы противоречило принципам, о которых я упоминал. Нарушать их я не собираюсь. Как военнопленный, ни сам не могу бежать, ни вашему побегу способствовать. Желаете знать почему?
— Нет! — рявкнул Джакомо, задохнувшись от ярости. — Вот ты, значит, какой!
И приблизился к офицеришке, если не сказать, подлетел, словно бочка его толкнула.
— Вставай!
— Предупреждаю: я буду вынужден закричать.
— Попробуй — мои принципы не столь непреклонны. Встать!
Властный ток Казановы заставил поручика вскочить Нафаршированный сигарой и чувством долга, он готов был снести даже оплеуху, но Джакомо отстранил его и взял моток веревки, на котором тот сидел.
Веревка местами совершенно истлела, да и вообще не казалась прочной, однако, если ее распутать и, выбрав куски покрепче, связать их… пожалуй, есть кое-какая надежда. Утяжелив один конец двойным узлом, Джакомо влез на бочку с капустой, размахнулся и… началось! Веревка категорически не желала цепляться за крюк, торчавший из стены под самым люком. Она извивалась, моталась по всему подвалу, яростно хлестала по потолку, свистела над головой, а когда все-таки повисла на крюке, Джакомо сам неосторожным движением ее сдернул. Потом, правда, он своего добился — оба конца были у него в руках, — но к тому времени так измучился, что пришлось довольно долго ждать, пока вернутся силы и он сможет попробовать взобраться наверх. Офицер будто ничего не замечал: отвернувшись, созерцал испещренную потеками стену.
Однако, когда Казанова приготовился к решающему прыжку, протянул к нему скрещенные руки:
— Свяжите меня. Иначе я должен буду вам помешать.
Джакомо сочно выругался, обрушил многоэтажную грязную тираду, какой не постыдился бы самый отпетый венецианский головорез, на веревку, которой пришлось связать поручика, и напоследок самое страшное проклятие шепотом всадил ему в рот вместе с кляпом из оторванного подола рубашки. Только теряет из-за этого идиота драгоценное время!
И вот он наверху; еще минута неуверенности и даже страха, потому что от первого толчка крышка не поддалась, но Джакомо, собрав все силы, повторил атаку, и крышка дрогнула и приоткрылась на ширину ладони. Если секунду назад он ясно видел себя падающим на бочки и даже чувствовал боль от удара, то теперь уже не сомневался в успехе. Люк вел в темную каморку — слишком темную, чтобы ее могли хоть сколько-нибудь разумно использовать. Дверца в стене оказалась закрытой на железный засов, но Джакомо нащупал другую, незапертую; оставалось только повернуть ручку… Он взялся за нее и замер: за дверью были люди, он услышал шаги, шум передвигаемых предметов, наконец отчетливые мужские голоса. Разговаривали двое, по-немецки. Дьявол! Опять ему кто-то заступил дорогу. В отчаянии опустился на пол. Пока эти двое не уберутся, ему не уйти. Они такой шум подымут, что весь полк Зарембы бросится за ним вдогонку. В погреб он не вернется, хотя караульный может в любой момент обнаружить его исчезновение; ни за что не вернется — хватит с него кислой капусты и российских поручиков, сыт по горло.
Внезапно Джакомо услыхал свое имя. Говорят о нем. Невероятно! Приложил ухо к двери. Да, это так. Он превратился в слух, но о чем идет речь, понял не сразу.
Вначале послышался смех — отрывистый, злобный. И знакомый голос тощего купца — это он смеялся:
— Черт, похож, конечно… на бритую обезьяну.
Второй голос возразил обиженно, хотя и несмело:
— Его же там никто не знает. Не нравится, сам нацепляй на себя эту пакость.
Что-то с шуршанием упало на пол.
— Ладно, ладно. Придется купить новый, не станет же такой щеголь ходить в парике не по размеру. Ну-ка покажись. Пройдись немного, свободней, раскованнее, выше голову, грудь вперед.
— Башмаки жмут.
— Вот и хорошо, поменьше шаги будешь делать.
Второй голос, принадлежащий, очевидно, тому ворюге, которого Джакомо недавно застукал роющимся в его кофре, вдруг сорвался на крик:
— Нет, пустое дело! Ничего не получится.
— Должно получиться. — Голос первого звучал решительно. — Это приказ.
Приказ. Слово не из купеческого лексикона. Как и манера говорить. Как и негромкое: «Так точно» — в ответ, и щелканье каблуками тех самых, слишком тесных, башмаков. Покорность второго заставила первого сбавить тон:
— Теперь скажи что-нибудь.
— Что?
— Да что угодно. Чеши языком, как эти недоумки…
— Может, про женщин?
Первый отозвался не сразу, словно раздумывал, что ответить. Недовольно хмыкнул:
— Про женщин… естественно. Или нет — лучше обратись к женщине.
Второй кашлянул, шаркнул ногой:
— Я люблю тебя, дорогая. Позволь сорвать поцелуй с твоих прелестных губок.
— Ничего, недурно, ты делаешь успехи. Только побольше чувства.
В голосе появились какие-то странные вибрирующие нотки. Идиоты! Так, по их мнению, обольщают женщин. Джакомо прильнул к замочной скважине, увидел кусочек стены, но тут же чья-то спина все заслонила. Потом спина переместилась, и он разглядел обоих. Тощий, обняв бородача, вернее бывшего бородача — теперь тот был гладко выбрит, — крепко целовал его в губы. Казанову это могло бы позабавить — в конце концов, мужчинам не чужды разного рода чувства, — не заметь он, что на башке у этой обезьяны — его парик, а лапы тощего верзилы страстно мнут его собственный дорожный кафтан.
Внезапно старший отпрянул и грубо схватил своего возлюбленного за волосы:
— Фамилия!
Тот онемел; только от повторной встряски к нему вернулся дар речи.
— Казанова. Джакомо Джованни Казанова.
— Отец?
— Гаэтано Джузеппе Джакомо Казанова.
— Мать?
— Джанетта Фаруси.
Джакомо уж готов был не раздумывая распахнуть дверь и задать негодяям жару, но вдруг его озарило. Это отнюдь не забава. Как он сразу не понял! Эта бритая обезьяна, этот мерзавец, которого он утром пинками гонял по двору, явно намерен выдать себя за него. Потому и вырядился в его кафтан, потому и несет такое. Видно, проклятые немцы вообразили, что он просидит здесь невесть сколько, а они тем временем обстряпают свои грязные делишки. Не бывать тому, остолопы! При первом удобном случае он их выставит на посмешище.
— Довольно. Бери оружие и пошли.
Голос тощего снова был спокоен и решителен. Звякнуло железо, загудел под торопливыми шагами пол. Когда все стихло и Джакомо остался наедине со своими мыслями, его бросило в жар. Только теперь до него дошло, что замыслили эти лжекупцы, эти наглые лицедеи, прусские, русские или черт знает чьи шпионы. Он понял: у него не деньги, не кафтан и парик, не имя хотят украсть, а жизнь. Они отправились его убивать, в этом нет сомнений.
Дернул за ручку — заперто. Отступил, навалился с размаху всем телом. Сквозь грохот падающей двери услыхал донесшийся снизу звук, похожий на выстрел, но оставил его без внимания. Сейчас надо, призвав на помощь весь свой интеллект и всю интуицию, отыскать путь к спасению. Как уже не раз бывало. Как было, например, когда он бежал из Дворца дожей. Выбравшись на свободу, он не стал свободным человеком. Любой прохожий мог его выдать, любой гондольер — всадить нож в спину, не только не боясь наказания, но, скорее, рассчитывая на награду. Пришлось, убегая от опасности, пересечь границу, надолго покинуть родные края. И отсюда можно попробовать убежать, похитить лошадь и помчаться на юг, но… надежда на успех ничтожно мала. Таких лесов он в жизни не видел — они поглотят его бесследно. Если раньше не зарубят головорезы с выбритыми затылками, мимо которых, спящих на траве или режущихся в карты, он сейчас шел, направляясь к дворцу. Спасения искать следует только там.
Никто, к счастью, не обращал на него внимания. Вид у Джакомо был не ахти какой, но и не такие оборванцы шастали по двору. Он огляделся: никто его не преследовал, вокруг флигеля, где держали пленных, было тихо, он стоял словно бы в стороне от всеобщей суеты. А выстрел? Почудилось, не иначе. Немцы, возможно, еще ищут его по подвалам. Пускай ищут, болваны. Он только выиграет время — легче будет их разоблачить.
Казанове не понадобилось взламывать двери, протискиваться в окна или проникать во дворец через крышу — все было открыто и доступно. И Зарембу он долго не искал — увидел в первом же зале, — и пробиваться к нему не пришлось: сидящая рядом с полковником графиня заговорщически ему кивнула. Улыбающаяся, элегантная, она в этом обществе чувствовала себя весьма непринужденно. Скорее всего, ее никто не арестовывал — почему же она ничего не предприняла для его освобождения? Впрочем, размышлять над причиной такого поведения не было времени. Пробравшись среди обступивших Зарембу офицеров, Джакомо приблизился, испытывая некоторую неловкость за свой непрезентабельный вид, но, не успел и рта раскрыть, как графиня что-то шепнула полковнику на ухо.
Заремба, приземистый блондин с не слишком умным лицом записного вояки, оснащенным внушительными усами и не менее внушительным носом, оторвал мутный взор от карт и уставился на Казанову. Поначалу не слишком дружелюбно, однако, выслушав графиню, смягчился и заговорил неожиданно приветливо:
— Простите, сударь, за это… — задумался в поисках подходящего слова, — недоразумение. Бывает, случается, вас, вероятно, приняли за кого-то другого. Короче — садитесь.
Палец полковника не только указал на кресло, но и заставил сидящего на нем тучного офицера вскочить и покорно уступить место Джакомо.
— Били? — Услышав отрицательный ответ, Заремба удовлетворенно кивнул. — Пусть бы только попробовали. Мы не дикари, какими бы нас хотелось считать миру. Я прав?
Графиня чарующе улыбнулась, офицеры хором выпалили: «Так точно!» — а Казанова с досадой осознал, что не знает, как ответить. Тут все не так просто, мелькнуло в голове, грубой лестью полковника не возьмешь. Перед ним настоящий кабан-одиночка, старый опытный зверь, вожак, умеющий заставить стаю слушать и любить себя, и воин, пребывающий в вечном противоречии между велением своего рассудка и горячностью нрава. Что пересилит сейчас? Казанова заметил на лице графини тень страха. Только теперь, коварная, за него испугалась? Еще недавно эти губы…
— Мир признает правоту тех, кто ее постоянно доказывает. Истина сама редко бросается в глаза.
Заремба понял, какой смысл вложил в эти слова Казанова, смерил его испытующим взглядом, нахмурился, но счел за лучшее не нападать, а защищаться.
— Нами правит тиран. Честную борьбу с ним вести нелегко. Но ради свободы мы готовы на любые жертвы. Пленных, например, отпускаем. Вы это знали?
Знал, и даже знал почему. Но для них: конечно, нет, откуда ему знать? Итак, не знал.
— Видите, это не вяжется с тем, что о нас пишут.
— На меня можете положиться: я никогда не напишу того, чего не видел собственными глазами.
Немного саморекламы не повредит, но и ни к чему не обяжет.
— Вот это я понимаю — это позиция человека чести.
Заремба был явно удовлетворен, графиня успокоилась, облегченно вздохнула. Джакомо почувствовал, что разрядил висящее в воздухе напряжение, что, засвидетельствовав в нескольких точных фразах свое прямодушие, усыпил естественную настороженность полковника. Хотя не до конца, не до конца. Неужто и у него есть какие-то права на графиню?
— Господин Казанова пишет политический трактат о методах правления. Так ведь, я не ошиблась?
Графиня словно прочитала его мысли и решила сделать приятное им обоим. Заремба с достоинством распрямился, напустил на себя важный вид.
— Пишите, но только правду. О Телке и его деспотизме: как он хочет украсть у нас свободу, превратить искони свободных людей в невольников, в лакеев, в пешек в шахматной партии, которую разыгрывает со своей московской любовницей.
Карта, карта в руке Зарембы занимала Джакомо куда больше, чем рассуждения о недостойных правителях, чем — уже вновь обещающая — улыбка графини.
— Пока это всего лишь проект, беглые наброски, требующие подкрепления фактами. Но если время и здоровье позволят…
— Мы в вашем распоряжении.
Заремба очертил в воздухе дугу: полмира в его, Казановы, распоряжении. Но Джакомо сейчас отдал бы целый мир за один взгляд на карту, которую машинально теребила рука полковника.
— Буду очень обязан. — Казанова старательно поддерживал светскую беседу, понимая, что от нее зависит его ближайшее будущее, хотя мысли его были совсем о другом. Если б можно было на все наплевать, он бы вырвал у Зарембы эту столь необходимую ему карту, узнал, где находится и как попасть в Варшаву; если б можно было на всех наплевать, запустил бы руку графине под юбку и выяснил, сохранилось ли хоть что-нибудь от ее ночной пылкости. Начал он с карты. Воспользовался тем, что к полковнику приблизился раскрасневшийся, точно от быстрого бега, офицер.
— Прекрасный шрифт. Разрешите взглянуть?
Заремба, который откинувшись назад, со вниманием слушал негромкое донесение офицера, ничего не ответил, но и не остановил Казанову, когда тот взял карту и повернул к себе.
— Чувствуется влияние готического шрифта, но это не портит общего впечатления. Я кое-что в таких вещах смыслю, ибо по профессии — каллиграф, правда, в прошлом.
Темные пятна лесов. Темно, темно, вплоть до самой Варшавы. В одиночку ехать — верная погибель.
— Серьезно? И конечно же пишете о каллиграфии трактат?
Карта была исчерчена извилистыми линиями, нанесенными цветной тушью. Должно быть, маршруты отряда Зарембы. Зеленая стрелка с востока нацелена на Варшаву. Это уже кое-что. Джакомо уловил насмешку и странное раздражение в голосе графини. Поднял глаза. Он не ошибся. Графиня явно разгневалась. На него или, может быть, на Зарембу, переставшего обращать внимание на все и на всех?
— Вы правы, графиня. Трактат о каллиграфии уже готов.
Не поверила. Что ж, правда не убедительнее лжи, ему на этот счет кое-что известно. А трактат о каллиграфии он и вправду написал, только мало кто этим заинтересовался. И меньше всех женщины, убежденные, что путь от округлостей и завитушек букв до их собственных животов, ягодиц и кудрявых бугорков не просто далек, но и уводит в противоположную сторону. Графиня перевела взгляд на окно. Подозревает его в равнодушии и отвечает тем же. Ну конечно, ждет, чтобы я всех тут перестрелял пальцем, а еще лучше — своим фаготом. Или завалил ее посреди зала и изнасиловал на глазах Зарембы и его штаба, а потом описал это в соответствующем трактате. А не она ли, случайно, убедительнейшим образом доказала свое равнодушие, допустив, чтобы он черт-те сколько времени жрал капусту в заплесневелом подвале? И это после клятв, признаний и планов совместного путешествия? Еще несколько минут назад он был пленником и до сих пор бы им оставался, не позаботься о себе сам. Кто же из них равнодушен — он? Он, чья рука, покоящаяся на карте, неторопливо ползет между стройных бедер, подбирается к самому и самому теплому местечку, дабы убедиться, что ее ночная страстность не была плодом его воображения? Если она этого не чувствует, как еще можно объяснить?
Впрочем, время для объяснений, похоже, неподходящее. Заремба, побагровев, жестом отослал офицера и вскочил. Он не собирался скрывать, что тот принес дурные вести. Брызгая слюной, закричал что-то по-польски, верно отдавая приказы, заставившие стайку безмятежно беседующих офицеров мгновенно рассыпаться, и лишь затем обернулся. Да, это был разъяренный кабан с крошечными бешеными глазками и встопорщенными усищами, похожими на грозные клыки.
— Знаете, что произошло? Убит русский офицер. Пленный. Кто-то его застрелил. Здесь, у нас под носом.
Слова полковника не оставляли места сомнениям. Убит, значит. Выстрел, который он слышал… Боже, ведь эта пуля была предназначена ему!
— Сволочи, хотят опозорить нас на весь мир. Мы не убиваем пленных, слышите?
Джакомо услышал гораздо больше — презрительную фамильярность, с какой обращаются к разоблаченным обманщикам. Необходимо что-то сказать в свою защиту, сейчас же, не мешкая — с уст Зарембы уже готов сорваться приговор. Казанова вскочил, стараясь — главное, сохранить достоинство! — унять щелканье зубов и дрожь в голосе и смотреть полковнику прямо в глаза.
— Я не имею к этому никакого отношения, господин полковник, клянусь!
И уже хотел рассказать все, что знал, но тут карта соскользнула на пол; торопливо за ней нагнувшись, Джакомо вдруг понял, что таким образом разоблачит не только прусских шутов, но и себя. А этого делать ни в коем случае нельзя. И он только пробормотал: «Прошу», — и отдал карту Зарембе.
— Иди ты!..
Карта, описав дугу, полетела на стол.
— Кто вам позволил ее брать?!
Сейчас ударит — Казанова был почти в этом уверен, уже чувствовал кровь на разбитой губе. И все из-за этих проклятых ряженых, он им отплатит, мало что его обокрали и пытались убить, теперь еще чужими руками лупят по морде за собственные грехи… Графиня протиснулась между ними.
— Господа… Пан полковник…
Заремба быстро овладел собой, ярости поубавилось, в голосе прозвучала усталость.
— Кто-то — не важно кто — нарушил наши планы. Нам нельзя здесь оставаться. Надо бежать, и как можно быстрее. Вы поедете с нами.
— Господи, почему?
Графиня переводила с одного на другого испуганный взгляд, Казанова же облегченно вздохнул: ему сейчас было все равно, куда и с кем ехать. Лишь бы не обратно в подвал. И лишь бы с ним не расправились сгоряча. Надо переждать, пока остынет первая ярость, когда не ищут виновных, а бьют вслепую. Потом — о, потом он им сообщит, кто убийца, не откажет себе в таком удовольствии, но это позже, а сейчас — спокойно, спокойно…
— Здесь вы приказываете, — покорно произнес он, мгновенно оценив в уме свое положение: графиня потеряна, денег нет, что с Иеремией и девочками, неизвестно. Отыскать кофр, опорожнить мочевой пузырь. Нет, сперва мочевой пузырь.
— Я бы тоже могла с вами поехать.
Это было больше, чем просьба: груди графини чуть не выскочили из корсажа. Пять минут. Будь у него пять минут… Он бы взял ее с лету, безо всяких прелюдий и пауз, как таран, не переводя духа. Потом можно ехать и на край света. Но Заремба иначе откликнулся на предложение графини:
— Здесь никому ничего не угрожает. Труп мы заберем с собой.
Темнота. Тупой рубака. Что такой понимает в женской душе? Скорей бы уж убирался, дал хоть попрощаться с графиней. Во дворце поднялась суматоха, солдаты бегали взад-вперед, ржали кони, тарахтели подводы. Еще минута — и эта волна увлечет их и понесет неведомо куда.
— Пора прощаться.
Пора. Неужели усатый балбес не уразумел, что мешает им?! Может, не хочет оставлять его без присмотра? Что ж, пускай. Джакомо протянул руку, но Заремба его опередил: решительно обняв графиню, принялся осыпать ее страстными поцелуями. Что за дьявол? Графиня и не думала сопротивляться, даже, кажется, не удивилась. Настолько близко они знакомы? Неужто и у этого солдафона есть на нее права? Как же он сразу не догадался — они тут забавлялись, пока он нюхал капусту и чудом избежал смерти. Ну конечно! Поздно он прозрел. Графиня и не думала его искать, не пыталась освободить. Хуже того: возможно, сама и приказала швырнуть его в этот вонючий подвал. Подлая сука. Кровь бросилась Казанове в голову, перед глазами задрожала красная пелена: рубить, сечь, убивать. Он еще не пришел в себя, когда изменщица, оторвавшись наконец от полковника, повернулась к нему. Безусловно, увидела ярость в его глазах, но не отшатнулась. Джакомо наклонился к ее руке, не зная: укусить или поцеловать, — но графиня ласково приложила палец к его губам:
— Глупенький, это мой муж.
Когда же — не зная, рассмеяться или еще сильней вознегодовать от этой новости, — Джакомо на всякий случай попятился, быстро схватила его руку и положила себе на грудь.
— Может, когда-нибудь еще…
Поджидавший в дверях Заремба ничего не слышал и не видел. Но… рано радоваться. Да, да. Еще две-три такие минуты, и ему не спрятать того, что начнет дырявить и без того дырявые панталоны. Скрестив перед собой руки, словно предлагая связать их или надеть наручники, Джакомо спросил:
— Я арестован?
Заремба не стал скрывать раздражение. Отослав адъютанта с ворохом карт, он неприязненно посмотрел на Казанову:
— Не морочьте мне голову. Пошли.
Больше его Джакомо не видел. Полковник со своим штабом и отборным отрядом умчались вперед, и только на биваках иногда попадались оставленные ими следы — разбитые носы еврейских корчмарей, подчистую обобранные деревни, свежие могилы в местах небольших стычек. Казанова понятия не имел, кто он в этой движущейся на запад, на Варшаву, орде: узник, военнопленный или гость, — но это не имело ровно никакого значения. В общей сумятице все перемешалось; колонны вооруженных людей и вереницы обозных телег то едва ползли по песчаным дорогам, то, подгоняемые слухами о приближающейся погоне, неслись вперед так, что пена хлопьями летела с конских морд. Слухи, к счастью, были ложными, никто их не преследовал, русский офицер с сигарой в желудке и пулей в затылке унес свою тайну в одну из безымянных могил; в общем, на некоторое время все успокоилось, темп марша замедлился, и даже появилась возможность завязывать знакомства.
Казанова не терял времени даром. С той минуты, когда, перекидывая ногу через высокий борт подводы, он увидел просиявшие от радости мордашки девочек, Иеремию, весело оскалившую пасть пятнистую дворнягу и надежно закрытую крышку кофра, к нему вернулись силы и уверенность, что худшее позади. Он был голоден и нищ, но не побежден. Месть решил пока отложить, хотя на каждом биваке высматривал, не затесалась ли в ряды кочующего войска парочка мерзавцев, по которым петля на ближайшем суку плачет. Они не все успели украсть, в кофре нашлась запасная рубашка, парик и, правда, летний, но вполне приличный кафтан. Сара и Этель залатали ему панталоны, а Иеремия на рассвете притащил откуда-то кусок жареной бараньей ноги.
Вскоре разрешилась и проблема денег. Это стоило Казанове нескольких бессонных ночей да легких опасений, как бы бравые офицеры, с которыми он свел знакомство, не изрубили его в куски, заподозрив, что в карты ему везет неспроста. Они проигрывались с треском, в пух и прах, но с достоинством; некоторые отыскивали его на вечерних стоянках и усаживали играть, и опять проигрывали. Вскоре у Джакомо скопилось больше денег, чем было до ограбления. Поэтому, обнаружив однажды туманным утром исчезновение возницы вместе с лошадью, он позволил себе купить не только кобылу, но и вполне приличного верхового жеребца.
Обязанности кучера теперь с неожиданной сноровкой исполнял Иеремия. Казанова после ночных трудов отсыпался в удобном гнездышке, которое соорудили для него на телеге Этель и Сара. Иногда он вспоминал графиню, попробовал даже записать свои недавние приключения, но только перепачкался чернилами и испортил бумагу. Пока еще он не до конца разобрался в этой истории, да и не успел забыть ее неприятные стороны, чтобы с удовольствием описывать случившееся. С наступлением же вечера седлал своего гнедого и в сопровождении дворняги отправлялся на поиски офицерских квартир.
Намерения Зарембы были неясны. Отряд и обоз продолжали двигаться на запад, но карточные партнеры Джакомо только смеялись, когда он спрашивал, далеко ли до Варшавы, и делали вид, что не понимают по-французски. В воздухе носились слухи о королевских войсках, якобы высланных им навстречу. Обозная прислуга перестала с тревогой оглядываться назад — опасность теперь грозила с другой стороны — и устремляла взоры вперед, поверх голов лошадей, с трудом волочивших нагруженные военными трофеями и мешками с мукой, капустой и солью телеги. Путь, который ежевечерне проделывал Казанова, всякий раз удлинялся: либо обоз отставал, либо ускоряли шаг солдаты. Однажды ему даже пришлось, проскакав два часа и никого не найдя, повернуть обратно. Хотя ночь была ясной и звездной, если б не пес, служивший проводником, он бы наверняка до рассвета трясся в седле. Но все равно ужасно вымотался, пока добрался до своих.
Прикрыв жеребца попоной, Джакомо залез в телегу. Подстилка из свежих веточек и соломы пустовала в ожидании хозяина. Девочки заворочались в углу, но тут же успокоились и затихли. Казанова осторожно, чтобы не толкнуть спящего в ногах Иеремию, лег и растянулся во весь рост.
Как ни хотелось ему заснуть, глаза сами открылись. Над головой расстилалось бескрайнее пространство, безмолвное и враждебное. Мириады недвижных мертвых звезд источали бледный гипнотический свет. Джакомо стало не по себе, он почти физически ощутил гнет одиночества. Никого у него нет, и сам он никто. Конечно, перед лицом этой космической мощи всякий — ничтожный червь, и уж тем более он — забытый друзьями, закабаленный врагами, волей случая влекомый с места на место. Что его ждет завтра, через год? Должно быть, это уже записано там, наверху, или кто-то, поспешно и нетерпеливо, записывает каждый его шаг, раздумывая, не последним ли он должен стать…
Казанова заставил себя закрыть глаза. Темнота подействовала благотворно, он уже не казался себе таким беспомощным, и мучительная тревога с каждой минутой отступала. Нельзя поддаваться слабости. Ему еще предстоит кое-что в этой жизни сделать. Может, придет время, когда он кому-то понадобится. Через сто или двести лет кто-нибудь вспомнит о нем и захочет напомнить другим, отыщет его, отчаявшегося и затравленного, на возу, под усыпанным звездами небом, но скорее всего не станет искать, решив, что на свете и без того слишком много страха и одиночества, чтобы еще вызывать их из прошлого.
Джакомо крепко зажмурился, и вдруг что-то его словно толкнуло, и он различил в темноте загадочную фигуру — крупного бородатого человека в вязаной, плотно натянутой на голову шапке. Вначале Казанова увидел его в толпе возбужденных, убегающих от кого-то людей, тычущих в небо растопыренными в виде буквы V пальцами, а затем в темной комнате, склонившимся над листом бумаги, наполовину исписанным странным корявым почерком. Заглянул ему через плечо, стал читать, не понимая ни слова.
«Заставил себя закрыть глаза. Темнота подействовала благотворно, он уже не казался себе таким беспомощным, и мучительная тревога с каждой минутою отступала. Нельзя поддаваться слабости. Ему еще предстоит кое-что в этой жизни сделать. Может, придет время, когда он кому-то понадобится».
Что это значит? Джакомо опять заглянул в листок, но бородатый неожиданно поднял голову и посмотрел на него с укоризной… хотя — нет: что-то, затаившееся в уголках губ, вселяло надежду. Через бездну времени и пространства Казанова явственно ощутил этот взгляд; немой укор так его огорчил, а поощрение так удивило, что он заворочался, чтобы наваждение рассеялось от шуршания соломы. И оказался там же, где был, ни на день, ни на вершок дальше. «Надо заняться собой, — подумал. — Кажется, я начинаю сходить с ума».
Разбудил его громкий стук захлопнувшейся двери. Капитан Куц занес ногу, готовясь одним, точно нацеленным, ударом расплющить ему яйца, но исчез, не успев этого сделать. Весь в холодном поту, Джакомо еще минуту лежал не шевелясь, пока не понял, что это лишь сон. Снова раздался грохот — нет, какая же это дверь, откуда ей взяться в лесной глуши: где-то неподалеку стреляли, ржали кони, кто-то, ломая ветки, продирался сквозь кусты. Казанова мгновенно пришел в себя. Схватил за плечи приподнявшегося Иеремию, знаком приказал девочкам лежать тихо. Здесь, за высоким бортом телеги, относительно безопасно. Прильнул к большой, с палец шириной, щели.
Два всадника в бело-голубых мундирах смотрели в их сторону. Из лесу один за другим появлялись люди, вооруженные диковинными длинными пиками. Джакомо с облегчением убедился, что это не русские. Так, значит, выглядит войско польского короля…
Какой-то случайно затесавшийся в обоз офицер Зарембы внезапно вскочил на соседнюю телегу и хлестнул лошадей. Лошади рванули, офицер попытался на ходу повернуть воз, но увидел, что навстречу ему направляется отряд бело-голубых, и резко натянул поводья. Из-под колес взметнулись опавшие листья, офицер свалился с козел, а переломившаяся надвое телега проехала еще с десяток метров, душа упряжью испуганных коней; на песок большака из лопнувших мешков посыпался сахар. Всадники дружно рассмеялись; несколько человек, отделившись, поскакали к телеге. Офицер Зарембы, немолодой, с высоко выбритым затылком, больше не делал попыток убежать — покорно прислонившись к дереву, ждал, пока к нему подъедут.
Ничего страшного не произошло. Всадники спешились, лошади с радостным фырканьем потянулись к рассыпавшемуся сахару, а бело-голубые, обступив офицера, стали его о чем-то расспрашивать. Вид у них был не грозный, в руках у некоторых даже появились сигары, но Казанове не раз приходилось слышать неожиданные выстрелы, видеть молниеносные удары, внезапно меняющие ситуацию. Поэтому он предпочел еще немного подождать. Пускай сперва между собой разберутся. Он здесь всего лишь гость. Незачем вмешиваться в чужие распри, не его это дело…
Кто-то приближался к телеге с другой стороны. Неужели за ним? Казанова осторожно перевернулся, чтобы лучше видеть. Сара и Этель смотрели на него с улыбкой, кажется, насмешливой; Джакомо погрозил им пальцем: рано осмелели, глупышки. Рядом с телегой остановился офицер в нарядном мундире. Молодой, надменный; таких можно встретить при любом дворе — заносчивых, ко всем цепляющихся, без счету сорящих деньгами. Казанова с первого взгляда почувствовал к нему неприязнь. Офицер, не подозревая, что за ним наблюдают, расставил ноги, странно выпятил живот и знаком подозвал ординарца.
Ординарец, безусый юнец в ливрее, торопливо подбежал, принялся, подобострастно согнувшись, что-то расстегивать, раздвигать, вытаскивать и в конце концов почтительно отступил на шаг, держа двумя пальцами вялый, нелепый на фоне дорогой ткани и украшений член. Прежде чем изумленный Казанова отвел взгляд, струя с журчаньем оросила песок. Когда вновь посмотрел, ординарец уже готов был приступить, к обратной процедуре, но хлыщ что-то коротко буркнул, пальцы ординарца встряхнули висюльку — вот теперь можно спрятать. И, не оборачиваясь, через плечо задать вопрос офицеру Зарембы, казавшемуся оборванцем рядом с щеголеватыми противниками. Тот подошел и что-то пробормотал в ответ, не выпуская сигары изо рта.
Надменный франт оправил мундир, качнулся, словно проверяя, твердо ли стоит на ногах, и с полуоборота хрястнул офицера по лицу. Тот пошатнулся и упал бы, если б не схватился за их телегу. Он хрипел и плевался кровью и табаком над самой головой Казановы; если и другие на него бросятся, их, как пить дать, обнаружат. Однако нет. Франт, уже никем, кроме собственной персоны, не интересуясь, медленно направился к лесу. Солдаты, выстроившись в шеренгу, последовали за ним.
— Кто это?
Офицер медленно выпрямился; сейчас, с разбитым лицом, он походил на уродливого шута. Увидев на телеге Казанову с его свитой, поморщился, но, заметив испуг девочек, улыбнулся и с ловкостью фокусника вытащил изо рта выбитый зуб.
— Браницкий. Граф Браницкий[11]. Ясновельможный лакей их сукиных величеств. Екатерины и Телка.
Казанова слегка привстал и, еще не смея заговорить в полный голос, шепнул:
— Что они от вас хотели?
Офицер смачно сплюнул, окровавленное лицо исказила странная гримаса.
— Ничего. Просто поговорили. Как поляк с поляком.
Изменились только мундиры вокруг. Телега, бочка соли, мешки с сахаром и этой чертовой капустой, направление и цель похода остались прежними. Джакомо и дети были военной добычей, но никто ими не занимался. Как и головорезами Зарембы, тоже предоставленными самим себе. Вскоре они оказались в середине обоза Браницкого; длинная вереница подвод и начисто лишенных боевого задора вояк медленно тянулась в сторону уже недалекой — это ощущалось по деревням и местечкам, мимо которых они проезжали, — Варшавы. Иногда их телегу оттесняли на обочину пестрые отряды уланов, преследующих Зарембу, который уходил на север с намерением укрыться в лесах возле прусской границы. Так, по крайней мере, утверждал присоединившийся к ним побитый Браницким офицер; он сел на козлы за кучера, но на следующую ночь исчез вместе с гнедым.
Потеря — неожиданно для него самого — не сильно огорчила Казанову. Видно, устав прикидываться собою прежним, он заранее с ней смирился. В этой толпе вооруженных людей, мародеров всевозможных мастей, борцов за разные идеалы, одержимых политическими страстями или только желанием побольше награбить, главным для него было одно: остаться в живых. Приспособиться, переждать в чужой шкуре. Осознал он это вовремя — Иеремию опять начало лихорадить, и пришлось самому взобраться на козлы.
Джакомо больше не заводил знакомств и не старался раздобыть денег, перестал выспрашивать, куда они едут и зачем, а если ему задавали вопросы, притворялся немым. Разговаривал только с еврейскими торговцами, когда менял соль и сахар на хлеб, но и это была не беседа, а яростный поединок, подогреваемый желанием повыгоднее совершить обмен и сопровождаемый перебранкой на всех языках мира. В мужицкой сермяге, с всклокоченными волосами и многодневной щетиной на лице, которую он не позволял сбрить, Казанова подгонял жалкую клячу; в другое время он на такую и глядеть бы не стал, но сейчас вынужден был любоваться часами — даже когда она недвусмысленно выказывала ему свое презрение.
Ночи не приносили облегчения. Звездное небо затягивалось тучами; Казанова напряженно всматривался во тьму, надеясь, что повторится недавнее видение, но, не дождавшись, погружался в тяжелый мучительный сон. Во сне его неизменно терзал Куц, и даже у Вольтера, однажды под утро принявшегося нашептывать ему на ухо какие-то скабрезности, было лицо капитана.
Наконец, изнуренный ночными кошмарами, отупевший от созерцания лошадиного зада, подавленный видом убогих халуп, все чаще встречавшихся по дороге, грязный, голодный и злой на себя и на весь мир, он увидел Варшаву.
Город, точно мираж, точно дивный фантом в океане серости, возник на обрывистом берегу реки. Казалось, от него исходит сияние. Белые стены домов, дворцов и храмов, крыши, покрытые блестящей на ярком солнце медью, излучали поистине неземной свет. Свита Казановы оживилась — даже слабенький Иеремия приподнялся, поддерживаемый девочками с уже не рыжими, а какими-то серыми волосами. Он и сам привстал на козлах, боясь поверить, что перед ним не морок, рожденный больным воображением, Однако нет — призрак не растаял в воздухе, высился перед ним, прекрасный и безмятежный. Джакомо почувствовал, как быстрей побежала по жилам кровь. Хлестнул клячу; Иеремия и девочки плюхнулись на дно телеги, но только расхохотались и затеяли веселую возню.
Осталось переправиться через реку. Широко разлившаяся Висла производила грозное впечатление, и, хотя плотогоны закрепили телегу деревянными чурбаками, Джакомо ни на секунду не выпускал из рук узды, сдерживая перепуганную кобылу; Этель и Сара крепко обхватили его за ноги. Плот сносило течением, но плотогоны умело орудовали веслами и шестами, и берег постепенно приближался. Прямо над примитивным причалом из камней и досок возвышался огромный дворец. И без расспросов было ясно, кому он принадлежит: в таком дворце мог жить только человек, занимающий не менее высокое положение, чем это здание, господствующее над всей округой. Сотни окон, золотой шпиль на башне, спускающиеся к реке каскады красных крыш. Тут обитает король, и никто другой. Король. Телок.
Заболели судорожно сжатые челюсти. Зазвучавший в ушах издевательский смех Куца вернул Казанову к действительности. Он со злостью дернул за узду фыркающую кобылу. Не дождетесь. Он свободный человек и не позволит никому себя шантажировать. Расскажет обо всем королю, предостережет его, да, именно так и поступит и завоюет расположение самого Августа — Августа, а не Телка. И возможно, поселится в этом гигантском дворце, к подножию которого они подплывают.
Джакомо чувствовал себя почти так же, как в Венеции, после побега из тюрьмы. Даже запах у этой свободы был похожий — запах пота, трухлявого дерева и сырости. Только там на нем был шелковый фрак, шляпа с белым пером, башмаки с серебряными пряжками. А здесь…
Сара показывала на берег; что привлекло ее внимание: барочники в пузатых лодках с песком, телеги, поджидающие на причале товар?
— Что?
Ей не понадобилось отвечать. Теперь и он увидел среди выгруженных с плотов и лодок мешков изящный портшез венецианской работы. И, не появись даже рядом младший из ганноверцев, руководящий разгрузкой, понял бы, что это тот самый портшез, и убедился, сколь милостива к нему судьба.
Ганноверцы заметили его слишком поздно, чтобы скрыться. Младший, уродливая обезьяна в его дорожном кафтане, болван, оскорбляющий мир самим желанием походить на него, Казанову, правда, метнулся к телеге, вероятно, за оружием, но старший властным окриком его остановил. Джакомо невозмутимо за ними наблюдал: рядом с тремя знакомыми польскими офицерами опасаться было нечего.
Вскоре они тронулись в путь. Впереди шагал младший, широко расставляя ноги под тяжестью портшеза, сзади — тощий, судорожно вцепившийся в шесты. Казанова, развалясь на мягком сиденье, в чудесным образом вновь обретенном парике, белой рубашке и кафтане, с любопытством поглядывал в окно. Он чувствовал, что полюбит так приветливо встретивший его город. Однако, когда их обступили полуразвалившиеся лачуги, отделявшие дворец от реки, и когда из-за дырявого плетня на него, скаля зубы, уставился подросток с огромной головой кретина, радостное возбуждение улетучилось.
— Schnell, schnell[12], — крикнул он, опустив оконное стекло. И, безо всякого удовлетворения глядя на трясущуюся задницу припустившего неуклюжей трусцой лжекупца, с тоской подумал, что надо отсюда бежать — как можно быстрее и как можно дальше.
Охота
Джакомо нагнулся к зеркалу — посмотреть, как выглядит. Новый слуга, Василь, выше поднял свечу: слишком густым еще был в этом углу утренний полумрак. Хорошо, все в порядке. Твердый, но располагающий взгляд, в котором заметен проницательный ум, и чуточку наивное удивление — что же это творится на белом свете! — в уголках рта, отмеченное легкой — только, упаси Бог, не наводящей тоску! — задумчивостью чело. Нет, надо все-таки купить большое зеркало. В этом толком не рассмотреть изящную, исполненную достоинства фигуру, обтянутую лучшими парижскими шелками, а о существовании ног, сильных, но стройных, обутых в туфли с золотыми пряжками, и догадаться нельзя. Шелка и туфли приобретены в кредит с помощью местных купцов, долги растут с каждым днем, но сейчас не время об этом думать. Джакомо повернулся с заученной легкостью, которая совсем не легко ему далась, оглядел свою свиту — расшалившихся с утра Этель и Сару, тихого и словно бы еще не пришедшего в себя Иеремию, заспанного Василия и высунувшуюся из кухни растрепанную кухарку, — скользнул по ним веселым и безмятежным взглядом и произнес негромко, но отчетливо:
— Сегодня король меня примет.
Он давно готовился к этой встрече, добивался ее через князя Адама, к которому, как узнал — не важно от кого и когда, — сплошь и рядом прислушивались больше, чем к королю: тот был старшим в семье. Однако у него случай особый, ему даже не могущественнейший Чарторыйский[13] нужен, а сам король. Встречу — это было ясно — сознательно оттягивали: вероятно, его проверяли. Джакомо все понял и не стал торопить события. Терпеливо ждал.
И дождался. Утро было приятно прохладным, в самый раз для прогулки. Да и портшез он подарил князю Адаму, а купить карету или даже скромную коляску просто не мог себе позволить. До поры до времени, уважаемые дамы и господа! До поры до времени. Тщательно одетый, Джакомо неторопливо шагал по безлюдным улицам, огибая коварные бугорки засохшей грязи и кучи конского навоза. Идти было недалеко — по той части города, где он будто раскалывался надвое: еще пахнущие свежей штукатуркой каменные дома внезапно расступались, открывая вереницу вросших в землю лачуг и кособоких лавчонок и проломанные деревянные тротуары, обозначающие путь среди луж и навозной жижи: между великолепными дворцами втиснулись грязноватые маленькие площади, днем заполненные телегами с сеном, торговцами и нищими.
С чего он начнет? Его, безусловно, станут расспрашивать про Петербург, про царицу. Он уже сто раз отвечал на такие вопросы, немного фантазируя, немного привирая, — впрочем, в меру, чтобы не нарваться на неприятности. Теперь же — это Джакомо отчетливо понимал — вести себя следует иначе. Но как? Правды он не откроет никому на свете, даже вспоминает, как оно было в действительности, с неохотой, сам себе не веря.
— Вон!
Окрик предназначался пятнистой дворняге, которая всю дорогу плелась за ним, а теперь стала путаться в ногах, обтянутых шелком и обутых в расшитую золотом кожу. Вон! Это русское слово крепко засело у него в голове. Сколько времени прошло с тех гор, как Куц впервые его им хлестнул? Целый век. А с того момента, когда прозвучал яростный вопль императрицы всея Руси и он чуть не лишился сознания? Два века?
А может, ничего этого не было? Нет, сто тысяч чертей — было! Но только ненормальный рискнул бы рассказать о таком королю, кажется до сих пор обожающему эту толстуху с обвислыми грудями, которой обладал, когда ее тело было еще молодым и ядреным.
А Вольтер? Что бы он сказал, услыхав этот вопль, эти бессмысленные приказы, эти проклятия, вместе с пеной срывающиеся с уст первой дамы Европы, спасительницы мира, подруги философов? По-видимому, ничего. В молчании больше мудрости, чем в словах.
Джакомо пожалел, что прогнал собаку. Он уже привык к близкому соседству убожества и роскоши — разве не так выглядит весь мир? — и тем не менее одна картина неизменно повергала его в ужас. У дороги, окруженный роем мух, до пояса зарытый в землю и по самую шею обложенный навозом стоял несчастный, уже мало похожий на человека. Впервые его увидев, Казанова решил, что это варварская кара за не менее варварское злодеяние. Однако нет — эта живая куча навоза, это почерневшее от грязи и червей, источающее, вероятно, весь вселенский смрад существо пало жертвой своих любовных страстей, и теперь его народным способом лечили от французской болезни. Так сказал сам князь Радзивилл[14], когда их однажды занесло в этот вонючий закуток; лицо князя тогда искривила странная усмешка, маскирующая то ли омерзение, то ли смущение, — не очень-то приятно показывать такое иностранцу. Захмелевшие, алчущие простых утех, они отказались от дальнейших поисков приключений и во дворце у князя в мрачном унынии напились до бесчувствия.
А ожидающий исцеления или смерти страдалец день и ночь там торчал, гнил на глазах у зевак, которые издевались над ним, но подкладывали навоз и пялились со страхом, хотя и не без сочувствия. Такое могло случиться с каждым. Тем более здесь, где с наступлением сумерек в жалких палисадниках, в кустах за покосившимися заборами аж гудело от сливающихся в экстазе тел, с визгом, писком, гоготом ломающих ветки и утрамбовывающих задницами землю.
Казанова украдкой перекрестился. Упаси Господь. От такой болезни. И от таких лекарей.
Это зрелище, почти каждый день терзавшее душу, отвращало его от любовных утех успешнее, чем что-либо иное. Джакомо выставил двух девок, присланных женщиной, у которой снял квартиру, с третьей позабавился, потому что она показалась ему симпатичной и на все готовой, однако к ее главному и таящему опасность сокровищу не прикоснулся.
Если б он тогда так же поступил с царицей, возможно, не произошла бы та страшная сцена, лишь чудом окончившаяся благополучно. Но… можно ли было неожиданно и беспардонно вторгнуться в самую грозную задницу Европы при том, что передние ворота были распахнуты настежь? Да он бы головой поплатился, если не кое-чем другим, не менее важным. Хотя, быть может, его бы за это озолотили, но тогда у него и мысли такой не мелькнуло: он ждал скорее наказания, нежели награды. После унизительных месяцев заточения даже надежда имела привкус не радости, а страха. Он не хотел ничем рисковать. И рискнул всем.
Этот дикий вопль ему, верно, не забыть до конца жизни. Как и налившиеся кровью глаза разъяренной тигрицы. Да, тяжеленько пришлось. Но, по крайней мере, он избежал участи этого несчастного, по горло утопающего в дерьме. А то — прими дело иной оборот — стоял бы сейчас рядом или на его месте. Всякое могло случиться. Хоть он и иностранец, и уже изобретены менее варварские способы лечения венерических болезней. Достаточно было малого: выпадения крошечного звена из цепи событий, ничтожной случайности, каприза судьбы, почти незаметного движения перста Божьего, управляющего его жизнью, чтобы он навсегда ухнул в навозную яму. Если б, например, ганноверские купцы не струхнули, а дали ему по затылку где-нибудь в темном переулке, да так, чтобы он потерял бы не только сознание, но и память, а до того еще влип в неприятную историю с обыкновенной шлюхой или необыкновенной императрицей, — вполне мог бы сейчас торчать по шею в зловонной жиже, уставив помутневший взор на какого-нибудь разряженного хлыща, содрогающегося от ужаса и омерзения, однако уверенного, что с ним подобное не случится.
Если бы да кабы… Видно, ему не избавиться от этих тревожных мыслей. Во всяком случае, здесь. Но если сегодня повезет с королем? И закончится тягостное ожидание, и не придется больше молить Бога, чтобы о нем забыли…
Кто тогда принес весть, что его вызывают во дворец? Куц? Нет, Куц в то время уже им не занимался. Астафьев? Тоже, пожалуй, не он. Кошмар! Что с его памятью? Странный человек, сам называющий себя Пауком, с которым они провели несколько дней в одной камере, осыпая императрицу грязной бранью и оскорблениями, обещал Казанове всевозможные с ней утехи, но то был узник, пышущий ненавистью и похотью раб, а не придворный посланец. Поначалу Джакомо принял соседа за доносчика, полицейского агента, подосланного, чтобы вытянуть из него компрометирующие признания. Однако нет — этот Паук явно плел паутину для самого себя. Царицу Екатерину он ненавидел искренне и страстно. Причислял ее к самым омерзительным видам животных, охотнее всего — к мерзким насекомым или болотным свиньям особой породы, питающимся собственными испражнениями, приписывал ей наиподлейшие поступки, самый невинный из которых обладал мощью смертоносного яда, наделял ее тело такими прелестями, как зловонное несварение желудка, гнойники и венерические язвы, самая крупная из которых, таящаяся, точно отравленная жемчужина в раковине моллюска, в глубине ее ненасытного чрева, каждую ночь поджидала новую жертву.
Зазевавшись, Джакомо оступился и чуть не упал. Боль в щиколотке привела его в чувство. Тысяча чертей! Это же Варшава, а не треклятый Петербург. Он беспрепятственно шагает по улице — пускай даже спотыкаясь, пускай в сопровождении дворняги и в непосредственной близости от полуживого сифилитика. Спешит в королевский замок, он — Джакомо Джованни Казанова, свободный человек в свободной стране, приглашенный самим польским монархом. В Петербурге он был не гостем, а бесправным узником. Какие еще посланцы?! Трое извергов, что однажды ночью ворвались в камеру и молчком выволокли его наружу под аккомпанемент воплей Паука, которого истязал в углу четвертый мерзавец? Тогда он в последний раз видел заклятого врага императрицы, даже под градом ударов не переставшего ее поносить и предостерегать Казанову от сатанинского яда. Джакомо запомнил его взгляд, раскаленный безумием и страданием: достаточно было зажмуриться, чтобы снова увидеть эти глаза.
Но сейчас и зажмуриваться не понадобилось. На застылом лице сифилитика дрогнуло сперва одно, потом второе веко, и через минуту с бурой от грязи мертвой маски на Казанову уставились сверкающие от боли безумные глаза Паука. Джакомо оцепенел от изумления. Неужели? Как он раньше не заметил? Но откуда здесь взялся Паук?
— Так это ты, брат? — Он скорее подумал, чем прошептал пересохшими губами эти слова. Тот шевельнулся, и Казанове в лицо ударила смрадная волна. Очнувшись, он попятился. «Что за чушь лезет в голову спозаранку, — подумал, — злясь на себя. Надо сегодня засадить какой-нибудь… сразу дурацким фантазиям придет конец».
Не успел Джакомо додумать эту мысль до конца, как глаза Паука медленно потухли, взгляд обратился внутрь голого черепа, но сила, его погасившая, опустилась и разомкнула почерневшие губы. Изо рта несчастного вместе с пузырями грязной пены вырвалось нечленораздельное бормотанье, душераздирающая жалоба на всех языках мира, дикий вой: «Аааааааааааааа…» Сейчас это чудовище бросится на него, сорвет тщательно причесанный парик и сюртук с позолоченными пуговицами, забрызгает навозом рубашку из парижского шелка, заляпает гноем каждую клеточку тела, а затем, оцепеневшего от страха и омерзения, зароет по шею в вонючую жижу, чтобы он гнил там до скончания века.
С великим трудом заставив повиноваться нервы и мускулы, Джакомо стремглав кинулся вниз по улице, чтобы не слышать то ли мольбы, то ли предостережений несчастного Паука — или не Паука? — теперь это было уже не важно. Он хотел только одного: убежать как можно дальше от вопля, воскресившего в памяти истошный крик разъяренной бабы, которая управляет половиной мира, а желает управлять целым.
Остановился он только на лестнице, ведущей на Замковую площадь, — оступившись, замер, чтобы не упасть. Перед замком, а вернее, большим тяжеловатым дворцом было еще пусто. Джакомо знал, что явится слишком рано, но никак не мог предположить, что использует это время для передышки после столь неприятного приключения. Присел на каменную ступеньку, выплюнул набившуюся в рот пыль. Что за идиотизм — опять он мчался на встречу с коронованной особой бегом.
Но тогда — что это был за бег! Его тащили по обледенелой площади, осыпали тумаками, подгоняли, не жалея пинков, словно волокли на казнь, а не на аудиенцию к царице. Давали понять, и он это чувствовал каждой мышцей и каждым нервом, что он — никто и самый последний лакей ее императорского величества может сделать с ним что пожелает. Дураки, он и без них это знал. В камере такое усваиваешь быстро. Ладно. Сейчас он никто, и незачем ему об этом напоминать. Никто даже в глазах тупых солдат, невинных в своей вынужденной жестокости. Но посмотрим, что будет потом. Далеко не все получат прощенье. Пусть только узнают, кто он на самом деле. Кто? Уж наверное, не никто. Как иначе объяснить интерес, проявленный к его особе великой Екатериной, всемогущей императрицей, которую почитают самые влиятельные европейские монархи и перед которой склоняет голову Вольтер? Его призывают. После долгих недель, проведенных в неволе. Это неспроста, думал он, выпадая из дырявых лаптей и путаясь в полах слишком длинной шинели, то облепляющей ноги, то распахивающейся на ледяном ветру, неужели за него замолвил словечко старый паяц, венецианский консул, или коварная девка, у которой его схватили, призналась, как было дело. Нет, это все чепуха. Причина, несомненно, другая, более важная.
Памятная записка! Его памятная записка об искусстве управления государством! Вероятно, они ее прочли, поняли, сколь полезные мысли там содержатся, сумели оценить их оригинальность. Разное говорят об этой могущественной женщине, но недалекой ее не считает никто. Обвиняют во всех грехах — только не в глупости. Впрочем, разве ей простили бы подлость, разнузданность, жестокость, если б не сильный ум, позволяющий железной рукой управлять своими подданными, несмотря на недобрую молву, вызывающую возмущение одних и любопытство других? Сам он, не раз оклеветанный, относился, пожалуй, к числу последних. Россказням Паука не верил, с самого начала поняв, что перед ним одержимый ненавистью безумец. Да и как поверить в существование женщины, чье лоно способно принять член быка? Или целого — пускай самого маленького — карлика с руками, ногами и головой? Разве о нем не рассказывали подобных небылиц? Будто он вскрывает девственниц языком или будто вместо фагота у него дубовый протез? Ерунда, вздор.
И уж никак не эти байки о быках, лилипутах и гвардейских полках, составленных из одноразовых любовников императрицы, привели его сюда, в Петербург, с яростью подумал Джакомо, получив очередной тумак. У него были более честолюбивые планы, нежели желание удержаться на блестящем льду дворцовой площади. Он видел себя в лучших столичных салонах, а не в вонючей камере, слышал свой голос в диспутах с самыми светлыми умами этого, год от года крепнущего и потому привлекающего интерес Европы государства, а не в перебранках с тюремщиками. Даже сейчас, на это, вероятно, важнейшее в его жизни — а быть может, и в жизни царицы — свидание его бы должны везти в изящной коляске или закрытых санях, укутанного в огромный тулуп, чтобы все в нем разогрелось докрасна, а не тащить по морозу как мешок с тряпьем.
Но все еще переменится, сегодняшние вечер и ночь и завтрашнее утро откроют новую страницу. Он покажет этой тупой солдатне, не испытывающей ни капли уважения к дворянину, на что способен. И всем остальным тоже. Просто Екатерина, великая мудрая Екатерина многого не знает, ее обманывают, скрывают правду. Что отнюдь не лучшим образом характеризует систему, которую она создала и которой так восхищается Европа. Но он не злопамятен. Когда его испытания благополучно закончатся, он посмотрит на печальные события последних недель другими глазами. Проявит — как и пристало человеку чести — великодушие, простит разных Куцев, Астафьевых, обезьян в мундирах, толпами приходивших на него поглазеть, и даже этих трех медведей, волокущих его по площади.
Однако через минуту, качнувшись от внезапного удара в лицо, Казанова почувствовал, что уверенность в будущем великодушии в нем слабеет, а сплевывая кровь с разбитых губ, и вообще в своем будущем усомнился.
Замковая площадь постепенно оживала: евреи, навьюченные тюками с товаром, возвращались в город, на ночь закрывавший перед ними ворота, сменились караульные у входа в резиденцию короля. У солдат были широкие мужицкие лица, задубевшие от мороза и ветров на деревенских бездорожьях; их устремленные в одну точку взгляды были сосредоточенны, но лишены смертельной серьезности автоматов, выполняющих подобные обязанности в Берлине, Вене или Петербурге.
Много ли надо, чтобы эти славные солдатики превратились в жестоких зверей? Джакомо провел пальцем по губам, по еще ощутимому рубцу. Достаточно отдать приказ, и они преобразятся. Да и почему в Польше должно быть не так, как везде? Несколько шипящих команд — и солдаты бросятся на него, не рассуждая, поволокут, как и те, без зазрения совести, через площадь, молотя кулаками по голове и забавы ради подставляя подножки. А если на его месте окажется толпа, скопище несправедливо обиженных? Что ж, они и на эту воющую от страха и ненависти толпу бросятся, будут топтать, увечить, преследовать, пока не свалятся от усталости. Сколько раз так бывало? Сколько еще будет? Хотя бы здесь, на спокойной сейчас варшавской площади, сколько еще раз взметнется к небесам бессильная жалоба несчастных людей, загнанных в узкие улочки старого города, избиваемых, осыпаемых страшной бранью?
Господь милосердный, подумал Джакомо, не о том ты, наверно, мечтал, не таким хотел видеть мир. Почему всегда на одного Христа приходится двое разбойников? На одну жертву — два палача?
Ну а вдруг все-таки тут будет иначе? Здешний народ, как он успел заметить, не привык к бездумному повиновению. Да и о каком повиновении может идти речь в стране, где неизвестно, кого надо слушать, где банды повстанцев ни в грош не ставят королевскую власть, а российские солдаты издеваются и над королем, и над бунтовщиками? Здесь в цене не покорность, а нечто иное. Смекалка? Да. Но прежде всего наглость и лень. Наглость жертв и лень супостатов. Первые умеют защищаться и кричать о своих обидах, а вторые предпочитают покой и деньги орденам за усердие в своем грязном деле. Это позволяет с грехом пополам выжить.
Босоногий еврейский мальчик, с трудом волоча корзину, полную свежих булок, подошел, видимо ободренный задумчивостью Казановы. Вряд ли бледный заморыш привлекал к себе покупателей. Джакомо стало жаль маленького продавца, но негоже было жевать булку на улице перед королевским дворцом. Того и гляди, начнут съезжаться другие приглашенные, не дай Бог, если его застанут с набитым ртом в непосредственной близости от королевской особы; хуже того: если какое-нибудь из окон спальни выходит на площадь, пробудившийся монарх может, выглянув наружу, обратить внимание не на шляпу с пером и не на расшитый золотой кафтан, а на кусок у него в зубах.
— Nein[15],— сказал Джакомо на языке, наиболее подходящем для отказа.
Мальчик отошел, но недалеко, возможно на свое постоянное место, а может, у него просто не было сил идти дальше: поставив корзину на ступеньки ведущей в глубь старого города улочки, он присел с ней рядом.
Казанова потянулся: хрустнули суставы. Покорность жертв. Легко так думать, когда этап унизительной покорности позади. А если человек вынужден, точно корзину с булками, всю жизнь нести это бремя? Вернее, и бремя и корзину. И уповать только на лень супостатов?
Несколько дней назад двое таких, в мундирах, с мужицкими рожами, пришли за Этель и Сарой. Поначалу Джакомо не мог понять, что им нужно. Евреям после наступления сумерек запрещено находиться в городе? Да. Но при чем здесь он? Девица, с которой он иногда проводил время, сама старалась не задерживаться. Впервые он с удивлением услышал об этом запрете, когда однажды предложил ей остаться до утра. Впрочем, в Европе полно городов, где к евреям относятся как к чужакам, и удивляться тут нечему. Ему евреи не мешали, а еврейки — напротив — доставляли больше удовольствия, чем иные. Даже здесь у единственной женщины, пришедшейся ему по вкусу, были черные как смоль волосы и типичный для ее нации, дерзкий и одновременно покорный, взгляд. Джакомо раза два оставлял ее на ночь, но подымать шум из-за такого пустяка… Запрет запрету рознь. Он не обязан вникать в законы страны, где всего лишь гость. От него-то им что понадобилось? Он ведь не еврей. Итак?
Старший по чину, возможно даже, офицер, немного смутился. Но… Никаких «но», он дворянин, состоит в родстве с могущественнейшими правящими династиями Европы. И, если сочтет этот визит вторжением, а вопросы оскорбительными, за последствия не ручается. Король… Барышня? Какая барышня, нет здесь никаких барышень. Поискал взглядом Василя: небось этот сукин сын донес. Выгнать в шею, все равно от него никакого проку. Жрет как слон, а у него не цирк, чтобы держать слона. Василь!
Обернувшись, Джакомо с удивлением увидел на пороге гостиной не слугу, а сестричек, одетых по-дорожному, с узелками в руках. А ну марш на кухню, быстро! Двойняшки не шелохнулись. Сию же минуту вон! Но прошла минута, другая, а они и не подумали уйти, наоборот, шагнули вперед, глядя ему прямо в лицо. Вот когда он по-настоящему изумился. В их глазах не было и следа пресловутой тысячелетней покорности, позволявшей их соплеменникам переживать и не такие гонения. Джакомо увидел четыре раскаленных уголька — гордые, твердые, осуждающие. Что эти пигалицы вообразили, черт подери, думают, он спасует, отдаст своих девочек на поругание варварам с их глупыми законами? Если они немедленно не исчезнут, он окажется в затруднительном положении. Только тут появился Василь; выказав несвойственную ему сообразительность, сгреб сестричек в охапку и уволок из комнаты. Казанова вздохнул с облегчением, на миг позабыв, что посетители еще здесь. Кто их навел? Хозяйка? Нечего с ними церемониться. Он советует им убраться, да поскорее. Вмешиваться в свои дела — дела государственного значения! — он никому не позволит. И лучше не заставлять его это доказывать. Итак: чтобы духу их не было! Василь сунул голову в дверь. А ну, живо! Джакомо нашарил в кармане дукат — кажется, последний. Незваных гостей как ветром сдуло.
До чего же просто все получилось: стоило ему повысить голос, и они струсили и взяли деньги. Можно с облегчением вздохнуть. Но что означало поведение девочек? Вообще-то, он понимал что. Эти пылающие взоры ему уже случалось видеть. Всякий раз, когда приходила или уходила та девка. Негодницы! Совсем обнаглели! Пусть не думают, что он позволит себя шантажировать.
И кинулся к ним с намерением, вопя и брызгая слюной, оттаскать негодниц за рыжие кудри, высечь розгами дерзко выпяченные попки. Из-за них лишился последнего дуката — не устрой они эту комедию, обошелся бы нагоняем. Но… рот Казановы открылся только от удивления, а рука поднялась, чтобы почесать в затылке: юных фурий, готовых принять мучения, лишь бы ему насолить, как не бывало — на диванчике, обнявшись, сидели две печальные сиротки, а тысячелетняя покорность застилала их не столь давно пылавшие от ярости глаза слезами.
— Они ушли, — пробормотал Джакомо, — вам нечего бояться.
Но ту девицу к себе больше не приглашал.
«Ну и расчувствовался же ты, Джакомо, — подумал он, вставая и отряхивая пыль с панталон. — Занялся бы своей персоной. Не то закончишь в лучшем случае продавцом булок…»
Опомнился он как нельзя вовремя — уже начали съезжаться экипажи. Один, второй, третий затарахтели по булыжной мостовой. Кто же приехал? Чтобы лучше видеть, Джакомо рукой заслонил глаза от солнца. Ага, князь Сулковский[16]; второй — низкорослый, с хамской физиономией — был ему незнаком. Подходить к князю Казанова не хотел — на днях тот замучил его растянувшимся на несколько часов и так и не завершенным рассказом о происхождении своего рода. Однако было поздно: князь его заметил.
— Прекрасное утро! — Сулковский, отпустив карету, сам шел ему навстречу. Коротышка, небрежно поставив ногу на подножку, остался возле своего экипажа. Что-то в нем было неприятное, пожалуй, даже угрожающее. Хотя… любое новое знакомство может оказаться полезным.
— Вы меня не представите, князь?
Сулковский чуть заметно поморщился, но гримаса тут же сменилась улыбкой, и он обнял Казанову за плечи:
— Забудем про земные дела. Уделим минутку божественному.
Выхода не было — пришлось повернуться спиной к месту, где сейчас происходило самое интересное, устремить взор на Вислу и заросли на противоположном берегу, ну а главное — слушать, слушать этого зануду, рассуждающего о погоде с пафосом первооткрывателя Америки. Ну и влип же он. Неловко чересчур часто оборачиваться и проявлять излишнее любопытство к тому, что делается на площади, но ведь он слышит, как съезжаются другие приглашенные на утреннюю аудиенцию, как шумно и оживленно становится перед воротами замка. Князь заметил его нетерпение.
— Вы, южане, начинаете все усерднее служить материальному. А ведь культура, которую вы подарили миру, — производное духа, божественной идеи, каковой никак нельзя пренебрегать. Теперь только и слышишь: «Самое важное — Физика, а не философия, деньги, а не идея, тело, а не душа». Как совместить опасные крайности? Кто на такое способен?
Казанова улыбнулся, хотя гораздо больше ему хотелось злобно оскалиться.
— Женщина. В ней прекрасно сочетаются душа и тело, идея и деньги.
— Вы шутите, а проблема весьма серьезна. И положение еще больше усугубится, если все станут отделываться шуточками.
«Я вовсе не шучу, — подумал Джакомо, — спасибо тебе, Господи, что ты сотворил тело, деньги и физику, да, да, и физику тоже. Разве не гравитация притягивает тела, позволяет им сближаться, сливаться, одному проникать в другое? А еще, Боже, я тебе стократ благодарен за геометрию. Кто же, как не вдохновенный геометр, приводит в движение бесконечно прекрасную систему фигур и форм: плавные линии бедер, живота и груди, остроконечные, но бархатистые на ощупь конусы, мягкие полушария, напрягающиеся под давлением раздвигающих их цилиндра? Разве такое человеку под силу?»
— А знаете, господин Казанова, к чему это приведет? Именно здесь, на нашей земле, начнется оздоровление европейского духа, здесь, а не где-нибудь еще забьется живой пульс веры, которая заставит человека вновь обратиться к вещам более возвышенным, нежели угождение потребностям тела. Не верите?
— Почему? Все возможно.
И все-таки покосился через плечо. Где-то он уже видел выходящего из кареты мужчину в пышном мундире. Ну конечно! Лесная просека. Вялая висюлька в руке ординарца, съежившийся от удара офицер Зарембы. Браницкий. Полковник Браницкий. Перестал, видно, охотиться за противниками короля. Князь Сулковский, не замечая рассеянности собеседника, деланно рассмеялся:
— Не верите вы мне, не верите. Хоть бы поискусней прикидывались.
Что ему нужно, черт подери: насмехается или всерьез пытается увлечь невыносимо нудными рассуждениями? И почему увел его в сторону от общества, с каждой минутой все более многолюдного и блестящего?
— Признаюсь: вера не самая сильная моя сторона. И пожалуй, это уже навсегда. Стало быть…
Браницкий поздоровался с мужчиной, который стоял, небрежно прислонившись к экипажу.
— Стало быть, вы не склонны забивать голову мыслями о будущем?
В этих словах Джакомо уловил нечто похожее на предостережение. Настороженно взглянул на собеседника. Нет — ничего подозрительного в лице князя не было.
— Напротив. Только меня интересует ближайшее будущее. Чего мы, собственно, ждем?
Сулковский отплатил ему столь же настороженным, хотя несколько смущенным, взглядом. Результат осмотра, видно, его удовлетворил: обняв Казанову за плечи, он легонько подтолкнул его к остальным.
— Мы ждем подходящего момента, сударь!
— То есть?
— То есть сейчас момент неблагоприятный.
— Король еще спит?
— Хороший вопрос. Вижу, в петербургских салонах вы не разучились понимать все с полуслова.
Джакомо ничем не показал, что это замечание его покоробило. Подобную иронию на грани язвительности и обыкновенного хамства могли себе позволить лишь высокородные особы; никому другому это бы не сошло с рук. Но там, в тех «салонах», по которым его в буквальном смысле слова таскали, этому зануде любую колкость воткнули бы обратно в глотку, невзирая на его знатное происхождение. Паук, обезумевший от ненависти к Екатерине, тоже был князем, возможно, не худородней Сулковского.
— Ладно, не обижайтесь. — Князь примирительно улыбнулся. — Тоже, гм, любите побаловаться спозаранку?
Ах вот оно что! Как же он раньше не догадался. Ведь польский король слывет женолюбом. В Петербурге об этом говорили одобрительно, а графиня, его восхитительная графиня, расхохоталась до слез, когда он начал ее расспрашивать. Ну конечно. Пока они тут топчутся с важным видом, стараясь не терять достоинства, щеголяют остротой ума и глубокомыслием, король небось взбирается на какую-нибудь крутую задницу или скатывается с мягкого живота. Теперь Казанове не составило труда ответить Сулковскому улыбкой:
— И спозаранку люблю. Но, вероятно, меньше, чем король.
Великое нравственное обновление начинается с утреннего перепихиванья. Недурственно. У такой программы спасения мира найдется немало приверженцев. А народ, который за таким королем пойдет, наверняка не погибнет.
Князь представил Казанову Браницкому. Церемония была краткой — Браницкий глянул рассеянно, не выказав интереса: его внимание, как и всех прочих, было занято чем-то другим. Коротышка с хамской физиономией распрямился, в два прыжка подлетел к подъехавшей карете, услужливо открыл дверцу. Блестящий от позументов мундир, окаймленное баками лицо… кровь бросилась Казанове в голову, ему почудилось, что это полковник Астафьев, и он не на шутку испугался. Поняв, что ошибся, мысленно крепко себя обругал, но тут же заметил, что надменный вельможа, едва отвечающий на поклоны, не только его поверг в смятение. Одни отводили глаза — правда, украдкой, чтобы, упаси Бог, никого не обидеть, взгляды же других, напряженные до боли, искали встречи со взором вновь прибывшего сановника. Все расступились, спеша пропустить — кого? незваного гостя или избавителя? — принимавшего подобострастное внимание с презрительным спокойствием. Он несколько раз согнул колени, проверяя, хорошо ли сидят сапоги, но не сдвинулся с места, пока не выслушал отрывистый, как собачий лай, рапорт мужлана с хамской рожей.
Спросить, кто это, было не у кого, Сулковский куда-то исчез, а Браницкий протиснулся к заносчивому вельможе.
— Кто это?
Стоящий впереди мужчина повернулся на каблуках. Джакомо увидел лицо рассерженного ребенка.
— Никто.
Злобный херувим заметил его растерянность и чужеземный наряд и неожиданно приветливо улыбнулся:.
— То есть их сиятельство посол императрицы всея Руси граф Репнин, или как там величают эту скотину…
Царский посол! Тысяча чертей! Все ждали царского посла. Просто ждали. Над кем издевался Сулковский — над ним или над самим собой? «Подходящий момент». Подходящий момент наступил с появлением подходящей персоны. Смешно. Неудивительно, что в этих униженно склоненных головах роятся мечты о моральном возрождении. «Пусть изволят начать с себя», — высокомерно подумал Казанова и вздохнул с облегчением: в этом обществе не у него одного грешки на совести.
Не забывая, однако, где он находится, кивнул с благодарностью; впрочем, рядом с ним уже никого не было. Посол, сочтя демонстрацию своего могущества достаточной, величественно двинулся вперед. Толпа рассыпалась, уступая дорогу, но за спиной посла вновь сомкнулась, пришла в движение: бойко заработали локти и ноги, вытянулись шеи, затряслись двойные подбородки и животы. Херувим ловко пробрался в первые ряды процессии и, строго соблюдая дистанцию в два шага, следовал за графом Репниным, который, неспешно и словно бы с трудом переставляя ноги, плыл к воротам замка. «Как павлин, — подумал Казанова, павлин, волочащий за собой огромный хвост». И вмешался в толпу, не желая быть последним пером в этом хвосте. Он достаточно хорошо знал, что здесь с такими перьями делают.
Опять в памяти всплыл тот ужасный день! Джакомо украдкой перекрестился, чтобы отогнать тягостное воспоминание, но — поздно. Впрочем, бывали воспоминания и похуже, от которых болело сердце. На этот раз боли он не почувствовал — его обуял страх, звериный, выворачивающий внутренности страх. Он тогда мало что понимал. Вызов в царский дворец посчитал знаком скорого избавления. Но почему путь к спасению ведет через продуваемую морозным ветром обледенелую площадь под ударами издевающихся над его страданиями мерзавцев… Неужели так выглядит обещание перемены участи? А это еще что? Сопровождающие, ни слова не говоря, втолкнули его в какую-то темную вонючую конуру и убрались восвояси. Видимо, он уже во дворце, но что толку? Не поведут же его к императрице в таком виде — грязного, в лохмотьях… Впрочем, нужно быть готовым к любым неожиданностям. Ведь от предстоящей беседы, возможно, зависит его судьба.
Значит, так: главное — концепция объединенной Европы. Неужто они здесь в этом не заинтересованы, неужто не понимают, что, если величайшие умы совместными усилиями определят форму государственного устройства, народ станет богаче, а законы — более справедливыми? Тот, кто выступит глашатаем этой идеи, кто приложит больше всего усилий для ее воплощения, еще при жизни займет почетное место в истории человечества.
Казанова опустился на пол, но тут же понял, что нельзя расслабляться. Еще заснет ненароком, и тогда его застигнут врасплох, не готовым к борьбе за будущее. За свое будущее, а следовательно — как ни наивно это звучит, — за будущее мира. Такого он бы себе не простил. Да и мочевой пузырь настойчиво давал о себе знать. Поэтому Джакомо поспешил встать» хотя каждый мускул противился насилию, и направился к тому месту, где угадывалось окно. Мрак был неестественно густым и грозным. Окно плотно завешено или просто глухая стена? В противоположном углу что-то шуршало. Крысы?
Для начала можно создать организацию, объединяющую все государства — большие, малые, даже крохотные. Всем будет дано одинаковое право голоса при решении важнейших проблем. Что ж, великим придется прислушиваться к доводам малых, но разве эти малые — безумцы, чтобы путать карты более сильным, а великие — глупцы, чтобы их опасаться? Божеские и людские законы требуют такого союза. А какую колоссальную это принесет пользу! — да они поразят весь мир и заставят другие страны спешно к ним присоединиться. Сколько высохнет источников крови и несправедливости, сколько появится торговых путей, сколько будет создано шедевров! Даже голод со временем отступит в прошлое — к вящей славе правителей и радости подданных. Он, Казанова, знает некое простое, но весьма эффективное решение, которое при помощи такой всеобщей организации очень быстро принесет плоды. Клубни Solanum, в Германии называемого картофелем…
Джакомо затоптался на месте. Тяжесть внизу живота, минутою раньше вызывавшая лишь легкий зуд, внезапно усилилась, причиняя боль. Эти сволочи застудили ему пузырь. Что делать? Скрючился, понимая, что это ненадолго поможет. Все, что еще секунду назад казалось важным — будущее мира и перелом собственной судьбы, страстные речи, обращенные к царице, которая со вниманием будет его слушать, — отступило куда-то далеко. И лишь когда об пол ударилась, принося облегчение, пенистая струя, стало робко, беспорядочно возвращаться. Джакомо захотелось одновременно и смеяться и плакать. Держа в руке захлебывающийся от напряжения краник, он старался направлять струю как можно дальше от себя. И вдруг, прежде чем понял, что она ударилась о какое-то препятствие, на него с бешеной силой обрушился поистине сатанинский вопль, наполненный яростью и ужасом. На мгновение он умер, окостенел, выпустил из рук своего вялого дружка и край панталон, когда же крик повторился, опомнился настолько, что почувствовал обыкновенный страх. Его заперли с каким-то зверем, с чудовищем, затаившимся в темноте. Господи Иисусе, эти мерзавцы ему смерть уготовили, а не встречу с царицей. Яростно ревущую смерть с огромными клыками и усаженным шипами языком. Казалось, из мутного сна его швырнуло в прозрачную, смердящую серой и аммиаком явь.
Он пошатнулся и упал бы, если б пальцы не вцепились судорожно в какую-то мягкую ткань. Под тяжестью тела штора упала, и при бледном свете луны, рассеявшем сумрак комнаты, Джакомо увидел грозное чудовище — забившуюся в угол большую курицу с широко разинутым от страха клювом и растопыренными обрубками крыльев. Смеяться не было сил. Даже название этой странной птицы вспомнилось с трудом. Pavo cristatus. Павлин. Но… на месте великолепного хвоста у этого павлина была голая гузка.
Что же это все-таки было? Его хотели столь странным способом напугать? Сомнительно; вряд ли плосконосые палачи владели столь изощренными методами. Съездить по физиономии, дать пинка или всадить пулю в затылок — тут они были мастера. Значит, случайность. Пожалуй, ему даже повезло: его вполне могли, надев на голову мешок и связав руки, швырнуть в подземелье и вспомнить о нем, например, через месяц. Паук и не то рассказывал. Или запереть в комнате с мраморным полом, зимой используемой как отхожее место. И он бы задохнулся от вони или разбил голову, поскользнувшись на обледенелом говне. Стало быть, случайность?
Но тогда у него не было ни времени, ни желания строить догадки. События стали разворачиваться так неординарно и стремительно, что впору было забыть всю прошлую жизнь, не говоря уж о крикливом павлине с выщипанным хвостом. Впоследствии Джакомо даже вспоминать об этом боялся. Но по ночам воспоминание иногда возвращалось, и его окатывала волна предвещающего безумие страха, сродни тому, что он испытал в темной комнате. Здесь, в Варшаве, такое случилось только однажды — к ужасу девочек, которые потом до рассвета играли с ним в карты. Но это было давно. Теперь же, вышагивая с достоинством, как и прочие вельможные участники кортежа, по дворцовому двору, ощущая сквозь тонкие подошвы туфель подбадривающее тепло каменных плит, он — хоть и не без неприятного чувства — мог думать об этом, как об истории, произошедшей в незапамятные времена, да и, пожалуй, с кем-то другим.
Нет, тогда — Джакомо уставился в затылок царскому послу, словно это могло бы помочь ему найти разгадку, — тогда над ним, видно, просто решили поиздеваться. Показали, что лишенный красоты и силы павлин — он сам, Казанова, раздавленный и опустившийся, способный только кричать от страха и унижения. Торжествующее быдло. Бычий, налитый кровью загривок. Быдло. Однако торжествующее. Откуда они могли знать, что его ждет впереди? А ведь знали. Или, скорее, предвидели…
Неожиданное открытие привело Джакомо в ярость: будь у него возможность, он бы полоснул чем-нибудь острым по незащищенной шее царского сановника, ведущего их в покои польского короля; пускай бы кровь того охладила его собственную, кипящую от негодования. От одной этой мысли Казанова мгновенно успокоился. Он уже снова был самим собой, завсегдатаем дворцовых приемов, европейцем, принципиально ставившим интеллект выше насилия.
— Вы, я слыхал, прямо из Петербурга?
Джакомо уже знал, что язвительный херувим — младший брат короля. Приветливо улыбнулся:
— Имел такое удовольствие.
Они задержались в просторной прихожей перед роскошной резной дверью, за которой секунду назад скрылся Репнин.
— Удовольствие? Что вы называете удовольствием?
Князь Казимеж. Надменный юнец — впрочем, каким еще можно быть в его возрасте и в его положении? Неплохо заполучить такого союзника.
— То, что я смог оттуда уехать.
Князь громко расхохотался, заставив обернуться нескольких почтенных господ, на лицах которых застыло напряженное ожидание.
Дверь медленно, беззвучно отворилась. За нею была не королевская спальня, а анфилада светлых комнат — пустых и казавшихся нежилыми, куда и устремилась толпа. Джакомо протиснулся вперед, что избавило его от необходимости ответить на громкий шепот князя Казимежа:
— А как там наша уважаемая невестка? По-прежнему спит с кем попало?
Вымытый, выбритый, осмотренный от глотки до прямой кишки, обряженный в странный мундир не то гусара, не то казака, опрысканный лучшими парижскими духами, он стоял перед женщиной, владеющей почти половиной мира. Она слушала или притворялась, что слушает, не глядя на него, скрытая массивным бюро на золотых ножках. Когда-то царица, вероятно, была недурна; дамы такого типа не в его вкусе, хотя всякое случалось, но как может нравиться сочетание жестких черт лица с белым телом… о последнем, впрочем, оставалось только догадываться. В налитом, словно опухшем, лице, в тучной фигуре, облаченной в пышное, лишь подчеркивающее толщину платье, не было ничего привлекательного. Возможно, сумей Джакомо подойти поближе, он разглядел бы и густой пушок над верхней губой. Но не подходил, понимал, что не имеет права приблизиться ни на шаг. Один взгляд царицы заставил его замереть. Такой взгляд способен убивать. И наверное, убивал. Вот она какая, императрица всея Руси, железная Екатерина. И Джакомо предпочел не рисковать. Он стоял точно перед трибуналом и срывающимся от волнения голосом произносил давно заготовленную тираду о будущем мира, о сплочении Европы под рукою мудрейших монархов, об организации объединенных наций, которая склеит то, что разбито, сплотит то, что распалось.
Говорил и все отчетливее ощущал, что его диковинный мундир — шутовской наряд, а парижские духи — знак принадлежности к продажному сословию шлюх.
Разоружение — вот основная задача. Сильнейшие должны показать пример. Если сократить численность войск, никто не станет ни на кого нападать, а мир… что ж, мир столь же нужен людям, сколь и любезен — Джакомо хотел сказать: «Богу», но вовремя спохватился: ведь перед ним была читательница Вольтера, — сколь и присущ Природе. На том и закончил. Надоело. Черт бы побрал его идиотские идеи, Вольтера и эту жирную змею, которая глядит на него, как на воробья, запущенного к ней в клетку.
— Пятьдесят тысяч для начала хватит?
Голос у нее, пожалуй, приятнее всего остального. Пятьдесят тысяч чего? Дукатов, франков, плетей? И за что его собираются наградить или наказать? Джакомо изобразил на лице недоумение, хотя подозревал, что производит впечатление полного идиота. Царица вытащила руки из-под стола, в пальцах сверкнуло узкое лезвие; в другой руке она держала яблоко, сплошь в надрезах. Сок капал на полированную поверхность.
— Хорошо. Пусть будет семьдесят. В Европе станет семьюдесятью тысячами солдат меньше. Но взамен твои хозяева должны гарантировать, что Турция на несколько лет оставит нас в покое[17]. Скажем, на пять.
— Пять лет, — повторил Джакомо, плохо понимая, о чем идет речь: какая Турция, какие хозяева? Видно, его опять принимают за кого-то другого. Неужели никогда не кончится этот ужасный сон?
— Достаточно. О покое турок мы потом сами позаботимся.
Не за того принимает. Или нагло издевается. И одно и другое опасно — это ясней ясного.
— Весьма похвально, — начал осторожно, стараясь преодолеть неожиданную хрипоту в голосе, но не успел выдавить больше ни слова, как царица пренебрежительно махнула рукой:
— Нисколько. Мы используем этих солдат в Азии. Там у нас еще есть враги.
И внезапно встала, словно посчитав эту часть беседы законченной. Она была похожа на стоящий в углу за ее спиной тяжелый, украшенный позолотой шкаф на широко расставленных ножках. «Полмира во власти шкафа», — мелькнула язвительная мысль, плохо сочетавшаяся с преданной собачьей улыбкой. И Джакомо поспешил согнать заискивающую улыбку с лица: в конце концов, ему нечего бояться, он не узник, что лучше всего доказывает эта аудиенция, и даже если его не за того принимают, то уж наверняка считают важной персоной, заслуживающей почета и уважения. А может, никакой ошибки тут нет, они спохватились, что наделали глупостей, и теперь хотят вознаградить его за свой промах.
Нож, поблескивающий в царственной руке, нож для разрезания писем. Письмо от Вольтера[18]. Вполне вероятно. Вольтер мог от кого-нибудь узнать, в какую он попал переделку, и написал Екатерине, вступился за друга. Да. Это правдоподобно. Мир не столь абсурден, каким иногда кажется.
Шкаф стронулся с места: всколыхнулись все его выпуклости, задрожали украшения. Джакомо удивился: движения царицы были не лишены изящества, сильные ноги легко несли тучное тело. Чего теперь от нее ждать? Острый кончик ножа уткнулся ему в грудь.
— А не кажется ли вам и вашим друзьям, господин Казанова, что, между нами говоря, природа всерьез признает только борьбу? Как вы, масоны, этого не видите? Или не желаете видеть? Природа — это насилие, кровь, разможженные кости. Я не права?
Джакомо хотел ответить какой-нибудь уклончивой банальностью — коли уж он масон, можно позволить себе выражаться загадочно, — однако подрагивающий в руке императрицы нож и новые, хрипловатые нотки в голосе заставили его замереть. Только бы не подвел мочевой пузырь…
Рука Екатерины с унизанными тяжелыми перстнями пухлыми пальцами, та самая длань, мановения которой ждут миллионы людей, начиная от этих, за дверью, в равной мере готовых вынести его на руках или снести голову, и кончая коронованными особами в разных концах Европы, легла ему на грудь. Выскочили из петель пуговицы — одна, другая; острие ножа добралось до кожи. Джакомо не шелохнулся. Понимал, что нельзя.
— Кровь, — рука с ножом сильнее уперлась в грудь, — пот, — вторая рука потянула его к себе, — слюна.
Значит, все, что про нее шептали, говорили, кричали, правда. Шкаф, распутный шкаф. Он будет ублажать распутный шкаф.
Однако это оказалось не так-то просто. К его изумлению, а потом и к ужасу, оружие отказывалось ему повиноваться. Женщина лежала перед ним на своем пышном платье, ничего не скрывая, а он, точно неопытный юнец, не мог приступить к делу. Хотя это было необходимо. Иначе ему конец, конец. Чем громче он повторял это в мыслях, тем беспомощнее становился. Лихорадочно пытался припомнить что-нибудь возбуждающее, но — увы! — никакие воспоминания не заслоняли того, что он видел и чувствовал на самом деле. Сладостные уста и быстрый язычок Полины, упругая дырочка Бинетти, подрагивающие ягодицы и гортанный смех гамбургской шлюхи, которую он взял сразу вслед за предыдущим клиентом, — всего этого было недостаточно, чтобы отвлечь внимание от бесформенного брюха и звериной щетины, покрывающей то, куда ему нечего было вонзить. В отчаянии Джакомо призвал на помощь двух китаянок, ласкавших его в бане, своеобразный запах, от них исходивший, крики наслаждения. Но вместо нежных голых животиков по-прежнему видел колючую щетину, под которой его поджидают венерические язвы, вместо аромата юных тел ощущал несвежее дыхание, вместо песен любви слышал оглушительный грозный рев безумного Паука.
— Ну?
Она притянула его, попробовала обхватить ногами, больно колотя пятками. Еще эти груди — плоские, увядшие, разделенные сухой ложбинкой. Никакие ухищрения не помогали. Сморщенная висюлька оставалась висюлькой и не думала превращаться в палицу, а сам он скорее готов был исполнить желание своего мочевого пузыря, нежели императрицы всея Руси. Черт, с настоящим шкафом все пошло бы куда легче. А тут… полный конфуз, всеобщее разоружение вместо войны.
— Я сейчас, — пробормотал он на каком-то неведомом варварском наречии, вырвал руку из-под тяжелого зада, схватил, сдавил, смял. Эта шлюха Катани, которой при нем сзади воткнул какой-то молокосос, улыбающаяся ему невинно и нежно; апатичная англичанка, которую он на одну ночь выиграл в карты у томящегося под дверью жениха; горбун из дрезденского кабаре с огромным фаготом. Хоть что-нибудь, хоть малейшая надежда, тень надежды — ну же! Пусть только этот вялый болван подымет голову и устремится вперед. Ему уже все едино, к черту предостережения Паука. Он отшворит бабу так, что ее уносить придется. А потом и шкафу достанется, сколько бы ящиков в нем не оказалось.
Ящики! В спину вонзилась ледяная игла. Ящик Куца! Западня для его беззащитного дружка: сейчас он будет смят, раздавлен, оторван. Тупая боль в животе, когда стало понятно, для чего этот ящик предназначен. И паника в кишках, когда ящик с треском захлопнулся в нескольких сантиметрах от его внезапно уменьшившихся яичек и почти полностью втянувшегося внутрь члена. Кошмар! Да ведь эта баба-шкаф могла приготовить подобную западню. Она его оскопит, размозжит, поглотит.
Теперь уже ясно было, что надеяться не на что. Чуда не произойдет. Конец. Ему и всему миру. Он не вовлечет ее в европейское содружество, не убедит в необходимости разоружения. Наоборот — теперь все будут наперегонки вооружаться: и одни, и другие, и третьи. Новые солдаты, новое оружие, новые войны. Уж она об этом позаботится. Отвергнутые женщины страшны, а кто из тех, кем он когда-либо пренебрег, обладал хотя бы частицей той власти, которая есть у этой омерзительной бабы! Она погубит, поставит под ружье весь мир. А из-за чего? Из-за его преждевременного разоружения. Он тоже погиб, пропал, пора прощаться с жизнью.
Джакомо не без труда, потому что диван словно бы тянул его обратно, приподнялся, и тогда лежавшая под ним женщина, уже не императрица, а раздосадованная его нерадивостью самка, хозяйским жестом сунула ему руку между ног. Он напряг все свое воображение, но не успел ничего придумать. А секунду спустя понял, что то была не ласка, а проверка.
Вой, страшный вой Паука вырвался из его глотки, когда пухлые пальцы внезапно превратились в клещи, в безжалостные щипцы, готовые давить, рвать, бросать ошметки плоти собакам. Кошмар! Куц, оскопляющий дрезденского горбуна. Паука с огромными, как шары, яйцами. Яркая вспышка боли парализовала Казанову. Он перестал что-либо ощущать и понимать. И, уже грохнувшись на пол, услышал полный звериной ярости вопль: «Вон! Вон!»
Джакомо украдкой вытер пот со лба. Он не любил этих воспоминаний. Да и не возвращался к ним — не видел смысла: ведь ни настоящим героем, ни настоящей жертвой предстать в них не мог. Только Паук сумел бы его понять, но Паук, вероятно, уже гниет где-нибудь на задворках тюрьмы. Здешние знакомцы, услышав такое, задохнулись бы от возмущения или животики надорвали со смеху. А уж этот молокосос князь Казимеж не преминул бы отпустить дюжину сальных шуточек. И свелась бы вся история к одному: что он не удовлетворил царицу: ну а если нельзя рассчитывать на сочувствие, лучше помалкивать. Пока. Когда-нибудь он это опишет. Непременно. Отомстит сполна, не пощадит это исчадие ада. Не упустит ни малейшей подробности, а если сочтет нужным, добавит парочку вымышленных, которые распоследних шлюх заставят разинуть рты от изумления. Да. Тысяча чертей! Он это сделает. Пускай потомки узнают, в чьи руки попадает власть над миром… Джакомо снова оказался возле князя Сулковского. Что ж, сейчас ученый зануда может ему пригодиться.
— Вы меня представите королю?
Они уже стояли в королевской спальне, перегороженной огромной ширмой, за которой угадывалось какое-то движение, слышалось покашливание, тихий шелест неторопливой беседы. Вот-вот ширма отодвинется, а тогда поздно будет что-либо предпринимать. Сулковский осадил его знаком:
— Посмотрим. Кажется, государю сегодня нездоровится. И такое бывает.
И такое бывает. Merde. Легко ему говорить. А если опять не повезет? Опять все закончится ничем? Столько приготовлений, бесконечное терпеливое ожидание — и все зря? От волнения Казанова судорожно сглотнул:
— Как это?
— А вот так. С вами разве не случается? — И добавил с ехидцей: — Болезнь не разбирает, кто перед ней: король или простой смертный.
Что это: ирония или оскорбление, когда впору хвататься за кинжал? Король и простой смертный! В его огород камешек. Простой смертный! Ладно, пускай. Казанова не терпел людей, столь неприятным способом демонстрирующих свое превосходство, но… ничего не поделаешь. Князя Адама рядом не было, а кроме Сулковского он, в общем-то, никого близко не знал. Однако разочарования скрыть не сумел.
— А граф Репнин[19]?
Его кинжал был остро отточен и задел уязвимое место. Князь поморщился незаметно, однако голос его выдал:
— Что Репнин?
— Лечит короля? Чего-то он засиделся.
Этот удар оказался еще более метким. Сулковский напрягся, словно наконец оценил противника.
— Это дела государственные. Не нам о них судить.
Оба замолчали, несколько разочарованные друг другом. Казанова уже хотел было сгладить свою язвительность, но князь повернулся к нему спиной и протиснулся в первые ряды ожидающих. Сказал что-то мужчине с высоко выбритым затылком, потом поискал глазами Казанову и отрицательно покачал головой. Да, похоже, ничего не получается.
Ничего. Почему же все как ни в чем ни бывало стоят, вместо того чтобы поспешить отсюда убраться? Чего они ждут? Неужели еще остается надежда? Да нет же. Джакомо спохватился, что опять рассуждает как наивный младенец. Ведь ему уже раз недвусмысленно дали понять, каковы правила игры в этих покоях. Ясное дело: коли уж они пришли в свите царского посла, то и уйти без него не смеют. Н-да, придется и такое снести, обреченно подумал он, и поважнее его — огляделся: лица у соседей были довольно-таки унылые — сносят.
И полез в карман за платком, но вместо тонкого шелка пальцы нащупали твердый кружок. Дукат — последний, что у него остался. В душе снова всколыхнулась горечь обиды. Государственные дела. А у него к королю какое дело? Неужели то, что он собирается рассказать, не представляет интереса для государства? Ради чего он сюда приехал — не для собственного же удовольствия, иначе выбрал бы совершенно другое направление. Пустота в карманах тоже лишь на первый взгляд его личная проблема. Что делать, если те заплатят раньше? Тогда и ему, возможно, придется сдержать обещание. А государство без короля…
Джакомо украдкой поглядел на дукат. Горстка таких монет, и он бы не горевал, что туфли с золотыми пряжками жмут, а парижский шелк раздражает кожу, расплатился бы с долгами и подумал о настоящем деле. Неужели искреннее признание того не стоит?
И принял решение: он расскажет королю все без утайки. Все: кто его сюда послал и зачем… А потом будь что будет. Да. Подбросил на ладони дукат: на счастье. Пускай результатом его решения станет множество подобных. Золотая монетка легко взвилась в воздух, но вместо того чтобы спокойно и уверенно, как в волшебных трюках Иеремии, вернуться в пятипалую копилку, неожиданно вильнула, ребром задела большой палец и, не задержавшись даже на ковре, покатилась к ширме. Merde, тысячу раз merde!
Это было уже чересчур. Развлечься вздумал, идиот! На мгновение заколебался: рискованно переступать магическую черту — край ковра — но… как можно расстаться с последним дукатом! И, отбросив колебания, устремился в погоню — промедление могло ему дорого обойтись. Натертый до зеркального блеска паркет предательски громко загудел, Джакомо почувствовал на себе взоры всех присутствующих, но отступать было поздно. Каблуки торопливо застучали по полу — увы! — без толку. Хотя монетка и катилась из последних сил, ширма была уже близко. Чтобы не влететь, как пушечное ядро, в кровать к королю, Казанова плюхнулся на колени, выставил вперед руки и во всю длину растянулся на полу. Напрасно. Дукат исчез под ширмой.
Щель, к счастью, была достаточно велика; поспешно в нее заглянув, Джакомо обрадовался: монета лежала на расстоянии вытянутой руки. Однако в следующую секунду он увидел нечто заставившее его забыть про дукат. Над самым полом покачивалась небольшая, почти женская нога, будто что-то искала. Казанова замер: король, это король. Нога короля, стопа короля, королевские пальцы и пятка. А чьи же эти черные, широко расставленные сапожища? — ну конечно, царского павлина, графа Репнина. Из-под графского сапога что-то торчало. Джакомо пригляделся внимательно: туфля; еще внимательнее: туфля с королевской монограммой. Это ее искала шарящая по полу нога. Нащупала, легонько потянула к себе — туфля, придавленная каблуком посла, не шелохнулась. Дернула посильнее — тоже безрезультатно. А когда Казанова уже собрался протянуть руку к последней частичке того, что мог бы назвать своей собственностью, королевская стопа, ничего не добившись, напоследок неуверенно шаркнула по полу и поднялась наверх, на кровать.
Джакомо так и не протянул руки. На четвереньках, со сдавленной незнакомым чувством глоткой, пополз обратно. Двое слуг с ожесточенными, злыми лицами быстро направлялись к нему.
Запах Джакомо почувствовал уже на лестнице: прокисшее вино, чеснок и затхлая сырость стен… Как ему это было знакомо! Последние месяцы он наслаждался всем по отдельности: сыростью царских темниц, кислым вином и чесноком, пожираемым целыми головками за обедом в придорожных еврейских корчмах. Но сколь не похожи эти запахи на бережно хранимый где-то под языком аромат венецианских улочек! Боже, Венеция! Туман на Canale Grande, тихие всплески весел, предостерегающие окрики гондольеров, и он сам, не ощущающий холода, распаленный мыслью о предстоящих любовных утехах, или же — много часов спустя — усталый, сонный, со смиренно поникшим мужским цветком, предвкушающий блаженные минуты отдыха. Боже, дозволь пережить такое хотя бы еще раз!
Дверь открыла пышнотелая девица с грудью языческой богини плодородия.
— Мастер дома?
Богиня певуче ответила что-то по-польски и пошла вперед. Зад у нее был необъятный, крутой — настоящая жопища, как с преудивительной смесью восхищения и презрения говаривали в его родных краях. Неплохое начало. Сперва этот, ставший уже привычным, запах на лестнице, теперь — тоже привычные — божественные формы. Служанка, натурщица, жена?
На пороге мастерской Джакомо остановился. В ноздри шибануло резкой вонью красок и скипидара. Не это, однако, его ошеломило. Он даже не сразу заметил склонившегося над столиком в глубине комнаты художника, так как отовсюду: из золоченых рам на стенах, с натянутых на подрамники, местами еще не просохших холстов в углу, с незаконченной большой картины на мольберте и набросков, выстроившихся в ряд под окном, — на него смотрел король. Облик сознающего свою значительность человека, римский нос, темные глаза и брови под светлым париком. Сомнений не было: это — Станислав Август. Rex Poloniae[20]. Благородство и величавость черт, горделивая осанка, чуть высокомерно поджатые губы. Да, таким и должен быть государь. И так должно его изображать. Так — если ты придворный живописец — следует рисовать короля.
А ноги? Джакомо, мысленно усмехнувшись, поискал ногу, с которой недавно свел знакомство, наблюдая, как упавшую с нее легкую утреннюю туфлю попирал своим сапогом граф Репнин. Но почему-то ног на портретах не было. Лишь на одном, стоявшем на мольберте, король в величественной позе и роскошных одеждах был запечатлен в полный рост, однако и тут благородные конечности ниже колен удостоились лишь нескольких небрежных мазков.
Художник наконец встал из-за стола; был он невысокий, коренастый, с толстым пузом. «На ходулях, что ли, малюет большие картины или залезает на лестницу?» — подумал Джакомо, ожидая улыбки либо дружелюбного жеста хозяина. Не тут-то было: лицо с заметными следами оспы, а точнее говоря, рябая рожа ничего не выражала; уж более приветливым мог показаться взгляд короля. Что ж, придется взять инициативу в свои руки. Не в первый и даже не в сотый раз. Впрочем, он и рта не успел раскрыть.
— Я знаю, кто вы. Не знаю только, что вас ко мне привело.
Голос у художника был хриплый, неприятный. И тут незадача. С таким не заведешь легкую и непринужденную светскую беседу — не за что зацепиться. Хорошо хоть здесь эта широкозадая девка, сидящая на корточках у окна и вытирающая тряпками кисти. В ее присутствии он не позволит сбить себя с толку.
— Всегда приятно повидаться с земляком. Кроме того, я хочу заказать портрет.
Художник неожиданно широко улыбнулся; ничего оскорбительного в его улыбке, к счастью, не было.
— Портрет? Видите, что здесь творится? Заказов выше головы. Но для земляка я, пожалуй, готов сделать исключение. Если земляк не стеснен в средствах. — Вытащил из кармана рабочего халата огромную сигару. — Это так?
Клюнул на приманку — полдела сделано. А пропустить мимо ушей дерзость, притворившись глуховатым, проще простого. И без единого слова сбить спесь тяжелым, украшенным рубинами золотым портсигаром, накануне позаимствованным у князя Сулковского, — одно удовольствие. Художник уважительно подкинул портсигар на ладони:
— Присядем.
Сам, однако, не сел; кивком подозвав девушку, фамильярно обнял ее, шепнул что-то на ухо.
— Мне бы не хотелось доставлять вам лишние хлопоты, — любезно начал Казанова, усаживаясь в кресле и уже без опаски поглядывая на королевского живописца, которому не только рад был бы доставить лишние хлопоты, но и просто-таки завалить его ими. Кстати, он вовсе не уверен, что этого не сделает. Портрет в любом случае пригодится. Незаконченная картина на мольберте теперь была у него прямо перед глазами: король смотрел вдаль уверенно, с достоинством, явно не смущаясь тем, что вся тяжесть тела и подбитой горностаем пурпурной бархатной мантии приходится не на ноги, а на какие-то прутики.
Девица вернулась с бутылкой вина; на ней было уже другое платье с вырезом, открывающим грудь почти до самых сосков. Черт, похоже, специально для него переоделась! Это скорее встревожило, чем обрадовало Казанову. Кретинка! Ведь у его самодовольного соотечественника тоже есть глаза. Не дай Бог такая глупость помешает осуществлению его плана. Ладно, адрес он украдкой сунет ей перед уходом. Художник залпом опорожнил свой бокал. Снова налил.
— Тосканское. — Причмокнув, он усадил девушку на колено, что явно доставило ей удовольствие. С широко расставленными ногами, громадной сигарой в зубах, бокалом вина в одной и пышной грудью в другой руке, тосканец скорее походил на мифического сатира, чем на завсегдатая придворных салонов; о царящих там нравах Джакомо, правда, разное слыхал, но такое не предполагал увидеть. Сатир, будто угадав его мысли, подался вперед и еще крепче обхватил девушку. Казанова с нарастающим возбуждением искоса поглядывал на подрагивающие полушария. Вырвутся на свободу или не вырвутся?
— Я вам кое-что скажу. — Художник поднял бокал. — Тоскана — вот место для художников. А не эта проклятая дыра. Можете мне поверить.
Джакомо на всякий случай уткнулся в свой бокал. Надо выждать, разобраться, к чему тот клонит. К чему подбирается его рука, обхватившая левую грудь девушки, было ясно: пальцы медленно отгибали край платья.
— Здесь все гроша ломаного не стоит. За одним исключением. — Он так крепко стиснул девушку, что та с веселым визгом вскочила и, поддерживая обеими руками свои сокровища, отпрыгнула к мольберту. Ничуть не смутилась; готова продолжать забаву. Корова. А бык этот что вытворяет? Пролил вино. Опрокинул кресло. Обсыпал сигарным пеплом штаны. Спятил?
— Простите, но я от этой жизни дурею. Видите, чем пришлось целых полдня заниматься?
На столике стояла шкатулка из светлого дерева, лежали инструменты непонятного назначения, валялись кусочки какого-то желтого металла. Художник приоткрыл крышку шкатулки. Казанова тупо уставился на горку сверкающего порошка и вдруг почувствовал укол в сердце. Золото, настоящее золото.
— Сам готовлю, сам должен мучиться. Как будто нельзя выписать готовую краску из Парижа или из Гамбурга.
— Золото?
Именно это слово произносить вслух и не следовало, но Джакомо не сумел сдержаться.
Художник легонько дунул на бугорок:
— Самое настоящее. Ни один краситель его не заменит. А я вынужден возиться с этим говном!
«Мне бы твои заботы, земляк», — подумал Казанова с завистью в душе и улыбкой сочувствия на губах. Художник взял со стола брусочек с блестящим обпиленным боком.
— Мне говорят, Боттичелли тоже сам это делал. Но, Господи помилуй, почему на нас, тосканцах, всегда все ездят?!
Что-то в его лице, движениях, интонациях насторожило Казанову. Нельзя расслабляться, хватит восхищенно пялиться на желтые брусочки, надо преодолеть желание взвесить их на ладони. Ведь он — человек, у которого не может быть таких желаний. Не стесненный в средствах земляк — и даже, если угодно, тосканец, состоятельный соотечественник Боттичелли и Медичи[21]… да кого только захочет этот щербатый любимчик короля. Он желает заказать портрет. С этим и пришел. Ни с чем больше. Ну может, еще с крохотной надеждой… Даже не с просьбой. Но об этом чуть позже, сперва он переведет дух, проглотит язвительные слова, которыми с удовольствием отхлестал бы этого горластого индюка. А потом заговорит — спокойно, непринужденно, как бы нехотя. Пускай только эта полуголая шлюха прекратит возле них вертеться…
Еще один бокал, вино хорошее, но надо знать меру. Отказываться, однако, нельзя. Тем более что наполняют бокалы эти груди, норовящие вырваться на свободу.
— Превосходное вино, — овладев собой, произнес Джакомо. Теперь надо поинтересоваться, не из королевских ли оно погребов, а с третьей фразы приступить к делу. Не торопясь выложить, с какой целью сюда пришел. А может, лучше воскликнуть: королевский напиток из королевских погребов?
Но ничего сказать не успел. Художник вдруг беспричинно рассмеялся и снова плюхнулся в кресло.
— Вы мне нравитесь, господин Казанова. Меня тут что ни день посещает по меньшей мере один соотечественник. Но с вами их не сравнить. У каждого одно на уме: чтобы я его ввел в королевские покои, представил, оказал протекцию, отщипнул кроху от монаршьих щедрот — короче, подпустил к корыту. Эдакая наглость! Неужто я похож на ненормального, на самоубийцу, в лучшем случае на идиота? Как же их подпустить к корыту, когда оно, во-первых, одно на всех, а стало быть, и меня кормит, а во-вторых, там уже на донышке осталось? Государь-то наш не скуп, да в кармане пусто. Вон оно как! Не все то золото, что блестит, поверьте; я знаю, что говорю. И со всякими проходимцами, пусть даже разлюбезными соотечественниками, своим куском не намерен делиться. Без лишних разговоров спускаю с лестницы. Пусть радуются, что кулаком под ребро не засадили. А иному не мешало бы хрястнуть, видит Бог, не мешало бы.
Джакомо не знал, чего ему хочется больше: встать или еще глубже забиться в кресло, убежать или и дальше сидеть как пень напротив этого рябого черта, переполненного то ли подлинной, то ли притворной злобой.
— Сами посудите, господин Казанова: мне что, у собственных детей отрывать кусок, чтобы кормить этих дармоедов?
— У вас есть дети?
Злость внезапно уступила место шутовскому недоумению.
— Дети?
О нет, он не такой дурак, каким прикидывается. Ловушка хитро поставлена. Только бы выйти из нее невредимым.
Художник расплылся в улыбке, стрельнул глазом в сторону девушки.
— Разве в этом мире можно хоть в чем-нибудь быть уверенным, а, котик?
Котик залился серебристым смехом и позволил косматой лапе вновь собой завладеть. Да эти лапищи из кого хочешь душу вытрясут, вовсе не обязательно спускать просителя с лестницы или засаживать кулаком под ребро. Художник, называется! Жалкий мазила, фанфарон, хам, пробившийся в салоны. Казанова прищурился, чтобы с высокомерной снисходительностью истинного аристократа прекратить эту мерзкую сцену, однако тут же широко раскрыл глаза. Так широко, как только мог. Волосатым лапам-клещам удалось сделать то, что не удавалось прежде: две огромные белые сиськи выскочили наружу и преспокойно уставили на Джакомо свои темные гляделки. Их обладательница на мгновение онемела, замерла, точно и ее ошеломил неожиданный поворот. Дела. Загипнотизированный бесстыжим взглядом вылупившегося на него буйволиного ока, Казанова потерял всякую охоту изображать надменного аристократа. Больше того: почувствовал возбуждение. Давно уже на него никто так не действовал. Попытался внушить себе, что и так девка будет его — он заманит ее к себе и поимеет всеми возможными способами, сколько и чего бы это ни стоило, однако внушение мало помогло.
Сатир негромко что-то пробормотал, а когда девушка послушно подняла руки, кончиком языка облизал ей соски. Черт, эти тосканцы все ненормальные! Что здесь происходит? А ничего особенного — художник подмигнул ему, а потом, взяв щепотку золотого порошка, легкими движениями профессионала припорошил кончики грудей. Девка, словно очнувшись, взвизгнула, брыкнулась, хлестнула рябую физиономию позолоченными грудями и, хотя художник крепко ее держал, вырвалась. Покачнулась, вытянула руки и… полетела прямо на Казанову. Джакомо хотел ее поддержать, но было уже поздно.
Одной рукой она зацепила парик и — тысяча чертей! — падая, сдернула его, а второй взмахнула, пытаясь удержать равновесие, и., разожгла еще более сильный огонь там, где ему, наоборот, хотелось погасить пожар. Джакомо ощутил тяжесть ядреного тела, его тепло, запах пота, но через секунду девка вскочила и с громким смехом пустилась наутек, сшибая все, что попадалось на пути.
Художник бросился за ней. Пока Казанова поднимал парик и соображал, как правильно его надеть, они успели облететь всю мастерскую. Грудастое чудовище уворачивалось, позолоченные сиськи мелькали то там, то сям и в конце концов торжествующе застыли между полами распяленной на деревянной подставке королевской горностаевой мантии. Художник оглушительно загоготал, и в этот момент на пороге двери в боковой стене, точно величественный призрак, появился… король.
Римские черты, знакомое по портретам выражение лица: спокойное, уверенное, чуточку — как и пристало монарху — надменное. Наряд серебряный, на груди и на плечах щедро украшенный золотом, в руке, точно скипетр, длинная, красного дерева трость. Сомнений быть не могло. Stanislavus Augustus. Rex Poloniae.
Боже, король — так внезапно, так неожиданно, так страшно… А он — растерзанный, без парика, со взбунтовавшимся дружком. Кошмар! Джакомо стремительно вскочил, с отчаянной решимостью поклонился, пытаясь заслонить париком предательскую выпуклость. Художник и девка, будто ничего не заметив, бросились друг к другу; два тела столкнулись с такою силой, что грозно заколыхались орлы на мантии; впрочем, и они быстро угомонились. Лишь тогда Казанова осмелился поднять глаза.
Король, словно оробев, не двигался с места. Сейчас он зычным голосом кликнет слуг и прикажет арестовать наглецов либо кинется на них сам, верша правосудие увесистой тростью. Однако на лице короля не было гнева. Как и удивления. Как и улыбки. Оно ровным счетом ничего не выражало. Будто он никого не видел и ничего не слышал. А может, именно так проявляется божественное безразличие к делам малых мира сего? Еще минута — и произойдет взрыв; Казанова уже готов был покориться его бешеной силе. Не везет так не везет во всем.
Наконец король сделал шаг вперед — медленно, величаво, как и надлежит монарху. Трость со стуком опустилась на пол; только тогда маэстро высунул рожу из-под мышки своей подруги. Сейчас, Господи, сейчас. Однако вместо крика, брани, требующих незамедлительного исполнения приказов, Джакомо услышал хриплый голос художника:
— Опаздываешь, сударь. Придется тебе подождать, пока мы не управимся с одним дельцем.
Вместо грома с ясного неба к потолку взвились переливы смеха кинувшейся к дверям девки. Вместо холода приставленного к горлу стального клинка, треска воротника, рвущегося в цепких пальцах, пинков в зад — кислое дыхание художника на лице.
— А о портрете мы поговорим чуть позже.
И был таков. Впрочем, нельзя было сказать, что парочка исчезла бесследно: через минуту из-за неплотно закрытой двери донесся высокий женский смех, басовитое ворчанье художника и грохот переворачиваемой мебели. Король, казалось, не обращал на это внимания: подойдя к окну и присев на мраморный подоконник, он впервые задержал взгляд на Казанове. Чертов парик опять сполз на лоб.
— Простите, ваше величество, — едва слышно пролепетал Джакомо. Но не успел он набрать воздуха в легкие и подыскать слова, которые могли бы разрядить неудержимо сгущающуюся атмосферу, смех и бормотанье смолкли, и сменившие их стоны возвестили о начале единственного вида состязаний, который Казанова признавал и к которому — о ужас! — сам был почти готов. Чего он только не делал: нырял с головой в ледяную воду, прятался в подземелье, топтался перед покатывающейся со смеху толпой зевак — все без толку. Распутная девка, издающая дикие стоны под другим мужчиной, держала его в состоянии боевой готовности. В присутствии коронованной особы!
Джакомо попытался найти спасение в глубоком поклоне, но как долго можно кланяться даже королю? Делать было нечего: полностью стянув с головы парик и держа его низко перед собой, он медленно распрямился. Может, не столь уж и позорно стоять перед монархом с обритой головой? Мало ли лысых шляхетских макушек каждый Божий день видит его королевское величество. И вообще, будь что будет. Какие тут, к черту, тонкости, какие полутона, когда звуки за стеной становятся все громче.
Наконец он осмелился прямо взглянуть на короля. Тот стоял, небрежно опершись на подоконник, и казалось, интересовался происходящим не больше, чем его неподвижные двойники в золотых рамах. Только губы легонько дрогнули. «Молится, — подумал Казанова, — потому и ничего не замечает». А вот полез за пазуху, вытащил что-то, похожее на крупные четки, поднес ко рту, но не поцеловал — куснул с видимым удовольствием. Никакие это не четки. Колбаса. Король просто-напросто ест колбасу. Неслыханно! Колбасу. Что ж, мир обречен покорно сносить и не такие причуды правителей — Казанова потупился, чтобы не смущать его величества. Ноги — непринужденно, как-то небрежно расставленные… Стоп! Это вовсе не те аккуратные маленькие ступни, точно специально созданные для элегантных туфель, которые он видел на полу королевской спальни, это же настоящие копыта, обтянутые серебряной юфтью. Неужели…
Джакомо оцепенел от гадкого подозрения. Посмотрел еще раз. Да. Он, как последний дурак, позволил себя провести. Боже, да ведь любой из королей, надменно взирающих со стен, в сто раз больше походил на настоящего, чем уписывающий колбасу верзила. Никакой это не король — простой натурщик. А он чуть не грохнулся перед этим ряженым на колени. Джакомо захотелось одновременно и расхохотаться, и завыть от ярости.
Девушка пронзительно вскрикнула — должно быть, уже от боли, а не от наслаждения. Это его отрезвило. Парик на голову, на колбасного шута больше не смотреть. Джакомо так стремительно бросился к выходу, что задел бедром столик с инструментами. Шкатулка с драгоценным порошком со стуком упала на пол; во все стороны, будто песок в танцклассе, брызнули сверкающие фонтанчики. Но ему уже было все равно. С золотой пылью на башмаках и горькой слюной во рту он выскочил за дверь. Запах на лестнице теперь казался обычной вонью.
Спустя несколько дней он увидел эту девку на улице. Она мелькнула в толпе торговцев на Краковском Предместье. Секунду Джакомо колебался: догонять или не догонять. Вообще-то он чертовски устал. Полдня провел на ногах, обивая пороги самых важных — как успел узнать — прихожих столицы, зверски проголодался, вдобавок немилосердно горели подошвы и карман был по-прежнему пуст. Дома его ждал суп из раков, наловленных утром Иеремией, две маленькие чертовки, препирающиеся, кому какую его стопу массировать, ну и молоденький офицерик, плативший ему за обучение светским манерам жалкие, но все же настоящие деньги. И тем не менее воспоминание о недавнем визите в мастерскую пересилило усталость. Джакомо пустился вдогонку за девушкой, когда та была уже в конце улочки, круто спускающейся к Висле. Он ускорил шаг, но она скрылась за углом, и тогда, вопреки здравому смыслу, он побежал, проклиная себя за собственную глупость.
Прохожих на улице было немного, но девки среди них он не увидел. Наверно, зашла в одну из лавчонок, прячущихся в ближайшей подворотне. Нету. Значит, спустилась еще ниже, возможно, ее заслонила огромная, груженная бочками подвода, медленно выползающая из какого-то двора. Ну конечно, она за этой подводой, которую с трудом тянут два тощих вола.
Опять припустил бегом. Остановился. Зачем ему это? Заурядная шлюха. И не такие зады и груди ему доставались без лишних хлопот. И все же… Окончательно заглушив голос рассудка, Казанова энергично устремился вниз. Сперва шагом — быстрым, решительным. Мостовая была неровная, вся в выбоинах, чуть зазеваешься — подвернешь ногу. Джакомо старался идти осторожно, но на крутом спуске все-таки оступился. Подпрыгнул, чтоб не упасть, еще раз — чтобы выпрямиться, и еще — теперь уже ради удовольствия. И полетел вниз, как камень с горы. Поначалу он еще сдерживался, пытался сбавить скорость, с мучительным усилием вдавливал подошвы в брусчатку, но ему это быстро надоело. Волы проводили его тупыми, усталыми взглядами; уродливый возница стрельнул кнутом; крик, кто-то кричит, уж не он ли сам?
Боже, только бы не превратиться в такого вола, в бессловесную тварь, прикованную к своему грузу и кнуту, стать птицей — свободной, сильной, со свистом рассекающей крылами воздух. Как он сейчас. На него пытались надеть ярмо, заставляли плясать под свою дудку. И он чуть не позволил себя оскопить, торчит здесь, обивает высокие пороги вместо того, чтобы поступить так, как бы давно поступила любая птица: улететь, вырваться из проклятой дыры, исчезнуть. С той минуты, как в голове сверкнула эта мысль, Джакомо уже не бежал — убегал. Все быстрей и быстрей. Надо просто подчиниться силе, увлекающей его вперед, пусть несет безвольное тело вниз, прямо на берег. Дальше он позаботится о себе сам. На барже, на лодке, на плоту, на любой посудине доберется до Торуни, до Гданьска, а там что-нибудь придумает. Преследователям его не достать. Он отдаст рубашку из парижского шелка, туфли с золотыми пряжками; босой и в лохмотьях, будет целовать землю, которая его примет.
Раскинул руки — еще мгновенье, и он воспарит на этими ухабами, полетит к спасительной воде. Взмоет ввысь или со всего маху рухнет на камни — если порвутся напряженные до предела сухожилия, лопнут переполненные воздухом легкие, — покатится вниз с обрыва, как подстреленный на скаку олень, и этим все кончится. Пора остановиться. К счастью, спуск сделался более пологим, и ему удалось замедлить небезопасное движение вперед. Булыжник кончился, теперь Джакомо бежал по разъезженным песчаным колеям. И вдруг услышал… нет, не собственное тяжелое дыхание, а какой-то шум за спиной.
Раковый суп он поест в Париже, офицерик найдет себе другого наставника. А его «свита»? Сара, Этель и этот маленький чудотворец Иеремия? Черт с ними! Обойдутся. Смекалистые ребята, не пропадут. Это он с ними пропадает, опускается, смиренно складывает лапки, хотя даже неизвестно, есть ли с кем бороться. Ведь со дня приезда его никто не тревожил, никто не указывал, что делать, даже призрак Куца перестал являться во сне. Быть может, вообще все, что произошло в Петербурге, лишь сон, кошмарный сон, наваливающийся на него перед рассветом? От чего же он убегает? От сонных мороков?
Шум за спиной не стихал — напротив, усиливался. Джакомо на миг обернулся, но не много увидел: кто-то — кто? — тяжело топал по булыжной мостовой. У него нашлись подражатели, не ему одному вздумалось полетать. Господи, а если это она — та, которую он минуту назад потерял из виду, — решила его догнать? Казанова столь явственно увидел подпрыгивающие на бегу груди, что второй раз обернулся. Нет, не она. Его догоняли трое мужчин. Смешно. Знали б они, что у него не шутки на уме.
Они знали. Джакомо понял это секундой позже, уже на берегу, когда засверкал под ногами песок и он увидел приветливые улыбки людей на борту большой парусной лодки. Те трое знали про него все. Он прочитал это в их сощуренных от солнца и злобы глазах, когда они заступили ему дорогу, выскочив, точно гигантские зловещие призраки, из-за ракитового куста. Видно, сумели его опередить, когда он в предвкушении близкой уже свободы замедлил шаг. Трое убийц, ожидающие приказа броситься на свою жертву. У одного, сущего великана, в руке нож, двое других горбят плечи, будто, прячут что-то за пазухой. Ничего подобного он не ждал, даже не захватил с собой шпаги.
И вдруг его охватила ярость. Идиоты. Не понимают, с кем связываются. Неужто он пожертвует своей свободой ради их желания поживиться? Как бы не так. Сейчас он саданет верзилу с ножом и прыгнет в воду. Пока они опомнятся, будет уже в лодке. Матросы не откажут в помощи. Секунда отделяла его от решающего прыжка, но тут старший из троих, с кустистыми бровями и плечищами грузчика, произнес на ломаном французском:
— Куда? Куда тебя понесло? Забыл, зачем приехал?
Это, пожалуй, похуже нацеленного в грудь ножа. Достали. Он-то рад был бы забыть, да о нем не забыли. Призраки, изгнанные из кошмарных снов, вернулись наяву. Это не простые бандиты. Простые бандиты в худшем случае могли бы его убить. А эти хотят еще и унизить. Раздумывать долго нельзя. Ничего ведь не изменилось. Он ударит этого, справа, и толкнет на тех, что стоят чуть поодаль. У него есть преимущество в две-три секунды. Сейчас…
Не успел: между ним и его преследователями вклинилась какая-то фигура и бросилась им под ноги. Боже, да это Иеремия! Он-то откуда взялся, тысяча чертей?! В воздух взметнулся песок, посыпались проклятия. Через минуту все было кончено. Великан с ножом от неожиданного удара пошатнулся, упал на колени, но тут же приставил к горлу мальчика острие.
— Эй!
Двое других могли бы даже не вытаскивать оружия, однако вытащили: бровастый погрозил пистолетом людям на лодке, а второй направил дуло на Казанову. «В живот метит, скотина, — подумал Джакомо и покорно поднял руки. Ничего, он запомнит эти бандитские рожи, он с ними когда-нибудь расквитается. Один подтолкнул Иеремию к его ногам. Джакомо нагнулся, чтобы поднять мальчика, и вдруг почувствовал холод стали на шее. Замер, жалея, что не кинулся на негодяев раньше — по крайней мере погиб бы в честном бою.
Из-за кустов выехали трое верховых. Солдаты в диковинных бараньих шапках — наверняка не поляки. Но и этот казацкий патруль, увидев, что здесь творится, схватится за сабли… Нет, не схватились — достаточно было бровастому властно махнуть рукой, и казаки повернули лошадей. Впрочем, не исключено, что он обязан этим дикарям жизнью — нож больше не упирался в шею; похоже, худшее уже позади. Может, все-таки, а вдруг, зачем им… Сомнения пробудили надежду, но великан схватил его за шиворот, провел острием ножа по шее и отскочил. Казанова поднес руки к горлу и вскрикнул — не столько от боли, сколько от страха. Кровь, у него пальцы в крови! Вся троица дружно загоготала, а бровастый плюнул ему под ноги и погрозил кулаком:
— Чтобы помнил.
«Из тюрем, в которых мне довелось побывать, эта была самой комфортабельной. Я даже не знал, сколь она велика: ограничена пределами Варшавы, Польши или далеко за них выходит — ведь в этой части света границ не воспринимают всерьез. Камеру я выбрал сам: несколько ней не выходил из дома. Ждал, пока зарубцуется рана на шее, неглубокая, к счастью, и неопасная, однако главное было не в этом. Мне не хотелось дразнить своих тюремщиков: я так до конца и не понимал, кто они и чего от меня хотят. Просто боялся».
Нет, нет. Последние две фразы надо вычеркнуть. Даже себе неприятно в этом признаваться, а уж тем более дикой своре любопытных, которые когда-нибудь набросятся на его записки. Сколько среди них будет трусов, жаждущих найти оправдание своему малодушию, или палачей — своей жестокости, сколько простых смертных, потрясенных крупицами правды, им самим недоступной. А сколько потомков его гонителей, сколько волчьим семенем рассеянного по свету отродья великих инквизиторов — мучителей с царского двора, рогоносцев, ненавидящих его за собственную слабость. Нет, в роли трусливого шута он не собирается выступать, не доставит им такого удовольствия.
Кончик пера сухо царапнул по бумаге.
— Василь, — крикнул Казанова, — чернил!
Ноги. Можно написать что-нибудь про ноги. У парижских туфель есть свои недостатки. Например, они непригодны для погони за королем, а уж тем паче для скачек по булыжнику. В кровь стерли ему пятки, покалечили пальцы. Выбросить бы их, да других нету. Это смущало Казанову не меньше, чем багровая полоса на шее. Но и такая правда недостойна его пера.
«Мне нужно было просто отдохнуть, поразмыслить, что делать дальше. Вот и сейчас, посовещавшись с рассудком или с тем, что таковым считаю, решил ничего не предпринимать. Не зная правил игры, в которую был вовлечен, я мог больше навредить себе, обивая пороги салонов, нежели запершись дома. Да и после того, что произошло, напомнили о себе преимущества домашней жизни. Нежная опека Этель и Сары — недурная награда за все мытарства. Опять же Иеремия, к которому я еще сильней привязался после его смелого поступка; пора было готовить мальчика к выступлению: наблюдая за его чудодейственными способностями, я горячо уверовал, что он поможет мне завоевать расположение здешнего высокого общества. Даже молчаливое присутствие Василя действовало успокаивающе. Единственным посетителем бывал молоденький офицерик со смешным задранным носом, которого я обучал искусству подметать полы шляпой. Ну, может быть, не единственным… Прежде чем заняться сильными мира сего, мне еще предстояло свести кое с кем счеты. Я послал Василя за подружкой художника, хотя не был уверен, что он справится с этой как-никак деликатной миссией. Однако — то ли миссия была менее деликатной, чем мне казалось, то ли Василь оказался сметливее, чем можно было предположить, — привел он ее с первого же раза.
Девица не кочевряжилась, поэтому я после недолгого вступления усадил ее к себе на колени и, ухватившись за возбудившие меня до безумия в мастерской груди, приказал далее действовать самостоятельно. Что она и исполнила с усердием, несоразмерным скромному вознаграждению, которое я — к большому ее разочарованию — за подобную услугу сумел предложить. Впрочем, я и сам был несколько разочарован. Тогдашнее почти мистическое возбуждение не повторилось: я получил что хотел, однако убедился, что имею дело вовсе не с изощренной вакханкой, за которой, как безусый юнец, готов был гоняться по улицам, а с обыкновенной полнотелой девахой, какую можно подобрать на каждом углу. И все же я немного развлекся, что в моем печальном положении тоже было немаловажно. Даже мои очаровательные девчушки, ревнивые как тигрицы, удрученные грустью своего господина, проявили понимание».
Громко стукнула с размаху поставленная на стол чернильница, заставив Казанову вскочить. Чернила расплескались, едва не залив рукопись.
— Осторожней, болван! — рявкнул Джакомо, но то был не Василь, а одна из сестричек. Прежде чем стало понятно которая, девчонка подолом смахнула со стола чернильную лужу и, демонстративно задрав нос, бросилась к двери. Будут так себя вести, неблагодарные, угодят в приют. Вычеркнул последнюю фразу, но, подумав, написал заново. Гармония изложения важнее правды.
Полчаса спустя ему пришлось вновь восстанавливать гармонию в той частичке вселенной, которая ему принадлежала. Начался урок, но у обоих дело не клеилось. Ученик, вопреки своему обыкновению, не улыбался и был на редкость неловок: угрюмо и нервно размахивал шляпой, неуклюже кланялся, неверно отмерял шаги. Казанова безучастно за ним наблюдал, больше занятый мыслями об ужине, чем о секретах придворного церемониала, но в какой-то момент почувствовал себя оскорбленным. Нельзя позволять этому курносому недотепе компрометировать своего наставника. Он пошлет Василя за копченым языком и вином, а унылому недорослю преподаст настоящий урок.
— Погоди, погоди, — приблизился он к юноше, — на этом свете все должно быть исполнено смысла. Даже обыкновенный поклон. А уж тем более поклон церемонный. О, в нем заложен глубочайший смысл. Это тебе не кивнуть старухе соседке или однополчанину. Это ритуал, искусство, способное изменить всю твою жизнь, пан Котушко, осыпать деньгами, почестями, приблизить к самым вехам общества.
Юноша поднял глаза: благодарности в его взгляде не было. Видно, не понимает, что ему говорят. Пускай еще послушает — пока не поймет.
— Запомни: если этим искусством не овладеть, путь наверх может оказаться закрыт. Подобных ошибок таким, как мы с тобой, совершать нельзя.
«Таким, как мы, дворнягам», — добавил мысленно. Почему, собственно, этот юнец вздумал тратить на обучение светским манерам деньги, когда их у него наверняка негусто? Комплекс провинциала или непомерные амбиции? Джакомо сделал знак рукой. Юноша, волнуясь, изобразил поклон, который получился больше похожим на приседание. Поняв это, он смущенно покраснел, ожидая нагоняя. Но такая неловкость могла только рассмешить. Поэтому Казанова улыбнулся и потрепал ученика по плечу:
— Такие, как мы с тобой, не имеют права смущаться. Попробуй еще разок. Только не торопись. Спина прямая, вот так, а рука без костей. Поза — само достоинство, а кисть выписывает кренделя. И не вози по земле шляпу — ты не пол подметаешь.
Жаль, он взял деньги вперед и уже истратил, а то бы сегодня побаловал себя каким-нибудь приличным вином. Впрочем, возможно, кое-что из этого горе-придворного вытянуть удастся.
— А затылок ниже, еще ниже. Те, кому мы кланяемся, очень это любят. Они ведь важнее нас, богаче, умнее, им причитается. Но и меру надо знать: переусердствуем — сочтут подхалимами, а те, что нам наступают на пятки и завидуют нашему положению, не преминут съездить по слишком низко склоненному затылку. Итак, кланяйся низко, а голову держи высоко: ты должен все замечать, на все отзываться. Вот так.
Но у бедняги по-прежнему ничего не получалось. Собственная неловкость сковывала юношу; Джакомо даже стало его жаль. Но — поблажек давать нельзя. Не зря же он получает деньги. Итак, поговорим еще о форме и содержании. Их единство священно, и упаси Бог его нарушить. Бесполезно пытаться очаровать кого-либо жестом, когда физиономия мрачная и унылая; нельзя хотеть одного, а взглядом выражать другое. Это оскорбляет созданный Творцом и людьми порядок мира. Что же касается шляпы, сейчас он покажет, как ее держать и что с ней делать. Два пальца спереди, три сбоку. И — вот так!
Поклон удался на славу — Джакомо пожалел, что для полноты картины на боку у него не хватает шпаги. Пожалуй, стоит в назидание юноше рассказать, какой конфуз приключился с графом Корфу, который в бытность свою при саксонском дворе, кланяясь после сытного обеда престарелой княгине, пукнул так громко и зловонно, что по сей день вынужден за сто верст объезжать границы княжества. Или нет, не стоит. Вряд ли с ним случится подобное. Впрочем, русские офицеры его еще и не такому научат.
Юноша попытался воспроизвести поклон. Ну вот, уже лучше. Поупражняется годик-другой, может, что и получится. Но ученику было не до шуток. Даже его вздернутый нос побелел от волнения.
— Я хочу вам сказать нечто очень важное.
Казанова удивленно поднял брови: уж скорее он ожидал услышать нечто важное от собственной шляпы. Однако — пожалуйста, пускай говорит.
— В глубине души я… — Котушко замялся, но, собравшись с духом, закончил: — Все это презираю. Весь этот салонный ритуал, жеманные выкрутасы, оскорбляющие достоинство истинно свободного человека…
Это было похоже на внезапный укол сломанной шпагой — и не красиво, и не очень больно. Но тем не менее почему-то неприятно. Курносый граф Корфу! Джакомо немедленно отразил удар.
— Да? Что ж, тогда плюнь. Я с горя не повешусь.
Сломанная шпага не вылетела из руки, граф Корфу продолжал стоять, согнувшись в поклоне.
— Не могу, то есть не имею права. Я намерен посвятить себя служению обществу. И поневоле вынужден… овладеть этой наукой. Но, как только добьюсь своего, и вправду плюну. Мне хотелось, чтобы вы это знали.
— Похвальное намерение, — сквозь зубы процедил Казанова, с трудом сдержав язвительную усмешку, — хотя небезопасное. Я знал одного человека, которому подобное вышло боком. Впрочем, незачем вспоминать такое. Ты мне нравишься, господин бунтарь. Однако — на сегодня достаточно. Приходи завтра, может, у нас с тобой будет более подходящее настроение для салонных выкрутасов.
Когда дверь за учеником закрылась, Джакомо облегченно вздохнул. Хватит. Надоело добровольное заключение. Надоели чужие люди. Надоели дурацкие занятия. Крикнул Василя. Велел нагреть воды, сам кинул в оловянную лохань горсть целебных трав — надо избавиться хотя бы от жжения в заду. Проклятый подарок Тюрьмы Под Свинцовой Крышей. Сколько уже лет служит тягостным напоминанием. Пятнадцать дней после ареста он не мог опорожнить желудок и в результате дикого напряжения, с каким, наверно, борются за жизнь приговоренные к смерти, приобрел болезнь, вызывающую не столько сочувствие, сколько насмешку. Недуг часто давал о себе знать, но в общем был терпимым. Правда, сегодня шишки здорово ему докучали. Осторожно потрогал припухлости. «Черт, куда приятнее щупать чужие задницы. Необходимо больше двигаться, — подумал, плюхнувшись в лохань и устраиваясь поудобнее, — сколько можно сидеть взаперти, как в тюрьме».
— Вина!
Джакомо снял панталоны, но — неприятно касаться спиной холодного металла — остался в рубашке, только расстегнул ее, чтобы легче дышалось. Боль отступила мгновенно: травы творили чудеса. Парижский лекарь, порекомендовавший ванны с травами, рыжий охальник, в конце осмотра неожиданно попытавшийся пустить в ход не только палец, свое дело знал. Какое счастье. Даже вино показалось не таким кислым. Ладно, привередничать будем потом. Но скрываться… нет, дог вольно. Он свободный человек и помыкать собой никому не позволит. Не станет прятаться от каких-то бандюг.
— Василь! Сигару!
А этот чем не бандюга? Стоит ли укрываться от других, когда свой под боком? Скотина; с виду не злой, но кто его разберет… такими ручищами можно подковы гнуть. Никогда не знаешь, понимает ли, что ему говорят, — только окрик действует безотказно.
— Быстрее!
На этот раз и окрик не подействовал, но лень было повторять приказание. Василь стоял спиной, склонившись над столом. Наверное, ищет, чего бы пожрать. Сущая скотина. Целый день только б и жевал. Ничто на свете его больше не интересует. Ладно, пускай ищет, пускай хоть ножку стола грызет. Разлившееся по всему телу блаженство и не такого стоит.
Когда же Джакомо наконец дождался сигары и втянул в легкие терпкий дым, он почти было решил, что ничего больше ему и не надо. Хотя… Пожалуй, обслужить его могли б и получше. Хорошо бы сейчас нежные маленькие ручки облегчили его страдания, потерли спину, погладили, обняли, а потом привели в боевую готовность.
И неплохо бы ощутить прикосновение грудей — не остроконечных, колющих губы, а слегка обвисших, зрелых — какой-нибудь вдовушки или портовой шлюхи, — сладких на вкус и мягких на ощупь. Впрочем, нет. Сейчас бы он никому не позволил к себе притронуться. Ему достаточно собственного общества. Зачем разрушать поистине неземное блаженство? Эта женщина или даже женщины с чуть обвислыми грудями и сильными пальцами наверняка заставили бы его отставить вино и погасить сигару. Он бы больше потерял, чем приобрел. А если б вино — чего нельзя исключить — пролилось на пол, а сигара упала в воду: какое уж тут удовольствие! Итак, лучше не надо. Он не пошлет ни за вдовой, ни за портовой шлюхой.
Расслабился, раздвинул колени, улыбнулся.
Впрочем, если б какая-нибудь пришла, ей бы вовсе не понадобилось к нему приближаться. Пусть бы встала в углу возле ширмы, выпятила зад, ослепила белизной полушарий. Как некогда — давно, недавно? Нет, сто лет назад — Марколина, очаровательная Марколина, пока он шворил эту ненормальную маркизу д’Юрфе и чуть не отправил старуху на тот свет, заглядевшись на соблазнительно раздвинутые ягодицы ее служанки. Или легла б на кровать, нанизанная на собственную руку, как Кортичелли, эта извращенная потаскуха, таким способом всегда его воспламенявшая. Или как Манон, которой даже необязательно было расшнуровывать корсет: ее божественная грудь сразу заставляла его принять стойку.
Гм… похоже, и теперь до этого недалеко. Будто какое-то постороннее существо, не ведающее, врага или друга встретит, исподтишка высовывало из воды выпученный глаз. Джакомо не мог решить, что сделать раньше: выпить вина или затянуться сигарой. Беспокойно заерзал, аж стрельнуло в костях. Вода, нужно подлить воды, чтоб хотя бы прикрыть единорога, явно готовящегося к атаке, и не позволить остыть источнику сладостно согревающего его тепла.
— Подлей.
Нет, все-таки жизнь прекрасна. Надо только уметь пользоваться ее благами. А неприятности топить в вине и горячей воде.
— Живее!
Джакомо услышал, как Василь громыхает кувшинами, увидел его лапы, приподнимающие ведро, но, когда по животу и ногам хлестнула ледяная струя, не сразу понял, что произошло. Дернулся — так резко, что в пальцах хрустнул стеклянный бокал и сломалась недокуренная сигара. Выскочил из лохани, захлебываясь собственным криком. Сто тысяч оскопленных быков, что за новую пытку для него изобрели! Это же коварное нападение, удар из-за угла! Чего они хотят? Убить его, довести до безумия, лишить мужской принадлежности? Джакомо невольно закрылся руками. Однако достаточно было взглянуть на Василя, на его перекосившееся лицо и вытаращенные от страха глаза, чтобы понять, в чем дело. Эта гора жирного мяса, этот азиатский истукан облил его холодной водой. Всего-навсего. Водой из колодца, от которой ломит зубы.
Казанову затрясло — уже не столько от холода, сколько от ярости.
— Ты, идиот! — заорал он, обретя наконец голос. — Дурак, кретин! Да как ты посмел — дворянина холодной водой?
Полотенце, халат, перина. Оттолкнул услужливо пытающегося помочь Василя. Хватит. Пошел прочь! Он у него уже вот где! Его терпение лопнуло. Конец. Вон отсюда. Немедленно. Сию же минуту. Он уволен.
— Вон!
Оставшись один, Джакомо замер в кресле, до бровей укрывшись периной. Проклятое место. Убогое захолустье. Хуже было только в Петербурге, но на те края Господня власть уже не распространяется — с них и спросу нет. Все здесь чудовищно, все. Подневольный люд, кичащийся своей свободой. Грязные улицы, скверное вино, женщины, недоступные, как крепости, или до отвращения дешевые. Король пляшет под дудку царицы и российского посла, друзей не пускают дальше прихожей, торговцы обманывают, дождь льет без передышки. И постоянно кто-то норовит его изувечить или толкнуть на преступление. Нет настоящих банков, гостиниц, биржи. О лотерее никто даже не слышал. Письма ходят как хотят. И он вздумал в этой стране организовать дело. Как, зачем? Нет, наверное, он и вправду спятил. Неужели без ведра холодной воды нельзя было до этого додуматься?
И еще одно: доколе эти пасти, не устающие разглагольствовать о Польше, эти лапы, не расстающиеся с саблями, эти здоровенные удальцы, скорые на выпивку и на расправу, будут покорно позволять чужеземным войскам хозяйничать на своей земле? Тут кровь потечет рекой, а не деньги. Кровь.
Только теперь Джакомо почувствовал что-то липкое между пальцами и жгучую боль. Да он же порезался. Он ранен, по-настоящему ранен. Осмотрел руку. Как будто ничего угрожающего, но разве наперед скажешь… Бывают случаи, он слыхал, когда от малейшей царапины впадают в беспамятство и умирают от потери крови. Бинт, пусть ему принесут бинт. И одежду, не будет же он так и сидеть полуголый.
— Сюда, ко мне!
«Вот умру сейчас вам назло, — подумал с мстительным удовлетворением, от которого мороз пошел по коже, — умру, и останетесь вы все на улице. Барышни пойдут прислугами в самый захудалый бордель, а паныч Иеремия будет показывать свои штучки на ярмарках. Вы этого добиваетесь? Пожалуйста, можете не приходить вовсе».
— Есть там кто, черт побери?
Дверь наконец приоткрылась, но вместо лукавых мордашек Этель и Сары или светловолосой головы Иеремии Казанова увидел мрачную физиономию Василя.
— А тебе что здесь надо? Я сказал: убирайся. Ты уволен.
Нет, это уже чересчур: даже никудышный слуга не желает ему повиноваться. Какая-то дикая сила подняла Джакомо с кресла: подскочив к топтавшемуся на пороге Василю, он вытолкал его за дверь и со злостью повернул ключ. Довольно. Надо быть решительнее. Самому вершить правосудие, не ждать, покуда падет жертвой бесправия. Стоило ли начинать со слуги? Но ведь с чего-то нужно начать — не переставая размышлять, Джакомо пытался обмотать окровавленную ладонь рукавом рубашки. У него были десятки слуг — плохих и хороших, обкрадывавших его и работавших задаром, прохвостов и юродивых, наглецов с рабскими душами и тихонь с бандитским прошлым, но ни один не вызывал такой ярости, как Василь. Ну, может, еще Коста. Этот негодяй — чтоб ему гореть на медленном огне! — обокрал его и оклеветал; из-за него он чуть не угодил за решетку и тем не менее простил великодушно, но Василя ни за что не простит. Видно, после всего пережитого даже к мелким подлостям стал нетерпим. Кстати, куда подевались эти пигалицы, которые вечно вертятся под ногами, — только не тогда, когда нужны. Носятся небось по улицам, играют с Иеремией в догонялки, да, жизнь — это игра.
Merde! Казанова попробовал зубами затянуть узел. Жизнь, возможно, игра, только не тогда, когда он нуждается в помощи. Ничего, рано или поздно он им всем задаст перцу. И рука эта, черт… Нагнулся пониже. Еще разок. Хорошо.
Нет, нехорошо. Занятый завязыванием узла, Джакомо лишь мельком поглядывал на низ живота, где поникший единорог задремал между двумя бугорками. Однако теперь, сжав челюсти и напрягши зрение, заметил там легкую красноту. Нет! Только этого не хватало. Кошмар. Все прочие мысли как ветром сдуло: Джакомо забыл о Василе, о геморрое и прочих гадких проделках судьбы; даже покалеченная рука перестала болеть.
Он осторожно потрогал подозрительное место. Сто тысяч обвисших елдаков — да! Пальцы нащупали затвердение, хотя боли пока не ощущалось. Пока — через несколько дней появятся новые узелки и измучают его куда больше, чем привычные геморройные шишки. А потом… не будет никакого потом. Мало ли раз он справлялся с этой напастью. Лечение ртутью, и через две недели все как рукой снимет. Но найдется ли тут ртуть? И приличный лекарь? Пожалуй, можно обратиться к этому немцу, Хольцу, что живет возле рынка. Сегодня же, немедленно, не откладывая, прямо сейчас!
Джакомо вскочил с кресла. Боже, по пути на рынок не миновать этого несчастного чудовища, зарытого в навоз. О нет, нет, нет, только не это. Он землю и небо перевернет, но не позволит сгноить себя в навозной жиже. Тьфу! Сбросив перину, торопливо принялся одеваться.
Кто же его заразил? Подружка художника или какая-нибудь из шлюх, что были до нее, чьих лиц и имен он уже не помнит? Нет, та девка вряд ли. Слишком мало прошло времени. А, не все ли равно. Ни одну он больше близко к себе не подпустит. Это не Кортичелли, ухитрившаяся заразить его несколько раз — он сам не знает сколько: два или три. Призналась она лишь однажды, но тогда он только вошел во вкус и, плюнув, продолжал с ней жить. Самое скверное, что теперь пропадут впустую целых две недели. Он не сможет пользоваться самым действенным своим оружием. Еще, не дай Бог, упустит счастливый случай, который раздвинет перед ним прекраснейшие на свете ноги, туго набьет кошелек или наконец откроет доступ в королевские покои. И надо же было, чтобы именно сейчас. Невезение, невезение и еще раз невезение. Хорошо хоть, он быстро спохватился. Без ртути не обойтись, но все-таки меньше намучается. Только бы изловить доктора Хольца. Но он найдет его, найдет, хоть из пекла вытащит.
Кое-как, шипя от боли, Джакомо надел белье. Потом стал натягивать шелковые чулки. В глубине квартиры раздался глухой стук, словно кто-то бился головой о стену. Что-то снаружи ударилось в дверь. Девчонки вернулись, ничего, теперь пускай подождут, нет у него желания их видеть. И, едва так подумав, окаменел от страха и изумления: дверь начала выгибаться под какой-то страшной тяжестью. Опять пришли по его душу? Кто? Почему? Он хотел броситься за шпагой или подбежать к окну, но не мог сделать ни шагу. Беспомощно, с болтающимся в руке чулком смотрел, как в комнату с треском влетает дверь и следом, с трудом удерживая равновесие, — Василь.
В чем дело, черт подери? Эта сволочь помогает его мучителям? До шпаги не дотянуться, к окну уже не успеть. Джакомо вытянул вперед руку с чулком, словно клочок тонкого шелка способен был остановить незваных гостей, словно невесомая принадлежность западного шика могла сокрушить грубую восточную силу. Пусть, по крайней мере, позволят ему одеться, без парика он никуда не пойдет, ему его права известны. Он бесстрашно взглянет прямо в их азиатские рожи! Но, кроме плюхнувшегося на дверь Василя, в комнате никто больше не появился.
А Василь, этот огромный угрюмый детина, смиренно опустив голову и умоляюще протягивая руки, как чудовищное насекомое, полз к нему по полу и, приблизившись, обхватил его колени, застыл, шмыгая носом, то ли ожидая удара, то ли моля о пощаде. Казанове внезапно все стало ясно. Этой прожорливой громадине запрещено его покидать. Чье-то неудовольствие, видать, пострашней его гнева. Хорошо, что только дверь пострадала. Этот мрачный балбес, вероятно, не столько слуга, сколько надзиратель. Чего, собственно, и следовало ожидать. Как он нанимал Василя? С бухты-барахты, не задумавшись. Тот сам подвернулся под руку, принес воды, приволок с базара пол бараньей туши — и остался. А, ладно, не все ли равно. Раз уж он в тюрьме, как же без надзирателя. Могло быть и хуже. Приставь они к нему кого-нибудь похитрее, лису, а не буйвола…
— Я понимаю. Не бойся. Кое-что я уже понял. — Джакомо опустил руки: от кого защищаться? От самого себя? — Мы с тобой в одной упряжке. Не я тебя нанял, и не мне тебя увольнять. Верно? Ну то-то. Так уж и быть, оставайся.
Василь не отпускал его коленей, наоборот, еще крепче обхватил, бормоча слова благодарности на незнакомом языке. Ладно, ладно. Можно встать. Они квиты. Он ему тоже благодарен за великодушие — не придушил ведь, не забил насмерть, не выбросил из окна… да мало ли что могло прийти в голову его кровожадным хозяевам. Ну полно, полно. Пусть заткнет пасть и займется его одеждой.
Джакомо кое-что слыхал об азиатской манере выражать благодарность, но Василь явно переусердствовал: вцепился в него, не давая пошевелиться. Правда, через секунду он и сам замер, почувствовав, что кроме них в комнате еще кто-то есть. Пришли его убивать. Уже? Прямо сейчас?
— Что с тобой, Джакомо? Сменил пристрастия?
Пресвятая Богородица! Голос подействовал как струя воды, но воды теплой, живительной, согревающей кровь. Бинетти! Чтоб ему провалиться — Бинетти! Откуда она взялась — через столько лет, в такую минуту? О радость!
Ногой оттолкнул Василя, подскочил, как стоял — в наспех натянутом белье, с чулком в окровавленной руке, — схватил, стиснул, закружил. Знакомое тепло, знакомый запах. Вот оно — спасение, внезапная перемена участи, которую он ждал. Ну конечно же. Джакомо завопил, как расшалившийся юнец:
— Бинетти!
Она уже столько раз вызволяла его из переделок, вызволит и сейчас. Столько раз отдавала все, что имела, значит, и теперь не откажет. Сколько лет он ее не тревожил? Четыре? Завертелся волчком. Пять — да, пожалуй, пять.
— Пусти!
Тревожный холодок в груди: неужели в последний раз он ей чем-то не угодил, обманул, не вернул долг? В этом Штутгарте, проклятом Штутгарте, где его хотели бросить в тюрьму…
— Пусти!
Джакомо послушно поставил Бинетти на пол и лишь тут понял причину ее сдержанности. На пороге, застенчиво улыбаясь, стояла юная красотка с черными как смоль волосами. Эге, сюрпризам нет конца, мир богаче, чем ему сегодня показалось. Бинетти не спешила представить девушку. Окинула Джакомо долгим внимательный взглядом; он не любил, когда женщины на него так смотрели. Что, интересно, она здесь делает? Танцует на сцене или открыла бордель?
— Ты совершенно не меняешься. В последний раз тоже прескверно выглядел. Помнишь?
Актриса. Хотя нет… смеется искренне, радостно — трудно заподозрить ее в лицедействе. Ну как же не помнить! Он тогда извозился, точно свинья, в грязи, слезая с крыши городского участка, в клочья изорвал одежду, спускаясь по веревке в кишащий крысами ров. Если б не Бинетти, поджидавшая его у ограды с деньгами и всем его имуществом, спасенным от мстительной алчности жуликов и подлецов, его же обвинивших в подлости и обмане, он бы, возможно, навсегда остался вонючей свиньей и затравленной крысой. Да, да, пять лет назад в Штутгарте он и вправду выглядел прескверно.
Уже уверенный, что Бинетти ничего дурного не замышляет, Джакомо громко подхватил ее смех. Да, ничего, кроме хорошего, не обещало это веселое, до сих пор прекрасное лицо, полная грудь, смело выглядывающая из декольте, стройный, как и подобает танцовщице, стан и красивые ноги, которые он, Казанова, раздвигает практически всю свою жизнь.
— Ты тоже не изменилась, — он нежно положил руку ей на грудь, — ничего не прибавить и не убавить.
Бинетти внезапно перестала смеяться, прижалась к нему; теперь можно было получше разглядеть малышку. Сколько обаяния, какая свежесть! Только юность способна так носить красоту. Прелесть. Прелестное дитя. Ну, уже не совсем дитя — девичьи грудки стремятся вырваться из выреза белого платья. Слишком многих таких скромниц он имел за гроши, чтобы невинная внешность могла его обмануть. Однако преодолеть любопытство ему не удавалось никогда.
— Кто это?
Бинетти медлила с ответом, Джакомо уже собрался повторить вопрос, когда она с нескрываемым волнением в голосе шепнула:
— Племянница. Моя племянница. Лили.
Черт подери. Лили. С таким именем? Конечно, шлюха.
— Для меня?
Напрасно он не придал значения взволнованности Бинетти. Откинувшись назад, она наотмашь ударила его по лицу — слишком сильно, чтобы посчитать это шуткой, но слишком слабо для настоящей пощечины.
— Нет, не для тебя.
— Почему?
— Потому.
Она не шутила — говорила серьезно и даже угрожающе, а такого снести он не мог.
— Ну, знаешь! — возмутился он и завертел Бинетти со сноровкой профессионального танцора. — В былые времена ты бы не стала мне отказывать в таком пустяковом одолжении.
— Держись от нее подальше, Джакомо, прошу тебя!
Голос немного смягчился, но он не собирался этим удовольствоваться. Еще один оборот, и вот уже слегка удивленное очаровательное личико Лили совсем рядом, за спиной пытающейся вырваться Бинетти.
— А ты как считаешь, цветик?
На этот раз пощечина по-настоящему обожгла скулу. Тысяча чертей, сговорились они все сегодня, что ли? Бинетти, впрочем, никак не походила на посланницу темных сил. Разрумянившаяся от гнева и непонятной тревоги, она напоминала прежнюю Бинетти, за которой он гонялся по всей Европе. В ней всегда было что-то от языческих богинь, ради которых мужчины калечили и убивали друг друга. Хорошо, он уступает. Нет так нет. С его стороны это была простая любезность. Вот и все. Инцидент исчерпан. А если она так не считает, пожалуйста: вот шпага, можно ею воспользоваться. Он смиренно примет приговор судьбы. Только хотел бы перед смертью выяснить одну мелочь: в чем его вина, почему женщина, которую он всю жизнь любит, после долгих лет разлуки обращается с ним как со злейшим врагом? Впрочем, нет, не надо ничего объяснять. Джакомо с размаху опустился в кресло. Лучше уйти с легкой душой, без раны в сердце.
Снова попытался обнять Бинетти, но она деликатно уклонилась.
— Ты в самом деле ни чуточки не изменился.
— Что ты говоришь, — пробормотал Джакомо, не оставляя попыток заключить ее в объятия. — Я все время усиленно над собой работаю. Хочешь — поработаем вместе. Как прежде.
— Вначале неплохо было бы вставить дверь…
Какая еще дверь — ах да, и вправду дверь. Этот болван слуга неправильно его понял: они как раз переставляли мебель, когда она пришла. И зачем им дверь, пусть весь мир узнает об их любви, зачем закрывать то, что должно быть открыто, к черту двери! Запертое — отпереть, скрытое — извлечь на свет Божий; вот логика настоящей любви. Только такой любви имеет смысл подчиняться, только ей служить, тараторил Джакомо, не обращая внимания на ироническую усмешку Бинетти и неуменьшающееся расстояние между ними. Плевать на расстояние — достаточно на нее взглянуть, чтобы вспомнить живое, горячее тело, не один и не сотню раз в упоении под ним стонавшее. Джакомо почувствовал возбуждение. Он уже готов был забыть о стоящей у окна девушке, а о докторе Хольце и впрямь забыл.
— Как ты сюда попал?
Как он сюда попал? Законный вопрос. Но сейчас не приятнее ведра ледяной воды, которой его окатил Василь. Из России, из тюрьмы, из бездны отчаяния… Прикусил язык. Не похоже, что от него ждут ответа. Помолчал минутку — ничего. Бинетти отвернулась, легонько тронула Лили за плечо, будто желая пробудить от летаргического сна, потом, вызывающе покачивая бедрами, подошла к столу. Ладно, пускай дорогая подруга сама решает, чего ей больше хочется: охладить его пыл или разжечь. А может, ее сюда привело что-то иное? Дело?
— Ты что-нибудь пишешь?
Все сибирские льды, тысяча ведер холодной воды и сто докторов Хольцев вернули Казанову на землю. Он не нужен. Что ж, пусть будет так. Пока.
— А как же, — усмехнулся и не спеша поднялся с кресла, — пишу. Письма должникам.
Разрази его гром — в этой шутке крылась чистейшая правда! Ведь будущие читатели этих записок[22] задарма получат поистине монарший подарок, больше того: смельчакам — столь же наглым, сколь и способным, будем надеяться, — которые кинутся описывать его приключения, достанется, без преувеличения, огромное состояние… Бинетти никогда не отличалась острым знанием, так что можно было себе позволить такую шуточку. Впрочем, через секунду он чуть об этом не пожалел.
— А почерк прекрасный, — Бинетти словно невзначай приблизила листок к глазам, — я бы могла порекомендовать тебя кое-кому при дворе…
— Я — автор трактата о каллиграфии, — торопливо начал Джакомо, но замолчал, заметив, что она вовсе не шутит. Не улыбается, не кокетничает. Может, и в самом деле…
— Ты там кого-нибудь знаешь?
Бинетти бросила на него быстрый взгляд и произнесла спокойно:
— Всех.
Надо действовать. Добела раскалить надежду. Потом пусть остывает.
— И короля?
— И короля.
Боже, это похоже на правду. Король — известный бабник. А кто же слаще чужеземных актрис? Бинетти… а может, и эта крошка? Тогда все становится на свои места. Бережет Лили для короля? Малютка — Джакомо окинул девушку придирчивым взглядом торговца лошадьми — чудо как хороша. Кого-то она ему напоминает… А, не важно. Важно, что такой красотке и королевское ложе под стать.
— Он бывает у вас в театре?
— Конечно. И в театре тоже. Но не в том дело.
— А в чем?
Джакомо почувствовал теплую ладонь на щеке. Значит, все же не просто так пришла. Но по какому делу? Что ей от него нужно?
— Потом скажу. Сейчас лучше оденься. Хватит торчать в этой норе.
Пожалуйста. Он даже готов простить ей эту «нору». В силу обстоятельств он не может достойным образом их принять. Расположение звезд тоже крайне неблагоприятно — он еще и руку себе поранил. Короче: вынужден обратиться к ним за помощью. Надеется, что они не откажут. А?
И слегка пошатнулся — для большего впечатления. Лили вздрогнула, хотела кинуться к нему, поддержать — прелестное дитя, ну почему королю, а не ему должно достаться такое сокровище… однако Бинетти, правда с улыбкой, остановила девочку едва заметным движением руки. О, он бы поцелуями прогнал внезапно замутившую эти глазки грусть, если бы не соображения высшего порядка, временно требующие от него сдержанности. Взял Бинетти за руку, которую сейчас с удовольствием бы укусил… где Василь, впрочем, зачем ему этот идиот со своей азиатской рожей, хорошо хоть унес бадью, но и без того беспорядок в самом деле ужасный. А, чепуха, он, Казанова, должен быть выше этого, должен подняться над обстоятельствами, подавить материальную убогость силой духа. Внимание.
— Честно говоря, — он поворошил лежащие на столе листки, — я сейчас пишу пьесу. Собственно, уже написал. «Квартет или трио? Роман Эльвиры». Не слишком оригинальная история, в которую я был замешан. Возможно, не шедевр, но успех у публики обеспечен. Здесь вообще кто-нибудь ходит в театр?
Бинетти не услыхала вопроса. Но услышала то, что было сказано раньше. Проглотила приманку, в этом Джакомо не сомневался. Достаточно было на нее взглянуть. Искры посыпались!
— Сколько ролей?
— Сколько понадобится. И главная — для тебя.
Он даже не особенно покривил душой, понадобится — быстренько что-нибудь сочинит или, на худой конец, переведет одну из пьес Гольдони. Ей будет что играть — если в этом дело.
— Нет, главная вряд ли.
Бинетти, казалось, не произнесла эти слова, а выплюнула сквозь сжатые зубы.
— Что случилось?
Казанова забыл про беспорядок и собственный нелепый наряд. Теперь он уже был уверен, что у Бинетти есть к нему дело. Но какое, черт подери?
— Ничего.
И внезапно увлекла его за ширму, посмотрела в глаза с решимостью женщины, готовой на все. На все, значит? Она не была столь ослепительно хороша, как Джакомо в первый момент показалось, глаза утратили задорный блеск молодости, кожа не такая гладкая и белая, какой ему запомнилась. Ладно, что бы она ни задумала, он поставит одно условие: эта крошка, Лили. Пусть у нее свои планы — ему плевать. Он, Казанова, не хуже короля. А в некоторых отношениях — о чем, надо полагать, ей известно — значительно лучше. Для начала одна ночь. Но Бинетти, похоже, неспроста замолчала: видно, что-то действительно важное скрывалось за этим, чуть ли не силой вырванным у нее из глотки «ничего». Ничего. Это значит: «все». Для такой женщины, как она, для актрисы, для стареющей актрисы… Дурак, что не сообразил сразу.
— Соперница?
Какая там соперница — волчье отродье, беспардонная сука, шлюха без роду без племени, бездарная актрисуля, передком добывающая роли, придворная потаскуха, солдатская подстилка, дрянь.
Этот шепот обладал сокрушительной силой, искаженные дикой злобой черты обрели былую хищную красоту. Как в прежние времена, когда она иной раз бросалась на него, норовя вцепиться в глотку. Боже, если та — волчье отродье, то уж эта, наверное, сатанинское. Соперниц у нее, впрочем, всегда было предостаточно, но эта, новая, видно, страшнее смерти, раз вызывает такую бешеную ярость. Какая же ему отводится роль: посредника между двумя фуриями?
— Хороша собой?
Зубы Бинетти сверкнули в горькой улыбке.
— Иначе я бы не морочила тебе голову, Джакомо. Красавица.
Ну, ну, это уже кое-что, хотя и не слишком много. Что, собственно, эта Бинетти вообразила: что ему все еще двадцать лет и он очертя голову кинется на первую попавшуюся смазливую потаскушку? Еще не успев ответить, понял: кинется. Возраст — он невольно расправил плечи, разгладил манишку — здесь ни при чем. И вообще, кто тут говорит о возрасте?
Бинетти уже снова с тревогой заглядывала ему в глаза.
— Но холодна. Как лед. Дьявольски расчетлива.
— Сплошные достоинства, — пробормотал Джакомо, старательно натягивая парик. — Короче: чего ты от меня хочешь?
Бинетти подтолкнула его дальше за ширму, покосилась на Лили — не увидит ли та чего-нибудь лишнего, — и сунула руку ему между ног. В пах одновременно вонзились ледяная и раскаленная стрелы.
— Того самого. Чтобы ты превратил эту сучку в свою рабыню. Ты знаешь, я в долгу не останусь.
— Минутку, минутку. — Ошеломленный и ее поведением, и предложением, он все же пытался сохранить безразличный вид. — Только и всего?
— Тебе мало? — выдохнула Бинетти и сильнее сжала пальцы. — Что ж, добавим.
Это уже была прежняя Бинетти — смелая, изобретательная, потрясающе бесстыдная. Но не собирается же она всерьез… Собирается. Здесь? Сейчас? Задаток? Почему бы и нет, она ему доверяет. А дверь! Плевать. Сквозь щель в ширме Джакомо увидел Лили: опершись на подоконник, она внимательно изучала пейзаж за окном. Лучше б взглянула разок на свою тетушку — обнаружила бы кое-что поистине заслуживающее внимания. Дружок вырос в тетушкиной руке, распрямился, выглянул на свет. А Лили? Тише, ради Бога, тише. Хорошо. Еще минутку он подождет, а потом разразится смехом — ведь все это было не более чем шутка. Верно? Она зацепила ногтем самый кончик. Нет, черт подери, не шутка! Бинетти занялась им всерьез. Здесь. Сейчас.
Напрасно старается. Невезение. Проклятое невезение. Доктор Хольц кланяется — деликатно, но недвусмысленно. Сто тысяч гвоздей в задницу! Хольц! Нельзя подвергать ее опасности — слишком рискованно. Это, пожалуй, единственный принцип, которого он твердо придерживается всю жизнь. Вопреки этому дурачку, льнущему к ее ладони, нетерпеливому, не желающему ни с чем считаться. Расчувствовавшийся остолоп! Полоумный ухарь, заботящийся лишь о собственном удовольствии. Безмозглый кретин. Увы! Хамы всегда одерживают верх над философами. Но только не сегодня. Нельзя ему этого позволять. Он и не позволит, натравит на него доктора Хольца! Однако Бинетти тоже нельзя обидеть. А признаться в подлинной причине своей сдержанности невозможно.
— У тебя кто-нибудь сейчас есть?
Она еще крепче сжала пальцы, но Джакомо этот ответ не удовлетворил.
— Я его знаю?
— Его все знают.
— Король?
На этот раз ласка была более нежной.
— Почти. Граф Браницкий.
Граф Браницкий. К горлу подкатил горький ком. Куда ни сунься — везде этот хлыщ. Любовница Браницкого. Может, лучше ему держаться подальше, не встревать в историю? Но ведь это Бинетти, его Бинетти. Она резко потянула его на себя — Джакомо чуть не потерял равновесие, а заодно и рукав рубашки. В голове полная пустота, ни единой разумной мысли. Но разве он не заслуживает нескольких приятных минут? И не все ли равно, у кого они будут украдены?
— Твои груди, — с чувством шепнул Казанова, — я должен с ними поздороваться.
И старательно извлек их из корсета. Не о них ли он мечтал полчаса назад, лежа в лохани с водой? Не образ ли этих бархатистых округлостей, слегка утомленных своей тяжестью — что ему всегда нравилось, — заставил высунуться из воды одноглазое чудище, и сейчас стремящееся, наплевав на него, забраться в логово, к которому ему сегодня нельзя подступиться? И сегодня, и, возможно, завтра, и даже — не дай Бог! — еще недели две. Придется обмануть обоих — и Бинетти, уже готовую повернуться и выпятить крутую попку, и своего взбунтовавшегося раба, норовящего без промедления в нее вонзиться.
Кто-то внезапно кашлянул. Оба на мгновение замерли. Лили. Вот откуда может прийти спасение.
— Кто она все-таки?
Джакомо не узнал собственного голоса, похожего на свист всех дырявых легких мира. Но молчать тоже нельзя, он должен был что-то сказать, чтобы и она заговорила, а разве говорить не означает мыслить?
— Кто?
— Лили.
— Что?
— Не племянница?
— Племянница.
— Настоящая?
— Да.
— Самая настоящая?
— Самая-пресамая.
— Поклянись.
— О, Джакомо…
От этого жаркого перешептывания обоих трясло, но Казанова ничего больше ей не позволял. Они смахнули на пол сюртук из розового шелка. Merde. Только бы не испачкался. Иначе не в чем будет явиться ко двору. Джакомо хотел нагнуться, чтобы спасти свою честь и залог своей элегантности, а заодно вырваться из цепких рук Бинатти.
Не успел. Не понадобилось. Уже и не хотелось. Через щель в ширме он снова увидел Лили. И снова что-то в ней его поразило. Посадка головы, манера поводить плечами. Почему это так знакомо? И — внезапное озарение! Ну конечно же, теперь он знает! Девочка — вылитая Бинетти, юная Бинетти, дожидающаяся выхода на сцену.
— Эй, да это же твоя дочь!
Бинетти не пожелала ни слушать, ни отвечать; он мысленно продолжил: если это ее дочь, то, возможно… но тут она резко его оттолкнула, запихнула груди в корсет и, оправив платье, как ни в чем не бывало выплыла из-за ширмы.
Да. Он не ошибся. Одним ударом убил двух зайцев. Но не придется ли об этом пожалеть? Кто знает. Пока несомненно лишь одно: на розовом шелке отчетливое грязное пятно. Merde! Его лучший сюртук. В чем идти ко двору? Отчистить, оттереть, быстро замыть. И поглядеть, что делает Бинетти, неожиданно появившаяся на его пути Бинетти, от которой неизвестно чего еще ждать. Ну и ну. Преспокойно щебечет с Лили, смеется без тени смущения, поправляет девочке локоны на лбу, разглаживает складки платья. Заботливая наставница и прилежная ученица. Маменька и дочурка. Да. Какие тут могут быть сомнения. Святой Марк, до чего же все просто. Надо быть одновременно слепцом и глупцом, чтобы этого не заметить. Минутку. Сколько малышке может быть лет? Тринадцать, четырнадцать? Подходит. Почему же Бинетти не желает признаваться?
Довольно, глупости все это. И хватит тереть сюртук. Он пока еще не прачка. Девчонки потом займутся этой розовой тряпкой. Он наденет что-нибудь другое. Но прежде всего кое-что спрячет. При этой мысли Джакомо будто кольнула иголка доктора Хольца, все иголки всех докторов на свете. Он пощупал припухлость. Она не уменьшилась и не увеличилась, но тревога уже не отступила. Быть может, сейчас кровь разносит по телу коварный яд. Доктор Хольц. Сегодня же. Непременно. Хольц или яма с говном.
Четырнадцать лет назад они, кажется, были вместе. Ну конечно. Париж. Сказочное время. Так, значит? Почему бы и нет? Мало ли живых сувениров он оставил своим возлюбленным? Мальчиков, как правило, узнавал с первого взгляда, а вот с девочками бывало по-разному. На Леонии он чуть не женился прежде, чем выяснилось, что она его дочь. Просто дочь! Ничего себе — просто! Как можно знать наверняка? Если нет сходства. Женщины клянутся, что знают, но они… Зеленый, он наденет зеленый сюртук. Вечером в зеленом даже лучше.
Но если тринадцать, тогда он ни при чем. Ему пришлось удирать из Парижа, эти мерзавцы… ладно, черт с ними. Несколько лет они с Бинетти не виделись, а потом… где же это было? Лондон? Вена? Нет, вряд ли Вена, при тамошнем дворе таких райских птичек не жаловали. Может быть, Неаполь? Откуда?! В Неаполе он чуть не обвенчался с Леонией. До сих пор жалеет, что не узнал об их родстве днем позже. Может, и сейчас не стоит проявлять излишнее любопытство?
Еще только шляпа с орлиным — пардон, ему же известно, что здесь производит впечатление, — с павлиньим пером, и можно начинать новую жизнь. Джакомо отодвинул ширму — зачем в новом спектакле старые декорации? — но вместо восхищенных женских лиц увидел перед собой пылающую физиономию Котушко. А этот откуда взялся? Что ему нужно?
Шляпа — какая шляпа? Что-нибудь не в порядке, отклеилось павлинье перо? Нет, другая. Он, Котушко, забыл здесь свою, потому и позволил себе вернуться. Ах, вот что. Пускай забирает. Смелей, без стеснения. И, по правде говоря, шел бы он… Да побыстрее. Дамы ждут.
— Но, сударь…
У малого даже глаза от волнения покраснели. О какой карьере может думать этот бурак? Если только о цирковой…
— Я не сержусь, с каждым бывает.
— Но вы на ней стоите, сударь.
Действительно: Джакомо чувствовал, что стоит на чем-то мягком, но посмотреть не удосужился, а теперь уже и нужда отпала. Бинетти и Лили фыркнули. Бурак почернел и совсем скис.
— Это мой ученик, пан Котушко, князь Котушко. А эти дамы — известные актрисы, чей талант призван украшать нашу жизнь.
— Я не князь.
Дурак, мало его учил? — только конфузит учителя. Придется преподать ему небольшой урок на высочайшем придворном уровне. Пусть посмотрит, как можно овладеть ситуацией, даже самой неблагоприятной. Хладнокровие, трезвый расчет и ловкость. Вот приметы мастера. Пусть смотрит, пусть учится. Бороться надо, а не стоять, как дурак, с растерянной рожей. Бороться, потому что жизнь — борьба. Даже если противник — шелестящая под ногами шляпа.
Вот! Подцепив носком башмака опавшую тулью, Казанова легким движением подбросил шляпу вверх, поймал одной рукой, другой быстро отряхнул от пыли и придал надлежащую форму.
— Прошу. Это ваше. Во всяком случае, не мое. — Нежно улыбнулся Бинетти: — Не про все можно сказать с равной уверенностью.
— Не понимаю, о чем вы…
Малый по-прежнему являл собой жалкое зрелище: тупой школяр, а не ученик лучшего к востоку от Сены знатока придворного этикета. Стоит и мнет в руках мягкие поля. Мужик, неотесанный мужик. Все они такие, даже те, кто знатного рода.
— А вам и необязательно. Достаточно, что мы понимаем. Верно?
Бинетти ответила неопределенной улыбкой, словно еще не решила, что эта улыбка должна означать: согласие или издевку. Каким-то странным — резким, но нежным — движением поправила бант на платье Лили.
— Не давай воли воображению, Джакомо.
— Я только размышляю вслух. Мне, например, невероятно интересно, сколько может быть лет нашей прелестной племяннице.
Сделал шаг по направлению к Лили — ближе подойти не рискнул.
— Тринадцать.
Так он и поверил. Вон какие бедра, грудь, губы — зрелые, пышные. Этот лакомый кусочек уже не первый день просится в рот. Угрозу в глазах Бинетти он тоже заметил — ну и пускай, что взять с взбалмошной мамаши…
— А ты, детка, сама говорить не умеешь?
Он даже позволил себе коснуться руки Лили. Шелковистая кожа, теплое тело, пульсирующая со всей силой юности кровь. Его кровь.
— Тринадцать.
Как бы не так. Пусть этот маленький ротик говорит что угодно. Его не проведешь. Даже если он и не знает наверняка, то догадывается. Однако… стоп. На сегодня довольно загадок. У него уйма дел поважнее. Пора идти; пускай Бинетти познакомит его с этим очаровательным вампиром, которому он должен спилить зубки, пускай наконец представит его королю и прекратит на него смотреть, как на негодяя, задумавшего грязное дело.
— Я бы голову дал на отсечение, что больше, но… стоит ли рисковать жизнью?
Нет, этого недостаточно, и звучит чересчур двусмысленно. Нужно окончательно разоружить Бинетти. У него на это есть две секунды. На третью он будет разорван в клочья.
— Что ж, человеку свойственно ошибаться. Это простительно. Но только, пан Котушко, не при выборе вина к десерту.
Теперь уже все хорошо — мирно, спокойно. Даже Котушко улыбнулся и стал смелее поглядывать на женщин. Бинетти, еще румяная от недавних любовных игр, знаком показала: идем. Вот такой — заботящейся обо всех и готовой на все, неутомимой в любви и безудержной в гневе — он ее любил. И даже, кажется, до сих пор любит.
— Вы верите в чудеса? — спросил он у Котушко уже на пороге.
— Я… ммм… — юноша не отрывал взгляда от посматривающей на него, Лили, — да. Разумеется.
— А я, — поколебавшись, произнес Джакомо, — пожалуй, нет. Хотя, наверное, — он вспомнил о предстоящем визите к доктору Хольцу, — наверное, следовало бы.
Король
Бинетти с ласковой улыбкой палача, затягивающего на шее приговоренного петлю, остановила одну из самозабвенно выделывающих пируэты девушек.
— Мадемуазель Катай[23]. Ныне — актриса.
Начало не сулило ничего доброго. Его дорогая подружка, кажется, лезет на рожон, забыла об осторожности. Но та… Казанова немного знал, что такое женская зависть и какова цена вторжения на чужую территорию, но скрывать свои чувства не захотел, да и вряд ли сумел бы. Девушка буквально его ослепила. Слегка запыхавшаяся, в кроваво-красном, выгодно оттеняющем смуглую кожу платье, она прямо-таки источала флюиды чувственности.
— Джакомо Казанова. Ныне — зритель.
Он постарался смягчить колкость Бинетти, не показывая при этом своего восхищения, однако петушиная нотка в голосе все испортила. Катай громко расхохоталась, что в иных обстоятельствах Джакомо посчитал бы просто оскорбительным, и повернулась на пятках, что в другое время показалось бы ему верхом невоспитанности. Но сейчас… Сейчас он всего этого как бы и не увидел. Видел только крепкие бедра, красивую линию ягодиц под платьем, стройную ножку, изящно опустившуюся на пол. Что же ее так насмешило? Джакомо ощутил тепло внезапно опершейся на его руку Бинетти, ее пальцы, стирающие что-то со щеки. Ах ты, Господи, помада. Он измазан помадой. Смешно. Вероятно, Бинетти сделала это умышленно, словно хотела пометить его своим клеймом, дать понять сопернице, что он уже кому-то принадлежит, занят, недоступен. Действительно, смешно. Но у нее ведь были совсем другие планы.
— Не скромничай. Ты автор, а не зритель.
Тут бы следовало поклониться с изысканностью придворного, одаренного монаршьей милостью, однако Джакомо не стал этого делать, чтобы ни на секунду не упускать дам из виду. Он понимал, что в любую минуту могут посыпаться искры, и потому лишь крепче сжал рукопись, как щитом заслонил ею грудь. Полсотни страниц словесной шелухи, пустячок, сущая безделица, сочинять которую после мучительных пыток, которым подвергал его безжалостный Хольц, было легко и приятно. Почти не выходя последнюю неделю из дома, он с отчаяния написал комедию. И похоже, не зря.
Катай перестала смеяться, подошла поближе — Джакомо почувствовал запах ее пота и резких духов.
— Спа-се-ни-е дев-ствен-ни-цы. — Голос низкий, чувственный, как и она сама. — Для меня?
— Да.
— Серьезно?
Теперь засмеялась Бинетти, хотя трудно было назвать это смехом: скорее, она выплюнула комок ярости, лишь снаружи замаскированный иронией. Опять не сумела сдержаться. Портит ему всю игру, идиотка. Но, может, и это значится в их уговоре? На всякий случай Джакомо отступил на шаг:
— Вернее, для всех прекрасных дам.
В дверь заглянул карлик в огромном парике и бархатной ливрее, вопросительно посмотрел на Катай.
— И прекрасных мужчин, — добавил Казанова, подмигнув девушке. Катай, слегка смутившись, сердито фыркнула на карлика, но тот и ухом не повел; тогда она швырнула в него гребень, бросилась к двери и… была такова.
Спасение девственницы. Поистине, мысленно усмехнулся Джакомо. Смех, да и только. И не девственница, и спасения не жаждет. Сегодня же была бы его, если б не убежала. И если бы не Бинетти. Эта, как всегда, начеку: едва он направился к двери, загородила ему дорогу. Кажется, он переборщил. Сам ведь обещал оставить за ней первое место. Десять дней лечения у доктора Хольца и ни минуты дольше. Драгоценная Бинетти.
Казанова увлек ее на пол и в течение последующего получаса побывал во всех странах света, покорил все вершины, пустыни и болота, был неутомим и пылок. И Бинетти старалась, как могла, но Джакомо продолжал думать о ее сопернице, пока не сосредоточился исключительно на своей ноге, придерживающей дверь и ужасно затекшей; в результате он решительно слишком долго мучился, пока — с трудом — не закончил то, что столь лихо начал.
Днем позже, после недолгой борьбы, уже и вторая оказалась под ним: внезапно притихшая, утомленная или, скорее, сраженная его чарами; конечно же ее сопротивление было показным, данью приличиям, не больше. Даже когда так вели себя профессиональные шлюхи, у него это не вызывало насмешки. В любовной игре, когда главное — поярче разжечь пламя, все средства хороши. И слова — якобы сухие и равнодушные, — какими Катай встретила его в своем заваленном множеством разноцветных ковриков будуаре, где стоял стол на остроугольных ножках и неудобное кресло. И смех, которым она ответила на его признание в горячих и сильных чувствах, переполняющих его со вчерашнего дня, с их первой встречи. И даже ее неожиданная попытка убежать, возня у стены, когда тела то стремительно сближались, то отдалялись; все это лишь подогревало его страсть. Знакомые способы, он знал, какое наслаждение они сулят.
Поначалу Джакомо почему-то преследовало ощущение, что все предметы в комнате на него ополчились. Пестрые коврики выскальзывали из-под ног, или он цеплялся за их завернувшиеся углы; острые ножки стола больно атаковали голени; кресло в самый неподходящий момент загораживало дорогу. Но сейчас наконец все успокоилось, замерло, затихло. Джакомо оттолкнул стол, крепко уперся пятками в пол и опустил на продавленную тахту вдруг переставшее сопротивляться тело. Победа. Она сама поняла, сколько в этот суп положить соли, чтобы не пересолить. Сейчас она будет его. Со спокойствием великого ловчего Казанова протянул руку к добыче.
И вдруг грянул гром. Жуткая боль заставила Джакомо вскочить; казалось, все льды Сибири, вся смола из всех адских котлов с убийственной силой обрушились на низ живота. И — прежде чем он успел понять, что произошло, прежде чем услышал смех Катай и увидел ее подтянутое к подбородку колено, — скорчившись в три погибели, полетел назад, ударился спиной об стол и рухнул на ковер, в этом месте протертый до голых досок. Взревел — не только от боли, но и от изумления. В чем дело? Что эта ненормальная себе позволяет? Темперамент темпераментом, игра игрой, но такое… Боже, если б он машинально не закрыл рукой свою мужскую принадлежность, выл бы сейчас, как грешник на сковороде, или — сто тысяч вонючих чертей! — пел петухом.
Но… не все так плохо. Она подбежала, озабоченная, участливая. Что-то лепечет — то ли ему, то ли себе — на языке любви. Поняла, что переборщила. Впредь пускай будет осмотрительнее. Он может и не прийти в себя так быстро, и тогда никакая податливость, даже самая изобретательная, не восстановит его силы. Никакое мурлыканье над ухом и щекочущие прикосновения язычка.
— Сто!
Он что-то услышал? Ослышался? Приснилось?
— Сто дукатов. И ни одним меньше.
Курва! Сто дукатов. Сотня жгущих пальцы чертей! Но в конце концов он их достал. Добыл для нее — а как же: pacta servanda sunt[24]. Потребовался целый день, двести проклятий и триста заклинаний, чтобы вырвать эту сумму из глотки бородатого банкира с обязательством вернуть долг, когда придет посылка из Венеции — с недавних пор он стал раз в два месяца получать оттуда деньги. Это легкомыслие, глупость, безумие, убеждал он себя, что они будут два месяца есть? Но… соблазн оказался сильнее. И однажды на исходе дня, вскоре после первой неудачи, опять был рядом с Катай — на этот раз в большой массивной кровати. Она сама выбрала позицию: покорно опущенные плечи и дерзко выпяченные, ягодицы — полушария безукоризненной формы. О, он хорошо знал любовную стратегию, заставляющую добродетель украшать себя капелькой разнузданности, а шлюху — прикидываться великосветской дамой. Катай одинаково нравилась ему в обеих ролях, но у него были некоторые основания полагать, что лишь к одной из них она относится серьезно. Что ж, в конце концов он заплатил и, стало быть, может без зазрения совести требовать своего. Восхитительная предстоит ночь, думал Джакомо, выпутываясь из штанин, если б еще не обошлась в сотню дукатов…
И все равно такой добычей можно гордиться, утешил себя он, коснувшись пальцами теплой спины. Девушка не была обнажена, как несколько минут назад, когда разрешила посмотреть, как она моется, и когда полные груди, бедра и черный треугольник внизу живота так быстро привели его в боевую готовность, что он, точно школяр, был близок к немедленному извержению. Теперь она накинула на себя что-то прозрачное. Ладно, сейчас он сдерет эту пакость и выяснит, что купил за сотню оторванных от сердца золотых монет. А она, эта строптивая девка, не оценившая его чувств, убедится, что получила, кроме… — Джакомо невольно оглянулся, на месте ли дукаты, — кроме солидной кучки золота.
А это еще что? На пути к укромному местечку, куда он теперь подбирался, пальцы наткнулись на что-то твердое, плотно прилегающее к телу. Казанова рванул шелк, но под ним оказался кожаный корсет, впившийся в живот и ягодицы. Что она придумала, черт подери? Издевается над ним или хочет сильней возбудить? Крепко прижал к себе негодницу, но — увы! — вместо бархатистой попки, стоящей не сотню, а всю тысячу дукатов, беспомощно ткнулся в задубевшую от старости козлиную задницу. Дернул раз, другой — без толку. Ощупью поискал застежку, пуговицу — что угодно, лишь бы проникнуть за это проклятое заграждение. Катай, словно не слыша его сердитого бормотанья, лежала не шевелясь, как мертвая. Но она не была мертва. В ее жилах пульсировало тепло, жизнь, страсть — с каждым прикосновением к неподвижному телу он до боли остро в этом убеждался.
— Сними это!
Замок, он нашел что-то вроде замка. Merde! Это же настоящий пояс целомудрия. И такое с ним в жизни случалось, но всякий раз это оказывалось возбуждающей шуткой, заканчивавшейся появлением ключика. Вот, значит, в чем дело. Ключик, где же этот проклятый ключик? Найти его, и как можно скорее. Такая уж ему отведена роль. Потому она и отказывает в помощи. Ладно, пускай. Он готов поиграть в эту игру.
На золотой цепочке между грудей. Нет. Хорошо хоть груди обнажены — напрягшиеся, пружинящие под пальцами. Быстрее. На ремешке, обхватывающем палец ноги? Кажется, нет, минутку… да, ничего. Уши, волосы? Нет. Ну ясно: она просто-напросто зажала ключ в кулаке. Итак, пальчик за пальчиком — заглянем вовнутрь. Пусто. Джакомо ощупал свою голову, памятуя забавы с княгиней Адольфиной, незаметно засунувшей ключик ему в парик. Это воспоминание вызвало другое, преудивительное. Хозяйка французской корчмы и вставной зуб, открывающий ее сокровищницу. Вот оно что. Уж не тут ли разгадка? Ключик у Катай во рту. Потому она так странно молчит. Шельма, сущая шельма.
Она позволила себя поцеловать, и Джакомо, призвав на помощь все свое мастерство, ловко раздвинул ее губы, а потом пустил в ход язык. Черт, возбуждение все усиливается, а цель ни на йоту не приблизилась. Не проверять же все зубы. Хотя… почему бы и нет? Она переигрывает, значит, и ему можно. А если язык устанет, он и пальцами подсобит. Или кое-чем еще.
Катай оттолкнула его так резко, что он не удержался на кровати и сполз на пол. Хотел подняться и показать этой психопатке, как надлежит обращаться с благородным кавалером, готовым заплатить за банальнейшую, в конце концов, услугу сотню настоящих дукатов, но не успел — увидел ее указующий под кровать палец. Там? Приподнял оборку покрывала. Чернота… впрочем, нет: на краю темного провала белел какой-то овальный предмет. Дотронулся. Ночной горшок. Просто горшок. Это что же должно означать? Новое издевательство? Чересчур далеко зашла… Тысяча чертей, ей это может дорого обойтись. Дороже, чем сотня выброшенных на ветер дукатов. Уж так себя дурачить он не позволит.
Однако нет — в голосе девушки не было издевки, когда, свесив голову с кровати, она нежно и смущенно шепнула, что, вероятно, туда, туда упал этот проклятый ключик, пока она готовилась к его приходу, пусть он ее простит, она не успела… Ну конечно, он там. Джакомо расхохотался бы, если б не ее непритворная растерянность. Чудесное приключение, ничего не скажешь. Так у него вообще всякая охота пропадет. Не только на пояс целомудрия плюнет, но и на само целомудрие, как бы оно прежде его ни возбуждало. Хоть бы только в этом горшке ничего не оказалось. Хоть бы он был пуст.
Джакомо на Мгновение заколебался, но Катай провела пальцами вдоль его позвоночника, и дрожь желания вновь пробежала по телу. Теперь ему уже было все равно. Он протянул руку, медленно опустил внутрь. Ничего. Ничего. Нет — что-то есть. Твердое на ощупь, у самой стенки пустого, к счастью, сосуда. Есть! Вот он, этот чертов ключ! Все, больше нельзя терять ни минуты. Джакомо вскочил, как тигр, и, как сто разъяренных тигров, прыгнул на кровать. Катай попыталась увернуться — поздно, теперь ей не уйти. Схватил девушку за ногу, притянул к себе, перевернул на спину. От одного запаха ее тела он чуть не взорвался. Безумие, чистое безумие! Замочек, маленький стальной замочек на вратах рая, пробка в бутылке с лучшим в мире вином, которую необходимо вытащить без промедления.
Однако это оказалось не так-то просто. Джакомо лихорадочно тыкал ключиком в замок, от нетерпения высекая искры, — без толку. Он не мог попасть в отверстие. И не по своей вине. Ключик был явно великоват. Только он это сообразил, как Катай выскользнула из-под него, заливаясь серебристым смехом, соскочила с кровати, и тут он наконец понял: перед ним совсем неплохая актриса. Все время играет, напускает туман. Демонстрирует свое искусство. У него от этого искусства уже яйца болят. И как бы еще хуже не обернулось. Он не забыл, чем кончилась предыдущая попытка овладеть этой притворщицей. И потому бросился за ней лишь после секундного колебания. О чем тут же и пожалел. Катай подбежала к окну, распахнула его, широко размахнулась. Джакомо успел схватить ее за руку, но кулачок уже разжался. Блестящий ключик на золотой цепочке, отскочив от оконной рамы, полетел вниз, на улицу. Сто тысяч охрипших фаготов! Ключик, который он искал… Что эта ненормальная вытворяет! До белого каления хочет его довести? Как бы ей самой это не вышло боком — всякое терпение имеет предел.
Джакомо бросился к окну, решительно высунулся, точно собираясь прыгнуть. Клочки редкой травы, выщербленная брусчатка. Слишком высоко и слишком темно, чтобы хоть что-нибудь увидеть. Предел есть не только у его терпения, но и у вожделения, убедился он, наваливаясь обнаженной грудью на холодный подоконник. Он остывал, как раскаленный ухналь, брошенный в воду, обмякал, как подстреленный на лету орел, увядал, как кактус на морозе. Он не мальчишка, черт побери, чтобы такие сражения проходили бесследно. Словно почувствовав, что с ним творится, Катай обняла его сзади, нежно прижалась. Не смеялась больше, затихла, только водила по спине губами. Джакомо не поворачивался, обозленный и слегка растерянный. Простудится, но не спустит этой комедиантке. Получит воспаление легких, но не признает себя побежденным. Превратится в сосульку, но не позволит над собой издеваться.
Однако надолго его решимости не хватило. Послышался тихий вздох, потом что-то капнуло на позвоночник. Боже, она плачет! Какой же он глупец! Безмозглый дурак. Ведь все это делалось для него. А он не оценил ее мастерства, обращался с ней как с уличной девкой, болван! Болван и хам. Не толкни он ее, она бы не выронила ключа; видно, просто хотела подразнить его, позабавиться. Ну полно, полно! Повернувшись, сжал ее в объятиях — полуобнаженную и, несмотря на слезы, пылающую. Тихо, тихо. Все будет хорошо. Он сейчас принесет этот важнейший на свете ключик, из-под земли его добудет, хоть бы пришлось перерыть всю улицу и обыскать полгорода. Сейчас. Ее все более смелые прикосновения снова его распалили. Сейчас. Пусть подождет немного. Не пожалеет. И пусть не плачет, он заклинает ее всеми святыми. Каждая ее слезинка его ранит. А каждая рана кровоточит. Он истечет кровью. Ни на что не будет способен. Не этого же она добивается. Она не такая жестокая. Она красивая, умная и добрая. Пусть его подождет — минутку!
Последнее слово он произнес по-русски. Почему? Ведь он не знает и знать не желает этого наречия! Точно какой-то дьявол потянул его за язык, точно адское пламя обожгло губы. Не важно. Сейчас важно совсем другое. Ключик.
Одеваться не имело смысла. Он ведь тут же вернется. Усадил девушку на кровать, закутал в шелковое покрывало. Сорвать его будет делом одной секунды. Сейчас, еще ми… опять по-русски! — ладно, еще минутку. Завернулся в плащ и поспешил к двери. Ах да, туфли. На лестнице полно кошек, а у него нет ни малейшего желания угодить босой ногой в вонючую лужу. Нагнулся, чтобы надеть башмаки, чуть не ударившись подбородком о край стола. Стол… Стол был пуст. Кучка золотых дукатов бесследно исчезла. Успела их спрятать? Но когда и как? Ведь все время была с ним рядом. Но если не она, то кто? Кроме них в комнате никого нет. Смешно. Смешно и не имеет никакого значения.
Он уже был на середине лестницы, когда услышал, как хлопнула дверь и щелкнул замок. Не поверив своим ушам, взлетел вверх по ступенькам, несколько раз дернул дверную ручку. Безрезультатно. Что-то случилось. Что-то страшное. Кто-то, прятавшийся в квартире, на нее напал. Чудовища! Бандиты!
— Откройте! — взревел Джакомо, чувствуя, как закипает в жилах кровь. Но вместо криков отчаяния и грохота переворачиваемых стульев услыхал за дверью невнятное попискиванье. И помертвел от ужаса. Но тут же страх вытеснила ярость: сдавленный писк превратился в заливистый здоровый смех. Словно какой-то дьявол вздумал над ним потешиться. Почему дьявол? Эта извращенная шлюха провела его, как последнего идиота. Ни сделать, ни сказать что-либо Джакомо не нашел в себе сил. Даже слюны, чтобы плюнуть, не хватило.
Потом все окончательно запуталось. Казанову раздирали противоречивые чувства. Он то задыхался от ненависти к коварной девке, то думал о ней с трепетным обожанием. Целый день со шпагой слонялся возле ее дома с твердым намерением убить, но, поскольку она так и не вышла, с карликом из театра послал ей цветы. Чуть не задушил, когда, снова распалив его на твердом кресле, она потребовала вторую сотню дукатов, но невольно разжал руки, не столько тронутый умоляющим взглядом ее меркнущих глаз, сколько испугавшись вопля карлика, накинувшегося на него сзади. Собирался привлечь ее к суду за вымогательство, скомпрометировать, высмеять в анонимном памфлете, но не рискнул, обуреваемый сомнениями: во-первых, стыдно, что он позволил себя надуть провинциальной, в общем-то, Мессалине; во-вторых, это может помешать осуществлению их с Бинетти планов, Катай, что ни говори, актриса королевского театра; да и как облить ее грязью, когда, кажется, он по-прежнему сильнее хочет ее, чем ненавидит.
Наконец Казанова принял решение. Провались она пропадом — и он вместе с нею: он заплатит. Еще раз заплатит! Был источник, а вернее источники, к которым он до сих пор не обращался.
Долго искать не понадобилось. Стоило погрозить кулаком одному из постоянно таскавшихся за ним подозрительных типов, как они не замедлили приблизиться. Этих двоих Джакомо не знал. По рожам нетрудно было догадаться об их профессии, но не о том, в каких они чинах. Тем не менее он не стал церемониться. Ему нужны деньги. Он человек, а не верблюд, ест три раза в день, пьет еще чаще, да прислугу иногда надо кормить. А одеться? В лохмотьях, что ли, пожаловать ко двору, ослепить короля голым задом? Так они это себе представляют? Уговор — он чуть не поперхнулся этим мерзким словом, — был не такой.
— Сколько?
Казанова не ожидал, что все получится так просто, и, не задумавшись, назвал вертевшуюся в голове сумму. Старший насмешливо фыркнул:
— Всего-то?
Младший скривил рот в оскорбительно-любезной улыбке.
— Прошу.
Merde! Мало того, что берет деньги у своих преследователей, еще и оценил себя слишком дешево. Он вырвал бы себе язык, если б не было уже поздно. Бандит помоложе протянул довольно объемистый кошель — в таком вполне бы поместилась и не одна сотня дукатов. Идиот, мог потребовать больше! Подставил ладони, но блестящая струйка побежала под ноги к этим мерзавцам, золото засверкало на грязном песке. Свиньи! Как они смеют?! Сейчас получат за оскорбление, зубами будут поднимать каждый дукат. Потянулся за шпагой, но шпаги не было. Ну конечно — он ее вчера заложил в корчме. Венецианский кинжал? Проиграл на рассвете в карты. Осталась только шляпная булавка. Это даже получше кинжала.
— Хватит, — старший сделал знак рукой, — довольно.
— Почему хватит? Что значит: довольно? Тут нет ста дукатов.
— Нет? А сколько?
Младший скомкал кошель — вовсе не затем, чтобы удостовериться, сколько в нем осталось. Разбойники? Булавка… нет, уже не успеет.
— Не знаю.
Пусть сами считают, хамы. Они, словно угадав его мысли, шагнули вперед. Отступать было некуда. Густой кустарник за спиной, который должен был служить защитой от любопытных взглядов, оказался ловушкой.
— Сколько?
Младший внезапно ударил его рукой, в которой был зажат кошель, а когда он скрючился от боли, добавил кулаком по затылку.
— Ну, сколько ты получил?
Что было делать? Не рисковать же головой из-за пары жалких дукатов. Стоишь на коленях — забудь о достоинстве.
— Сто, — прохрипел Джакомо не своим голосом, чувствуя, как кто-то снова над ним наклоняется. Но их уже не интересовали ни его пах, ни затылок, ни даже незащищенная макушка. Огромная лапа с потрескавшейся кожей и грязными ногтями зарылась в песок и выгребла несколько монет.
— А сейчас?
— Сто, ровно сто.
Дукатов было пятьдесят шесть. Ровно. И то хорошо. Пусть только эти скоты не думают, что он позволит и впредь так с собой обращаться. Они у него еще попляшут. Воры! Посмотрим, как запоют на суде. Вот будет потеха! Уж об этом он позаботится.
Вначале, однако, предпочел позаботиться о себе. Отдал долг князю Любомирскому, выкупил шпагу, отсыпал золота своим рыжим кухаркам, Иеремии справил атласный кафтан, похожий на шутовской, наконец нанял карету с кучером на всю зиму и — уверенный, что фортуна ему улыбнется, — сел за карточный стол. Проиграл, выиграл, опять проиграл. Отказался от кареты и уплаты остальных долгов. Про Катай вспомнил, когда вырытых из песка монет осталось немногим больше половины.
Что было делать? Честь — штука святая! И не для того он ею поступился, чтобы теперь остановиться на полдороге.
Где найти ганноверцев, он тоже знал. Как-то увидел на улице бородатого коротышку, который — вот уж была бредовая идея! — вздумал выдать себя за него, Казанову. Джакомо последовал за ним из чистого любопытства. Что эти прохвосты здесь делают? Почему не уехали? Не боятся разоблачения? Верно, слишком мелкие сошки, чтобы для кого-нибудь представлять опасность. Или слишком крупные — дал волю воображению, — чтобы их осмелились тронуть. Один он воздал им по заслугам. В упряжку двух прусских агентов! — так и въехал на них в город. До сих пор не может без смеха вспомнить эту сцену. Рассказать бы князю Казимежу или — вот это было бы замечательно! — самому королю. Может, когда-нибудь…
Здесь. Небольшой опрятный каменный дом. Скромная вывеска в подворотне, ведущей в песчаный дворик. Джакомо огляделся: нет ли другого пути к отступлению — но застройка была сплошная. Конечно, можно убежать по плоским крышам. Но куда? Там, дальше — он проверял в прошлый раз — начинались сады его сиятельства посла короля Пруссии. Этого спесивого Фридриха[25], который хотел засунуть его воспитателем в провонявшую конюшней школу кадетов. Поразительная бестактность!
Подобных обид не прощают даже монархам. Нет, он не станет обращаться за помощью к послу неотесанного государя. Тем более что убегать, возможно, придется от его людей.
«Типография. Штайн и сыновья». Ради Бога. Пусть будет типография. Пусть будет даже хлев, лишь бы там нашлось то, что ему нужно. Через маленькие оконца трудно было что-нибудь разглядеть, хотя нет… вон стоит человек, склонившийся над какими-то пачками: скорее всего, старший из ганноверских «купцов». Штайн? Интересно, сколько этих сыновей?
Джакомо постучался и, не дожидаясь ответа, толкнул дверь. Темные сени, пропахшие смазочным маслом и разогретым металлом. Здесь он потерял несколько секунд. Этого хватило. В помещении, тесно заставленном диковинными машинами, никого не было, если не считать рыжего подростка, огромной лопатой размешивающего краску в бочке. И тишина. Поразительная для места, в котором должна бы ключом бить жизнь. Похоже, он попал куда надо. Где же люди? Дверь в полутемную контору. Ну конечно. Подождем минутку. В конце концов, через дверь не только выходят, но и входят. Он сделал первый шаг, теперь их черед.
В общем-то, он оказался прав. Только не приметил второй двери. За спиной скрипнули петли: кто-то вошел. Маленький, добродушный на вид старичок смотрел на него прищурясь. Чем он может быть полезен вельможному пану? Джакомо растерялся, но лишь на мгновенье. У них хватает ума, чтобы брать на службу не только угрюмых детин с разбойными рожами, но и маленьких симпатичных стариков. Он хочет кое-что напечатать, — Пресвятая Дева, вразуми, подскажи какую-нибудь здравую мысль! — нечто чрезвычайно для него важное, воспоминания, вернее, путевые заметки, да, да, именно: его последнее путешествие изобиловало необычайными приключениями и даже — слава Богу, сам он остался жив — на его глазах были убиты несколько человек. Он иностранец и хотел бы поделиться своими впечатлениями со здешним читателем, которого — он не сомневается — его рассказ позабавит, а возможно, и заставит задуматься.
Старичок сделался еще меньше ростом; смущенно заулыбался. Такими вещами они, собственно говоря, не занимаются, печатают только Библию, Священное Писание, ничего больше. Но он может дать адреса других типографий, там с удовольствием… О, не стоит так уж сразу отказываться. Вещь очень впечатляющая. Ну, может, не такая, как Библия, но местами не менее любопытная. Например, загадочная история гибели русского офицера, обнаруженного в погребе среди бочек с капустой, — разгадку можно найти лишь на последних страницах. Золотая жила, сущая золотоносная жила для того, кто оценит важность подобного документа. А он, поскольку с некоторых пор испытывает материальные затруднения, продаст рукопись дешево, буквально за гроши. Но, если здесь это никому не интересно, что ж… придется поискать кого-нибудь другого. За стеной что-то зашуршало — негромко, но явственно. Рыжий замер над своей бочкой. Старичок медленно распрямился. Он не был ни таким старым, ни таким добродушным, каким в первый момент показался. Скорее, пожалуй, те два бандита у него на службе, а не он у них. Штайн и сыновья. Накинутся прямо здесь или подождут, пока он выйдет?
— Сколько?
Он не ослышался, не ошибся — дело сделано? Быстро прикинул: то, это, сколько нужно, сколько ни сбавят.
— Сто.
Никакой реакции. Тишина. Столько не дадут. Пиши пропало. Опять он свалял дурака. Сглотнув, Казанова уныло пробормотал:
— Пятьдесят.
«Штайн» смотрел куда-то поверх его головы; повернуться и проследить за его взглядом Джакомо не рискнул. Окно. За окном кто-то есть. Внезапный блеск в глазах, юношески живой и словно бы чуть насмешливый — должно быть, собеседник увидел то, что хотел увидеть. А он… снится ему или вправду услышал?
— Ладно. Пускай будет сто пятьдесят.
С этой минуты все отступило на задний план — Джакомо уже не боялся ни насмешек, ни гнева своих покровителей, ни уколов собственной совести. Даже обещанное Бинетти приглашение на ужин к королю не произвело ожидаемого впечатления. Куда важнее были записочки, которыми он обменялся с Катай, и радость от удачного хода, который не только позволил приобрести карету с четверкой лошадей и новый фрак, но вновь привел его в ее постель.
На этот раз ничто не предвещало приступа ярости, а она уже была на нем, нагая и покорная, как в его мечтах. Еще немного, и он получит свое, проникнет под влажную шерстку, щекочущую живот. Ах, эта влажная шершавость — чудо природы, божественное творение, рай! И минута, секунда, отделяющая его от высочайшего блаженства, — это стоит побольше, чем все осуществившиеся мечты! Безумие, космическая страсть. Ничего не видеть — тяжесть ее волос на лице; ничего не слышать — прохлада обхвативших голову ладоней; только чувствовать кровь на разбитых поцелуями губах и боль нацеленного в потолок ожидания.
Никаких кожаных поясов, застежек, замочков — лишь упругое, дышащее теплом тело, которое сейчас примет его в себя. Джакомо положил ладони на высокую грудь, легонько, ласково надавил. Но девушка не шелохнулась, не передвинулась, куда он хотел. Еще раз, сильнее. Какая грудь! Может с лихвой заменить все остальное. Но не сейчас — ведь и все остальное рядом. Уже. Пора. Самый подходящий момент. Она что, не понимает? Взяться за плечи, слегка приподнять и подтолкнуть назад. А потом уже только смотреть, как она гарцует, и следить, чтоб не вылетела из седла. Но Катай не подчинилась ему, застыла. Опять за старое? Нет, просто не привыкла сдаваться сразу. Ну конечно. Следовало бы с первой же встречи это понять. Не церемониться, навалиться, дать пару раз по физиономии и безо всяких отодрать недотрогу. Только не в его обычаях так поступать. Сопротивление? Пожалуйста — если в меру, для остроты, для пикантности. Перец, гвоздика, сладкий лук.
Сера. Горчица. Крапива. Джакомо понял это несколько минут спустя, когда уже все кончилось и — сто тысяч злобных чертей! — опять кончилось ничем. Едва он усиливал натиск, она резко его отталкивала, едва приближался к цели — стремительно вырывалась; что ни удар, то промашка. Это уже перестало его забавлять; темный зверек, скачущий по животу и груди, уже не щекотал, а обжигал кожу. Женщина сильнее его, не без удивления убедился Джакомо. Силу ей придавала ярость и какое-то дьявольское упорство: она сдерживала его руки, ляжками сжимала бока. Сумасшедшая! Какой неподкупный бес снова в нее вселился? Сатанинское отродье! Еще своим задом, бешено скачущим по всему телу, покалечит его властелина, сломает, сомнет, — раздавит. Мало ли рассказывают подобных историй?
— Пусти!
Она засмеялась ему в лицо, и он затих, собираясь с силами. Довольно, баста. Сейчас он ее с себя сбросит, согнет на полу и так отдерет, что она будет то молить о пощаде, то просить: еще, еще.
Но… не успел. Катай внезапно завела руку за спину, стиснула его плоть, и — сто тысяч зловредных чертей! — через секунду все было кончено.
Подлая, подлая! Он лишь по чистой случайности ее не убил. Не попал в метнувшуюся к двери бесовку, только до самых кирпичей разворотил стену. И не стал ее преследовать, сил почти не осталось и уж совсем не хотелось тратить последние на выламывание этой проклятой двери, за которой она спряталась. Сжечь все, расколотить, вышвырнуть на улицу мебель. С испугавшей его самого трезвостью Джакомо посмеялся в душе над этим желанием. Но трезвость была тупой, липкой, горькой на вкус. Невозможно жить с таким чувством. Но не умирать же?.. Чтобы заснуть в ту ночь, потребовалась бутылка вина. Весь следующий день он пролежал в постели, ни с кем не разговаривая, а когда встал, безо всякой причины наорал на девочек, разорвал все, что написал в последнее время, залепил оплеуху Василю за недостаточно сочувственную мину. Желчь по-прежнему жгла нутро и рвалась наружу.
В общем, приглашение от Бинетти пришло в самую пору. Надо взять себя в руки, собраться с мыслями, припомнить, с каких пор и зачем он добивается встречи с королем. Вот и пожалуйста: одна Бинетти сдержала слово. Ради нее ничем не жалко пожертвовать. Хорошо хоть, от последней авантюры осталась карета с четверкой лошадей и фрак. Чем не успех — он не позволил обобрать себя до нитки! По крайней мере, внешне останется прежним Казановой.
И вот наконец он добился своего. Сидит — как и хотел — против самого государя, его величества короля, оказавшегося более худощавым и гораздо более молодым, чем на парадном портрете. Оскоплять надо таких художников, которые прибавляют человеку лет, кровожадно подумал Джакомо, старательно избегая весьма недружелюбного взгляда рябого земляка. Этот мазила раздражал его не только потому, что испоганил королевский портрет и демонстрировал неприязнь к нему, Казанове. Куда важнее была другая причина: тосканец сидел неподалеку от короля. Как другие, как многие другие. Только не он…
Казалось бы, все получилось как нельзя лучше: он принят при дворе, допущен в высшее общество, ужинает с польским монархом, но это место… На самом конце стола, далеко, слишком далеко, чтобы привлечь к себе внимание, чтобы с помощью удачной остроты заглушить хор титулованных болтунов, непринужденно перебрасывающихся Шутками с королем и дамами. Ох уж эти дамы! Ни одна не блещет красотой. Разве что они не дамы. Как и те, рядом с которыми его посадили.
Чтобы лучше оценить обстановку, Джакомо слегка откинулся на спинку стула. Да. Красавица Шмит, жена королевского секретаря и любовница короля. О них даже не сплетничали — настолько явной была эта грязь. Лицо простоватое, но грудь… грудь поистине достойна монаршьего внимания. Сидит напротив. А рядом… С одной стороны — благодарение судьбе! — Бинетти, его Бинетти в ярко-красном платье, прибавляющем ей очарования, правда несколько двусмысленного, зато убавляющем лет. Но с другой стороны… Сто тысяч чертей! В первую секунду Джакомо захотелось провалиться сквозь землю, убежать, упасть в истерическом приступе смеха на заставленный яствами стол. Катай! Прическа, напоминающая вершину вулкана, простое черное платье, украшенное золотом. Невинный взгляд и груди, обнаженные до сосков. Девственница и девка, монашенка и распоследняя шлюха. За сколько она сегодня продается — за сто, а может, уже за двести дукатов?
Но никаких глупостей он не наделал. Поздоровался, сел, а она как ни в чем не бывало одарила его лучезарной улыбкой. Ладно. Пускай живет. Мир от ее подлости не погибнет. И он тем более. Ответил ей кривой улыбочкой, больше похожей на звериный оскал.
Итак, обе были рядом — красивые, но немного скованные, не сводящие глаз не с его — увы! — а с королевского конца стола. К сожалению, это не темная театральная уборная, где ему не составило бы труда их расшевелить, отпустив несколько фривольных шуточек. Здесь он сам не в своей тарелке, и даже говорить ни с кем нет охоты. А может, все-таки… Бинетти, в последние дни все настойчивее старавшаяся прибрать его к рукам Бинетти. Что бы она сделала, если б он сейчас признался, во сколько ему уже обошлась эта шлюха? Или если б сообщил, что был по отношению к ней столь пылок благодаря сопернице да еще, быть может, неплотно закрывающейся двери? Достаточно наклониться и шепнуть ей это на ухо. Интересно, как она поступит? При короле даст ему пощечину? Выколет вилкой глаз? Откусит нос?
А эта вторая, Катай… Провинциальная гусыня, невесть что о себе возомнившая, думал он еще неделю назад, когда она со смехом заперлась от него в своей спальне. Наглая, опасная шлюха — теперь в этом не приходилось сомневаться. Спасение девственницы! Это уже не смешно, а противно. Хотя, возможно, нуждающаяся в спасении девственница — он сам, по уши, как нетронутый юнец, влюбившийся в заурядную — о нет, в худшую из худших! — потаскуху. На что он, собственно, надеялся? Вчера только родился на свет? Не знает театральных нравов? Полжизни провел за кулисами, а сейчас, как последний дурак, позволяет водить себя за нос! Да ведь таких, как она, выпускают на сцену, только когда ими попользуются все мужчины за кулисами и половина зрителей. Почему Катай должна быть исключением? Потому, что у него в голове помутилось? Сентиментальный ловелас, вот он кто. Сентиментальный ловелас и хитрющая шлюха. Тема для романа, достойного его пера. Особенно при той поганой жизни, которую он вынужден тут влачить…
Никто на него не смотрел, так что необязательно было прикидываться, будто он не голоден. Джакомо начал с устриц и чуть об этом не пожалел: спазма внезапно сжала глотку, и ему лишь с превеликим трудом удалось избежать позора. Вот был бы номер, если бы он взял да выплюнул на стол перед его королевским величеством королевскую же устрицу. Но может, тогда они там, на почетном конце стола, перестали бы на минуту молоть языками, может, хоть по такому случаю удостоили бы его своим вниманием?
Но что же с ним все-таки, черт побери, творится? Заболел? А может, какая-нибудь из этих ведьм его сглазила? Джакомо покосился влево. Бинетти? Не исключено. Что-то ведь его старинная подружка замыслила, какие-то не до конца понятные интриги против Катай плетет — правда, не без его участия, но как знать, кто падет их жертвой — соперница или он? Скорее всего, оба.
А Катай? Казанова незаметно, дабы не нарушить правил придворного этикета, поглядел направо. В той стороне всеобщее внимание было приковано к королю: он громко смеялся, что, впрочем, ничуть не умаляло монаршьего достоинства. Не дай Бог оскорбить государя назойливым взглядом или чересчур выразительной мимикой. Вообще в этом паноптикуме истинные чувства лучше спрятать подальше. Однако и это оказалось непросто, поскольку Катай вдруг медленно повернула голову и посмотрела так, что Казанова забыл обо всем: о Бинетти, о его королевском величестве и об устрице, застрявшей в горле. В ее глазах он увидел насмешку и вожделение, обещание ласк и предсказание боли, нежность и холодную тень измены. Почувствовал запах кожи, пота, непонятные, загадочные слова… Да она не одного, а сотню таких, как он, может сглазить. Ведьма!
Тоже любит устрицы. Взяла одну в пальчики и с вовсе не обязательной для этой процедуры величавостью поднесла ко рту. Издевается над его манерами или пытается заинтриговать? Еще хуже! Дело вовсе не в том, что у нее в пальцах, а что на пальце — тонкой огранки бриллиант в золотом гнездышке. Ну конечно! Сто тысяч чертей! Пока он травится самым дешевым вином, напрашивается на обеды и прячется от кредиторов… Это же его дукаты, его несостоявшиеся ужины с шампанским, туфли из генуэзской кожи и шляпы с венецианскими кружевами. Его деньги! Его бриллиант! Его глупость! Казанова закрыл глаза, чтобы не убить Катай взглядом.
Боже, этот польский король либо очень учен, либо крайне остроумен. Ничего не ест, только пьет вино и поминутно цитирует малоизвестных римских поэтов. Марциал. Плиний Младший. Кто о них слышал? Сиренайские манускрипты? Наверное, существуют только в его воображении. Четыре тезиса Симпликия[26] об относительном характере добродетели и абсолютном — безнравственности. Ну ясно, король забавляется. Все дружно расхохотались. Видно, знакомы с этим пунктом программы. Необходимо включиться, сказать что-нибудь не менее оригинальное, заинтересовать короля. Второй такой случай может и не представиться.
Честная добродетель нагоняет тоску, неприкрытая безнравственность обостряет чувства. Пятый тезис Симпликия, после смерти найденный в его бумагах. Или шестой, зашифрованный в пяти предыдущих: «Когда на троне добродетель, при дворе царит безнравственность». Джакомо уже раскрыл было рот, но решился только отхлебнуть вина. Ничего. Пустота. Ни страха, ни желаний. Ничегошеньки. Безнравственность — сестра бессилия.
Зря он пустился во все тяжкие, подумал уже спокойнее, глядя на улыбающееся лицо короля, удовлетворенного ответной остротой сидящего рядом с ним епископа. Часть денег следовало бы приберечь, не спускать все сразу. Тогда сегодня не пришлось бы с пустым желудком слоняться по парку и теперь за столом чуть не подавиться от жадности. Нужно было… Выбросил на ветер двести дукатов. Даже больше. Ладно, карету можно продать; даст Бог, выкрутится. Ни о чем не надо жалеть. Было да сплыло. Не в первый раз и не в последний.
Только стоила ли игра свеч? Что ж — Джакомо заерзал на стуле, словно от одной этой мысли в задницу вонзилась сотня иголок, — дурак или всегда дурак, или лишь временами таковым становится. Теперь, видно, настал его час. Бывает. Не в первый и не в последний раз. С мисс Шарпийон в Лондоне он натворил еще больше глупостей. Коварная сука! Тоже воспользовалась его минутной слабостью. Следовало приказать высечь ее после первого же обмана или упечь в долговую тюрьму, а не позволять водить себя за нос. И этот парикмахеришка, с которым он ее в конце концов застукал! Что за безвкусица, безобразные усики, впалая грудь и кривые ноги. Карикатура на мужчину. И такой оказался его удачливым соперником. Их счастье, что у него не было при себе шпаги. Шарпийон. Да. Сколько он из-за нее настрадался. Но никто прежде, ни одна из женщин, которых у него были сотни, будь то дама, шлюха или девица, не могла так быстро привести его в боевую готовность, молниеносно превратить в безмозглое молотило, в пушку с подожженным фитилем. Никто и никогда прежде. Но сейчас — он нечаянно задел локтем Катай, извинился, однако прежде, чем отвел взгляд, заметил, что ее пальцы отгибают оборку на груди, прикрытой веером от посторонних взоров, и из-под платья торжествующе вырывается на свободу темный сосок, — но сейчас, тысяча чертей… Да. Дьявольское отродье!
Что с ним? Ума лишился — почему сидит и молчит, как истукан? Неделями добивался возможности предстать пред монаршьим ликом, а во что ему это обошлось: сколько было сказано притворно льстивых слов, сколько получено жестких отповедей, сколько неподдельных дукатов истрачено? Чересчур много, чтобы теперь сидеть, проглотив язык. Он что, забыл, какова в этой игре ставка? «Ставка — твоя жизнь, идиот», — несколько раз мысленно напомнил себе Джакомо, но даже это его не расшевелило — напоминание было негрозным, бессодержательным, словно адресованным вовсе не ему. Мякоть устрицы казалась куда реальнее, чем эти неопределенные предостережения. Даже Бинетти, даже Катай были чужими и далекими, будто персонажи давно забытого сна.
Пресвятая Дева, да он, наверное, заболел. Ведь мог бы увлечь короля своей идеей публичной лотереи, выдержавшей проверку во всем мире, а вместо этого глотает устриц, как воробей мух; хотел заставить сидящих за столом восхититься чудесными свойствами картофеля, но только работает челюстями; намеревался поразить воображение этих важных, озабоченных судьбой страны государственных мужей рассказом о колючей проволоке, способной сдержать натиск любой вражеской армии, однако сидит, как столб, обмотанный этой самой проволокой, и молчит.
Святые угодники, неужели он состарился? Ладно, нет денег, нет свободы выбора, но почему ни на что нет охоты?! Нищий старик, способный только жевать. Опозорят тебя, старикашка, убьют, бросят на съедение псам. Защищайся, пока еще можешь.
Вольтер — чем не тема, способная заинтересовать высокое общество? Или животный магнетизм; он им расскажет про Иеремию, почему нет? Пообещает продемонстрировать при дворе его необыкновенные способности, ослепит всех сиянием подлинного чуда. А панталоны с разрезом спереди — это ли не предмет для обсуждения в кругу избранных? Если же и последнее не подействует, он, возможно, позволит дамам упросить себя и в сотый раз поведает, как бежал из Тюрьмы Под Свинцовой Крышей.
Чепуха все это. Не знает он никакого Вольтера. Его отравили, а может, сам отравился… При воспоминании о картофеле хочется блевать. Он спит. Знать ничего не знает ни о магнетизме, ни о панталонах с разрезом. Да и вообще смутно себе представляет, где находится, — то ли в тюрьме, то ли на куче колючей проволоки…
Что-то коснулось левого бедра, защекотало; Джакомо не сразу сообразил, что это пальчики Бинетти. Бинетти, девочка моя, кажется, одна о нем еще не забыла. Но не слишком ли увлеклась, неужто не боится, что ее поведение сочтут оскорбительным для монарха? Ох уж этот монарх, не устающий смеяться и сыпать шутками; похоже, он не столь уж чувствителен, хотя кто его знает? Ежедневно рассказывая свои байки при дворе Фридриха, Казанова никогда не мог угадать, куда попадет вечером: в казну или в темницу. Но здесь не байки нужны. Здесь… Джакомо почувствовал руку на правом колене.
Катай. Ого, дело принимает нешуточный оборот. Сговорились они, что ли? Чепуха, эти красотки скорее выцарапают друг дружке глаза, чем найдут общий язык. Очаровательные тигрицы не способны делиться добычей. Во всяком случае — живой добычей.
Кровь резвее побежала по жилам, оцепенение как рукой сняло. Необходимо что-то сделать, воспользоваться моментом. Без денег, без расположения короля, без знакомств при дворе он погибнет. Его просто разорвут в клочья. Загрызут. Опозорят. И в первую очередь эти две красивые хищницы, уже испытывающие остроту своих коготков на его ляжках. Первая осторожно, незаметно, миллиметр за миллиметром, приближается к месту, где невинная забава перестанет быть таковой. Вторая действует быстрее, решительнее, она уже почти у цели. Обезьяний вопль. Громы небесные. Хруст размозженных костей. Это ему грозит. Гораций. Образец. Придворный поэт. Гораций?
— Если вы, кавалер, не разделяете нашего мнения, почему не выскажете своего?
Аббат Джигиотти. Разве они знакомы? Бедный священнослужитель. Знал бы, какой поединок ведется сейчас под столом. Гораций бы лопнул от смеха. Но, черт побери, нельзя допустить, чтобы его очаровательные соседки встретились у цели. Никакому поэтическому гению не передать, что тогда произойдет. Гораций. Печальный придворный без яичек. Льстивый импотент. Педик, прикидывающийся жеребцом.
— Если вам угодно выслушать мое мнение о Горации, — Казанова встал, вдруг почувствовав прилив сил и энергии, — осмелюсь заметить, что есть поэты, куда лучше понимавшие дух двора и его язык. Произведения, которыми вы, господа, восхищаетесь, полагая их образцом изысканности и хорошего вкуса, в сущности, всего лишь топорная сатира.
Он проснулся, это главное, и разделил гарпий[27], готовых его растерзать. Только бы не упустить момент, дарованный судьбой. Король уже смотрит на него, улыбается — нельзя сказать, чтобы сдержанно.
— Ну как же так, кавалер, — Джигиотти, кажется, искренне изумился; добродушный глупец, такой ему и был нужен, — ведь сочетание тактичности с правдой в сатире — верх мастерства.
— Для Горация это не составляло труда: единственной своей целью — даже в сатирах — он избрал курение фимиама императору Августу[28]. А тот заслужил бессмертную славу, оказывая покровительство писателям своего времени. Вот почему его имя столь популярно среди державных венценосцев, зачастую предпочитающих это имя собственному.
Казанова стоял и смотрел на сидящих за столом сверху вниз, а стало быть, и говорил свысока. Но не чрезмерная ли это дерзость — ведь здешний король при восшествии на престол принял имя Август! Неужто игра проиграна, еще не начавшись?
— Ты кого, сударь, позволь узнать, имеешь в виду?
Король, сам король к нему обратился! Он уже не улыбается, но разве можно говорить, одновременно улыбаясь?
— Например, шведского короля, который звался Густавом[29].
— А какова связь между Густавом и Августом?
— Одно имя — анаграмма другого.
Дальше, дальше, не сдаваться, и мир вновь будет ему принадлежать. Все ли это видят? Все ли чувствуют, как он летит? Как приближается к своему предназначению? Разве этот польский король с труднопроизносимой фамилией, в мире известный как Станислав Август, — не его предназначение? А он — разве не в его руках судьба короля?
— Где ж это ты, сударь, вычитал столь любопытные вещи?
— В некоем манускрипте в Вольфенбюттеле[30].
Сказал и испугался, не переборщил ли, но король оценил намек — не сам ли только что щеголял эрудицией? — коротко рассмеялся и шутливо погрозил Казанове пальцем. О, вот это был палец! Длинный, тонкий, озаренный блеском бриллиантового перстня. Достойный благороднейшей руки. Созданный, чтобы подпирать задумчивое чело, указывать путь целым народам и отыскивать самые потаенные уголки женского тела. И этот палец был к нему благосклонен, обещал, дарил надежду. Неужели этого не понимает Бинетти, уже несколько минут дергающая его за сюртук? Он сядет, сядет, когда придет время. А Катай, его несравненная коварная Катай? Верно, думает, прикрываясь сдержанной улыбкой, что он спятил. Пусть думает что угодно. И она, и все эти ученые старцы, удивленно взирающие на витийствующего перед королем смельчака.
Он не сядет. До конца приема будет стоять, пока его не попросят уйти. Не сядет, не погрузится вновь в тупую апатию, не поддастся отчаянию, заставляющему смириться с тем, что однажды поутру его найдут на городской свалке с ножом в спине или удавкой на шее. Не сядет, не заткнется, не уберется с глаз долой. Неужели эти господа, мгновенно понимающие любую литературную аллюзию, не услышали подлинного драматизма в его голосе? Неужели эти падкие на плоские шуточки дамы не оценят его позы римского трибуна? Неужели все они не чувствуют, что он борется за жизнь? И не только за свою, о нет. За жизнь короля тоже, а значит, и за их общую участь. Да, да, провидение избрало его своим орудием. Не узловатые лапы палачей Екатерины, а сам мудрый Дух Истории подтолкнул к действию. Сейчас в его руках не только собственная судьба, не только судьба короля и гостей, собравшихся у королевской любовницы, но и судьба всей Польши, да что там Польши — Европы. Европы? Всего мира, ожидающего его слов и решений!
Король коротко фыркнул:
— Ишь какой! А может, все же припомнишь хоть одно изречение Горация, удовлетворяющее твой придирчивый вкус?
— Пожалуйста. — Что делать, Господи, помоги. — Coram rege sua de paupertate tacentes plus quam poscentes ferent.
Секунда молчания тянулась дольше вечности. Но веселое королевское «Верно!» сполна вознаградило за тягостное ожидание. Сколько он получит? Сто? Может, и двести. Меньше, пожалуй, неудобно. Ни дать ни взять.
— Что, что он сказал?
Ее коровье сиятельство госпожа Шмит требовала разъяснения от сидящего рядом епископа. Встревожилась? Почуяла угрозу своим интересам?
— Кто от правителя бедность скрывает, больше получит, чем тот, кто просил.
Неприязненный взгляд королевской любовницы не сулил ничего доброго. Пятьдесят. Если вообще хоть сколько-нибудь.
— Совершенно верно, кавалер.
Король — это король. Не будут всякие там наложницы диктовать ему, что делать. Двести. Возможно, даже больше? Мира, Европы, Польши он этим не спасет, но себя — кто знает…
Что еще было в тот вечер, Казанова почти не помнил. Кажется, Бинетти с Браницким на лестнице о чем-то повздорили, но разве теперь его это могло интересовать? Он явился к Катай, довольный собой, приятно возбужденный лежащим в кармашке сюртука векселем, собственноручно подписанным королем. Все-таки двести. Noblesse oblige[31]. Для начала совсем неплохо. Какое там неплохо. Отлично, Джакомо, подумал он, когда один из карлов Катай ввел его в спальню, благоухающую всеми соблазнами мира. Превосходно, решил, когда Катай появилась в дверях. Она его ждала. Темное прозрачное платье позволяло не только угадывать скрывающиеся под ним формы, но и видеть груди, соблазнительно подрагивающие в такт кошачьим шагам, сильные бедра, с которыми он так и не сумел справиться, и недосягаемый темный треугольник меж них. Под платьем Катай была нага. Сообразила. Ждала.
— Ты зачем пришел?
Он не сразу ответил. Сел на кровать, покачался на ней с минуту, потом неторопливо снял с ноги башмак и, внимательно его оглядев, будто запыленный клочок кожи скрывал тайну философского камня, отшвырнул в сторону. Сегодня он не станет спешить.
Второй башмак. Что за чувство им сейчас владеет: вожделение или ненависть? Катай не дала ему времени на размышления. Покорная и ласковая, села рядом, позволила себя обнять, поцеловать. Хорошо. Он забудет о том, что было. Не станет портить себе удовольствие, которого так долго ждал. Потом, позже, он ей за все отплатит. Да — за все. Посчитается с ней, как ни с кем в жизни. Обманет, разоблачит, выставит на посмешище. Сейчас ему, как никогда, этого хотелось. Впрочем… не надо увлекаться, черт побери, мстительность — не лучшее из человеческих качеств, подумал Джакомо, ощущая на ладони тяжесть ее груди, от которой захватывало дух. Чего он, собственно, от этой красотки хочет? Можно ли сердиться на хищника за то, что у него есть когти? В особенности теперь, когда когти спрятаны и, хотя кое-что еще не до конца прояснилось, можно не сомневаться в победе.
Любит ли он конфеты? О да, любит, любит, что бы конфетой ни называлось. Катай деликатно отвела его руку, раздвигающую ее бедра. В таком случае она предлагает ему полакомиться. Высунула язык с темной пуговочкой конфеты на кончике.
— Возьми.
Он взял. И вправду конфета. Обещание иных сладостей. Знак примирения. Чертовка! Почуяла, что начинает его злить. Прирученная змея склонна целовать, а не жалить. Превосходно. Катай сама языком раздвинула его губы и втолкнула конфетку в рот. От этой ласки в нем все перевернулось. Скользкая капелька, мрак, пекло.
Джакомо усилил натиск, однако немногого добился. Катай увертывалась, отталкивала его жадные руки, подтягивалась на кровати все выше и выше. Только не сегодня, нельзя, ей нездоровится, пусть приходит завтра, увидит, ему не придется жалеть. Джакомо не сдавался, не обращал внимания ни на слова, ни на тумаки, обрушивающиеся на его спину. Никаких завтра — сегодня, и прямо сейчас, немедленно. Она убедится, сколько до сих пор теряла. Пуговицы отлетали под нетерпеливыми пальцами. Черт! Был бы, где нужно, разрез… жаль, он не надел свои новые панталоны.
Нет, нет, пусть уходит, она его очень просит. Что, почему, с какой стати? Теперь, когда платье на бедрах задралось и он уже не в мыслях, а воочию видит цель своего многодневного путешествия? Как можно сейчас отступить? Как не прильнуть к этому роднику, не погрузиться в него, затаив дыхание, не добраться до самого дна?
— Горькая конфетка?
Что? А, да, горькая, и впрямь горьковатая. Даже очень горькая. Но какое это имеет значение? Ерунда, пусть лучше ему поможет. Видит же, что он запутался в штанине. Или, по крайней мере, пусть не мешает. Точно прочитав его мысли, Катай стала податливее. Обвила руками его голову, притянула к себе. Джакомо не сразу разобрал, какие любовные заклятия она шепчет ему на ухо.
— Знаешь, что это?
Не знает и не желает знать. Знает только одно: чего от нее хочет. И знает, что это получит.
— Стрихнин.
Он ослышался, сошел с ума, видит кошмарный сон.
— Что?
— То, что слышишь: стрихнин.
Подлая сука! Джакомо вскочил, завертелся волчком, выплюнул все. Все ли? Какое там! Горечь осталась на губах, во рту, смертоносный яд жег глотку. Можно плеваться до изнеможения — от этой гадости ему не избавиться. Стрихнин! Судороги и пена на губах. В Венеции он однажды видел подыхающих от яда крыс. Тьфу! Нет уж, если ему суждена столь страшная гибель, он умрет не один. Задушит эту коварную девку, прибьет, прежде чем отправится на тот свет.
— Это шутка? — прохрипел он, еще надеясь, что страшный сон рассеется. Катай не отвечала, наблюдала за ним невозмутимо, хотя не без любопытства. Как он в Венеции за извивающимися в предсмертной пляске крысами… Идиот! Поспешил отпрыгнуть, а надо бы вцепиться ей в патлы и трясти, пока оба не испустят дух. Хоть бы знать, кто отправляет его в это далекое путешествие. Кто ее нанял? Какой из его мучителей? За рубли или за талеры?
Тьфу! Она уже на него не смотрит. Кинулась к двери, аж загудел под ногами пол. Он — за ней; неуклюже и медленно, придерживая панталоны. Едва сделал несколько шагов, как она вернулась, заметно обеспокоенная. Неужели его дела так плохи? Она уже не боится его ярости. Это значит… Боже!
Прильнула к нему, обвила руками. Пусть сию же секунду уходит. Ему необходимо исчезнуть, как можно скорее, прямо сейчас, немедленно. Она требует, умоляет, потом она все объяснит. Рубашка, жилет, быстрее! Что? Избавиться от него хочет, отравительница? Не выйдет. Он упадет там, где она его убила. Башмаки? И не подумает даже. Вино? Ей еще мало! Чего эта женщина от него хочет? Чтобы он один яд запил другим? А вдруг… Ну конечно, это, скорее всего, противоядие. Попробовал вино кончиком языка. Очень похоже.
В ее голосе звенела тревога. Шутка, это была шутка, он не в своем уме, как можно было подумать, что она хочет его отравить. Но сейчас нет времени для объяснений. Сейчас — она потащила его к окну — он должен бежать. Не в его привычках было поднимать руку на женщину, но ничего другого не оставалось. Джакомо широко размахнулся. Катай уклонилась и сама двинула его кулаком в нос. Ну, это уже чересчур. Вцепился пальцами в ее парик, дернул — она взвыла от боли. Господи, эта негодяйка еще прекраснее без волос. Если б она могла убивать взглядом, он бы уже корчился в предсмертных судорогах — долгих и ужасных, страшней которых человечество еще не знает.
— Идиот, не понимаешь: он сейчас будет здесь.
— Кто?
— Кто, кто… Один человек. Который не должен тебя тут застать.
Нет, он, кажется, вырвет изо рта этой ведьмы ее проклятый язык, чтоб перестала издеваться над порядочными людьми.
— Король, — крикнула она, заметив, что глаза Джакомо наливаются кровью. — Сейчас сюда придет король.
Такое не может присниться даже в самом кошмарном сне, даже спьяну. Король! Нельзя терять ни минуты. Ну и положеньице. Откуда он мог знать, что посягнул на королевскую собственность. Теперь потеряет все, чего сумел добиться. Если не жизнь. Что сделают эти скоты, которые за ним охотятся, если король сочтет его присутствие здесь для себя оскорбительным, откажет ему в своем расположении? Одному сатане известно… Могла бы, идиотка, раньше предупредить.
К двери… Поздно — на лестнице уже слышны шаги. Окно. О нет. Он не самоубийца. Пусть лучше его прикончат за оскорбление монаршьего достоинства или за невыполнение задания, — добровольно ломать себе шею у него нет охоты. Кому он перебежал дорогу, почему ему постоянно норовят насыпать соли на хвост? В самом деле! Где сказано, что у короля больше прав на эту шлюху, чем у него? Это еще видно будет. Он, Казанова, принимает вызов. В конце концов, не в таких спальнях и не с такими соперниками расправлялся. Сейчас, только надо привести себя в порядок. Не принимать же короля в сваливающихся панталонах.
Но Катай пресекла его мятежный порыв. Под кровать. Какой стыд! Хуже мог бы быть только шкаф. Он что, персонаж дурацкого фарса, чтобы прятаться под кроватью? О ирония судьбы, о позор, страшней которого трудно придумать. До чего же он дожил! Ну ладно, так уж и быть. Он спрячется. Он артист и сделает это ради искусства. Ведь подлинное искусство произрастает на страданиях… Только не надо его подталкивать, не надо подгонять, он сам все достаточно хорошо понимает. Пусть лучше поправит парик, а то выглядит как чучело. Достоинство — вот что защищает человека от бесчестия. Даже под кровать можно залезть, не теряя лица, думал Джакомо, заползая в глубину темной расщелины. Башмаки. Да. Без башмаков из-под кровати с достоинством не выйдешь. Сюртук. Кинула ему вслед — отлично. Появиться в сюртуке, в башмаках — совсем другое дело. Еще бы только шпагу и шляпу… Хлопнуло окно. Через минуту опять. Что там происходит?
— Тихо.
Он подчинился. Лежал тихо, пока у них было тихо. Только шепот, неразборчивое бормотание, отдельные бессвязные слова достигали его до боли напряженного слуха. И продолжал лежать так же тихо, когда над ним тишина нарушилась. Скрипнул пол, застонала кровать под внезапно обрушившейся на нее тяжестью. И у него в груди что-то беззвучно застонало. Святой Онуфрий, покровитель рогоносцев, за что ему эти испытания? Он скорее умрет, чем такое вытерпит. Король — ну и что с того? Обыкновенный грабитель, отнимающий у него добычу. Но если он сейчас выскочит и прогонит этого похотливого кролика, его, ясное дело, обвинят в покушении на государя и отрубят голову. Дикая страна! Впрочем… разве во Франции поступили бы иначе? Да еще хуже — отрубить могли бы не только голову.
Поэтому он лежал тихо — слава Богу, пока живой. Разве не это главное? Остальное как-нибудь утрясется. Кровать наконец заскрипела и стала раскачиваться в однообразном ритме. Уже утрясается… Шлюха из пекла родом! Вытворяет черт-те что над его головой, тычет ему в рожу выпяченную задницу. Нет, это невыносимо. Джакомо перевернулся на другой бок — медленно, осторожно, потому что пол под кроватью был плохо оструган, а ему вовсе не хотелось в придачу к любовнице потерять еще и штаны. Но едва устроился в новой позе, скрип прекратился, чтобы возобновиться через минуту над тем местом, где он теперь лежал. Черт! Со всех сторон обложили. А эта… небось стоит на четвереньках, елозит коленями и локтями по кровати. Джакомо зажал руками уши, чтобы ничего не слышать, но воображение было ему неподвластно. Вот она, эта роскошная самка, прямо над ним, со свободно болтающимися грудями, широко раздвинутыми ногами, открытым от наслаждения ртом. Тьфу, сгинь, пропади! Не думать об этом. А о чем, о чем, о чем? О чем-нибудь страшном, омерзительном, противном до рвоты. Только бы не оскандалиться, не возжелать ее такой, раскачивающейся над его головой, нанизанной на королевский жезл.
Сифилитик, по шею зарытый в навоз. Гниение, разложение, смрад. Кривые ноги Екатерины, черная метина внизу живота, волосы на груди. Тьфу, тьфу, три раза тьфу! Но — без толку, без толку, без толку. Ничто не помогает. Копье его… напрягается, твердеет с каждой минутой. Еще немного — пробьет матрас или перевернет любовников вместе с кроватью… Или…
А что? Почему бы ему к ним не присоединиться? Ведь она уже почти на нем, самой малости не хватает. Растянулась бы сверху, щекоча грудь влажными от пота сосками, сунула в рот бесстыжий язык. С его величеством он бы договорился, оставил ему ту дырочку, что поменьше и подороже, а сам бы удовлетворился разъезженным трактом. Только тогда она поймет, чего себя лишала. И он наконец узнает, чего она на самом деле стоит. Ибо сколько, он уже примерно знал.
Коварная гадина! Вопит, как грешница в аду. Так уж ей хорошо с этим кроликом или нарочно старается, чтобы его унизить, втоптать в грязь? Не бывать тому! А ей не уйти от расплаты. И долго ждать не придется, черт побери! Сто тысяч чадящих фитилей! Опять он не может справиться со своим дружком. Нет, это добром не кончится…
Где вексель? Надо надеяться, не потерялся в этой суматохе. На столе? Не такой он дурак. В сюртуке. Пошарил руками вокруг. Есть. Нету. В карманах пусто. Еще только не хватает, чтобы этот коронованный бабник расплачивался его деньгами. Честно заработанными, что ни говори! Жилет, где этот проклятый жилет?
Нащупал в темноте скользкую ткань, потянул к себе. Краем ладони ударился о какой-то твердый предмет. Недоумение было недолгим, как и тревога, что они услышали стук.
Merde! Опять этот горшок. Недурной сюрприз она ему приготовила. После стольких надежд. И за такие деньги. За все, что он для нее сделал, за обожание и ухаживания эта беззастенчиво стонущая шлюха милостиво позволила познакомиться с содержимым своего ночного горшка. Нет, дольше ему не выдержать. Жилет выскальзывал из пальцев, кровать трещала так, словно вот-вот развалится, вожделение сменилось бешенством. Где же этот чертов вексель?
Чего-чего, а этого он не простит. Вырвет у нее деньги, хотя бы она их между ногами спрятала. Заставит запеть прелестное горлышко, пусть даже понадобится пощекотать его кинжалом. Стальным острием поблагодарит за чуткую заботу. Сочинит куплеты…
Есть. Вот он, драгоценный вексель, который завтра будет превращен в звонкую монету. Слава Богу, хоть обобрать себя не позволил. Да и горшок не перевернул. Вот был бы номер! Выстраданные дукаты могли превратиться в расплывшиеся чернильные закорючки. И что тогда — потребовать от короля возмещения убытков?
А почему бы и нет? Почему не воспользоваться случаем? Он хотел попасть в ближайшее окружение короля — и попал. Да как еще близко — можно сказать, добился интимной близости. Вот бы удивились его мрачные преследователи. Ну же, вперед, н-но, грех упустить такую возможность, вторая вряд ли представится. Ну! Из темноты выплыла рожа Куца: «Мы тебя сгноим, если вздумаешь водить нас за нос!» Да, он вынужден был водить их за нос, это была борьба за жизнь. Но сейчас — разве не подвернулась оказия, какая им и не снилась? Он бы мог насадить этого лихо трясущего задницей короля на шпагу, как на вертел, и даже не особенно замарать свою совесть.
Только им, кажется, вовсе не то нужно. Они хотят короля похитить и постращать. Пожалуйста! Кляп в рот, кинжал к печенке — и вперед по темным улочкам к реке. Там на первую попавшуюся барку — и ко всем чертям. Куда именно, это уже забота чертей.
А как же королевские охранники? Может, никакой охраны и нет? Эти похитители чужих любовниц обожают риск. Ох, у него, кажется, и впрямь помутился разум. Выполнять приказы каких-то бандитов? Нет уж, честь ему дороже — даже под кроватью. Бороться за жизнь можно по-разному. Можно даже стерпеть бешеную скачку на собственной любовнице у себя над головой. И не обезуметь от этого, не взреветь от боли, не начать крушить все вокруг. Джакомо уже почти готов был почувствовать себя героем, но громкий треск кровати его отрезвил. Merde, того и гляди, ложе развалится.
Что делать? Забиваться глубже, к стене, не хотелось. Это могло оказаться гибельной ловушкой. Если дубовое сооружение рухнет, он будет раздавлен как клоп. Погибнуть под обломками рассыпавшейся кровати — на радость врагам? Никогда! Вдобавок где-то там, в темноте, ждет первого неосторожного движения этот чертов горшок — нет, дальше залезать не имеет смысла. И он начал перекатываться на прежнее место, которое несколько минут назад покинул, подгоняемый стонами проклятой девки. Минут? Секунд? А может быть, часов? Один черт знает… Время то неслось опрометью — с шумом, грохотом, скрипом, то замирало — как сейчас скованное тишиной, перешептываниями, шелестом простыней.
Джакомо замер на полпути. Его присутствие обнаружено или они просто кончили? Королевский жезл обмяк или, наоборот, напрягшись, застыл перед последним штурмом? Что сделает его величество — обрушит на соперника устрашающий вопль, тяжесть подкованных сапог и жгучий холод стали или преспокойно продолжит свое занятие? Если бы можно было перестать дышать. Или попросить ее потаскушью низость о помощи. Пусть бы закрутила задом, как колесом рулетки, пусть бы снова втянула партнера в игру. Ведь и она изрядно рискует. Может, даже больше, чем он. Как-никак, любовник под королевским ложем! Это же плевок в лицо государя, преступление, чреватое по меньшей мере немилостью и сплетнями по всему городу. А может быть, ему ничего и не сделают. Может, просто-напросто — какая чудесная перспектива! — вышлют из страны, довезут до границы и хотя на прощанье, скорее всего, пару раз съездят по физиономии, в конце концов отпустят на свободу — свобода, свобода, есть ли слово краше? И даже приспешникам Екатерины его не задержать.
Rien ne va plus[32]. Его мольбы услышаны. Опять все колышется, стонет, трещит. Бояться больше нечего. Можно дышать. Спокойно, спокойно, не торопиться. Покинуть страну он всегда успеет. Сейчас главное — убраться подальше от этого угрожающего треска. И от ночного горшка. О да, да. И все же до чего было бы забавно, если б его в таком виде выволокли из-под кровати — в расстегнутой рубашке, всклокоченного, попахивающего чужим грехом. Джакомо с трудом сдержал смех. Сто тысяч рогоносцев! Он, кажется, совсем одурел.
Над чем тут смеяться? Ведь его унизили, превратили в вонючего труса… Что в этом забавного?
Да уж, совсем не смешно. Но чем отчетливее он это понимал, тем сильнее глотку щекотало какое-то проклятое перышко, а лицо кривилось в дурацкой гримасе. Джакомо уже видел себя выползающим из-под кровати: растерзанное страшилище, силящееся держаться с благородным достоинством. Ему вдруг не просто рассмеяться захотелось, а загоготать, взреветь, корчиться от смеха, колотить себя от восторга по ляжкам. Он подполз к самому краю кровати, уже не слыша ни скрипа, ни стонов наверху, не думая, какой себя подвергает опасности. Пусть лучше перед ними появится его смеющееся лицо, а не растрепанный парик. И вообще, будь что будет. Все равно он дольше не выдержит, взорвется, заревет во всю силу легких, загудит как иерихонская труба, аж полетят щепки с дубового ложа, а любовники взовьются под потолок и будут умолять, чтобы он унялся.
Воздуха, хоть немного воздуха. Джакомо отодвинул свисающий с кровати скомканный муслин, осторожно выглянул наружу. Охота смеяться прошла так же внезапно, как появилась. В комнате мерцал слабый огонек свечи, но, чтобы увидеть то, что он увидел, хватило бы и бледной полоски лунного света.
Перед ним, совсем рядом, буквально перед носом, стоял… башмак. Но не башмак башмаков, не королевская туфля, достойная изящной стопы истинного монарха, а заурядный плебей, стоптанный башмачище с лодку величиной. Джакомо не понадобилось долго думать. Он всего лишь на секунду оцепенел, и тут же, точно вспышка молнии, пришло озарение: он обманут. Это не настоящий король, не Станислав Август, а его ничтожный большеногий двойник, лжекороль, подделка. Кошмар! Ад на земле! Он вытирает под кроватью пыль и позволяет шворить свою любовницу жалкому натурщику! А она! Не женщина — дьявол во плоти! Ведьма с адским огнем между ног, курва, грязная сука!
Джакомо с такой силой рванулся вперед, что прикусил язык. Он их убьет! На свете слишком много несправедливости.
Секунда — ее станет меньше. Только бы дотянуться до шпаги. Он проткнет их насквозь. О да. Навеки соединит стальным острием сцепившуюся парочку.
Что-то шмякнулось на его вынырнувшую из-под кровати голову, сбив на глаза парик. Эта потаскуха, вероятно, его заметила, но ей все еще мало — она намерена забавляться дальше. Что ж, сейчас он ей покажет такую забаву, каких она еще не видела и, пока будет жива, не увидит. На четвереньках подполз к окну. Шпага. Подоконник скользкий, точно политый потом. Нету. Не важно, со шпагой или без шпаги, пусть случится то, что должно случиться.
Возле печки висела тяжелая кочерга. Джакомо схватил ее. Теперь можно и обернуться, и выпрямиться во весь рост. Он не станет, как воришка, подкрадываться к этим негодяям, посмотрит им прямо в лицо, пусть знают, от чьей руки им суждено погибнуть. О да, он отомстит с гордо поднятой головой.
Выпрямился, обернулся, посмотрел. Боже, такого не могло породить даже распаленное воображение.
Катай подпрыгивала вверх-вниз на жилистых ходулях этого ничтожества, подавшись вперед, повернув голову к окну, туда, где стоял Джакомо. Собственно, он почти ничего не увидел — в полумраке смутно белели только обнаженная спина и плечи, — скорее угадал, что происходит на кровати. И она заметила его не сразу, а лишь через секунду, когда внезапно отбросила упавшие на лицо пряди. В ее глазах не было ни удивления, ни гнева; гораздо хуже — там была насмешка. И — прежде чем Джакомо поверил в реальность увиденного — подскочила и подняла руки, открыв его взору тяжелые колышущиеся груди и блестящий от пота живот. Потом резко откинулась назад и, опершись на руки, еще шире раздвинула колени.
Люди, черти, конец света! Кочерга сама взметнулась в воздух. Темно, черно перед глазами, пепел во рту. Сверкающая расщелина под кустистым бугорком! Вожделенный ад, сладкий уксус, волчица с ощеренными зубами. Убить, чтобы не сойти с ума!
Что-то — крыса? — прошмыгнуло вдоль стены у него за спиной. Джакомо прыгнул вперед, готовый бить, колотить, стереть в порошок все, что видят глаза: этих скотов, комнату, душную от их шепота и пота, весь саднящий, как рана, мир, в котором ему выпало жить — за чьи грехи? Поганый мир, где он вынужден отстаивать свои интересы с помощью когтей, хитрости и с трудом добываемых денег, когда другие получают все, не пошевелив пальцем. Катай, видно разглядев выражение его лица, испуганно вскрикнула, попыталась встать, вырваться из объятий любовника, и ей бы это удалось, если бы лжекороль, не понимая, что с ней, прислушиваясь только к тому, что творится в нем самом, не держал ее крепко за бедра. Она рванулась сильнее, и, потеряв равновесие, опрокинулась навзничь. Ноги, ее великолепные ноги разлетелись на все стороны света. Теперь она была такая, какой Казанова когда-то хотел ее иметь: доверчиво раскрывшаяся, горячая и влажная, ожидающая удара… но — тысяча чертей! — не удара кочергой. Пекло, сущее пекло!
Джакомо уже замахнулся, но кто-то сзади схватил его за ноги. Неловко сделав полшага, как стреноженный конь, он стал клониться вперед подобно подрубленному дереву: все быстрее, все ниже. Пытаясь устоять, бросил кочергу и растопырил пальцы, но катастрофа неотвратимо приближалась. Он летел прямо на обнаженный живот, еще мгновенье — и ухнет с головой в разверстую расщелину, попасть в которую еще недавно так страстно желал, но которая сейчас внушала ужас. Эта дьявольская дырища поглотит его целиком, вместе с падающими панталонами, башмаками и векселем на двести дукатов, засосет и переварит, как трясина, как кипящая лава. Конец. Он проиграл. Сейчас долетит — на свою погибель.
Но — не долетел. Рука, лихорадочно ищущая опоры, наткнулась на что-то твердое и большое, похожее на кочан капусты или голову карлика. И в ту же минуту Джакомо почувствовал острую боль — откуда? почему? — в затылке. Жгучую, высекающую искры из глаз боль. И ничего больше.
Бегство
Сугробы липкого снега, темно, холодно, неуютно. Зима нагрянула так стремительно и внезапно, что Казанову стали посещать мысли о самоубийстве, но когда не менее неожиданно отступила, он почувствовал себя на удивление бодрым и энергичным. Во-первых, надо прочистить печь — они чуть не угорели насмерть при попытках ее растопить. Во-вторых, прикрыть песком и соломой картошку в погребе. Не хватало еще, чтобы замерзла или сгнила. Кроме того, обувь — необходимо немедленно заказать крепкие башмаки, парижские вот-вот развалятся от этой мешанины снега и конского навоза, в которой утопали улицы. Еще бумага: зимы здесь долгие, вечера тоскливые, будет время кое-что записать. Ну и наконец потребовать с пана Котушко побольше за уроки: такая добродетель, как терпеливость, тоже требует вознаграждения.
Казанова собрал всю свою свиту, окинул недобрым взглядом. Эти две пигалицы могли б хоть немного привести в порядок свои огненные патлы, вчера он обнаружил в супе волос, толстый, как канат. Иеремия — хоть бы слово вымолвил и стер с лица кислую мину, от которой уже блевать хочется. А Василь — тут и говорить нечего, этому только в хлеву место.
Глядят на него покорно, доверчиво — а что толку? Н-да. Здесь даже если в чем-нибудь повезет, все равно потом выйдет боком. Они его обожают, но заботиться о каждой чепухе — о печке, о картофеле, о бумаге — приходится самому. А уж о нем никто не позаботится. Правда, когда его донимали шишки на голове, они за ним ухаживали. Сара и Этель своими маленькими пальчиками до блеска отполировали обритый лекарем череп. Это все так. Но они не понимают, что он не выносит молчания, постных физиономий, волос в супе и грязи под ногтями.
А в-шестых… Казанову отрезвил собственный голос. Нет, у него, наверно, мозги вытекли через недавно зажившую дырку. Какое там — в-шестых! Во-первых, прежде всего! Начинать следует с наиважнейшего дела, а что важней его собственной персоны? Забыл, что ему грозит? Да он готов до конца дней терпеливо сносить любые невзгоды, лишь бы не здесь, в этом унылом краю, где истинно свободному человеку делать нечего. Сейчас не печку к зиме готовить надо и не договариваться об уроках хороших манер с Котушко, а поскорее уносить ноги. Что он и сделает. И даже знает как.
— А в-шестых…
Боже, как ему раньше не пришло в голову! Джакомо стукнул кулаком по колену. И все потому, что не голова на плечах, а нафаршированный дурью кочан. Возможно, карлик Катай, раскроив этот кочан палкой, сослужил ему добрую службу. Надо его за это щедро отблагодарить. Ну конечно! Он отблагодарит, отблагодарит. Пусть только попадется.
Василь попятился, когда Казанова отвел руку за спину. Болван — он всегда болван. И получил по заслугам: ребятам досталось по золотой монете, а Василю — серебряная. И то много. Вообще ничего ему не причитается, иуде этому, навозному червю, ненасытной утробе.
— Я вами доволен.
Но доволен он был только собой. Хотя бы потому, что им улыбается, преодолевая внезапный страх перед задуманным, от которого сводит челюсти. И Джакомо поспешил отделаться от своих слуг, бросив несколько ничего не значащих фраз. Не хотел, чтобы они догадались, что это прощание. И что решение он принял всего минуту назад.
Вероятно, следовало бы красться тихой сапой, под заборами, но очень уж хотелось — быть может, в последний раз — сохранить лицо. Огибая лужи на улочке, где стоял их дом, Джакомо выбрался на оживленный и сравнительно сухой Королевский тракт. Солнце, бледное, но неожиданно теплое для этого времени года, заставляло людей скидывать многослойную, надетую по случаю вчерашнего мороза одежку. Только торговки упрямо кутались в бессчетные платки и шали. Не стоило, наверно, выходить на тракт, в посольство лучше бы пробираться боковыми улочками, но сколько можно отказывать себе во всем? Увидит кто-нибудь? Пускай. Может, для дела оно и лучше. Пусть запомнят его таким: в шляпе с павлиньим пером, при шпаге, отважно спешащим навстречу судьбе. Он не крыса, чтобы прятаться от людей. Да и французские башмаки целей будут.
Остаться незамеченным, похоже, и вправду не удалось. Почему-то у Казановы появилось ощущение, что за ним следят; волей-неволей пришлось внимательно оглядеться. Вокруг сплошь незнакомые, большей частью бедно одетые люди, но, в конце концов, где сказано, что следить за ним должен знакомый щеголь. Скорее наоборот. В конце улицы остановилась карета с плотно зашторенными окнами. Джакомо показалось, что он уже видел ее неподалеку от дома. Стало быть, и знакомых щеголей нельзя исключить. Но который из них? Один черт знает. Ему знать не обязательно. Довольно с него загадок, осточертели любопытные бездельники, сующие нос в его дела. Сегодня с этим будет покончено — раз и навсегда.
Пускай следят: те, эти, да вообще кто угодно. Он их всех обведет вокруг пальца. Хотя — и это его тревожило — не до конца еще ясно как. Но разве ему не случалось попадать и в худшие переделки? Разве он знал, как выбраться из-под Свинцовой Крыши, пока способ не подвернулся сам? Боже правый, тогда он знал только одно: бежать необходимо, иначе смерть. И сейчас в этом нисколько не сомневается. Что же еще нужно? Впрочем… Уже и идея есть. Такая дерзкая, что, пожалуй, и тот побег померкнет. Только как, как ее осуществить?
Джакомо приостановился. Повернул лицо к солнцу. Может, сделать так: на секунду закрыть глаза, сосчитать до десяти, призвать на помощь все чувства? Тогда его наверняка осенит. Раз, два… какой-нибудь знак… три, четыре… что-то, указывающее направление… пять, шесть… нужно только напрячь внимание… семь, восемь… сейчас его озарит, это будет как вспышка, как попадание в центр мишени. Или первая минута во чреве женщины. Или последняя, перед самым пиком… Девять…
Кто-то дернул его за рукав:
— Купите, сударь!
Десять. Еврейский мальчик с корзиной булок. Черт подери, вот уж не вовремя. Пусть убирается… неужели у него вид голодного человека? Минутку. А если это именно то, чего он ждал? Желанная подсказка, знак от Бога, гм, от какого Бога? Ну, от Бога всех Богов — есть же такой, наверно. Джакомо пригляделся к мальчику. Не тот ли самый, что приставал к нему на площади перед замком? Такой же заморыш, кожа да кости, нищий с корзиной яств, к которым не может притронуться? Что он хочет ему сообщить? Что надо держаться его единоверцев? Понятно. Сегодня же нанять кучера. Пусть коляска будет наготове. Возможно, убегать придется в чужом платье. Вполне может быть. Хорошо, он заранее купит лапсердак, накладную бороду и ермолку. Прошу. Соломон Касановер, набожный еврей из Дрездена, возвращается домой, закончив дела в Варшаве. Какие дела? А, говорить не хочется — разве в наше время делаются дела?
— Держи!
Для посланца небес ничего не жалко. А уж тем более какой-то булки. Джакомо заплатил, выбрал самую большую, протянул мальчику.
— Это тебе.
Мальчик явно растерялся, потом, поколебавшись минуту, вожделенно схватил булку худыми пальцами, однако, не успел Казанова повернуться и отойти, положил обратно в корзину. Нет, нет, он не только деньги ему дает, но и булку. Пускай съест. Наверняка ведь голоден. Нет? Мальчик помотал головой. Интересно. Все равно, пусть съест. Ведь за нее заплачено, деньги в кармане, почему он отказывается? Нет. Не может, запрещено? Нет. Что нет? Да или нет? Нет. Это «нет» звучало все тише и испуганнее, но булка продолжала лежать в корзинке. Хорошо, или он ее съест, или отдаст обратно. Отдал. Без единого слова, кажется, даже с облегчением. Что ж, видно, посланцы небес неподкупны. Либо с раннего детства искалечены нищетой или боязнью нищеты. Но чего тогда стоят их небеса?
Может, он слишком рано открыл глаза? Ну конечно: лишь теперь, с зажатой в руке свежехонькой булкой, Джакомо увидел нечто, требующее решительных действий. Карлик Катай, этот разряженный театральный шут, деловито месил грязь на противоположной стороне улицы. Наконец-то. Наконец этот проклятый мир стал чуточку понятней. Джакомо поспешно швырнул булку в корзину и побежал за карликом.
Не споткнись он и не налети на груженную дровами телегу, этот ублюдок ни за что бы от него не ушел; он бы мог надрать ему уши, расквасить нос или дать пинка под зад и смотреть вместе с гогочущими зеваками, как эта пародия на человека кубарем катится вниз по улице. Но — увы! — он зацепился каблуком за выпирающий из мостовой булыжник и лишь чудом, оцарапав руки о сучковатые поленья, устоял на ногах. Еще немного, упал бы, и не просто упал — шмякнулся лицом в грязь, сдобренную конским навозом; это была бы настоящая катастрофа, крах, весь город покатился бы со смеху. Кипя от негодования, не обращая внимания на боль, Джакомо схватил с телеги здоровенное полено и, вооруженный, бросился в погоню.
Человечек исчез, но дружно обернувшиеся прохожие и волна воздуха, всколыхнувшегося от удара тяжелой двери, указали Казанове направление. Один сильный толчок — затрещало в суставе плечо, — и он в доме: затхлый полумрак, лестницы, галереи. Куда идти: налево или направо? Куда подевался маленький уродец? Какой ненормальный выдумал этот лабиринт внутренних галерей и лестниц? Есть! Топот, тихий, как шелест пересыпающегося гравия, где-то над головой. Ступеньки; осторожней: шпага мешает, путается в ногах. Если он еще раз споткнется, то не сможет себя сдержать и просто убьет карлика. Уже сейчас руки чешутся. Задыхаясь, Джакомо бегом одолевал ступеньки, для бодрости колотя своей палицей по перилам. Кровожадный мститель, преследующий жертву. Но жертва пока еще была неуловима, цель, как ни странно, не приблизилась. Наконец — с верхней ступеньки крутой лестницы — Казанова увидел в дальнем конце окружающей внутренний двор галереи подпрыгивающую на бегу фигурку. Через секунду она исчезла, словно была всего лишь рождена его воображением. И воцарилась тишина — Джакомо слышал только стук крови в висках и замирающее поскрипыванье деревянного настила. Нет, тут что-то нечисто.
Как этому уродцу удалось настолько его опередить? Где слыхано, чтобы пони обскакал резвого жеребца? Он ведь еще не совсем сдурел. В своем уме как-никак. Способен отличить реальность от видения. А если это все же видение — неужели судьба столь жестока к нему, что ничего лучше не могла предложить? К примеру, соблазнительную красотку — сколько раз так бывало. Даже безумному воображению не обязательно должна являться такая мерзость. Нет, не ради призрака он готов смириться с тем, что пропотеет рубашка, размажется по лицу косметика, безнадежно испортятся парижские туфли, не ради фантома превратился в задыхающееся чудовище, вооруженное дубиной. Это был живой карлик, из костей и крови, тот самый, что не так давно пустил ему кровь и пересчитал кости. Где же он: нырнул в какую-нибудь щель или притаился за углом?
Казанова опять припустил бегом, но тут же остановился. В водосточных трубах гудел тающий снег. Может, он этот гул принял за топот? А подпрыгивающая фигурка в конце галереи? Уж не собака ли это была, большой пес, испугавшийся звука торопливых шагов по лестнице? Человек, а тем более карлик, не мог так молниеносно исчезнуть. Испарился, что ли?
Джакомо перегнулся через балюстраду и все понял. Карликов было двое. Один — вероятно прежде прятавшийся за дверью — бежал теперь по двору к калитке, едва заметной в стене, увитой плющом. Второй поспешал в ту же сторону по галерее. Двое. Как он сразу не догадался. В театре под ногами вечно путалось несколько коротышек, да и у Катай тогда была по меньшей мере парочка, только ему из-за этой курвы бельмом застлало глаза. Двое. Два карлика. Крепко сжав в одной v руке полено, а в другой — шпагу, Казанова помчался обратно вниз.
Но догнать их здесь, на огромном, похоже, монастырском дворе, нечего было и думать. Джакомо достиг лишь середины двора, а карлики уже добежали до калитки, повисли на ручке, вцепились в нее так крепко, что не выпустили, даже когда калитка распахнулась, отшвырнув их к каменной ограде. Ни-чего, однако, им не сделалось: подталкивая друг друга, они перекатились через высокий железный порог и были таковы.
Улочка оказалась неожиданно узкой — венецианца этим никак нельзя было бы удивить, но человек, полагающий, что уже более или менее знает город, удивился. Узкая и пустая. Карликов и след простыл. Стены глухие, не спрячешься, значит, махнули влево, куда сворачивала эта улочка либо начиналась поперечная. Джакомо не раз случалось удирать по таким улицам, и их хитрости были ему известны. Поворот. Но за углом — никого. Если не считать двух тощих облезлых псов, вяло вырывавших друг у друга какой-то кровавый ошметок. Неужто? Казанова был слишком зол, чтобы такое предположение могло его рассмешить. И все же он не зря сюда свернул. Его взору представилось нечто весьма любопытное. Карета. Черная карета, стоящая поперек улицы. На козлах неподвижный, как изваяние, кучер в малиновой ливрее. Кого сюда черт принес? Весь обзор загородили; карлики наверняка этим воспользовались. Джакомо чуть замедлил шаг, спрятал полено за спину: как-никак он не варвар…
Да, он не ошибся. Поравнявшись с таинственным экипажем — занавески плотно задернуты, пускай, кто за ними, его не интересует, у него есть дела поважнее, — Джакомо снова увидел в конце улочки знакомые фигурки. Теперь им не уйти. Бросился было бегом, но внезапно распахнувшаяся дверца кареты больно ударила его по плечу. Черт, еще кто-то нарывается на неприятности? Уж не та ли это карета, на которую он обратил внимание раньше, возле базарной площади? А если?
— Осторожнее, дорогой, сегодня ужасно скользко.
Боже, да ведь это… Нисколько не удивленная, пламенно улыбающаяся. Впрочем… сколь горячо это пламя, ему чересчур хорошо известно. Любезничать он не станет, не видит оснований. Эти стервецы сейчас убегут.
— Чего надо?
Катай ответила не сразу — возможно ошеломленная его грубостью. А может быть… Никогда не известно, почему она поступает так или иначе. Да ему и не интересно, надоело ломать голову, разгадывая сложную натуру этой шлюхи. Карликов уже не догнать. Минуточку… да это же она их подослала, велела таким странным образом заманить его в западню. Опять что-то замышляет. Зря теряет время, даже талера из него не вытянет.
— Залезай. Холодно.
Джакомо нагнулся, прислонил дубину к подножке кареты. Если она задумала очередную пакость, пусть знает, что он не безоружен. И не намерен исполнять ее желания. Хотя еще минуту назад как ошалелый гонялся за карликами — ради ее прихоти, оказывается. Нет уж, конец. Schlup. The end.
— Больно было? Очень?
Он почувствовал ее руки на голове, шляпа плавно опустилась на пол кареты. Ох! Длинные тонкие пальцы гладили его как никогда нежно. И дрожали — да, да, дрожали. Все-таки ее проняло. Совесть заговорила. Раз так, пожалуйста, он ей ответит. Покажет, что получил вместо ее ласк. Решительно сорвав парик, наклонил голову, чтобы она увидела темный шрам над ухом. Прошу. Достаточно? Поглядела и хватит.
— Боже!
Поразительно: в ее голосе непритворное сострадание. Что за перемена? Играет новую роль или действительно что-то случилось? Этот черный наряд, черная карета…
— Есть раны, которые болят сильнее, чем разбитый череп, — сказал Джакомо, натягивая парик и шляпу. Он почувствовал, что готов снова наделать глупостей, но эти пальчики, эти слезы в голосе… С хрустом расправил плечи. Пускай пальчики найдут себе другое занятие, а голос застрянет в глотке. Или пусть быстро выкладывает, что ей нужно. Ведь что-то наверняка нужно.
— Произошло недоразумение, Джакомо, поверь, роковое недоразумение…
Да уж: рок в образе большеногого чурбана. Нет, он не желает слушать этот вздор.
— Подожди.
Привстала, чтобы его удержать. Сейчас бы сорвать с нее эти меха и тяжелые ткани: в такой позе — подавшаяся вперед, смиренно склонившая голову и выпятившая задницу, — она вполне могла бы принять в себя соблазнителя. Или даже двоих.
— Я… Я хотела попросить тебя сохранить эту историю в тайне.
Кажется, он не ослышался… пожалуй, стоит задержаться.
— Для меня это очень важно. Прошу тебя, Джакомо.
— В монастырь собралась?
Она громко рассмеялась, уже уверенная, что своего добилась. Теперь надо было бы уйти, да мешало любопытство. Кого боится эта тигрица, готовая издеваться надо всем на свете? Один черт знает, кто еще пользуется ее прелестями.
— Мы останемся друзьями, верно?
Это только ничего не значащее вступление. Джакомо поставил ногу на подножку.
— То есть?
— Мне очень важно, чтобы ты не проговорился.
— Ты меня оскорбляешь.
А в душе расхохотался. Он бы с превеликим удовольствием раструбил об этом на всех углах, если б не боялся сам показаться смешным.
— И важно сохранить с тобой дружбу.
— Сколь важно?
Начался торг; оба это поняли. Катай не отводила взгляда.
— Я сделаю все, что ты захочешь, Джакомо.
Кровь ударила Казанове в голову. Ого! Что ж, тогда проверим, правду она говорит или надумала в очередной раз его провести. Все так все. Но — прямо сейчас, сию же минуту. Зачем откладывать жертвоприношение на алтарь дружбы? Алтарь, конечно, твердоват, но бывает и хуже. Да и у них обоих немалый опыт — только что не совместный. Пусть наконец эта шлюха и ему покажет, на что способна. Он не будет ломаться, облегчит ей задачу. Дружба так дружба. Оттолкнувшись от подножки, Казанова пулей влетел в полутьму кареты. Захлопнул дверцу — в конце концов, действительно холодно, тут она не соврала, — и, незаметно проверив, не затаился ли под диванчиком полк горбунов с палицами, с размаху по плечо засунул руку под платье. Дружба осла со змеей не может быть ни дешевой, ни банальной. О, братья-мстители! Его рука ощутила нечто влажное и теплое, жесткое и мягкое одновременно — нечто отнюдь не банальное. И уж никак не дешевое, в чем, впрочем, он имел возможность убедиться.
Она не противилась, но и не помогала. Ладно, пускай. И такое блюдо по-своему вкусно… только не терять головы! А насчет дружбы, дуреха, лучше бы помолчала. Она об этом понятия не имеет. Как и о многих других, по-настоящему тонких материях. Взять хотя бы ее духи — резкие, как дыхание ада или чад подгоревшей капусты. Провинциальная интриганка, гусыня, которую только на вертел насадить, ледышка, снежная баба с глазами-камушками и руками из прутиков. Зато главного из него слишком быстро не вытрясет. Пускай будет ледяная.
Однако, искусно изображая возбуждение, ураган страстей, подогреваемый злобой и жаждой мести, он по-настоящему распалился и вскоре убедился, что и она оттаивает. Засопела — тихо, потом громче; ноги, дивные ноги взметнулись, аж посыпались искры и предостерегающе зазвенели стекла в дверце. Однако большего ему не дано было добиться. Едва он уткнулся лицом в ложбинку между обнаженными грудями, а рука потянулась к ощутимо твердеющей печатке, готовой скрепить договор о том, что Катай именовала дружбой, как она крепко обхватила его голову и пробормотала что-то невнятное.
— Что?
— Все, что захочешь, Казанова. Но только один раз. Не жаль упускать случай? Приходи вечером, после спектакля.
Он еще мог сдержаться. Так, значит, она повернула. Продолжение комедии?
— А потом?
— Потом мы обо всем забудем.
В ее голосе не было иронии, но и желания исполнить обещанное не чувствовалось. Боится, явно боится за свою шкуру. Кто-то ей угрожает — кто-то, гораздо более могущественный, чем случайный любовник, которым он даже не успел стать. Кто? Уж наверно, не жалкое подобие короля, пародия на настоящего мужчину, гора мяса, неспособная жить собственной жизнью.
— Это еще почему?
— Потому что я тебя об этом попрошу.
А если она боится самого короля? Государю могут быть небезразличны похождения его двойника. А возможно, и собственной любовницы. Один черт и даже не черт, а сам сатана знает правду. Комедия ошибок, как у почтенного Гольдони[33]. Только для него, Джакомо Казановы, не нашлось подходящей роли. Шут с петлей на шее? Притом с петлей, которая с каждой минутой затягивается все туже. Нет, в этой пьесе нету таких ролей. Комедия ошибок. Минуточку… Боже, да это же блестящая идея, наилучший выход, путь к спасению. Как он раньше не сообразил. Чтобы избежать печальной участи шута или висельника, нужно разыграть комедию ошибок. О святой Разум, о великий Карло! Спасибо вам, мои спасители. Теперь ему ясно не только, что надо делать, но и как.
Холод кольнул в грудь, и Джакомо на мгновенье оцепенел, но тут же расправил плечи, привел себя в порядок, набросил на Катай шубу. Сейчас он снова салонный дамский угодник, лучший в мире любовник, король жизни, думающий только об удовольствиях. Слегка усмехнувшись, поглядел Катай прямо в лицо, увидел, как тревога в ее глазах сменяется удивлением, а затем и радостной готовностью, и проговорил быстро и почти весело:
— Хорошо. Но и я ставлю условие. На этот раз под кроватью будет он.
Прутиком, отломанным на ближайшем сквере, Джакомо соскреб грязь с башмаков и вернулся на главную улицу. Катай предлагала его подвезти, но он предпочел не рисковать. Хватит с него неслучайных случайностей. А уж эта последняя… Однако — вот потеха! — спасет его та, что хотела погубить. Это будет его местью, его триумфом. Возможно, через несколько дней все будет вспоминаться как кошмарный сон. Где? В Кракове, Гданьске, во Вроцлаве? От Кракова рукой подать до Вены, но в Вене его последнее время не слишком жаловали. Уж лучше Вроцлав, при дрезденском дворе есть друзья. А Гданьск? Морем можно добраться куда угодно. И до границы оттуда всего ближе. Надо это хорошенько обдумать. Еще немного времени у него есть. До вечера.
Теперь ему все нравилось: пестрая уличная толпа, зазывные крики торговцев, оживленное движение, гомон. Боже, эти люди не знают, что он вольная птица, бесплотный призрак: кажется, идет в толпе себе подобных, перепрыгивает, как другие, через лужи, огибает, как все, островки талого снега, а на самом деле далеко отсюда скачет на резвом коне, прижавшись к гриве, разбрызгивая ручейки, перепрыгивая через канавы и обветшалые изгороди, и ноздри щекочет резкий запах лошадиного пота, а грудь разрывает сатанинский хохот от радости, что все удалось, что он победил, что обставил всех, как последних глупцов.
Комок грязи шмякнулся прямо на колено, оставив мокрое пятно. Мимо бешеным галопом промчался какой-то офицер на каштановом жеребце, высоко задравшем хвост. Merde! Разбой среди бела дня. Чуть его не раздавил, негодяй. Набить мерзавцу морду! Или нет, мало! Вызвать на дуэль. Все равно мало! Швырнуть в корыто с грязью, пусть попробует на вкус. Он сам уже пробовал. Поплевав на платок, Джакомо стал оттирать пятно. Если и дальше так пойдет, он доберется туда, куда хочет добраться, в таком виде, что на глаза людям стыдно будет показаться. Проклятая грязь!
Растер в пальцах липкий комок. А что, если использовать эту никому не нужную материю, что-нибудь на ней заработать? Может, деньги, а может быть, славу… Да, да, конечно! Корыта с грязью. Недурная идея. Большие неглубокие корыта, наполненные вязким месивом. А в них, по колено в этом месиве, девки в одних рубашках. Или голые. Хотя нет — лучше в рубашках. Много корыт, много девок, и толпа вокруг. Высокородная знать и простолюдины. Зеваки с билетами в руках. Да, за такое зрелище придется платить. Но главное, что через минуту все оживет: девицы бросятся друг на дружку, начнут толкаться, швыряться липкой грязью. То и дело какая-нибудь, соблазнительно облепленная мокрой тканью, с визгом плюхается на дно корыта, пытается встать, но тщетно, и тогда хватает за ноги другую, и они вместе падают в грязь. Вот тут-то и начнется потеха, тут только откроется подлинный смысл этого зрелища. Выпяченные зады, свободно болтающиеся сиськи, раскоряченные ноги распалят и чернь, и завсегдатаев светских салонов. Никакая нагота не возбудит сильнее, чем плоть, заляпанная грязью. У каждого ротозея солдатик встанет по стойке «смирно». А он будет только собирать мзду с этих остолопов да следить, чтобы девки были в теле.
Значит, для начала Вроцлав. Во Вроцлаве такое наверняка понравится. А потом Дрезден. Хоть бы пришлось ждать до лета. Там. Потому что здесь он не намерен ждать даже до утра.
Возле лавки Майнля Казанова увидел уже спокойно стоящую каштановую лошадь, а затем и спину офицерика, который недавно, как безумный, проскакал мимо него. Злость успела остыть; в конце концов, благодаря этому офицеру ему пришла в голову, быть может, золотоносная идея. Бог с ним. Нельзя на такие пустяки тратить время. Но подумал Джакомо одно, а сделал совсем другое. Движимый неодолимой ненавистью человека, бредущего по грязи, к другому, проносящемуся мимо на лихом скакуне, человека в путах к свободному человеку, он двинулся вперед, готовый учинить скандал.
Замедлил шаг и перестал теребить рукоятку шпаги Казанова, лишь когда узнал в обидчике Котушко. Этот еще что здесь делает? Кого-то подкарауливает, горит желанием ослепить всех и каждого манерами, которым у него обучился? Вот уж кого ему меньше всего хотелось встретить. Джакомо попятился, но поздно: он был замечен. И не Котушко, так далеко высунувшимся из-за угла, что, казалось, вот-вот нырнет носом в землю, а выходящей из лавки Лили. Боже, что за явление! Само очарование, красота, юность, восхищающая до боли. Дитя, барышня, женщина в одном хрупком теле. Слава Создателю за такой шедевр! Джакомо машинально выпрямился, пригладил парик. Лили помахала ему рукой и улыбнулась столь лучезарно, что он бы не сумел произнести ни слова, если б как раз собирался заговорить. Эта прелестная девочка в него влюблена. Видно невооруженным глазом. Он не в первый раз ловит на себе такие взгляды. И надо надеяться, не в последний. Но невооруженным глазом Джакомо заметил еще кое-что, от чего и впрямь на минуту онемел.
Котушко только шагнул вперед, и происходящее приобрело совсем иной смысл. Один его шаг стоил целой сотни; в нем было все: едва сдерживаемое напряжение, далекая от подобострастия готовность услужить и надежда — надежда, докрасна раскаленная улыбкой и поднятой рукой Лили. Небось покраснел до корней волос. Влюбленный глупец. Конечно, решил, будто взгляд Лили предназначен ему. За эту улыбку сметет все на своем пути, всех прохожих на свете обляпает грязью за право нести несколько свертков, которые девочка держала в другой руке. Однако не это поразило Казанову. Мир полон таких Котушко, а вот сияние, озарившее лицо Лили, радостное удивление, промелькнувшее в глазах, безудержное желание испробовать все и за любую цену… о, такое не на каждом шагу увидишь. Впрочем, где-то он подобное видел. Где? Бог мой — в зеркале! Не себя ли он узнает в этом взгляде, не свой ли излом губ и взмах ресниц? Господи Иисусе, у него с этим ангелом больше общего, чем казалось. Что бы ни говорила Бинетти.
— Почему вы перестали заходить к нам в театр?
Вы, вы — как нелепо это звучит. А отец?.. Вот уж поистине дурацкое слово. Перестал заходить в театр… Да я же затравленный пес, остолоп с проломленным черепом, раб, которому надоело прикидываться, будто ему все нипочем, нищий, доченька, Опомнился, ответил на поклон смущенного Котушко.
— Дела при дворе не позволяют…
Да, обивать пороги, стучаться в закрытые двери, подъедать остатки с барского стола — это и впрямь занимает массу времени. Лили преданно смотрела ему в глаза. Джакомо отвел взгляд. Еще, не дай Бог, прочтет его мысли. Какое очарование, какое безыскусное кокетство! И этот чурбан с пылающими ушами рядом. Не для тебя она, малыш. Но и не для меня.
— Тетушка…
— Ах, тетушка!
— Тетушка, по-моему, за это на вас сердита.
Возможно, это предостережение, пусть даже нечаянное.
Надо быть осмотрительнее, перестать пялиться на Лили с отцовской нежностью и любопытством влюбленного одновременно, тем более — тем более! — что ни на одну из этих ролей он пока не имеет права. Лучше бы глядел по сторонам, следил, кто входит и выходит из магазина Майнля, а не прикидывал, на сколько надо поднять Котушко плату за уроки в отместку за дурацкое выражение лица и еще более дурацкие надежды. И действительное: не успев опомниться, за все заплатил сам.
Это была не тетушка, не матушка, даже не та Бинетти, которую он знал тыщу лет и — как ему казалось — узнал достаточно хорошо. Это была фурия, закутанная во множество нарядных шалей и пелерин, пушечное ядро, перед взрывом рассыпающее искры, яд, кипящий в хрустальной колбе. Что случилось? Ну, может, он и вправду в последнее время не баловал ее вниманием, но разве она не знает, сколько у него забот? Обозлилась, что он стоит с Лили? А где написано, что это запрещено? Сама небось идет с Томатисом, идиотом директором, посмевшим отвергнуть его, КА-ЗА-НО-ВЫ, пьесу? Джакомо непринужденно улыбнулся: незачем им знать, что он с ними прощается. Но расставание прошло не так, как бы ему хотелось. Из-под шалей и пелерин высунулась не по-женски крупная, сильная рука и с размаху ударила его по лицу, погасив широкую прощальную улыбку.
— Паяц.
Джакомо, никак не ожидавший такой реакции, пошатнулся и ухватился за Томатиса. Пусть только попробует усмехнуться — убьет мерзавца на месте. Однако нет. Директор театра казался по меньшей мере удивленным, если не испуганным. А Бинетти повернулась на каблуках, втянула под ворох бесчисленных пелерин Лили и опрометью кинулась к коляске. Котушко за ними. Теперь оставалось только избавиться от Томатиса и бежать на Вислу топиться. Лучше это, чем безумие. А безумие, кажется, именно так начинается. Человек перестает соображать.
— Вы уж простите нашу примадонну.
Томатис отстранил Казанову и направился было к коляске, но пробормотал, приостановившись:
— Ее бросил Браницкий. Ради этой… Катай… понимаете?
Джакомо сумел только хрипло выдавить:
— Что?
— Да, да, ради Катай. Не знали?
Теперь оставалось злиться только на себя.
— Нет.
— Ее тоже советую остерегаться. Отныне она выступает в роли девственницы, а граф — ее рыцаря. Недурная девственница из недурного борделя, нам об этом кое-что известно, а, господин Казанова?
Еще минуту назад Томатис за это фамильярное «а, господин Казанова?» схлопотал бы по роже. Но сейчас… Пусть несет что хочет, лишь бы поскорей убирался. Лишь бы оставил его наедине с собой. С собой. То есть ни с кем. Конечно, теперь многое, если не все, стало ясно: он знает, кого и чего боится Катай, может понять ярость Бинетти и даже причины, по которым этот хам с бритым затылком предпочел ей другую, но что толку? Боже правый, почему именно на него сыплются все шишки? По какому такому закону? Где справедливость?
Джакомо осторожно ощупал нос. Следующего, кто захочет его ударить, он убьет!
Собаки были тощие, облезлые, грязные. Хотя бы эта кудлатая дворняга. Только настороженно поднятые уши свидетельствовали, что в ней умерли еще не все инстинкты. Пес дрожал от страха, но желание схватить валяющийся у подножия дворцовой лестницы кусок конины пересилило, и он медленно двинулся вперед, неслышно ступая и шевеля ушами. Однако быстро забыл об осторожности: запах мяса заставил несчастного припустить бегом. Когда же он достиг середины усыпанной гравием аллеи и неподалеку от окровавленной лошадиной кости, за фонтаном, увидел, тоже окровавленные, тела своих предшественников, отступать было поздно. Громыхнул выстрел, пес закрутился волчком, взметая фонтанчики гравия, упал, попытался встать, но лапы беспомощно разъехались, голова поникла и тело замерло — беззвучно и навеки.
— Хороший выстрел. Не так просто попасть в движущуюся мишень. Хотите попробовать?
— О нет, благодарю. Я не слишком хорошо владею огнестрельным оружием.
Посол Репнин отдал ружье слуге, взял другое, заряженное.
— Вот и поупражнялись бы, воспользовались случаем. Правда, не хотите?
Издевается, подумал Казанова, ведь прекрасно понимает, в каком он состоянии. Отказался, чувствуя сухость в горле и отчаяние в душе. Точно этот несчастный пес, сам полез в смертельную западню. Только неизвестно, с какой стороны грянет выстрел. Репнин опустил ружье дулом вниз. Перегнулся через перила террасы: парадный мундир чуть не лопнул на тучном теле. Внизу началось какое-то движение. Посмотрел и Джакомо. Плечистый солдат в серой шинели подбирал собачьи трупы, точно драгоценную добычу, высоко поднимая каждый, чтобы и другие могли полюбоваться.
— Любопытная штука. Когда лежат хотя бы двое, третьего ни за что не подманишь, пока не уберут падаль. А на одного они и внимания не обращают. Странно, да? Один не в счет.
Ответа посол явно не ждал: казалось, он уже не замечал Казановы. Сбросил шубу, которую перед тем накинул на него слуга, широко раздвинул локти, словно подтверждая — важно и угрожающе — свое право собственности на все, что их окружало, взмахнул свободной рукой и замер в ожидании. За оградой сада бешено лаяли собаки.
Один не в счет? Это мы еще посмотрим. Понадобится вытаскивать шута из-под кровати или сам вылезет, если Катай его уговорит позабавиться вместе с ними? Не важно. Все равно придется его оглушить и связать. А между делом можно будет взглянуть в монаршьи очи, убедиться, что они затягиваются пеленой беспамятства. И на ее искаженное страстью личико посмотреть и всадить в ротик кляп, какой ей вряд ли когда-либо доводилось пробовать: грязную половую тряпку. Только хватит ли сил поднять этого верзилу? Джакомо напряг мышцы, будто проверяя, справится ли. Должен справиться. Другого выхода нет.
Лай внезапно умолк; в конце аллеи стоял очередной пес. Уже не такое собачье отребье, как предыдущий. Бдительно вытянутая вперед треугольная голова охотника, а не жертвы; хвост опущен, но не от страха — собака полна решимости. Могучий, видно, когда-то был кобель, да и сейчас огромные лапы и широкая грудная клетка внушали уважение. Посол от восхищения зацокал языком.
— Ну, быстрее. Давай!
Казанова отвернулся. Бессмысленная жестокость этой забавы сбила его с толку. Как с таким монстром завести разговор?! Может, лучше отказаться от своей затеи, пальнуть для вида куда попало и под любым предлогом распрощаться? Только разве сейчас придумаешь благовидный предлог? Да и второй такой случай вряд ли представится. Завтра, даст Бог, он будет далеко отсюда. По дороге подбросит в условленной место оглушенного и связанного болвана, шута, прикидывающегося Станиславом Августом, лжекороля с огромными ножищами, которые столь бесцеремонно по нему прошлись. Они, конечно, не сразу сообразят, что в руках у них синица, а не журавль. Прежде чем разберутся, он, Казанова, будет уже возле прусской границы. Надо только добыть хорошую лошадь. А первым делом коляску, но за этим дело не станет.
— Давай!
Плечистый солдат раскидал жердью кровавые ошметки. Пес двинулся вперед, но не помчался, как оголодавший безумец, кратчайшим путем к цели. Чуя опасность, ставил лапы на землю осторожно, точно ступал по тончайшему шелку, а когда уже, казалось, прямиком устремился к своей погибели, под пулю мясника в генеральском мундире, внезапно повернул и нырнул в обрамляющий аллейку густой кустарник. Бурая спина с минуту мелькала среди веток, потом исчезла, потом снова появилась, уже дальше. Репнин выругался, перегнулся через балюстраду. Достаточно было меткого пинка в могучую задницу, и на свете стало бы одним негодяем меньше. Наверняка зад бы перевесил, и посол врезался лбом в мраморные ступени. Но нет. Чтобы спастись, нужно вести себя, как этот пес: умно, хитро, изворотливо.
Итак, не по тракту, а кустами, полями, лесом. Вперед, вбок, назад. Мелькать то там, то сям. Кружить, петлять, заметать следы. То мчаться опрометью, то затаиться в каком-нибудь укромном месте. И не во Вроцлав держать путь, нет. В Гданьск. Пускай сколько влезет размахивают своими пугачами, обшаривают взглядом кусты, сыплют проклятиями и перегибаются через балюстраду. Как только он отсюда вырвется, ищи, ветра в поле.
Пес, преследуемый криками невидимой с террасы прислуги, снова выглянул из кустов. Он уже приблизился к цели, но чтобы ее достичь, чтобы вцепиться в кровавую сладостную добычу, оставалось преодолеть еще с дюжину метров открытого пространства — покрытую гравием площадку, на которую его предшественник выехал на развороченном брюхе. Произошло чудо, а может, это был заученный маневр: пес отскочил назад, но тотчас резко повернул обратно и зигзагами, прыгая из стороны в сторону, помчался вперед.
Ехать он будет только ночью. Днем отоспится в укрытии. Собьет с толку погоню. Лучше жить, как сова, чем вовсе не жить. Любая нора предпочтительнее, чем открытая местность.
Пес припал к земле одновременно со вспышкой, пуля пролетела над ним, сшибая ветки, и исчезла в кустах на противоположной стороне аллеи. И тут боец показал, на что он способен. Сильно оттолкнулся, разбрасывая гравий, и огромными скачками устремился вперед. Он уже не петлял, не прижимался к земле, спасаясь от пули. Казалось, понимал, что второго выстрела не будет, пока он не схватит добычу. А может быть, знал, сколько времени уйдет на перезарядку ружья, может, его приучали охотиться и он инстинктивно чуял, сколько продлится перерыв после промаха. И потому свободно, смело мчался к цели, движимый силой всех своих мышц и желанием выжить, почти летел, едва касаясь земли.
Пресвятая Дева! Вот так вестись, так взвиваться в воздух! Быть дворовым псом, жеребцом, самой ничтожной птицей! Ни минуты больше здесь не оставаться!
Еще пятнадцать метров, еще десять… Посол протянул руку за вторым ружьем. Прицелился, и через мгновение пес на всем бегу с воем уткнулся мордой в землю. Кровавая свинья, живодер. Казанова отступил назад, чтобы не видеть, что станут делать с изувеченными останками. От волнения и омерзения он весь взмок. Смерть. Так выглядит смерть. Знает ли хоть этот палач, что он не собаку убил, а жизнь, истинный Божий дар, подлинную красоту, чудо природы. Варвар, скотина!
Граф Репнин обернулся, словно услышав эти беззвучные оскорбления. Насмешливо посмотрел на Казанову:
— Представляю, что вы сейчас думаете. Азиат, варвар, граф-кровопийца. Ну, ну, не отрицайте. Репертуар знакомый. Я знаю, что обо мне говорят. Хотя бы в этом можно верить фискалам. Полячишки — сентиментальный народ, но ничуть не менее жестокий, чем любой другой. Нам они ничего не прощают.
Соберись с духом, махни пренебрежительно рукой, сотри с лица нормальные человеческие чувства — пусть останутся только равнодушие и язвительность. Сейчас все решится. Ты поймешь, что тебе суждено: жизнь или смерть.
— Знаете, их предыдущий король, саксонский дуболом, презиравший свой народ куда больше, чем мы, целыми днями так развлекался. Даже во двор выходить ему было лень: сидел в кресле и из окна щелкал этих скотин. Поляки считают его великим правителем, хотя он, по сути, ничем больше не занимался. Но не был русским: здесь это само по себе достоинство.
Теперь граф казался почти добродушным, только насмешливый взгляд заставлял держаться начеку. И наново заряженное ружье в руке. Неужели еще не надоело?
— Я, по крайней мере, даю им шанс. Все равно бы подохли с голоду под забором. А тут — если победят, если отличатся — получат в награду приличную кость и жизнь в придачу. Скажем, — Репнин опять небрежно махнул прислуге рукой, — до следующего раза.
Значит, не надоело. Эта свинья в генеральском мундире откровенно над ним издевается: отлично ведь знает, что он, Казанова, сам мечется между костью и ружейным дулом. Как эти несчастные псины. До следующего раза… Не будет следующего раза. Он не бросится за кровавым куском, нырнет в кусты, только его и видели. А на прощание отколет такой номер, что его надолго запомнят. Так отличится, что они подавятся этой своей костью.
— Вы француз?
— Нет, венецианец.
Прекрасно знает, кто он, но приятно лишний раз подчеркнуть, что Джакомо Казанова — никто. Бесхозная дворняга!
— Венеция — маленький, но богатый и гордый край.
Он рискует. Заговорил без разрешения. Поддался эмоциям. Ошибка. Генеральский глаз сверкнул не так добродушно, как минуту назад.
— Вы, южане, тоже сентиментальный народ. Еще почище здешнего.
Может, и ошибка. Но что делать? Позволить безнаказанно себя оскорблять? Это же проверка. Он должен проявить твердость, если хочет остаться в живых. Да и лучше молоть языком, чем блевать от омерзения. Нельзя дольше медлить. Он скажет то, что собирался сказать, желает того граф или не желает. Ведь для них это гораздо важнее, чем для него. Ведь…
— Ваше сиятельство, я бы хотел…
Быстрое раздраженное движение генеральского пальца на мгновение его обескуражило. Ну ладно. Он попросит Всевышнего ниспослать ему красноречие и спокойствие, закроет глаза, не станет больше смотреть на это паскудство. Пусть сиятельный убийца развлекается в одиночку. Однако не закрыл глаз, наоборот, от изумления раскрыл еще шире. Ему не привиделось. Там, внизу, из калитки в воротах выскочил на смертоносную аллейку черно-белый пес, его пестрый друг, увязавшийся за ним на пути в Варшаву. Пропал он совсем недавно, еще не отощал и хвостом вилял, как всегда, весело и привет-либо. Как молить о спокойствии, глядя на эту, невесть почему довольную, лукавую морду? Ну же! У него не так много времени. Надо еще собраться, переодеться в дорогу, нанять коляску, испробовать на Василе сокрушительный удар в ухо. Это сейчас главное. Нельзя мешкать. Пусть даже он рискует навлечь на себя гнев его сиятельства — очень скоро от гнева не останется и следа. Вот о чем нужно думать, а вовсе не об этом виляющем хвостом дурне. Джакомо набрал воздуху в легкие, словно собираясь нырнуть.
— Я готов выполнить задание, ваше сиятельство.
Посол медленно повернулся, смерил его злобным взглядом.
— Какое задание? Вы о чём? И вообще, кто вам разрешил говорить?
— Прошу прощения, но дело чрезвычайной важности и не терпит отлагательств.
Граф, точно губка, разбухал от ярости. Приблизился, не выпуская ружья.
— Какое дело?
Сейчас. Даже если эти слова обожгут горло.
— Сегодня вечером я собираюсь похитить короля. Не знаю только, куда его доставить.
— Какого короля?
Глаза графа полезли на лоб, лицо налилось кровью и, казалось, вот-вот лопнет.
— Ну… польского. Станислава Августа.
Пестрый побежал. Погоди, идиот. Палач еще не отложил ружья, хотя пока целится в брюхо твоего хозяина, а не в твое. А, пускай целится в кого угодно, преимущество уже на его, Казановы, стороне. В иной ситуации он бы сейчас развалился в кресле, закинув ногу на ногу, может, даже отправил в рот горсть изюма или фиг и спокойно дожидался ответа на свое предложение. Бог мой, такое ведь не каждый день предлагают. Это же истинное чудо, лакомый кусочек для мастеров провокаций и интриг, зрелый плод, который сам просится в руки. А кого он в действительности намерен подсунуть вместо короля, уже совсем другая песня. Мало ли чудес основано на обмане, мало ли плодов с червоточинкой. Но сесть было некуда, и Казанова лишь непринужденно облокотился на балюстраду. Рюмочка коньяку тоже б не помешала. Лучше бы, чванливая свинья, приказал подать что-нибудь горячительное, вместо того чтобы тупо на него пялиться.
— Кто вас сюда прислал?
Холод, повеявший от этих слов, пока еще не испугал Джакомо. Не понимает, жирный дурак, про что ему говорят. Он собирается доставить им польского короля, их врага, строптивого Телка, которого пора поучить уму-разуму. Это ему крепко вбили в голову в петербургских застенках, он еще ничего не забыл. Кто прислал. Что ж, он скажет. Ничто так не украшает лжи, как капелька правды. Только не сразу. Стоит, пожалуй, набить себе цену. Да и Пестрому перепадет несколько лишних метров жизни.
— Я, видите ли… связан клятвой.
— Фамилия?
Кажется, кто-то из них зарапортовался, неправильно оценил ситуацию. И, чем сильней упиралось в кадык дуло ружья, тем острее сверлила душу… нет, не боль — страшная догадка, что просчитался он.
— Полковник Астафьев…
Чего еще ему надо, пусть уберет свою железную игрушку, как бы не выстрелила ненароком. Ну и разит у этого борова изо рта. Все можно выдержать, только не это.
— Шуты. Петербургские шуты.
То был рык разъяренного зверя, а не ответ дипломата. Хотя Репнин отступил назад и железо больше не давило на горло, Казанову охватил панический ужас. Этот бочонок тухлого сала всадит ему пулю в лоб? Но если не всадит, завтра выяснится, кто шут, а кто нет. Пусть только сообразят, что он приволок королевского двойника, что у них в руках Телок номер два, его величество Никто. Вся Европа покатится со смеху… уж он тому поспособствует. Но… вдруг и этот побагровевший от злости боров — жалкая имитация, а не настоящий посол ее императорского величества, его сиятельство граф Репнин? В чем дело? Он что, оглох? Не понимает, о чем речь? Стрелять, похоже, не собирается. Ударит по физиономии? Черт!
Тогда придется его убить. Он ведь дал себе клятву. Боже, будь милостив. Так, значит, выглядит их благодарность? Нет, что все-таки происходит? Он ошибся адресом?
— Тьфу, тошнит от этих болванов.
Посол скорее вздохнул, чем сплюнул. Крикнул что-то по-русски слуге и опустил ружье. Теперь проще простого было бы вырвать его у графа, раскроить прикладом череп или одним выстрелом продырявить жирную тушу. А потом… нет, ничего не выйдет. Казанова незаметно огляделся. Н-да, живым отсюда, пожалуй, не выбраться. Нет, нельзя рисковать. А что с Пестрым? Кошмар! Вот идиот: неторопливо, виляя хвостом, приближается к окровавленной награде. Кто же здесь угодил в западню? Глупый пес или он? Его схватят, посадят за решетку, а то и отправят в. Сибирь. Нет, такого ему не выдержать, пусть лучше сразу пристрелят. Но без борьбы он не сдастся.
Джакомо уже рассчитывал силу прыжка, уже ощущал в руке холодок ствола, раздающегося вширь и превращающегося в грозную палицу, когда Репнин вдруг повернулся к нему спиной и бросил ружье слуге. Все снова вернулось на свои места. Ага, его сиятельство решил, что довольно валять дурака, и сейчас перейдет к делу. Видимо, каждого так проверяют. Но у него нет ни охоты, ни времени заниматься чепухой. Он может передумать, и тогда — пишите пропало, господа. Поищите себе кого-нибудь другого. Merde, только бы этот большеногий болван не развопился, когда он будет вытаскивать его из-под кровати. А Катай? Может, отодрать ее прежде, чем заняться любовничком? Жаль было бы упустить случай. Причитается же ему награда за труды. Но время — лютый враг всякого удовольствия. Впрочем, для успокоения нервов… на скорую руку, за три минуты. Да, да, конечно.
Приободрившись, Казанова выпрямился, поправил парик. Поглядим, умеет ли этот надутый чурбан улыбаться. Сейчас лишь улыбкой можно загладить промах. Браво, Пестрый! Не только останется цел и невредим, но еще и брюхо набьет. А он? Через несколько дней в Гданьске закатит пир, напоит всех, кто ни подвернется, и напьется сам.
Если то была улыбка, она ничем не отличалась от волчьего оскала. Посол, крепко упершись в пол террасы ногами, ждал, пока денщик застегнет на нем шубу, и даже не повернул головы.
— Астафьев не Астафьев. Тот, кто вас сюда прислал, пальцем сделан, если не выразиться сильнее.
Желудок подскочил к горлу: неужто все пропало?
— Что эти свиные рыла воображают? Думают, Репнин — кто? Слабак, которого надо учить, как шворить шлюх? Это ведь, кажется, ваша специальность…
Бульдог, чистый бульдог, вон и пена в уголках рта. Джакомо, даже если б захотел что-нибудь сказать, не смог бы, а если бы смог — не нашел подходящих слов.
— Пустые хлопоты. А что и как делать в Польше, я знаю сам. Не нуждаюсь в их говенных подсказках. Если Репнин пожелает кого-нибудь здесь умыкнуть — короля, ксендза или другого шута, — он и один управится. Так им и передайте, этим своим умникам. Мне никто и ничто не указ. А таких помощничков, как вы, пускай женам своим нанимают.
И все-таки тем не менее что-нибудь, какие-нибудь слова, последняя попытка, страх.
— И все же, мне кажется, случай…
Его не удостоили ни взглядом, ни жестом; только еще больше побагровел жирный загривок.
— Убирайся, пока я добрый.
— Я…
— Вон!
Вот и все рухнуло. Напрягая последние силы, Джакомо сдерживал шаг; напрягая слабеющий разум, выбирал путь: залы, коридоры, раскосые слуги, двери. Перевел дух только на лестнице посольства. Спрятавшись за мраморную колонну, жадно, как после быстрого бега, хватал ртом воздух. Медленно осознавал размеры катастрофы. Номер не удался. Счастье ему изменило. Тысяча чертей, он проиграл! Легко они его из рук не выпустят. Но кто они? Теперь и это уже трудно понять.
Все расплывчато, неясно, полно загадок. Этот толстяк высмеял полковника Астафьева. Кто же из них важнее? И что им на самом деле от него нужно? Прижался пылающим лбом к холодному мрамору. Вот же невезенье… Надо идти. И вдруг увидел Пестрого, который, как всегда довольный собой, с кровавым куском мяса в зубах трусил к спасительной калитке в ограде. Хоть этому повезло! Но не в последний ли раз? Неужто, черт побери, на свете нет ничего, кроме подлости, жестокости и несправедливости?
Размышления Казановы прервали какие-то крики. Погоня? Нащупав рукоятку шпаги, машинально взятой в дверях у ординарца, Джакомо осторожно выглянул из-за колонны. На лестнице дрались. Мужчина в лисьей шубе до пят пытался схватить за шиворот двух неказистых фертиков в облезлых волчьих шубейках. Стычка была жаркой, но непродолжительной. Лис вцепился волкам в загривки, притянул к себе.
— Я вам покажу, мерзавцы. Отобью охоту строчить доносы.
По ступеням покатились бесформенные мохнатые шапки, сверкнули бритые черепа, не по своей воле летящие навстречу друг другу, чтобы с размаху столкнуться. Глухой удар, пронзительный визг. Лису этого показалось мало, он стал ногой трепать волчьи шубы; их обладатели, схватившись за головы, неуклюже пустились наутек.
— Предатели!
Победитель демонстративно отряхнул руки и погрозил вслед беглецам кулаком. В этой позе, с воздетой вверх рукой, в развевающихся лисьих шкурах, он был очень красив. Красив и благороден. Укол зависти не улучшил Казанове настроения. Полубог, отделавший у входа в российское посольство доносчиков, мог и с ним так обойтись. Вот было бы шуму — на весь город. А позору — на всю Европу. Нет, он все-таки спятил, иначе бы не рискнул явиться сюда среди бела дня.
Когда врагов и след простыл, мужчина в лисьей шубе повернулся и с довольным видом направился к дверям посольства. Только теперь Казанова сумел его разглядеть, и кровь ударила в виски. Это лицо — красивое и жестокое, эти усищи, свисающие по краям подбородка… Браницкий, граф Браницкий, неверный любовник Бинетти и его удачливый соперник, добившийся благосклонности Катай. Кошмар! По лестнице поднимался благородный красавец, которого он должен ненавидеть.
Такое выдержать было свыше человеческих сил. Потеряв голову от ярости и унижения, Джакомо бросился бежать, сам не зная, да и не желая знать куда.
Опомнился Казанова возле какой-то темной ограды. От холода и волнения его трясло. Башмаки промокли насквозь. Того и гляди, пропитавшиеся грязью подошвы отвалятся и придется шагать босиком. Куда? Куда угодно, лишь бы подальше от этой мрачной стены. Где он? Видимо, недалеко от посольства. Улица резко сворачивала вниз. К реке, подумал Джакомо, к реке, которая его спасет. Но далеко не ушел.
Ворота были приоткрыты, будка привратника пуста. В глубине двора виднелись какие-то убогие строения, вкривь и вкось прилепившиеся друг к другу сарайчики с решетками. Джакомо не успел даже задуматься, что бы это могло быть, как на него обрушился каскад звуков: вой, лай, почти человеческие рыдания, и он сразу понял, куда попал. Это была тюрьма, собачья тюрьма, состоящая исключительно из камер смертников, ждущих, когда с ними пожелает расправиться жирный палач в генеральском мундире.
Протискиваясь в узкую щель между створками ворот, Казанова сам не знал, зачем он это делает, но, когда в оглушительном хоре собачьих голосов различил, как ему почудилось, исполненный надежды лай Пестрого, отбросил колебания. Это будет местью его гонителям, а может, даже искуплением грехов, которыми эти скоты заставили его обременить совесть, всякий же добрый поступок заслуживает награды — быстроногого жеребца, дружеской поддержки, удачи на границе. Ведь Бог видит все, не только его грехи и падения.
Собаки, почуяв близость спасения, совсем обезумели, а его застывшие от холода руки никак не могли справиться с железным засовом. Проклятый холодище. Ничего у него не выйдет. Придется еще раз обмануть чьи-то ожидания. Где Пестрый, не может, что ли, протиснуться вперед? У самой решетки, ощерив зубы, метался огромный волкодав. Он еще не ослабел от голода, в нем еще не убили инстинкта борьбы. Надо что-то придумать. Будь под рукой тяжелый предмет… Господи, он не выдержит взгляда этого волкодава? Ударил рукояткой шпаги раз, другой. Засов как будто поддался, но самую малость — дверца не открылась. Собаки на мгновенье притихли, а когда опять подняли лай, в нем послышалась какая-то новая, угрожающая нота. Джакомо обернулся: у ворот все спокойно. Никого. Ударил еще раз. Собаки, не переставая лаять, попятились. Даже волкодав отступил от решетки, замер в глубине, ощетинившись и обнажив клыки. Испугались шпаги?
Опасность Казанова скорее ощутил, чем услышал. Заученным движением уклонился влево, но удар последовал именно с этой стороны. Если бы не острие шпаги, по которому скользнул штык, ему был бы конец. Но не успел он обрадоваться, как на него навалилась громадная туша в провонявшей махоркой шинели. Собаки взвыли, но и ему уже хотелось выть. Как они смеют! Он не позволит! Напрягая все силы, попытался перевернуться, вцепиться в нападающего, удержать — второй раз тот не промахнется, это было ясно. Лица человека в шинели Джакомо не видел, только чувствовал цепкие пальцы на шее и тяжесть могучего тела. Конец шпаг застрял между прутьями решетки. Джакомо выбросил назад свободную руку, схватил что-то, стиснул: шапка. Еще раз… волосы; теперь если этот негодяй уйдет, то лишь оставив у него в руке окровавленный скальп. Однако противник припирал его к решетке, норовя одновременно повернуть ружье. Решил, что штык ему больше не понадобится. Ударит прикладом, чтобы превратить его голову в бесформенное месиво. Почему? За что? Какой кровожадный дьявол на него напал? Господи, да ведь не задумавшись бросит его на съедение псам? Тем самым псам, которых он… четвероногим братьям, товарищам по страданиям и несчастьям. Разве его не преследуют, как их, не держат в клетке, не приговорили к смерти общие враги? И разве у него нет зубов и когтей?
Из горла Казановы вырвалось яростное рычание. Клацнув челюстями, он принялся кусать, кромсать, рвать зубами рукав шинели. Давился клочьями ворсистого сукна и собственной слюной, задыхался от вони, но не сдавался, добрался до мышц, до крови, до боли. Еще немного, и он оторвет эту руку, мешающую ему дышать, раздерет ногтями рожу…
Не успел: приклад с размаху опустился на засов — мерзавцу удалось повернуть ружье. Второй удар пришелся на застрявшую между железными прутьями шпагу: сухо щелкнув, она сломалась у самой рукоятки. Он меня убьет, братья, расколет череп прикладом, этот варвар не уймется, пока мозги не брызнут на землю, и ни ваши клыки и когти, ни возносящийся к небесам вой не помогут. Черная пелена уже застилала взор, когда Казанова в пароксизме гнева и ужаса извернулся и вскочил. Ну нет, он не желает подыхать, как последняя дворняга, ему кое-что в жизни осталось сделать. Он еще посчитается со всей этой бандой, еще…
Вырвал обломок шпаги и, прежде чем удар прикладом его оглушил, ткнул этим огрызком назад — раз, другой, третий. В загривок Куца, в глотку Астафьева, в жирную харю Репнина. Так, так, так. Свора с воем кинулась на решетку, запор не выдержал, и клубок разъяренных псов выкатился из клетки. Джакомо еще успел увидеть, как огромный волкодав летит прямо на них, и в глазах у него потемнело.
Что происходит? Что-то теплое коснулось руки. Он спал? Кто смеет его будить? Пошевелившись, Джакомо чуть не упал. Боже, он стоит, вцепившись в железную решетку. Почему? Где? Влажное тепло на судорожно сжатых пальцах… Пестрый, Пестрый нашелся. Боже правый! Казанова обернулся, и движение резкой болью отдалось в затылке.
Сознание вернулось мгновенно. Несколько остервеневших от ярости и голода собак, рыча и приседая на задние лапы, рвали окровавленный труп в серой шинели. С дюжину других, жадно принюхиваясь, ждали своей очереди.
Это не был сон. И еще не безумие. Джакомо нагнулся, хотя в голове пульсировал огненный шар, поднял камень, бросил в собак. Они разбежались — еще не забыли, что такое страх. Пестрый нетерпеливо заворчал. Что ж, он, Джакомо Казанова, спас свою жизнь. Убил человека. Его пес прав. Надо уносить ноги, сюда в любой момент могут нагрянуть люди.
— Кто здесь?
Джакомо замер с полупустым еще мешочком в руке. Пришли за ним? Нет — легкий шорох, едва слышный шепот; кто-то, придерживаясь за стену, осторожно спускался по лестнице. Не так приходят арестовывать преступников. Минуту спустя все стало ясно. И без слабого огонька свечи Джакомо узнал бы Этель и Сару. Что их сюда принесло? Случайно заглянули или заметили, что в погребе кто-то есть?
Девочки подошли, присели рядом на корточки — серьезные, сосредоточенные, шепча что-то, возможно молитву, на незнакомом языке. Джакомо пальцем придавил фитилек: сейчас, когда его жизнь висит на волоске, лучше не искушать судьбу. Тот труп ему не привиделся. Убийцу наверняка разыскивают. Лишь в темноте у него с преследователями будут равные шансы. Свеча погасла, но пламенно-рыжие кудри сестричек, на мгновенье почудилось, с успехом ее заменили. Девочки прижались к Джакомо, тихонько зашмыгали носами. Темнота сгустилась до боли в глазах. Боже, как они догадались? Он собрался бежать, бросает их, но… другого выхода нет. Разве что голову в петлю…
Картофелина расползлась в руке. Черт, начинает гнить. Давно надо было прислать сюда Василя с песком и соломой. А, пропади она пропадом, эта картошка! Сколько сможет, он возьмет, остальное пускай гниет. Что эти малышки делают? Руку ему вытирают? Зря стараются. Он уже не их элегантный господин. Беглец в грязных лохмотьях, войлочных сапогах и мешковатых портках Василя — по таким только и размазывать картофельную мезгу. Но неугомонные пальчики крепко обхватили кулак, терпеливо разжимали пальцы. Это что — магическое заклятье? Кто, как не евреи, в этом деле большие мастера?
Только почувствовав в руке два твердых, согретых теплом маленьких ладошек кружка, Джакомо понял, что он просто недогадливый глупец. Девочки отдавали дукаты, подаренные им сегодня утром. И еще что-то, какую-то бумажку, должно быть, письмо… они написали ему письмо. Не много ли эти пигалицы о себе возомнили? Письмо, конечно, можно взять, хотя ему и в голову не приходило, что девчонки умеют писать. Но деньги… да они рехнулись, у женщин он денег не берет. Шелковых панталон, может, и лишился, но честь сохранил. Кто из них больше нуждается в помощи? Он-то не пропадет. Он всегда… Никогда…
Взял. Не хотел, но взял. Они бы утонули в слезах. Однако, уже наверху, со всей серьезностью поцеловав их на прощание в губы, сунул в кармашек передника одной — было слишком темно, чтобы увидеть кому: Этель или Саре, — перстень с сапфиром, который недавно выкупил у ростовщика. На счастье. Им он скорей пригодится, чем ему. Первый попавшийся на пути грабитель сорвет кольцо с пальца.
Быстро шагая по улице, Джакомо первые десять минут старался думать только о том, как бы не упасть, не переломать ног и не выбраниться слишком громко. Но, когда в свете фонаря мелькнули какие-то тени и он остановился, чтобы их пропустить, рука сама потянулась к карману с дукатами.
В кармане было что-то еще. Ах да — письмо от сестричек. Можно себе представить их признания на ломаном французском. Прочитает завтра. Далеко отсюда, надо надеяться. В какой-нибудь кишащей клопами каюте, а то и на плоту из скверно скрепленных бревен. Однако стоп: письмо явно было запечатано, это чувствовалось даже сквозь ткань. Вряд ли оно от девочек. Гербовой печатью они, надо полагать, еще не обзавелись. Быстро вытащив из кармана смятый конверт, Джакомо на ощупь оценил качество бумаги: дорогая. Да и аромат изысканный, салонный. Наверняка не от девчонок. Надо быть идиотом, чтобы вообразить такое. От Катай? Нет. Она и писать не любит, и запах слишком благопристойный. От бородатого банкира с сообщением, что истекает срок уплаты по векселям? Нет, конверт слишком толстый — приговор уложился бы в одну фразу. От князя Сулковского? — ну конечно, фунт афоризмов о добродетели как квинтэссенции бытия. Пусть подотрется своими заумными изречениями. Может, когда-нибудь он ему ответит трактатом о безнравственности, но сейчас надо думать не о спасении чужих душ, а о том, как подобру-поздорову унести собственную задницу.
Печать, правда, выпуклая, но что на ней, ощупью не разобрать. Джакомо не мог дольше сдерживать любопытство. А вдруг в письме что-то важное? На мгновение высек огонь. Одной вспышки хватило, чтобы увидеть: это королевская печать. Поспешно разорвал конверт. Теперь нужна минута покоя и чуть больше света. Забившись в нишу в каменной стене, Джакомо свистнул Пестрого. Пускай предупредит, если вблизи кто-нибудь появится. Чем-то сильно воняло, но искать место получше было некогда. Привалившись спиной к стене, Казанова поджег обрывок тесемки и при ее неверном свете попытался разобрать нервный торопливый почерк. Чей? Поднес листок к глазам.
Stanislaus Augustus. Rex Poloniae. Письмо от самого короля. Боже, неужто? Именно сейчас! А он чуть не проморгал! И эти дурочки ничего ему не сказали! Король. Ему пишет король! Сколько дней, недель, месяцев он этого ждал.
«Дражайший господин Казанова». Возможно ли? Не только возможно — так оно и есть. А почему бы, собственно, и нет? Разве он не заслужил подобного обращения искусными маневрами, комплиментами, письмами с предложением дружбы и способов пополнения королевской казны? Почему не сказать «дражайший», если он, не дожидаясь поощрения, не требуя платы, начал писать для короля трактат об истории Польши, а второй — о Венеции — уже почти закончил?
«Высоко ценя разнообразные…» — да, да, высоко ценя, — «…достоинства и способности…» Странно, ведь до сих пор ни одна из его идей — ни лотерея, ни колючая проволока, ни панталоны с разрезом — не заинтересовали короля. Не говоря уже о картофеле или текстильных мануфактурах. Не важно.
Быстрее, в чем суть? — тесемка вот-вот догорит. «Мы охотно посмотрим предлагаемую вами демонстрацию магнетических способностей человека». Н-да, и надо же было его заветной мечте осуществиться именно сейчас. Впрочем, это еще только должно произойти… но когда? Черт, лишь бы дурацкая тесемка не погасла на самом интересном месте. «Завтра, после захода солнца». Так, понятно.
Джакомо спрятал письмо за пазуху. Слишком поздно, мой король. Чаша переполнилась. Ему надо отсюда бежать, а не паясничать в придворных салонах. Проявить магнетические способности не человека, а собаки, чтобы обмануть погоню и вовремя учуять опасность. Хотя, с другой стороны… Показав наконец, на что способен Иеремия — а в успехе можно не сомневаться, — он добьется такого положения при дворе, о котором не смел и думать. А королевский авторитет оградит его от преследований.
Пока еще Джакомо не собирался менять планы, однако уж очень соблазнительно было позволить себе передохнуть минутку, пофантазировать, удобно прислонившись спиной к стене. Если бы еще не эта вонь… На землю его вернул Пестрый, который рычал и отказывался приблизиться. Спятил, что ли, скотина? Рычит на королевского любимца? Запах не нравится? С каких это пор он стал таким чувствительным?
Внезапно страшная догадка вытеснила все прочие мысли. Джакомо уже однажды видел Пестрого в таком состоянии. Эта ниша в стене, эта вонь… Проклятая французская болезнь! Сколько раз он здесь проходил… А сейчас стоит, как стоял тот, по шею зарытый в навоз, смотрит его глазами, ждет — как и тот ждал — чего? Спасения? Конца? Бежать, пока не остался тут навечно, пока не появились люди с полными лопатами навоза, чтобы превратить его в прилипшее к стене страшилище, гниющее чучело, которому никакой король не поможет. Merde! Ничего иного его здесь не ждет.
Новый приступ страха, когда кафтан зацепился за какой-то выступ, а башмаки провалились в подозрительно мягкий грунт, заставил Казанову опрометью броситься бежать. Он мчался, почти ничего не видя и не слыша, спотыкаясь и падая, падая и поднимаясь, заляпанный грязью, взмокший, — лишь бы подальше, как можно дальше от этого ужасного места.
Опомнился он у городской заставы. Боли в ногах не чувствовал лишь потому, что сильно кололо в груди. Даже Пестрый, вывалив язык, тяжело дышал от усталости. Ну ладно, теперь надо шевелить мозгами, а не ногами. Выход подвернулся сам: телега, груженная толстыми балками. Казанова взобрался наверх, сел, обхватив саквояж руками. Возница даже не обернулся. За пару медяков, может, и укрыться чем-нибудь даст.
Мало-помалу Джакомо успокаивался. Будь что будет. Он даже не знает, куда едет, но разве сейчас это важно? Вновь обрели остроту зрение и слух. Чавканье грязи под колесами, пофыркиванье лошадей, тихое поскрипывание балок — вот она, его теперешняя действительность, а не мерзкий страх, затаившийся под сердцем. Какая удивительная ночь. Звездная и теплая, хотя на придорожных полях еще смутно белеют островки снега. Джакомо растянулся во весь рост, не обращая внимания на острые ребра балок.
Отыскал взглядом звезду, которую хотел увидеть. Вот она, утешительница странников — Полярная звезда, более яркая, чем остальные, и потому как бы более близкая. Значит, он едет на север. В Гданьск. Прекрасно, пускай будет Гданьск.
Тревога постепенно улетучилась. Осталась только усталость да смутное ощущение чьего-то присутствия — слишком неопределенное, чтобы стоило придавать ему значение. Если это те самые любопытные глаза, которые следят за каждым его шагом, не прощая ни малейшей слабости, ни единой промашки, если это бестелесное существо, рожденное, возможно, его безудержной фантазией, которое терзает его совесть, мучает назойливым вниманием, едва ли не презрением, если это он — тот самый, склонившийся над листом бумаги мрачный бородач, — то придется его разочаровать. Он будет все отрицать. Врать, от всего открещиваться. Заявит, что ничего не помнит, что не позволит себя оговаривать. А чтобы не оставлять места недомолвкам и клевете, когда-нибудь сам все опишет. По-своему. Сколь полно, тоже определит сам. И заново переживет ровно столько, сколько решит рассказать, — не больше. Пожелает вообще утаить, что здесь был. Кто проверит? Мало ли жуликов и глупцов мотается по свету — поди разберись. Правду знает только он — и только он ее откроет. И пускай потом разные угрюмые бородачи выдумывают, что хотят, пускай оттачивают перья, описывая его заляпанные грязью панталоны и оплеванную душу, и пусть не забудут упомянуть полудохлых пердящих кляч и отвратительный запах дегтя от балок, на которых он лежит.
Он, Джакомо Джованни Казанова, будет опровергать все россказни убедительно и торжественно. Он покинул Варшаву в королевской карете, в сопровождении почетного караула, провожаемый слезами женщин, сожалением мужчин и вздохами облегчения рогоносцев. Так будет, потому что так было. Да.
Джакомо закрыл глаза, а когда снова открыл, кто-то светил фонарем прямо ему в лицо.
— Встать! И отвечать, когда спрашивают!
Он на коленях — почему? — в грязной канаве, вокруг маячат какие-то зловещие тени. Что случилось? Свалился с телеги, попал в руки убийц или это всего лишь грабители?
— Ну что, опять вознамерился убежать, господин Казанова?
Он узнает этот голос, узнает эту наглую рожу, снизу освещенную мертвенным светом. Куц. Капитан Куц. Дьявол Куц собственной персоной. Надо что-то сказать, но слова застревают в горле.
— От нас убежать нельзя.
Он пытается встать, но ноги отказываются повиноваться.
— Разве что в могилу.
Он заставит умолкнуть этот насмешливый голос, чем бы это ни кончилось, ткнет шпагой прямо в гнилые зубы. Но вместо шпаги вытащил из ножен заржавелый обрубок длиною с большой палец. Боже, он ведь сегодня сломал шпагу. И убил человека. Они пришли с ним расквитаться.
— Ладно, свою отвагу ты нам уже доказал. Теперь самое время проявить здравомыслие.
Лицо Куца куда-то отскочило, как воздушный шарик от щелчка. Из темноты сверкнули ледяные глаза полковника Астафьева. Ага, все здесь. Что им от него нужно? Он сделал, что они хотели, — скажем, намеревался сделать, Пусть спросят у своего посла. У этой бочки сала, грозы собак, свиного рыла.
— Молчать. И делать то, что мы прикажем. Завтра явишься ко двору. От этого зависит твоя жизнь.
— А если нет?
Фонарь качнулся, луч света раздвоился, растроился. Казанову обступили со всех сторон, подняли с земли пинками. Попробовали вырвать саквояж, но он держал его крепко, так что они только вспороли бок и с жадностью запустили внутрь лапы. Одна за другой покатились в грязь, прямо под нетерпеливо переминающиеся ноги, под готовые давить и топтать сапожища, драгоценные картофелины. Варвары, не ведают, что творят! Стоять! Пусть лучше его убьют. Это же будущее мира, спасение для голодных, надежда для страждущих, доступный каждому философский камень. Не понимают этого, глупцы?
Джакомо попытался поймать последние картофелины, но земля внезапно ушла из-под ног: он снова лежал на телеге, снова под ним были толстые балки, а перед глазами — спина возницы, нещадно нахлестывающего лошадей. Его мучители провалились в темноту, лишь вдалеке изредка вспыхивали слабые огоньки, точно волчьи глаза, точно души осужденных на вечные скитания грешников. Что за дьявольская скачка. Они словно летели — плавно, без единого толчка; только ветер надрывно свистел в ушах. Казанова протянул руку к человеку на козлах. Они же мчатся по самому краю пропасти. Куда? Куда он так гонит? Задавая вопрос, Джакомо не услышал собственных слов. И ответа не услыхал, поэтому ткнул возницу в спину. Куда мы едем? Понял лишь начало фразы. В Пётрков. Конец утонул в шипенье согласных, загадочных сссццц… — негромком, но угрожающем. Что, что? Возница вдруг повернул голову. Из-под мужицкой бараньей шапки глянула рожа Куца с широко разинутым, кричащим ртом:
— В Пётрков, сударь.
При этих словах Джакомо очнулся. Никто никуда не мчался, и ветер не свистел в ушах, только Пестрый лениво тявкал на лошадей. Они стояли на широкой улице. Возница по-польски разъяснял что-то кучке оборванцев, с любопытством заглядывающих в телегу. Казанова нерешительно приподнялся. Он спал, просто-напросто заснул в дороге. Где они? Приехали в какой-то город. В Пётрков? Но через Пётрков в Гданьск не попадешь, Гданьск совсем в другой стороне. Огляделся внимательно. В той стороне Вена. Ну что ж, пускай, Вена так Вена. Все в порядке.
Но это был не Пётрков, в чем Джакомо, несмотря на полумрак, вскоре убедился. Он хорошо знал эту улицу, каждый день много раз по ней проходил. И даже если бы сомневался, достаточно было поглядеть влево, чтобы увидеть отблеск костра, разожженного караульными перед королевским замком. Это была Варшава. Его похитили, привезли назад? Мужику посулили награду? Но все вокруг выглядело сонным и тихим. Возница что-то не спеша объяснял зевакам. Нет, нет, с опасными преступниками так не поступают. Джакомо начал понимать, что произошло. Он сам во всем виноват. Перепутал направление. Сел в первую попавшуюся телегу, не поинтересовавшись, куда она едет.
Соскочив на землю, Казанова неуверенно — уже больше опасаясь за судьбу саквояжа, чем за свою жизнь, — подошел к кучке зевак. У возницы было нисколько не напоминающее Куца лицо простого деревенского парня.
— В Пётрков. Сссццц.
Он опять не понял этого шелестящего слова, и тогда малый показал кнутовищем на здоровенные балки, а потом, со смехом поворотясь к зрителям, обернул ременный конец кнута вокруг шеи и высунул язык. Виселица. Теперь все понятно. Он спал на виселице. На столбах, меченных смертью. Идиот! Негодовал, что углы слишком острые, — нет, чтобы подумать о веревке. Боже, почему ты так жестоко надо мной надсмеялся? Почему помогаешь не мне, а этой банде? Я ведь ничего дурного не сделал.
Однако быстро взял себя в руки. Не нужно роптать на судьбу. Видно, так должно было быть: вместо побега — прогулка. Свистнул собаку. Вот мы и дома, Пестрый. Хоть для тебя не без толку прошел этот поганый день и не менее поганая ночь. Впрочем — Джакомо пощупал королевское послание на груди, словно проверяя, не привиделось ли ему и это тоже, — возможно, не только для тебя.
Чудеса
Итак: да. Что ж, пожалуйста, с удовольствием, это большая честь. И вместе с тем: нет. Только не завтра. Спешка — враг настоящего искусства; недопустимо, больше того, оскорбительно выносить на суд его величества то, что требует еще нескольких дней, если не целой недели подготовки, да и средств, прямо скажем, немалых. Надо одеть мальчика, позаботиться о реквизите, об имитирующем настоящую сцену небольшом помосте с занавесом. Все должно быть безупречно, наивысшей пробы. Чудеса не терпят небрежности, верно?
Казанова выдержал наглый взгляд королевского посыльного, но своего добился. Пять дней и пятьдесят дукатов. Могло быть лучше, хотя бывало и хуже. Нарядил Иеремию в шелковый облегающий кафтан, но остался недоволен его видом. Неожиданно толстые ляжки мальчика и еще более неожиданно выпуклая мужская принадлежность отвлекали внимание от одухотворенного лица и юношески стройного торса. Ну и чучело этот Иеремия. Полумальчик, полумужчина: граница проходит внизу живота, и пограничный столбик столь прозаично телесен, что его никак нельзя показывать при дворе. Какой там таинственный маг, неземное явление, сверхъестественный дух в людском обличье — в лучшем случае, батрак в кафтане с барского плеча. Нет, его надо одеть на восточный манер: пышные шаровары, тюрбан со сверкающим камнем. Да, так будет хорошо.
Однако ничего хорошего не было. Как будто все шло гладко: сосредоточившись — на это уходило несколько мгновений, с каждым днем все более кратких, — Иеремия брал один из лежащих на столе предметов: гребень, сигару, табакерку, — который через минуту повисал меж растопыренных пальцев. Но при этом мальчик страшно потел и сопел, будто силы, позволившие ему сотворить чудо, в отместку безжалостно его терзали. В таком зрелище — сколь ни странным это могло показаться, — не было ничего сверхъестественного. Никакой загадки, никакой мистики. Просто гребень, сигара, табакерка, висящие в воздухе. Как? Да никак, обыкновенно, пожалуй, даже некрасиво. В первый момент Казанова устыдился этой мысли. Не кощунственно ли так относиться к настоящему чуду? Не чересчур ли он толстокож? Однако нравы придворного общества были ему хорошо известны. Чудо должно быть чудом, а не пыхтящим, взмокшим от пота деревенским мальчишкой. Не помогут ни шаровары — хоть бы и раззолоченные, ни тюрбан, пускай сплошь утыканный бриллиантами. Как это ни сложно, надо заставить зрителей увидеть настоящее чудо. И об этом должен позаботиться он, и никто другой.
Прежде всего — не гребень, не сигара, не табакерка. Разве что для начала, пока малый не наберется уверенности. А потом — долой эти мелочи. Предметы должны быть крупными и хорошо видными издалека. Серебряный подсвечник, золотая тарелка, кувшин для воды. И не позеленелый уродец — Джакомо бросил кувшин Этель и Саре, уставившимся на руки Иеремии, — а сверкающая игрушка, подлинная драгоценность, озаренная собственным блеском и сиянием мистерии, вокруг нее разыгрывающейся. Нечего пялить глаза, пускай возьмут кувшин и отчистят. Но если кувшин, то почему бы не чайник? Справится? Жилы на висках Иеремии набухли, пузатый сосуд с изогнутым носиком дрогнул, словно намереваясь упасть, но, когда мальчик приблизил к нему ладони, замер и несколько секунд провисел в воздухе без участия какой-либо видимой силы. Отлично. Такого не заметить нельзя. Даже из дальнего конца зала, даже из-за спины соседа. А если не удастся отчистить, они покрасят кувшин и чайник золотой краской. Придется тосканскому художнику уступить им немного драгоценного порошка.
Далее: коли уж начнется движение, пусть оно будет как можно более интенсивным. Тяжелый чайник, пока его не остановят сближающиеся руки, падает медленно, ну а если взять какую-нибудь невесомую вещицу, чтоб взлетела к рукам снизу? Боже, букет засушенных цветов вспорхнул на высоту головы Иеремии. Часы — с трудом, неспешно, как и отмеряемое ими время, — ползли кверху, но вдруг, качнувшись, упали в подставленную ладонь Казановы. У мальчика иссякли силы? Видно, как он устал, но пусть чуть-чуть потерпит. Еще одна попытка. Сигара. Зажженная сигара со сверкающим кончиком и тоненькой струйкой дыма. Даже в темноте будет видно. Хорошо. Это уже кое-что. Он прикажет специально убавить пламя свечей. Серебряный крестик с Христом? Отлично, великолепно. По щекам Иеремии потекли слезы, но крестик преспокойно висел в воздухе, Иисус терял сознание от боли, искупая людские грехи. Bene[34]. Это будет финал, мистическое завершение вечера. Чтоб и епископы ахнули от восхищения и прекратили выискивать во всем проделки сатаны. Только крест должен быть посолиднее. Лучше всего золотой, усыпанный бриллиантами. Взять у кого-нибудь на пару дней. Здесь это не составит труда.
Джакомо хвалил Иеремию, похлопывал по щеке, однако не мог избавиться от смутной тревоги. Неужели он сам ему не верит? Сам не знает, к тайне ли прикоснулся или поддался мистификации? Но какая же это мистификация! Разве он не видел собственными глазами пять, десять, двадцать раз, как застывают в воздухе между пальцами мальчика крупные и мелкие предметы, разве не обводил их рукой, дабы развеять дурацкие сомнения: нет ли тут невидимых нитей или растягивающегося клея? — но ощущал лишь приятное тепло?
Нет, этот мальчик — настоящее сокровище, бриллиант чистой воды. И покажет он его не в темном переулке, украдкой вытащив из-за пазухи, а при королевском дворе. Однако, чтобы бриллиант засверкал и ослепил не только глупцов, но и маловеров, его нужно тщательно отшлифовать. И поместить в достойную оправу.
Вскоре ой уже знал в какую. Ночью ему приснилась Флоренция, грязная конура, потек на стене, под которым чудаковатый попрошайка философ посвящал его в тайны своего искусства. От волнения Джакомо даже присел на постели. Как его звали: Альберт, Альбрехт? Потянулся за бутылкой вина. В жизни все может пригодиться. Даже знакомство с флорентийским нищим, имени которого память не сохранила. Но все, чему тот его научил… о, это он помнит. Они обалдеют от изумления. Решено. Отхлебнув последний глоток, Казанова отставил бутылку. Он сам тоже покажет, на что способен. С утра надо быть в форме. Времени осталось немного. Два дня и всего одна ночь.
Щербатый художник, узнав, за чем пришел Джакомо, чуть не набросился на него с кулаками, но… раз таково распоряжение короля… Если необходимо — пожалуйста. И золотой краски он тоже не пожалеет. Для его величества — отдаст последнее. Крикнул девушку, произнеся какое-то мягкое, незнакомое Казанове имя, когда же она вошла — растрепанная, с огромными, едва сдерживаемыми рубашкой грудями, — без единого слова указал ей на дверь. «Я, наверно, рехнулся, — подумал Джакомо, заметив в глазах художника опасный блеск, — он же при первом удобном случае меня убьет. Всякий бы убил», — буркнул себе под нос чуть позже, ведя к экипажу девушку и размышляя, как ее одеть.
Бинетти уговорить оказалось сложнее, однако и она в конце концов согласилась. Осыпала его изощреннейшими проклятиями, но сообразила — на это у нее хватило ума, — что нельзя упустить случай представить Лили ко двору, пусть даже в несколько необычных обстоятельствах. Еще пять дукатов за аренду зала и столько же — портному за платья.
Внутри помещение, правда, больше походило на амбар, чем на зал для репетиций, но горевать по этому поводу было некогда. Джакомо усадил всех перед собой, распределил роли. У Иеремии — одна задача, у него с девочками — другая. Очередность он установит в последний момент. Собственно, и им, и мальчику предстоит продемонстрировать одно и то же: торжество духа над материей, новые, на пограничье искусства и чуда, возможности человеческой натуры. Сначала Иеремия. Выглядит усталым, каким-то отрешенным. Но костюм сидит хорошо, пускай только не горбится так — скрюченный, он не на всемогущего мага похож, а на испуганного школяра. Не понимает, что ему говорят? Ах да, он же не знает французского. Одна Лили… Не важно. Понадобится — поймут. Он сам им все покажет. Не только Иеремия умеет творить чудеса — он тоже. Сейчас они в этом убедятся.
Василь ждал, взвалив на спину стул. Давай. С грохотом поставил стул посреди зала. Кстати, и этого силача надо использовать. Пусть ассистирует Иеремии, да, да. И не один, лучше всего с Лили, должен ведь кто-то подавать мальчику реквизит. Невинность и порок, ангел и животное. Хорошо, это произведет впечатление. Джакомо тронул подружку тосканца за плечо:
— Тебя как зовут?
Одетая пастушкой, она выглядела достаточно соблазнительно, чтобы вызвать интерес, и вместе с тем достаточно скромно, чтобы не шокировать утонченное общество. Но глаза коровьи.
— Поля.
Это Сара пришла ей на выручку. Боже, Поля, Полина… судьба — злая насмешница — наделила простецкую девку именем его лондонской возлюбленной. Но разве это не добрый знак? Легонько подтолкнул Полю к стулу. Пусть сядет. Села. Хорошо. Это и требовалось. Широко расставленные ноги, чуть не лопающаяся на заду юбка, рвущиеся из блузки груди…
Никто не подумает, что ее будет легко сдвинуть с места. А уж тем более поднять двумя пальцами.
Джакомо показал девочкам, что им делать. Задача была нехитрая, но все равно они смотрели на него, как на чудодея. Скрестить указательные пальцы, быстро приблизиться к сидящей на стуле Поле и — одним движением — вверх. Сара и Этель спереди подхватывают ее под коленки, они с Лили — сзади под мышки. Сейчас попробуем, как получится. Ничего не получилось. Поля качнулась вперед, взбрыкнула ногами, но, несмотря на старания девочек, не приподнялась ни на йоту. Джакомо-то понимал почему, а его помощницы расстроились. Bene. Пусть сомневаются — тем тверже потом уверуют. Без труда убедил девочек — и так же впоследствии убедит королевских гостей, — что только чудо может поднять в воздух развалившуюся на стуле корову. И он, Казанова, им это чудо явит.
Пусть прекратят перешептываться и шмыгать носом и подойдут к нему. Он выбрасывает вперед руку… вот так, к ним, видят?., магнетическая сила притягивает их руки, чувствуют?., теперь остается только объединить духовные и физические силы, поняли? Уже видят. Но еще не чувствуют и не понимают. Что ж, надо набраться терпения. И он кладет их ладошки на свою, шикает на Полю, пытающуюся подглядеть, что они там, за ее спиной, делают, наконец накрывает маленькие ручки второй рукою. Девочки замирают, как по команде уставившись в одну точку — на перстень с сапфиром у него на пальце.
Сосредоточиться, думать только о том, что нужно сделать. Это главное. Сейчас они превратятся в одухотворенных кариатид. Джакомо верил в то, что говорил, и — каким-то уголком сознания — не верил. Будто в фантастический сон. В чувствах, которые его обуревали, было что-то от нереальности сновидения. Он не просто сомневался, он боялся того, что должно произойти, но не позор его страшил — смерть. Точно не пышнотелую Полю предстояло с помощью девочек поднять, а прыгнуть в бездонную ледяную пропасть. Со времен Флоренции он многократно проделывал этот трюк, но всякий раз испытывал подобные чувства. Потому и не любил похваляться этой своей способностью: пустяковая на первый взгляд забава могла обернуться серьезными неприятностями. Потому и демонстрировал свое искусство, лишь когда судьба загоняла его на край бездны.
Ощущают ли девочки то же самое? Должны, иначе ничего не выйдет. Внутри у Казановы все дрожало, пирамидка ладоней свинцовой тяжестью давила на руку, но он собрался с духом и вполголоса скомандовал:
— Начали!
На сей раз движение было слаженным, гармоничным, скрещенные пальцы попали куда надо, но туша на стуле только чуть всколыхнулась, будто на одну Полю уселось еще пять таких же. Однако через секунду кольнувшая сердце льдышка растаяла: тело утратило вес, ноги-колоды, могучая задница и груди, тяжелые, как буханки хлеба, с легкостью взлетели высоко вверх. Molto bene![35]
Девочки завизжали от восторга и, забыв про Полю, закончившую полет на полу, бросились обнимать Казанову, умоляя повторить еще разок. Получилось. Живем! Все будет хорошо. Он в очередной раз избежит падения в бездну. А ведь то была лишь первая попытка. Они еще поупражняются, поупражняются — впереди целый день и целая ночь, Поля у них еще запорхает в воздухе. Придворные павлины и попугаи онемеют, просто онемеют, увидав такое. Джакомо обнял несмело приблизившегося к ним Иеремию.
— Видишь: и ты можешь кое-чему у меня поучиться.
Одни они были недолго. Вначале в дверь заглянули два актера из театра. И исчезли, прежде чем он успел их прогнать, но, конечно, это они через минуту притащили с собой шумную компанию. Казанова на мгновенье оцепенел, увидев Катай, нежно поддерживаемую Браницким, однако быстро пришел в себя: в конце концов, теперь его с этой женщиной ничто не связывает. Пусть болит голова у Бинетти, неестественно оживленной, благосклонно принимающей ухаживанья какого-то дурного ферта. Остальных Джакомо не знал, но нетрудно было догадаться, кто они, и еще легче — кем бы хотели быть. При виде «труппы» все так и покатились со смеху, ввалились в зал, обступили со всех сторон, норовя дотронуться, ткнуть пальцем, а то и подсовывая ручку для поцелуя, разахались, засыпали вопросами: что, как, зачем. Казалось, ничего хуже и быть не может, но внезапно дверь с грохотом распахнулась и в зал на пронзительно ржущей лошади влетел пьяный князь Казимеж в сопровождении не менее пьяного приятеля в офицерском мундире. Офицер слез, а точнее, свалился с седла и тут же замешался в толпу актеров, князь же, бросив поводья ухажеру Бинетти, подошел к Казанове:
— Конь, понимаете ли, понес.
«Брат короля, — подумал Джакомо, — в таком звании все дозволено». И любезно улыбнулся: милости просим, будем рады. Охотнее всего он бы всадил пьянчугам в задницу по петарде, какими в детстве перед Рождеством шпиговали кроликов — чтобы пулей вылетели через порог, — но сейчас не время шутить шутки. Брат короля. Все равно что сам король.
Офицер начал вырываться из рук удерживающих его актеров.
— Не ври, Казимеж. Это не конь, а кобыла. Доказать?
У Браницкого от ярости окаменело лицо.
— Полегче, господа. Здесь дамы.
— Где, где? — загоготал офицер, шутовски вращая глазами и ворочая головой. — Не вижу.
Князь Казимеж попытался унять приятеля, но гогот заглушил его несвязное бормотанье. Испуганная кобыла взбрыкнула, фертик отлетел к стене, когда же, в порыве отчаянной отваги, хлестнул ее по морде поводьями, та задрав хвост, выстрелила как из пушки, если не из целой батареи. Это уже была катастрофа. Сейчас Браницкий его убьет, подумал Казанова, видя, как, предвещая неминуемую беду, темнеют пятна на лице графа. Боже, расправа с князем… да это все равно что расправа с самим королем. Вина падет на всех свидетелей.
И им тоже не избежать расправы. Надо что-то сделать, предотвратить кровопролитие, но… неизвестно, с чего начать.
— Н-да, все лучше и лучше. Позволь тебя на минутку, князь…
Не убьет, слава тебе Господи, только даст сопляку пощечину или обругает последними словами. Браницкий сунул руки за пояс и взревел громче, чем княжеская кобыла минуту назад:
— Кругом! Чтоб я вас тут не видел!
Боже! Да за такие слова князь его растерзает, не побоится пролить графскую кровь, понял Джакомо, видя, как улыбка на губах Казимежа застывает, превращаясь в непроницаемую гримасу. Мокрого места от Браницкого не оставит, пальнет из пистолета в лоб или рассечет саблей. Это же князь, почти король, он никому не позволит так с собой обращаться. Пальцы, теребящие пуговицы мундира, уже кого-то душат, давят, стирают в порошок. Сейчас они дотянутся до сабли, и ничто не помешает возмездию. Джакомо хотел броситься между ними: они ему все испортят, дело пахнет кутузкой, а не выступлением при дворе, но не тут-то было — ноги приросли к полу.
Секунда тишины длилась дольше вечности. Гримаса на лице князя вновь сменилась улыбкой — вымученной, неискренней, но все же улыбкой:
— Я…
Пресвятая дева, спасибо тебе за помощь! Не убьет! Только распечет, пригрозит королевским трибуналом, может, съездит по роже, но разве кровь из носа — настоящая кровь? И вспомнить будет нечего.
— Прошу прощения…
Сон это или явь? Пальцы разжались, руки вытянулись вдоль лампасов, щелкнули каблуки, князь шутовски отдал честь, чуть не упав при этом, и обхватил за плечи рвущегося в бой приятеля. Но, прежде чем повернулся, прежде чем исполнил отданную Браницким команду: «Кругом!» — неожиданно трезвым взглядом посмотрел Казанове в лицо и, словно приподняв на мгновение маску, заговорщически подмигнул.
Едва за князем закрылась дверь, свита Браницкого забила в ладоши, закричала: «Виват!» Откуда-то появилось шампанское, бокалы; Джакомо сам бы охотно выпил глоток, чтобы преодолеть растерянность. Катай явно избегала его взгляда. Может, оно и к лучшему: ничего умного у него на физиономии сейчас не прочесть. Тьфу! Вонь от лошадей и хамские вопли. Его стайка у стены испуганная, верно уже ни на что не способная. Рядом с Лили, конечно, Бинетти, квохчущая — как мамаша? как сводня? Возможно, и то и другое. И этот раздувшийся от гордости индюк посреди зала, небрежно кивающий в ответ на поздравления. Величественный, красивый и благородный. Поистине всем панам пан, граф из графов, самец из самцов. На него, а не на Казанову устремлены взоры женщин, графу огненным пируэтом обещает Катай то, в чем ему отказала. «Черт, я начинаю ревновать к какому-то глупцу», — подумал Джакомо и велел Василю сходить за стульями. Пора показать, что они умеют. И пусть принесет пару ведер опилок. Грязь под ногами мешает работе.
Но и опилки не помогли. Казанова всячески оттягивал начало, болтал без умолку, объяснял суть дела и несущественные детали, подбадривал оробевших девочек, однако чувствовал, что его усилия напрасны. Прежнее настроение не возвращалось. Поля опять налилась свинцовой тяжестью, плюхнулась задницей на пол. Кто-то засмеялся, дамы зашикали, но когда при второй попытке опрокинулся стул, некому уже стало утихомиривать весельчаков. Merde. Казанову так и подмывало выместить злобу на своих перепуганных помощницах, но он понимал, что девочки не виноваты. Виноват он сам. Не сумел сосредоточиться, подчинить себе их волю. В голову лезла какая-то галиматья: почему ему подмигнул князь Казимеж, Иеремию раньше завтрашнего дня нельзя показывать, а что, если бежать через Литву, в тех краях его никто не станет преследовать, да, никто, кроме волков, надо купить шпагу, проследить, чтобы Василь почистил башмаки новой мазью, у одной из девочек потные ладони… Когда башка забита идиотскими мыслями, в воздух не поднять и пушинку, а уж тем более такой мешок плоти, как Поля. Да еще эти насмешливые взгляды, обжегшие спину, стоило ему отвернуться. И все более громкое бормотание Браницкого, развалившегося в кресле как пять графов, два князя и по меньшей мере один король разом.
Тысяча чертей, он увядает, а тот с каждой минутою расцветает, у него от бессилия опускаются руки, а тот раздувается от уверенности в себе. Нет, этого нельзя допустить. Нельзя позволить, чтобы здесь огонь погас, а там разгорелось пламя, здесь кое-что сникло, поскольку выросло там. Как? У него, первого петуха Европы, повиснет, а у этого хамоватого графа торжествующе встанет? Не бывать тому. Необходимо немедленно что-то сделать.
Джакомо согнал со стула Полю: им с Иеремией лучше подождать более благоприятного момента. Попросил сесть на ее место Бинетти. Та кастрировала его взглядом, но ради Лили была готова на все, сама бы, если б могла, вспорхнула к потолку. Дело пошло, хотя это еще был не полет, а медленный подъем. Граф и ухом не повел — продолжал гудеть, как жук в стакане. Что ж, возьмем толстого актера с сигарой в зубах. Толстяк чуть ею не подавился, когда полетел вверх. И опять ничего: оскорбительный, хотя никому специально не адресованный смех. Хорошо. Посмотрим, кто будет смеяться последним.
Катай. Этот номер может дорого ему обойтись, но другого выхода нет. А дешево она никогда не стоила. Идти? Надо испросить позволения у господина и повелителя, но он сегодня великодушен в своем напыщенном торжестве: почему бы не пожалеть несчастного шута, над которым все смеются… Итак, она подходит, садится и, напрягшись от любопытства и легкой тревоги, ждет. А он приступает к делу так, словно не со стула ее собирается поднять, а отодрать на глазах у всех. Сука. Пусть лучше не оборачивается, не то слишком много увидит. Например, блеск безумия в его взоре. Пусть сидит и не шевелится. Сейчас он приблизится и сделает все, что нужно. Хоть на несколько секунд обретет власть над этим великолепным телом, оторвет от пола ноги, всколыхнет грудь и ягодицы.
На глазах у этого зевающего хряка воткнет ей под мышки не два пальца, а пять, десять, может быть, даже одиннадцать.
Джакомо дал знак девочкам. В нем все ожило, смолк шум в голове, перестали дрожать руки. Протянутая ладонь, точно мраморная столешница, приняла теплые вспотевшие лапки; Лили была первой, а перед тем, как он сверху накрыл маленькие ручки второй ладонью — последней. Кокетничает с ним, проказница. Он отметил это не без удовольствия, но тут же себя одернул: не время тешить свое тщеславие, нужно сосредоточиться, сколь это ни трудно. Закрыл глаза. В темноте под сомкнутыми веками увидел другую темноту — резко пахнущую, упругую, скрывающую огненную бездну: общий вход в рай и в ад. Он возьмет ее. Как только захочет.
Пора. Кажется, он в самом деле всадил под мышку девушке не два пальца, а пять, десять, а то и все одиннадцать, и не ограничился пальцами, а помог себе плечом, подтолкнул головой, если не коленом… Катай поднималась, странно изогнувшись: одно плечо — с его стороны — резко подскочило, а второе лишь медленно поползло вверх, поэтому, еще взлетая, она уже начала падать; одной половиной тела рвалась вверх, другой — стремилась вниз. И больно бы ударилась об пол, поскольку девочки внезапно отскочили, если б в последний момент Джакомо ее не подхватил. Колени под ним подогнулись, зубы впились в локоть, но добычи он не выпустил.
Это уже было кое-что. Хотя и не совсем то, чего он добивался. Раздались редкие хлопки. Продолжая держать девушку в объятиях, Казанова так энергично склонил голову, что ткнулся носом в ее полуобнаженную грудь, источающую запах той дьявольской бездны. Катай дернулась, словно ее окропили святой водой. Комедиантка. Еще вчера назначала ему свидание, обещая менее невинные удовольствия. Чему же он удивляется? Кто-то громко кашлянул, а возможно, предостерегающе хмыкнул. Джакомо знал кто. И она знала — еще до того, как Браницкий раскрыл рот.
— Отпусти!
В этом шипенье был смертоносный ад. Джакомо поставил Катай на пол и, с приклеенной к губам улыбкой, смотрел, как она подбегает к графу, прижимается, изображая испуг. Задобрить хочет своего надувшегося господина и повелителя. Шлюха. Но сам он чем лучше? Тоже вынужден перед ним заискивать — Браницкий и для него опасен. Теперь Джакомо почувствовал это с удручающей ясностью. Если не удастся заткнуть ему обратно в глотку издевательский смешок, содрать с лица презрительную гримасу, провал неминуем. И сегодня и завтра при дворе. Он не сумеет сосредоточиться, все испортит. Дело кончится задницами, шлепающимися на пол, и жгучим стыдом, что страшнее любого приговора. Тут не до шуток. Во всяком случае, ему. Придется последовать примеру Катан.
— Теперь, может быть, вы изволите, — граф?
Не соизволил: как он, граф, может на такое согласиться — ведь он же граф! Но вместе с тем словно бы отчасти согласился: разве граф может устоять перед просьбами и едва ли не любовными заклинаниями дам и возгласами мужчин? В общем, как бы согласился, хотя и не совсем. Можно ли дать согласие, когда неизвестно, чем дело обернется: вдруг какой-нибудь клоунадой? Хуже того, известно: именно клоунадой. Но опять-таки эти подобострастные ужимки, эти просьбы, эти бурные аплодисменты. Чего ему, графу, который князьям утирает нос, бояться? От него же не убудет.
— Ладно, так и быть.
И вот граф уже перед ним, вернее, под ним, потому что Браницкий на стуле стал меньше ростом, съежился, притих. Правда, не сразу. Поначалу еще хорохорился, вертелся, фыркал, бурчал себе под нос и всячески показывал, что он выше происходящего, а поскольку сидел лицом к обществу, то и остальных заражал своим высокомерием. Это никуда не годилось.
Если он не подчинит себе графа, то вообще ни с кем больше не справится. Никогда — ни сейчас, ни потом. Только опозорится, прохлопает редкостную возможность. Это в лучшем случае.
Казанова вежливо извинился: он должен кое-что поправить, — когда же Браницкий, слегка удивленный, приподнялся, повернул стул боком. Посадить графа совсем уж спиной к зрителям пока не решился. Но и так неплохо: хоть перестанет их баламутить, болван.
Теперь можно было начинать. Сперва — специально для недоверчивых и насмешников — сделал над головой Браницкого несколько идиотских пассов, достойных доморощенного заклинателя змей. Дешевый трюк, оскорбительный для его интеллекта, но первым делом нужно напустить туману и напомнить им всем, кто хозяин положения.
Так. Бычий загривок, но голова хорошей формы, небольшая, будто от другого туловища. Лучше стукнуть тяжелым предметом, чем душить. Эге, на коже красные пятна, просвечивающие даже сквозь волосы! Фи, недоросль какой-то, а не взрослый мужчина! Прыщавый граф — ну и ну! Гроза князей обсыпан чирьями. — Какая там голубая кровь! И не мужик — мальчишка, ну конечно, теленок, а не бык!
Бедная Катай, раздвигать ноги, чтобы впустить нечто паршивенькое, недоразвитое, маленькое и легкое, как перышко. Да, да, именно перышко. Он без труда вырвет из нее этого съежившегося на стуле зазнайку, подбросит, как ручного голубя, и разрешит полетать. Да, видит Бог, он это сделает, он с них собьет спесь. Пусть увидят, кто здесь на самом деле смешон. Сделает это, сделает. Ведь он ощущает в себе силу, достаточную, чтобы поднять в воздух леса, горы, весь земной шар, а не только прыщавого недоросля. И его девочки это чувствуют. И Сара, и Этель, и Лили, прелестная Лили. Сосредоточенные, готовые мгновенно откликнуться на любой его знак. Они не зазеваются, не собьются с ритма. Сольются в единое тело с четырьмя парами рук, индусское божество, вызывающее страх и восхищение. Что против него Браницкий? Взлетит, не успев пискнуть от страха, взовьется к потолку, воткнется своей покрытой коростой башкой в стропила и, с разбитым черепом, грохнется им под ноги. Да будет так. Он расплатится за Катай. Да, только так. И не иначе.
Начали быстро, дружно, и вот уже их пальцы, точно когти, вонзились под мышки и под колени Браницкого, вот уже лишь секунды, доли секунд отделяют его от взлета… но тут граф рванулся вперед, едва не сбив с ног Этель и Сару.
— Оставьте вы меня, черт побери, в покое!
И, вскочив, больше уже не сел, ни минуты не задержался; увлекая за собой свою свиту, без единого слова объяснения, даже не попрощавшись, устремился к двери. Казанова с трудом сдержал гнев. Опершись одной рукой о спинку стула, другую положил на плечо Лили. Сейчас он ненавидел Браницкого не только за сорванный триумф и за Катай, но и за все грехи на свете, за всех оскорбленных и униженных, за свои и чужие беды. Эх, если бы сейчас ощутить под пальцами шершавую рукоятку ножа и пульсирующий кадык графа, и он бы ни минуты не колебался. Но ему не дано было испытать радость победителя. Он мог лишь крепко вцепиться в жесткий бархат обивки и деликатно, почти нежно — в гладкий бархат девичьей кожи.
— Оставь ее в покое. Сколько раз можно повторять.
Не резкое движение Бинетти и не странная даже для этого общества несдержанность, а блеск настоящего безумия в глазах подтвердил подозрения Казановы. Лили. Его Лили.
— У меня и в мыслях ничего такого нет.
И Бинетти бы теперь не заколебалась, будь у нее в руке какой-нибудь острый предмет. Перед ним была уже не любовница, каждую клеточку тела которой он с давних пор знал наизусть, и даже не женщина, заслуживающая уважения своей отвагой, — нет, опасный противник, жестокий и на все способный враг. Но и он был готов к бою. Что эта дура себе вообразила? Думает, имеет право ему указывать? С какой стати? Несколько раз в жизни она ему помогла, спору нет. Но разве он не отплатил ей сторицей? Не был великодушен, внимателен, не участвовал в ее интригах? Чего же она еще хочет? Унизить его без причины? Пусть попробует! Он ей язык откусит, если не прекратит молоть вздор.
— Предупреждаю: только без твоих штучек.
— Почему? Не вижу оснований.
Она почувствовала, что он вот-вот взорвется, и внезапно сникла. Легонько подтолкнула к двери испуганную и смущенную Лили.
— Основания есть, Джакомо.
Ага, теперь уж ей придется признаться. Лучше бы промолчать, заставить ее заговорить первой — ну а если упустит момент и опять ничего не узнает? Да в самом ли деле он хочет узнать, хочет получить уже ненужное подтверждение своей догадке? Да, хочет.
— Слушаю тебя.
Не скажет. Опять закипает от ненависти.
— Это имеет отношение только к тебе или, может быть… к нам обоим?
— К нам обоим.
Она точно выплюнула эти слова, но без видимого облегчения. Когда же он начал витиеватую фразу, в которой, наряду с деликатным упреком в сокрытии истины, должно было найтись место возвышенному апофеозу ее трогательной заботе о столь прекрасном плоде их любви, резко его оборвала. Это не все. Она бы хотела, она его просит, словом, пусть все остается, как есть. Лили не готова к знакомству с отцом. Да и других причин предостаточно… Он должен ее понять. Должен. Ничего не поделаешь, так уж сложилась жизнь.
Джакомо проглотил обиду легче, чем хотел бы это показать. Никто, впрочем, на них не смотрел и разговора не слышал, а перед Бинетти не стоило прикидываться. Он очень сожалеет… где же это могло быть, в Париже, а может, в Гамбурге, или он так метко попал в цель в этом проклятом Штутгарте после того, как она вызволила его из тюрьмы? Ужасно неприятно… откуда ему знать где, если он не знает когда; у него душа болит, но раз ее материнское сердце подсказывает, что так нужно, — он согласен. Пусть будет, как она хочет. Нежно обнял Бинетти. И все же еще в одной попытке он себе не откажет.
— Когда это было?
— Разве это важно?
— Важно. Хотя бы для Лили.
— Она удовольствуется тем, что я ей скажу.
«Бог мой, — подумал Джакомо, — видно, я ее сильно ранил, раз она столько лет скрывала правду. Но до недавнего времени и обиду ухитрялась скрывать. Притом настолько ловко, что в последние дни даже приходилось избегать ее пылкого внимания».
— В Париже?
Бинетти молчала, но на лице у нее промелькнуло подобие улыбки. Словно ей надоело притворяться суровой и она была не прочь восстановить прежние дружеские отношения. Видимо, не все ужасно в их общих воспоминаниях. Они, как безумные, занимались любовью дни и ночи напролет, расставались, встречались годы спустя, вновь предавались страсти, вновь расставались… Неужто здесь, в Варшаве, должно быть по-другому? Сейчас по-другому, но ведь это лишь минутное недоразумение, не более того. Катай? Разве он виноват? Она же сама подсунула ему эту девку.
— Мы еще можем за все себя вознаградить.
Разрумянившаяся от волнения, сердитая, но уже готовая смягчиться Бинетти показалась ему соблазнительной, как никогда. Они могли б здесь остаться, зал снят до завтра. А за сценой есть очень уютное местечко. Сейчас он всех выпроводит. Репетиция, собственно, уже закончилась. Нет, не уговорил. Она колеблется. Он слишком рано предвкушал победу. В чем дело? Не доверяет. Она что, дураком его считает? Не желает, чтобы он проявлял отцовскую заботу? Ну и не надо, у него найдутся занятия поинтересней, да и не привык он лезть, куда не просят.
— Хорошо. Все будет по-прежнему. Этой проблемы просто не существует.
Ага, теперь уже лучше. Бинетти с явным облегчением вздохнула, а он крепко сжал ее руку. Если только это мешало… Он готов прямо здесь, на полу, на мокрых опилках — так, пожалуй, будет даже пикантнее… Самым чарующим шепотом дохнул ей в ухо:
— Надеюсь, ты не считаешь, что это мой дебют в роли ненавязчивого отца? И предел моих возможностей?
Нет, не таких слов она ждала. Он попал пальцем в небо. Вырвала руку, злобно фыркнула и, повернувшись на каблуках, стремительно, точно кобыла Казимежа, понеслась к двери. Так и брызнули в стороны сырые опилки, на которые он собирался ее повалить. Не повалит. О, святое лицемерие! Без клятв в верности не обойтись. Никогда и нигде. Видимо, даже в борделе. Merde, так и вообще руки опустятся.
Хотя нет. Напротив: Джакомо ощутил неожиданный прилив сил. Вот сюрприз. Помощников отпустил. Пусть хорошенько отдохнут перед завтрашним днем. Он еще немного поработает. Вместе — он остановил ее на пороге — с Полей.
Никогда раньше он такого не видел, хотя знал, что это возможно. Флорентийский бродяга, который в грязной харчевне на берегу Арно демонстрировал ему — по пьяной прихоти или в надежде подзаработать — свои необыкновенные способности, к утру почти совсем отключился и мог только бормотать что-то невразумительное. Один раз и он попробовал — правда, неудачно. Но теперь он, Казанова, понятливый ученик, ощущает в себе достаточно сил, чтобы сделать то, чего раньше делать не рисковал. Сегодня для него нет ничего невозможного. В самом деле: если напряжением воли удается удвоить физические силы, и даже хрупкие барышни пальчиками поднимают кого угодно, то почему бы ему одному не попытаться подбросить в воздух кого он захочет. Без посторонней помощи.
Поля неуверенно обернулась. И на ее грубоватом лице оставила след усталость. Чего ему еще нужно? На всякий случай поощряюще улыбнулась. Что эта корова себе вообразила? Известно что. Раз он бросил перед ней свой плащ, то конечно же для того, чтобы она на него плюхнулась, раздвинув ноги. Не знает, темная, что такое научный эксперимент. Сейчас узнает. Пусть только встанет на колени и постарается расслабиться. Он даст ей знак, когда будет готов.
Тогда он тоже стоял на коленях, ягодицами опираясь на пятки. Только под ногами было не тонкое сукно, а грязный прибрежный песок. Он был полуживой от усталости после затянувшейся на целую ночь пьянки, но бессвязное бормотание бродяги слушал с любопытством жадной до всего молодости. Эта мерзкая, хотя, видно, когда-то красивая физиономия, слова, половины которых он не понимал, и пальцы, способные заколдовать весь мир, несмотря на грязь под ногтями, одновременно отталкивали и притягивали. Ужасно хотелось спать, но разве не стоило пожертвовать сном, дабы приоткрыть последнюю завесу тайны? Сколько лет назад это было? Пятнадцать, двадцать? Больше. Ему еще и двадцати не исполнилось. Боже. Как давно. А будто вчера. Не вчера — сегодня. Только сегодня он ничего не пил.
Хорошо. Можно начинать. Три спокойных, но решительных шага, пускай она чуть-чуть приподнимется, чтобы он мог просунуть пальцы ей под коленки и затем одним движением — ни поясница не заболит, ни один сустав не хрустнет, — вверх. Но как же вверх, когда руки запутались в юбке и не могут попасть куда надо? Пускай немедленно это снимет. Быстрее, время не ждет. Сняла юбку, аккуратно положила рядом. Двадцать лет назад и он, подстегиваемый брюзгливым ворчанием, сбросил плащ и аккуратно положил на песок. Ну что?
В одной рубашке Поля выглядела более соблазнительной и податливой. Опустив голову, покорно открыв шею, ждала. Так и он тогда ждал.
Какой неожиданно нежный затылок, покрытый едва заметным пушком, каким от него веет теплом! Джакомо коснулся губами обнаженной кожи, пахнущей потом и дешевым серным мылом. Решительно навалился на ожидающее чуда тело, уперся грудью в спину, обхватил. Но только просунул пальцы под колени, как, не успев понять, что делает, сам упал на колени и забыл обо всем на свете, о твердом поле, о прибрежном песке, духовной силе и победном напряжении воли. Он уже не вверх хотел подбросить лежащее под ним тело, а наоборот — вдавить в землю. Просверлить насквозь, смешать с опилками и песком. Рубашка слетела через голову. Девушка засопела, как тогда засопел он. Раздвинула колени, как он раздвинул. Дернулась, и он дернулся… может, это ошибка; недоразумение, разве так отрываются от земли? Да нет, не ошибка. Не ошиблись ни пальцы правой руки, ледяным ошейником сдавившие горло, ни пальцы левой, раскаленными щипцами раздвигающие ягодицы.
Странная, кисло-сладкая боль пронзила тело до самого позвоночника. Что с ним? Теряет сознание? И она пискнула, поняв, куда он метит, но сразу умолкла, покорно дожидаясь результата его усилий. Что он тогда видел? Два раздутых собачьих трупа, покачивающихся на волне у берега. А она? Грязный пол — вот и все. Он вошел в нее медленно, легко. И сам удивился: откуда такая сила? А затем и пылкость. Он должен это сделать, должен, иначе ему не отмыться от грязи, не забыть издевательской ухмылки, зловонного дыхания, обжигающего затылок, и позже, после того как все было кончено, смеха, гогота бродяги, не смолкнувшего, даже когда он столкнул его с обрыва прямо в мутные воды Арно, где такой падали место. И еще должен забыть внезапную судорогу отвращения и холодную дрожь, долго сотрясавшую тело, несмотря на плащ и поднимающееся над Флоренцией солнце. И страх, что случилось ужасное и непоправимое, что от объятий пьяного вепря, который на мгновенье его околдовал, заворожил своими дьявольскими штучками, лицо превратится в звериную морду, выпадут зубы, протухнет дыхание, а пальцы украсятся грязными когтями. Он давно уже стер случившееся из памяти, но сейчас вдруг почувствовал, что необходимо выкорчевать даже крохи воспоминаний, что с девушкой надо обойтись так, как тот обошелся с ним. Причинив ей боль, забыть о своей боли. Иначе эта грязь останется в нем навсегда, займет мысли во время завтрашнего выступления, разрушит его карьеру при дворе. Он сделает это, даже если придется разорвать девку в клочья. Сейчас. Немедленно. Вот так.
Колени под Полей разъехались, и она, как колода, рухнула на пол. Все вернулось на свои места. Он свободен. И очень устал. Растянулся на полу с ней рядом. Пусть и утомленный воин отдохнет. Пусть медленно опадает и успокаивается.
Чепуха. Все это чепуха. Никому он зла не причинил. И уж тем паче Поле. Не девственница, наверняка такое делала, и не раз. Да и та история в прошлом — чепуха. Видно, у него в голове помутилось — с чего бы иначе вспомнились обиды, нанесенные невесть когда, он даже точно не знает, сколько с тех пор прошло лет. За что себя корить? Дурацкое приключение молодости… Потому что с мужчиной? А что в этом особенного? В конце концов, лицо его в звериную морду не превратилось, зубы все свои, ногти ухоженные; с дыханием похуже, но немного розовой воды он при себе всегда носит. Нет, он совсем одурел. Будет теперь всякий раз приукрашивать банальную похоть жалостной сказочкой?
А того бродягу он ведь не убил, не утопил, встречал потом в толпе ему подобных, торгующих на паперти четками. И впрямь нет оснований вспоминать таких людей и такие истории.
Немного погодя Джакомо поднялся. Как там она? Вдруг ей стало нехорошо? Поля лежала на боку, в том месте, где он ее оставил. Легонько посапывала — спала.
Ну уж нет, нет, нет. Как можно спать — работа ждет. Он еще не закончил, точнее говоря, только начал. Он действительно чувствует, что сумеет один ее поднять. Помеха исчезла бесповоротно. Надо еще раз попробовать, теперь наверняка получится. Поля взглянула на него — спокойно, вопросительно. Боже, о каких глупостях он думал! Обида — какая обида? Разве жертва станет так смотреть? Да это же глядит сама благодарность. Ну, скажем, благодарность со знаком вопроса: чего он еще захочет?
Тогда, в первый раз, он ее недооценил, сам дал маху. Да и хотелось-то ему, по правде сказать, одного — насолить наглецу художнику. Ну а сейчас… Широковатая, но плотная задница, груди полные и оттянутые книзу ровно настолько, чтобы появилось желание их поддержать, — такая грудь дорогого стоит. И ее спокойная готовность на все. Откуда, черт побери, простая девка знает, в чем он сейчас больше всего нуждается? В спокойствии и готовности на все. Хватит с него авантюристов и авантюристок, целый день трепавших ему нервы.
Рубашку пускай наденет, но только рубашку. Ничто не должно мешать успеху эксперимента. Наука прежде всего. Джакомо поправил ткань, слишком уж обтягивающую Полины округлости, засучил рукава. Надо учиться на ошибках. Свобода движений и сосредоточенность — вот главное.
Отступив на шаг, закрыл глаза. Трудно сосредоточиться, глядя на грязные пятки и соблазнительно выпяченный зад. Эту ошибку он уже совершил. И все закончилось на полу, не между небом и землей, а между ее ягодицами — так-то… Дышал глубоко. Ждал.
Но ничего не происходило. Внезапная дрожь не сотрясала мозг, кромешную тьму не разорвала ни единая вспышка. Пустота, бесформенное ничто. Сейчас он вырвется из этой трясины, доберется до сути; придет наконец озарение, и он увидит свое будущее. Еще один вдох, до боли в груди. И тотчас, откуда ни возьмись, явился друг темноты — страх. Так он и подумал: «Страх, друг темноты» — еще до того, как реально его ощутил. Нет, какой там друг — враг, лютый враг. Предощущение боли, куда более мучительное, чем сама боль, бескрайнее поле и безостановочно кружащие над головой стаи птиц, тяжелая поступь палачей, презрительная ухмылка Куца. Напрячь все силы, очнуться, убежать. Иначе эта тьма поглотит его, вязкий страх и презрение безжалостных хозяев превратят в раба.
Итак, взлет — а не вязнущие в трясине ноги; рывок — а не унылое равнодушие. Раз, два, три. Последний вдох. Но «четыре» прозвучало уже не так решительно, а «пять» Джакомо и вовсе проглотил. Вдохновение пропало, едва он прикоснулся к Поле. Чуть уловимый запах пота и исходящее от нее тепло отбили желание противиться дурацким мыслям — они вновь вернулись. Зачем куда-то бежать? Вот его опора, последняя соломинка, начало и конец, мать и возлюбленная, утешительница павших духом, кормилица голодных, убежище для преследуемых. Это пышное тело в его руках.
И. опять он не сумел ее поднять, но не стал больше напрягать ум и мышцы, дабы убедиться, что ему это по силам. Опустился на колени, но не успел покрепче обхватить девушку, как она, молниеносно перевернувшись на спину, потянула его на себя. Ее рубашка высоко задралась, да и его панталоны от одного движения соскользнули вниз. Он склонился над ней, преисполненный волнением и нежностью. Нужно избавиться от неприятного осадка. Он не маньяк и не насильник. Способен уважать каждую женщину, любить, боготворить. Да, Поля, да. Пусть его обнимет, защитит от злых сил, прогонит затаившуюся где-то под кожей тревогу, — надо полагать, он это заслужил.
Главным для него всегда было первое сближение тел, первое соприкосновение самых чувствительных мест, однако сейчас Джакомо почти ничего не почувствовал. А она уже готова была его принять — мягкая, теплая, влажная. Потому и он вошел в нее нежно и погружался неторопливо, словно в полудреме. Ничто не могло нарушить этот ритм. Ни твердые соски, набухающие под его губами, ни внезапная судорога бедер, требующая более решительных действий.
И так — спокойно и нежно — все шло до конца. Она крепче прижала его к себе, когда он застонал на ее груди, и мир вокруг приветливо замер. Тишина, тепло, покой. Чего еще желать?
«Я становлюсь сентиментален, — подумал Джакомо, слезая с нее и осматриваясь в поисках чего-нибудь, чем можно было бы вытереться. — Того и гляди, превращусь в полного рамоли: начну зимой кормить птичек да устраивать приюты для падших девиц». Но и эти мысли были скорее шутливыми, нежели навеянными искренними опасениями. Ну хорошо. На сегодня хватит. Пора собираться домой. Перед завтрашним экзаменом надо хорошенько выспаться. Он бы заснул и здесь, подле нее, но зал не отапливался, а ночи были холодные. Нет, прелести примитивного существования уже не для него. Тем более что завтра он должен быть в отличной форме. Должен блистать, ослеплять, передвигать горы. Домой. Мы едва живы, убедился не без удивления, застегивая панталоны. Вот уж действительно в первый раз он недооценил Полю и только сейчас увидел, на что она способна. Но и этого довольно. Быстрей домой, поужинать, выпить подогретого вина — и в теплую постель, безо всяких женщин.
Что-то, однако, его удержало. Быть может, страх, что после этой неудачи и дальше все пойдет кувырком. Быть может, остатки энергии в мышцах или неожиданное проворство, с которым Поля встала на колени, и сожаление, что такая оказия скоро не повторится. А может, простое упрямство. Он потянулся за плащом, на котором она стояла, надевая узорчатую блузку. Но не дотянулся. Передумал еще до того, как пальцы коснулись пола. Может, потому у него ничего не получалось, что, хотя она все понимала, ждала, а то и желала удачи, неотразимая мощь ее плоти ослабляла его духовные силы, и, она камнем устремлялась к земле вместо того, чтобы перышком взлететь вверх. А если попробовать неожиданно?.
Он бы полжизни отдал, чтобы на этот раз получилось. Все силы мира, на помощь! Шагнул вперед и, набрав полную грудь воздуха, как перед прыжком в воду, просунул руки под колени полуобнаженной девушки. Ничего. Вдохновение оказалось мнимым. Пустота. Только веснушки у нее на шее и скользкий пот под коленями. Она даже не шелохнулась, но, едва он распрямился, крепко схватила его за щиколотки. Еще минута — и он потеряет равновесие. Что она, с ума сошла?
— Пусти!
Не послушалась. Он хотел ее оттолкнуть, но Поля потянула его на себя, он рухнул как подкошенный, растянулся во весь рост на полу, и вот она уже усаживается на него верхом, бесстыдно показывая все, что можно показать, и тянет руку туда, где сейчас вряд ли что-нибудь найдет. К черту, только не это, на сегодня хватит — он не хочет, ничего больше не хочет. Она неправильно истолковала его движение, ему не то было нужно, совсем не то.
— Слезай!
Не понимает по-французски, сука. Да и что она вообще понимает, кроме того, что коли уж села на него, надо поставить стоймя его надломленный недавней бурей бушприт. Хотя нет, кое-что понимает, поскольку, когда он попытался ее сбросать, только засмеялась и крепче сжала бедра. По роже бы за такую наглость, но как дать по роже, когда руки заняты — она поспешила положить их себе на грудь. А грудь у нее!.. Сама Катай может позавидовать. Но что это, разрази ее гром: у него уже пропала охота бежать? А остаться… потом ведь стыда не оберешься… разве что подсобит какая-нибудь неведомая сила. Тысяча чертей! Последствия такого конфуза будут пострашнее любых других напастей. Возможно, этот мазила специально ее подослал и уж конечно не упустит случая раззвонить о его позоре. Вся Варшава покатится со смеху, сотрясая землю и небо. Этих безжалостных придворных он знал, как самого себя.
Итак, спасай свою честь, Джакомо. Сосредоточься, и ты подбросишь эту наглую задницу до потолка. Еще две секундочки. Закрыть глаза, подчинить себе все мысли и мышцы, дождаться, пока налетит космический вихрь, вливая божественную силу, что и горы сдвигает, и блоху может превратить в тигра. Увы! Не нужно было открывать глаза, чтобы убедиться, сколь он далек от успеха. Но и мрак не сулил надежды. Давние страхи в любую минуту могли вновь на него навалиться. Джакомо стиснул давившую на ладони грудь. Раз, другой, но ничего не добился. Идиотизм. Рванулся, закипая от злобы — неизвестно, то ли на эту девку, то ли на себя. Она его не отпустила, но могучее тело заколыхалось; откинувшись далеко назад, Поля шире развела колени, чтобы не вылететь из седла, которое себе на нем устроила. Казанова приподнял голову; теперь можно и открыть глаза.
И тут его наконец проняло, хотя представившееся зрелище пригвоздило к полу. Меж раздавшихся в сторону стеблей таился цветок редкостной красоты, светозарный путь вел к самой настоящей девичьей калиточке. Да, да, не к широким воротам, готовым принять полк солдат, и не к соблазнительно распахнутому парадному входу, а к маленькой калиточке: поисками таких — отнюдь не пренебрегая их менее привлекательными сестрами — он занимался всю жизнь. Ну, может быть, не всю. С тех пор как Беттина… Сколько ему тогда было — одиннадцать? Как же так — ведь он уже не в первый раз с Полей и, дурак, ничего не заметил? Да, не замечал, зато сейчас заметил. Больше того — как зачарованный, уставился на чудо природы, внезапно открывшееся ему между ногами простой польской девки. И в этом Катай тоже может ей позавидовать.
Поля вздохнула громко, жалобно. Теперь должно произойти еще одно чудо. И, прежде чем она отчаялась, произошло. Блоха превратилась в тигра, тигр зарычал, обнажил клыки, прыгнул. Сейчас он покажет класс. Придворные сплетники языки проглотят, подавятся своими дурацкими смешками. Джакомо приподнялся на локтях, чтобы ей помочь, но Поля толкнула его кулаком в грудь так сильно, что он стукнулся спиной об пол. Рехнулась? Однако бунтовать было поздно, он уже вошел в нее, ему уже хотелось безумствовать, биться головой о стенку, высекать мириады искр. Впрочем, и это оказалось не в его власти.
Не он задавал темп, не он определял, когда первоначальной сдержанности надлежит смениться бурным кипеньем, а затем беспамятством. Ей нужно было только его заполучить. Ничего больше. Никаких признаний, поцелуев, даже перемены позы. Но и не меньше, ибо, когда он попытался, воспользовавшись ее возбуждением, украдкой улизнуть, тут же его цапнула и направила на верный путь.
Тысяча чертей! Бешеный галоп, молотьба ягодиц по его бедрам, бесстыдное чавканье скользких от пота тел… Что это? Ей будто огонь под хвост сунули. А он, этакий умник, не видит, что подзаборная шлюха использует его всего лишь как палку, как безымянный предмет, с которым нечего считаться. Почему, о небо, он ей такое позволяет? Но ведь то же самое она недавно позволяла ему. Да, да, эта деваха, эта Поля, сейчас шворит тебя, Джакомо, как ты шворил ее несколько минут назад. Эта мысль больно его уколола, но возмущаться по-настоящему не было ни охоты, ни сил. Будь что будет. Какая разница, кто наверху.
Однако — хватит! Помедленнее. Осторожней, так она ему все кости переломает. Если бы только кости — яички завтра раздуются, как воздушные шары, хорошо хоть не проколотые. И тише — она своими воплями всех мышей в норах переполошит. Merde. Неужели это никогда не кончится?
А через минуту ему уже захотелось, чтоб не кончалось. А еще через минуту он почувствовал, что неминуемо кончится. Прямо сейчас, при очередном скачке неугомонного тела. Джакомо приподнял голову, чтобы увидеть, как все взлетит в воздух, как он и ее подбросит силой своего взрыва, как они вместе воспарят к потолку, волоча за собой шлейф пыли и медленно оседающих опилок. И вдруг над ее волнующейся грудью в рамке кустистой подмышки увидел безумные глаза Иеремии.
Надо крикнуть, чтобы он убирался, прорычать повелительно «Вон! Как ты смеешь!» — но ничего этого Казанова сделать не смог. С губ сорвалось только нечленораздельное бормотанье — и все было кончено.
Нет, не кончено — она еще издала какой-то странный стон, словцо бы подавилась кашлем. От нее он такое услышал впервые. Ну конечно, стоило дождаться этого момента, чтобы понять: раньше ему не удавалось ее удовлетворить. Видимо, потому она решила взяться за дело сама. Ну и что? Кто сказал, что он обязан ублажать всех на свете? Мало, если только некоторых?
Казанова не разжимал объятий. Еще минутку. Он умрет, если пошелохнется. Суметь бы хоть слово сказать Иеремии. Почему он стоит, не сводя с них глаз? Только что был бледен как полотно, а теперь покраснел как рак. Всякий бы на его месте покраснел. Что поразило мальчика? Великолепное, классических пропорций тело, достойное резца древнегреческих скульпторов? Нет, скорее вспотевшая, бесстыдно оттопыренная задница. Вон! Почему — вон? Хватит таращиться, пусть лучше стащит с него эту тушу. Еще немного, и он испустит под нею дух. И так уже чуть живой — отнюдь не от счастья. А впрочем, пускай глазеет. По крайней мере, кое-чему научится. Он в его возрасте не довольствовался созерцанием. Интересно, откуда этот щенок здесь взялся? И что он, собственно, видел?
— Ты давно здесь?
Иеремия невразумительно что-то пробормотал, теперь уже глядя в пол. Сухие травинки в волосах. Должно быть, спал за сценой. Не важно. Важно дожить до завтра.
— Ладно. Отведешь Полю домой. Я еще задержусь ненадолго.
Джакомо плохо помнил, как и когда оказался в своей постели. Точно так же он раньше затруднился бы сказать, зачем остался. Уж наверное, не для того, чтобы в конце концов наткнуться на компанию подвыпивших гуляк в офицерских мундирах и, поддавшись их уговорам, отправиться в поход по каким-то грязным и шумным кабакам. Кому он не решился отказать — им или себе? Впрочем, не важно — погулял на славу. Хотел отдохнуть, а устал так, что едва дышит. Хотел избавиться от ненужных мыслей, а теперь голова тяжелая, как котел. Хотел напиться — пил, пил, но жажда только усиливалась. В него вселился какой-то демон противоречия. Он прекрасно знал, чего не надо делать, и именно это делал с большим удовольствием. Ставил кому ни попадя, орал на всех языках мира, рвался в драку и, главное, поглощал рюмку за рюмкой омерзительной водки. От одного запаха которой хотелось блевать, а от вкуса — умереть на месте. Проснулся посреди ночи, почувствовав, что сейчас произойдет и то и другое.
Скорее, все же его разбудили: из глубины дома доносились какие-то звуки, кашель, что-то со стуком упало. Пожар? По крайней мере, воды будет вдоволь, а то сейчас — ни капли. Этот болван Василь, конечно, не позаботился. «Василь!» — закричал Джакомо что было сил, но… с губ не сорвалось ни звука. Господи, может быть, он уже на том свете, может, это вовсе не явь и не сон…
Лихорадочно ощупал себя. Голова, ноги — все на месте; сердце бьется. Живой. Это главное. Синяк на лбу до завтра сойдет. А нет — высыпет на него кило пудры. Болело еще в одном месте, но тут уж он помнил отчего. Поля. Поразительная Поля. Здоровенная туша с дырочкой Беттины. Еще немного, и от него бы мокрого места не осталось. Она-то куда девалась — должна быть при нем, облегчить страдания, напоить, помассировать голову. Ох, вытянуться бы сейчас рядом с этим телом, прохладным, озябшим во сне, лежать, ни о чем не думая, и радоваться любым проявлениям жизни. Отдыхать. Потом тронуть ее пальцем, легонько, чтобы явственнее ощутить прикосновение, быть может, перебросить через нее ноги — на всякий случай, чтобы не убежала, — и так дождаться утра.
Пить. Все равно что, хоть воду из таза. Но и таза не видно. Ну и банда. Он подохнет от жажды, и ни один из этих дармоедов пальцем не шевельнет. А ведь они здесь, здесь, он слышит чей-то неунимающийся кашель. Медленно встал, голова закружилась, желудок подскочил к горлу, но холодный пол под ногами сразу привел его в чувство. Открыл дверь в сени: где-то тут должно быть ведро с водой. Уже нащупал железную ручку и привязанную к ней кружку, как снова, отчетливо и близко, услышал звук, который раньше, не задумываясь, принял за кашель. Неужели он настолько пьян, так отупел, что не может отличить любовный стон от харканья чахоточного? И не узнать голоса, который совсем еще недавно сверлил ему уши. Поля? С Василем?
Кружка выпала из рук и плюхнулась в невидимую воду. Джакомо едва сдержался, чтобы не пнуть ведро ногой. Совсем сдурел из-за этой проклятой водки. Кто он? Одиннадцатилетний мальчишка, топчущийся, дрожа от холода и волнения, в коридоре под дверью Беттины, которая не отзывается на его шепот и стук, не впускает к себе, забыла клятвы, навеки связавшие их прошлой ночью? Еще не познавший женщины сопляк в ночной рубашке, услышавший на лестнице шаги возвращающегося домой хозяина и увидевший, как распахивается дверь другой комнаты, где живет этот прыщавый ублюдок Берти, и на пороге появляется его возлюбленная Беттина, судорожно подтягивающая чулки?
Вот именно. Он еще не окончательно лишился ума. Какие одиннадцать лет, какая рубашка? — на нем только разорванные на животе панталоны. Дрался, отбивался от каких-то подонков? Кажется, за их компанией из кабака в кабак таскалось несколько подозрительных типов. Хорошо, он успел раньше истратить деньги. Но Василю все равно надает по шее, в лучшем восточном стиле. Что за беспорядок в доме! Ни воды под рукой, ни ночной рубашки. За что этот сукин сын получает жалованье? За то, что потаскух шворит?
Тишина. Только в голове шумит. Джакомо по локоть опустил в ведро руку. Вода была ледяная, но если бы сейчас пришлось выбирать между кружкой родниковой воды и прекраснейшей из женщин, он бы ни секунды не колебался. Ну, может, секунду, прикидывая, нельзя ли совместить то и другое, но потом прильнул бы губами к кружке и пил, пил, пока дух не захватит.
Ну наконец-то. Облегчение. И тишина. Это главное. Опять, верно, почудилось; и что за мерзость лезет в голову? Да и какое ему дело до этой ненасытной шлюхи? — его сейчас вообще ничто не должно интересовать. Обратно в постель и спать, спать, исчезнуть из этого мира — вот единственное, что ему хочется сделать. И незамедлительно. Но сделал он совсем другое.
Внезапно сверкнула мысль: а что, если этот утомительный безумный день, изнуривший ум и тело, подготовил наступление единственной, самой важной минуты? Сейчас у него все получится, не может не получиться. Разве мир не соткан из противоречий, разве он, Джакомо Казанова, не был сегодня унижен и не унижался сам ради того, чтобы наконец воспарить? И чем ниже пал, тем выше вознесется. Никого нет. Даже этот бородатый дьявол, чей пронзительный взгляд он с некоторых пор все чаще ощущает затылком, наверно, храпит без задних ног. Видимо, так и должно быть. Безо всяких свидетелей он покажет свою истинную силу. Она уже вибрирует в каждой клеточке тела. Еще несколько мгновений — собраться с мыслями, напрячь все мышцы для последнего усилия, — и он, вершок за вершком, оторвет сперва одну, потом другую стопу от каменного пола и повиснет в воздухе. А может быть, и взлетит, вспорхнет, как птица. Если б не этот идиотский низкий потолок…
Джакомо попробовал оторваться от пола, но пол приподнялся вместе с ним. Это еще что? Злобная выходка материи, защищающей свои права? Сто тысяч храпящих чертей! Он плевал на эти права, нужно только повыше подпрыгнуть, земля сама уйдет из-под ног. Подпрыгнул, повис на секунду в воздухе, но, не успев обрадоваться, снова почувствовал под ступнями каменную твердь. Ах так? Что ж, попробуем по-другому.
Нащупал у стены продолговатый предмет. Скамейка. В темноте все стороны света перемешались, закружились, вовлекая его в бешеный водоворот: даже не двигаясь с места, он с трудом удерживал равновесие. Тем не менее взобрался на расшатанную доску, выпрямился, раскинул руки. Он орел, орел, расправляющий крылья над пропастью, в которую сейчас бросится лишь затем, чтобы ее покорить и высмеять, и это произойдет, едва он, взмахнув могучими крылами, величаво воспарит ввысь.
Прыгнул. Со стуком бухнулся на колени; впрочем, пола коснулось лишь одно из них. Схватился за что-то, хотел подтянуться, чтобы окончательно не упасть, а затем, быть может, с трудом — уже не как орел, а как человек, — взлететь, но не успел. Стена вдруг куда-то отъехала, и, еще не поняв, что происходит, цепляясь за ручку распахнувшейся двери, он влетел в небольшую комнату. Там было светлее, чем в коридоре, да и глаза уже привыкли к темноте. Поля. Пышное Полино тело, обвившееся вокруг чьих-то ног, бедер, плечей. Но этот стройный, мальчишеский торс не может принадлежать Василю. Иеремия, разрази его гром! Ну и ну, смекалистый оказался ученик. Поля и Иеремия. Спят или притворяются, что спят. Не важно.
Джакомо тихонько попятился и закрыл за собою дверь. Опять его мучила жажда и кружилась голова. Взорваться от ярости помешало лишь сознание, что немного он все-таки полетал.
День начался скверно. Сперва он выбранил Василя за то, что тот не протопил печь, а потом за то, что протопил и напустил полную комнату дыма: уж лучше замерзнуть, чем задохнуться. Эта жалкая рассудительность, имеющая мало общего со здравым смыслом, который, как правило, не изменял Казанове, пока его не занесло в эту проклятую страну, стоила Василю сильного пинка и обещания последующих, если он немедленно не приведет кого-нибудь, кто бы починил чертову печку. У Джакомо стучало в висках и бунтовал желудок при одном воспоминании о том, сколько гадости было вчера съедено и выпито. А тут еще глаза стали слезиться от едкого дыма. Содом и Гоморра. Он залил очаг водой и открыл окно.
Стало немного полегче. По крайней мере, можно было дышать. От первого глотка свежего воздуха Джакомо закашлялся, сплюнул, громко высморкался. С улицы донеслись невнятные звуки — то ли сдавленные проклятья, то ли отголоски перепалки; мимо шли люди, один мужчина повернул и направился к их дому, но — наткнувшись на взгляд Казановы? — остановился, прислонившись к стене, и стал раскуривать сигару. Знакомый? Нет. С таким хамьем он не знается. Откуда же чувство тревоги? Чепуха. Мир — увы, серый — вступает в очередной день своей — увы, безрадостной — жизни, торговки на площади визгливо переругиваются, возницы щелкают кнутами, с подвод на землю летят связки поленьев и бидоны с молоком, все так же, как было и как будет, но почему-то на лбу выступил холодный пот от страха. Опять за ним кто-то следит?
Едкий чад еще не развеялся, а Джакомо уже стало холодно. Он вышел из комнаты, заглянул в кухню, но ни Сары, ни Этель не было. Почему — уже поздно или еще рано? Хорошо, он не голоден, а то бы и им могло достаться. А Иеремия? Каморка мальчика тоже была пуста. Этот-то куда подевался? Кто подаст таз, кто поможет одеться? Ему ведь даже нагнуться трудно. Дармоеды, никогда их нет под рукой. Хотя на самом деле Джакомо был этому рад. У него не было желания никого видеть, и уж меньше всех Полю и Иеремию. Что можно сказать щенку: что без разрешения садовника в чужом саду не хозяйничают? — но он сам тысячу раз так поступал. А чтобы обратить все в шутку — это был бы единственный достойный выход, — надо сначала собраться с силами.
Джакомо вернулся к себе. Ноги сами понесли его к окну — не только для того, чтоб закрыть. Мужчины с сигарой не было. Ну вот, снова чуть не свалял дурака. В каждом прохожем простецкого вида готов видеть преследователя. Ничего, это пройдет. В первом же борделе Гданьска, Вроцлава или Кракова. Высунулся подальше, чтобы окончательно отмести подозрения. Неподалеку, на противоположной стороне улицы, стоял еврейский мальчик. Тот самый. Натянутая на торчащие уши шапка, съежившаяся от утреннего холода фигурка — да, это он. Только, пожалуй, побольше корзина, доверху набитая булками, — лакомством, к которому озябшему замухрышке запрещено притрагиваться. Казанове вдруг захотелось есть — ничего странного, он не верблюд, чтобы сидеть на одной воде. Знаком подозвал мальчика. Тот неуверенно огляделся, и только когда он еще раз махнул рукой, сдвинулся с места, сгибаясь под тяжестью корзины.
— Я беру все.
Даже не посмотрел, какую монету кладет на стол; не важно, он бы и последнюю отдал. Ведь сегодня вечером — всплыло в памяти — он будет богат. Пусть и этому несчастному с горящими глазами на испуганном лице хоть что-нибудь перепадет.
— Вместе с корзиной.
Кто-то другой говорит и думает за него. Он сам сидел бы, как сидит, широко расставив ноги и уронив на грудь голову, ничего не говоря и ни о чем не думая, да жевал булки, пока не съел бы все до единой или не лопнул. Но тот, другой, не унимался.
— Ты тоже поешь. Садись и ешь, говорю.
Мальчик заколебался; он понял достаточно много, чтобы присесть на стул, но к булкам не прикоснулся, даже смотреть старался в другую сторону.
— Ты не голоден?
Голоден — иначе откуда бы это страдание во взгляде?
— Тебе нельзя?
Голова мальчика склонилась еще ниже. Нельзя, ясно, что нельзя. Но ведь за булки заплачено. А? Никто не видит, никто не узнает. Ну!
— Ешь, не то тебя съедят.
Отломил кусок булки, сунул мальчику в руку.
— Ты что себе воображаешь? Этот мир — не для тех, кто свято соблюдает пост и боится нарушить запреты. Здесь нужно иметь клыки, когти и сытое брюхо. Состаришься — поймешь. Но до старости еще далеко. Не валяй дурака, бери, раз дают, я тебе плохого не посоветую.
— Нет.
Тихое, по-польски произнесенное «нет» оглушило как выстрел. Тот, первый, широко раскрыл глаза: откуда в этом заморыше такая твердость? Второй поперхнулся от злости. — Да!
Схватил мальчика, запихал ему в рот этот несчастный кусок. Пусть поест, пусть хоть на один день перестанет смотреть на мир глазами голодной дворняги. И может, на всю жизнь запомнит своего благодетеля. Челюсти мальчика вяло задвигались; Джакомо подумал было, что закон природы взял верх и сейчас начнется: бедняга будет пожирать эти булки, заглатывать целиком, давиться и чавкать — однако нет, мальчик снова замер. Только на глаза его навернулись слезы и все быстрее, все смелей покатились по набитым запретной пищей щекам. Ну, это уже слишком! Кто-то заглянул в приоткрытую дверь кухни. Иеремия. Пошел он к черту! Пошли они все к черту!
Джакомо кинул монету в шапку мальчика и зажмурился, скрывая переполняющую его непомерную, жгучую и бессмысленную ярость. Когда решился снова открыть глаза, маленького торговца и след простыл. На пороге стоял смущенно улыбающийся Иеремия. Небось ночью был побойчее. С Полей как-никак справился. Захотел поглядеть, что здесь происходит? Пожалуйста!
Толкнул одной, потом обеими руками корзину с булками. Хладнокровно смотрел, как, шурша, вываливаются, рассыпаются по полу эти паршивые булки, с помощью которых он думал хоть на одном клочке пространства исправить мир, как они, переворачиваясь, залетают под плиту, прыгают под стол, катятся к ногам перепуганного Иеремии. На колени! Да, да, этот сопляк должен на коленях вымаливать прощение. Или, по крайней мере, подобрать с пола завтрак.
В комнате был пронизывающий холод, но сейчас Казанове это уже не мешало. Он прижался пылающим лбом к оконному стеклу. Нужно успокоиться, привести нервы в порядок. Сегодня надо быть сильным, как никогда. Верно, от здешней водки, этого обжигающего глотку пойла, он стал плохо соображать. Ведь ничего особенного не случилось. Иеремия? Сопляк впервые в жизни переспал с женщиной — да это же повод для веселья, а не для скандала. Еврейский осел! Не глумиться надо было над мальчиком, а восхищаться. На его месте мало кто проявил бы такую силу воли.
Казанова решительно закрыл окно. Улица была пуста, если не считать двух закутанных в шали молочниц, примостившихся возле своих бидонов. Шпик с сигарой в зубах — всего-навсего плод его воображения.
А печь, проклятая печь, которая чадит, но не греет? Это, конечно, неприятно. Но не причина, чтобы лезть на стенку. Любые неполадки исправимы, а тут всего-навсего дурацкая печка. Сейчас Василь приведет печника, и вся недолга. Впрочем, зачем ему какой-то грязный мастеровой, он и сам справится. Велика штука печь! Каждый ребенок знает, что это такое. Надо только проверить, не забился ли дымоход.
Ощутив внезапный прилив энергии, Казанова приступил к делу. Открыл массивную печную дверцу, заглянул внутрь, засунул глубоко руку. Интересно, понимают ли здесь, что сооружение печи — большое искусство, требующее немалых знаний? Если не соблюсти таинственного соотношения между высотой трубы и размерами очага, получится такая чадилка, как эта. Но, может, не все так плохо. Может, вороны летом свили в трубе гнездо. Вот-вот. Падающий на остывший очаг свет слишком слаб, да, тут ничего не разглядишь. И руками не нащупаешь, поэтому Джакомо, присев на корточки, нагнулся и влез в печь по самые плечи. Мало. Протиснулся глубже, напряженно всматриваясь вверх. Еще дальше? Он уже чуть ли не по пояс забрался в темный дымоход. От гари засвербило в горле. Ну и что? Ничего. Немного он так увидит. Да и расхотелось уже. Нет, он все-таки спятил. Голова кружится от этой вони; только бы не закашляться — сажа мигом забьет глотку. Черт бы побрал и печку, и того, кто ее поставил. А дурака, который в нее залез, пускай немедленно вытащат и оставят в покое. Вот и в комнату кто-то вошел, наверно, Василь привел печника.
Джакомо высвободил плечи, но голову вытащить не успел. Чьи-то лапы придержали его, крепко ухватив под мышки. Он почувствовал мерзкий запах дешевых сигар и услышал не то сопенье, не то хихиканье. Это не были Василь с печником. В комнате находилось по меньшей мере три человека. Двое пригвоздили его к печи, третий хихикал в дальнем углу. Это единственное, что он сумел понять. Кровь ударила в голову; Джакомо завопил, рванулся что было мочи. Безрезультатно. Взметнувшаяся со дна очага зола забила ему рот, а плечи, точно клещами зажатые чьими-то лапами, чуть не вылетели из суставов. Он в западне. Его зарежут, как свинью. Все пропало. О Господи! Боль молнией пронзит живот или левую лопатку. И конец. Конец Джакомо Джованни Казанове, дураку, добровольно сунувшему голову в петлю. Но если эти скоты рассчитывают поживиться, их ждет горькое разочарование.
— Чего ты там ищешь?
Не в живот, не под лопатку — кто-то вбил гвоздь в макушку. Ему знаком этот голос, и смех он уже не раз слышал. Где, когда? Не знает, ничего он не знает.
— А может, спрятаться от нас захотел? А?
Куц. Капитан Куц. Это зловещее «а?» ему не забыть до смерти. До смерти? Ох, они не грабить пришли. Гораздо хуже. Убивать? Прямо так, сразу? Нет, это не в их привычках. Сперва его вздернут на дыбу, привяжут к лошадям, сдерут шкуру. Боже, а приснилось, что он от них избавился. Он будет жаловаться послу…
— Зря ты туда пошел. У нас здесь свои задачи, и никому до них нет дела, понял? Даже самому сатане.
«Сам ты сатана вонючий. И место твое в аду», — злобно подумал Джакомо. Он задыхался, эти идиоты удушат его за здорово живешь. Откуда им знать, что проклятая печь не тянет? Опять рванулся.
— Спокойно, мы тоже можем рассердиться.
Кто-то приставил носок башмака к бедру. Сейчас лягнет, и он сломает челюсть о железную решетку. Раз нельзя их убить, лучше не сопротивляться. Но глотнуть воздуха он успел. Дальнейшее зависит от них. Подохнет — они ничего не узнают.
— Что сегодня собираешься делать при дворе? Штучки свои показывать?
Раз, два, три… досчитает до пятнадцати и сомлеет. Но — не выдержал.
— Это искусство, подлинное искусство, — прохрипел, давясь бешенством и сажей. Даже посланцам ада он не позволит считать себя шарлатаном. Дошло. Голос Куца умолк, но через секунду раздался с другой стороны. Уж не желает ли, скотина, поменяться с ним местами.
— Ладно, ладно. Нам все едино. Только не забудь, зачем ты здесь и кому обещал служить. А уж мы вечером подошлем тебе парочку крепких ребят: не то что Телка — слона одним пальцем подымут.
Нет, нет и еще раз нет. Кретины, не будет он им служить, даже под страхом смерти. Напряг все силы, вытолкнул из легких остатки воздуха и крикнул, словно этот крик мог его спасти:
— Н-н-н-е-е-е-т!
Пронзительный вопль истерзанного тела и смятенной души, оставив смоляной след на стенке печи, устремился в трубу и, наткнувшись на невидимое препятствие, ввинтился обратно в глотку, просверлил желудок, набрался сил в извивах кишок и вырвался наружу выстрелом, громким и смрадным.
Что было дальше, Джакомо не помнил. Что-то мягкое плюхнулось ему на голову, и сознание померкло окончательно. Очнулся он — спустя час? четверть часа? минуту? — на каменном полу перед печью. В одиночестве. Схватился за голову — цела? Цела. Только горела от боли левая ягодица. Когда-нибудь он за это отплатит Куцу, за все ему отплатит.
Пытаясь встать, Казанова задел рукой какой-то комок, рассыпавшийся в пальцах. Это еще что? Кучка полусгоревших листков. Оглянулся: из дымохода торчал еще один комок. Вот что на него упало, вот чем была забита труба. Загадка решена. Василь, идиот, пихал в печь целые горы бумаг. Минутку! Страшное подозрение заставило Джакомо вскочить. Он сунул руку в печь — некоторые листы были только слегка обуглены. Так и есть! Его почерк! Сейчас…
«Тюремщик… сажают на табурет, спиной к этому ошейнику, в который входит половина шеи. Другую половину захлестывают шелковым шнурком, концы коего закреплены на колесе. Колеса крутят до тех пор, пока…» Боже, его записки из-под Свинцовой Крыши. Вот почему он в последние дни не мог их найти. А это?
«…рука моя достигла корсета — настоящей тюрьмы, скрывавшей два стесненных полушария…»
Убить подлеца! Шпагу ему в глотку по самую рукоятку! Злодеи вокруг, одни злодеи. Его рукописи, дело всей жизни — в печке. Мало убить — лично препроводить в ад! Разбойники! Попрятались; когда нужно, их с огнем не сыщешь. Нет чтобы его защищать, о нем заботиться. Подлецы, сейчас он им покажет. Казанова схватил шпагу и, забыв, что от нее остался лишь обломок, кинулся на кухню.
Там он застал всех. И разгром, точно после землетрясения: посуда разбросана, стулья перевернуты, на полу растоптанные булки. Василь, побагровев от напряжения, пытался поставить на ножки огромный стол. Сара и Этель собирали булки в таз, а Иеремия, придерживаемый за ноги Полей, затыкал тряпками разбитое окно. В чем дело? Что они устроили? Пусть лучше помолятся, сейчас он каждого изрубит в котлету. Джакомо потряс зажатыми в кулаке обгоревшими листками. Кто это сделал? Кто? Кто хладнокровно его убил? Куда они провалились, когда он нуждался в помощи? Других печников не нашлось, а, Василь?
Он хоть понимает, что уничтожил? Книгу. Документ. Свидетельство эпохи. В аду его за это мало поджарить, мрачную скотину! Еще мгновенье, и Джакомо бы набросился на Василя, но вдруг заметил синяк у него под глазом, заплаканные мордашки девочек и разорванные штаны Иеремии. Видно, эти разбойники и здесь похозяйничали. Господи, весь эффект вечером будет испорчен. Черт с ними, с рукописями; возможно, будь в них больше правды, лучше бы горели. Он напишет все заново, только бы вырваться из этой Польши. А сейчас не пугать надо свою команду, а приводить в чувство. Иначе они в решающую минуту расклеятся и его опозорят.
Казанова протянул руку к Василю. Великан испуганно заслонил лицо. Боится получить затрещину? Дурак, пусть покажет свою рожу. Не так уж и страшно. Немного румян, и пудры, и ничего не будет заметно. А будет, он ему закроет глаз настоящей пиратской повязкой. Но сейчас пускай лучше уберется подальше, он за себя не ручается… Следующий! Шагнул вперед и, ошеломленный, замер.
Со стены на него смотрело странное черномазое существо: дьявольская физиономия с болтающимся над ухом скальпом парика и сверкающими белками глаз. Джакомо чуть не бросился наутек, но вовремя сообразил, что это его собственное отражение в зеркале. Он? Не может быть. Поднес руку к носу. Чучело в зеркале ткнуло черной лапой в огромный, точно опаленный носище. Да, он. Внутри что-то пискнуло: непонятно, плач это или смех. Повернулся. Посмотрел на зареванных сестричек. Такие слезы он осушит за пять минут — к вечеру от них следа не останется. Труднее будет прогнать страх из их глаз, но ничего, он что-нибудь придумает. Снова глянул в зеркало. Видение не исчезло. Таращилось на него с удивлением, не меньшим, чем он. Теперь Джакомо уже знал, что так назойливо щекочет изнутри горло. Повертел головой и, прежде чем осело облачко сажи, вновь взметнул его вверх оглушительным смехом, сущим ревом, иерихонской трубой. И долго хохотал, тряс всклокоченным париком, размазывая пальцами по лбу и щекам грязь, пока лица девочек не окрасились румянцем изумления; потом они тоже захихикали, завизжали, упали на пол в припадке очистительного смеха.
Джакомо помог Иеремии слезть с подоконника. Обняв его за плечи одной рукой, другой насадил на обломок шпаги растоптанную булку. Подержал минуту перед собой, как королевский жезл, потом протянул Поле. Пусть спит с кем хочет, лишь бы сегодня взвилась к потолку. Сунул руку в корзину. Это — Этель и Саре. Пусть их удвоенная сила вечером утроится. Василь поймал булку с обезьяньей ловкостью. Он и будет обезьяной, матерой гориллой, медведем-людоедом, сибирским тигром, жаждущим крови. Иеремии — прямо в рот. Мальчик обязан его спасти, даже если придется поднимать трон. Обязан. И наконец кусок булки себе. Господи, до чего же хочется есть. Нет, этот еврейский сопляк, отказавшись от такого лакомства, бросил вызов всему миру.
Они не ели. И уже не смеялись. Ждали. Что он сделает. Что скажет. Он откусил кусок. Ничего не изменилось.
— Хорошо.
Еще кусок. Уже лучше.
— Прекрасно. Есть ли на свете что-либо прекраснее?
Они почти не дышали. Все в прядке, они его.
— Есть. Чудеса. И сегодня мы должны это доказать.
Полет
Такого количества приглашенных он не ожидал увидеть. Пестрая толпа прохаживалась, громко переговариваясь, в одной из парадных зал королевского замка. Кое-кого Джакомо знал, и это прибавляло бодрости. Но остальные-то зачем? Чтобы кашлем мешали сосредоточиться? Смешками нарушали высочайший транс, дурацкими перешептываниями возвращали его и его помощников на землю? Ну и что — тысяча чертей! — у него бывали и более знатные, и более многочисленные зрители, чем при этом, в конце концов, провинциальном дворе, и все получалось. Только никогда прежде он в решающую минуту не ощущал петли на шее.
Похоже, здесь собрались все. И те, что с рублями, и те, что с талерами, и те, о ком он ничего не знал, но кто не прочь был бы им попользоваться. И барышни, дамы и шлюхи, которыми он охотно бы попользовался сам. Вот они. Катай в пурпурном платье, окруженная воздыхателями, — подскоки, поклоны, гусиное вытягивание шей. Истинная королева… ада. Бинетти, с тревогой поглядывающая на него из-под пышного парика. Лили, его очаровательная дочурка — она с ним, рядом: одета пастушкой, но, похожа на ангелочка. А дьявол? Сидит вблизи пустого пока еще трона. Живодер с бульдожьей мордой, увешанный орденами, брезгливо выслушивающий доклад вытянувшегося во фрунт офицера. Его сиятельство граф Репнин. Посол ее величества императрицы… грязной интриганки, вонючей ведьмы, свиньи в позолоченной шкуре.
О нет, нет, нет. Не надо об этом. Иначе он сгорит, не успев вспыхнуть. И они, стайка его помощников в фантастических нарядах, спрятанная за занавесом маленькой сцены… незачем им на все это пялиться — обалдеют, растеряются и провалятся при первой же попытке. Сосредоточенность, тишина, спокойное ожидание. Василь пускай присмотрит, чтоб не расходились.
— Монсеньор, — обратился Джакомо к проходящему мимо епископу, чьи умные и острые замечания на обеде у короля ему запомнились, — я собираюсь начать так: «С милостивого соизволения его величества короля Польши, Великого князя Литовского, Русского, Прусского, Мазовецкого, Жмудского, Киевского, Волынского, Подольского, Подлясского, Лифляндского, Смоленского, Северного, Черо… Чериговского…»
— Черниговского.
— Да, да. Черниговского. С милостивого соизволения имеем честь представить… Так будет хорошо?
Лицо епископа не выразило ни малейшего восхищения тем, как ловко Казанова выговаривает тарабарские названия. Красицкий, епископ Игнаций Красицкий[36], вспомнил он фамилию, вдобавок, кажется, не то поэт, не то музыкант.
— Король не любит этот церемониал, господин Казанова. Но если вы считаете нужным…
Прекрасно. Дважды ему повторять не надо. Да и что за радость произносить цветистые речи, когда пропуск какого-либо из официальных титулов могут посчитать неуважением к его величеству, а перестановка непривычных для слуха букв грозит дипломатическим скандалом.
Скромно отойдя в сторону, Джакомо дождался, пока появилась немногочисленная королевская свита, все расселись и король, еще молодой, но с печатью разочарованности на лице, знаком повелел начинать.
Первым делом Казанова церемонно поклонился, преодолевая боль в ребрах, пересчитанных утром головорезами Куца. Это королю… Второй поклон, столь же изысканный, хотя и не такой глубокий, — князьям, графам, епископам, послам, генералам и всем прочим, кого ему предстоит завоевать. Чуть раньше он заметил в толпе Котушко; эти два виртуозных поклона должны раз и навсегда отучить молокососа задирать нос. Боже, необходимо всех их околдовать, заставить себе поверить. Иначе ему крышка: придется перейти на содержание Котушко, если вообще останется, что содержать.
Джакомо поднялся на невысокий помост, примыкающий к сцене. За спиной был плюшевый занавес, а за занавесом — его странная труппа, чей страх прожигал насквозь вишневый плюш, расшитый золотом кафтан и шелковую рубашку. Спокойно, спокойно. Сейчас он покажет, на что способен.
— Ваше величество, — поднял левую руку на высоту груди, обвел ту часть залы, где стоял трон, — прекрасные дамы и благородные господа! Жизнь — великая загадка. Бог задал ее человеку, и только Богу известны все решения. Мы, люди, ощупью бредем по жизненному пути, окутанному мраком, но изредка, как озарения, нам приоткрываются детали божественного плана.
Хватит про Бога, фиолетовые одежды епископов заволновались — это небезопасно. Впрочем, чего бояться? Он не так глуп, чтобы впасть в ересь. Левый угол еще не включился. Стройная блондинка с красивым хищным лицом, в платье, роскошнее которого, пожалуй, нет в зале, смеется — не над ним ли? — небрежно заслонив веером рот. Джакомо загнул мизинец. Чур меня! Все, этой можно не опасаться.
— Одно из особых свойств человеческой натуры, которое Создатель от большинства людей утаил и открыл лишь немногим, мы бы хотели вам продемонстрировать.
Опаснее усатый чурбан, нашептывающий блондинке какие-то пошлости — не о нем ли речь? Браницкий. От этого и целая пятерня не защитит. Дальше. Спокойно, не торопясь, пусть сперва сотрут с лиц ухмылочки и угомонятся. Да и король слушает вполуха, увлеченно крутит на пальце перстень с большим рубином.
— Прошу не беспокоиться — вы не увидите ни женщины с бородой, ни мужчины о двух головах.
Они уже почти его. Дружно рассмеялись — стало быть, так же дружно стихнут. А в какой момент — он им даст знак. Уже не пальцем, а всей рукой, пока еще согнутой в локте. Вот так, хорошо. Он добился желаемого — тишины. А сейчас и внимания добьется.
— Итак, что же вам предстоит увидеть? Сам не знаю, как это назвать. Чудом, тайной, капризом природы? А разве мы с вами — не то, и другое, и третье, вместе взятые? Теперь нужно поторопиться. Иначе они вновь ускользнут, опять начнут перешептываться.
— Поглядим для начала на кисти рук. Да, на свои кисти. Что в них необыкновенного? На первый взгляд почти ничего. Пальцы, ногти. Что еще? Ну, может быть, кое у кого красивые перстни.
Король перестал забавляться рубином, посмотрел внимательнее. Теперь настала пора второй руки. Джакомо выпустил край кафтана, медленно соединил перед собой ладони.
— Однако есть в наших руках нечто, чего нам не дано лицезреть, но без чего нельзя обойтись. Тепло, ваше величество, тепло, любезные дамы и господа. Причина и следствие нашего существования. Божий дар, разносимый кровью по всему телу. Мы его не видим, но без труда можем почувствовать. А если мы излучаем не только тепло, но еще и естественную энергию особого вида, которую нельзя ни увидеть, ни почувствовать, но которая тем не менее существует? Как в этом убедиться? Как узнать, что каждый из нас обладает биологической силой, о которой понятия не имеет? Как доказать, что телесный магнетизм — ибо так ученые называют эту неведомую до недавних пор силу, — нечто реальное и материальное?
Помолчать. Две секунды, не более.
— Не знаю.
Прекрасно. Они разочарованно вздохнули, пренебрежительно надули губы.
— Я не знаю. Но, как любит говорить мой друг Вольтер, всегда найдется кто-нибудь, кто знает. И такую особу я как раз собираюсь вам представить.
Вздох облегчения, шарканье подошв, возбужденный шепот прозвучали, точно ангельские хоры. Ему бы зевак на ярмарках завораживать. Наконец можно расцепить руки — и чего этот Вольтер постоянно лезет в голову? — простереть над ними — какой он, к черту, друг? — заключить всех в свои объятия — беседовали несколько раз, но так и не прониклись взаимной симпатией, — пленить, притянуть к себе растопыренными пальцами, а затем, сжав кулаки, — если разобраться, самоуверенный пустомеля — сплотить!
И так, держа в распростертых руках всю залу, Казанова попятился и осторожно — чтоб никого не выронить, — повернулся к сцене.
— Перед вашим величеством, перед собравшимися здесь сливками общества — потомок татарского хана и индийской княжны Иеремия Великий и его не менее экзотическая свита. Voila![37]
Василь услышал, понял, потянул за шнурок. Занавес раздвинулся, но открывшееся зрелище неприятно поразило Казанову.
Где воздетые вверх руки Иеремии, которым он должен доверить то, чем только что завладел? Мальчик стоял понурый, испуганный, нервно теребя край чересчур просторного плаща из черного бархата. Боже, только бы они не начали смеяться. Чего ждешь, сопляк? А эта корова Поля? Почему ничего ему не подает? — не для того ей подарено платье, каких у нее в жизни не было, чтоб теперь стояла столбом, тупо тараща глаза. Поехали!
Вместо Поли к Иеремии подошел Василь, низко поклонившись, вручил мальчику табакерку. Спаситель! За это можно ему простить сожженные бумаги. Быстро опустив руки, Джакомо еще дальше отступил назад, пока не почувствовал спиной занавес. Пора. Вот он, этот момент! Сейчас все решится. Пан или пропал. Со щитом или на щите. Зажмурился — лишь бы не сглазить. Что произойдет, он услышит. Но тишина невыносимо затягивалась. Неужто зал настолько ошеломлен, что у всех языки отнялись при виде чуда — повисшей между пальцев Иеремии табакерки? Глянул, и лоб оросился холодным потом.
Мальчик, белый как полотно, жадно хватая ртом воздух, судорожно вертел табакерку, точно она жгла ему пальцы. Это был не тот Иеремия, который вчера справился даже с медным чайником. В зале еще не смеялись, но поднявшийся шумок не сулил ничего доброго.
Пресвятая Дева! Табакерка глухо стукнулась об пол — Иеремия сжимал в кулаках воздух. Дальше. Быстро. Пока они не разобрались, в чем дело. Ключ. Большой блестящий медный ключ. Пусть только сопляк соберется с духом. Он ведь может. Пусть закроет глаза, если боится любопытных взоров. Avanti![38]Иеремия зажмурился, точно услышал его заклятия. Пускай услышит еще и это: смелее, их судьба в буквальном смысле у него в руках. На висках мальчика набухли жилы, но ключ не отрывался от ладоней. В чем дело? Может, он чем-нибудь отравился? А если и на этот раз… Сколько весит такой ключ? Немало. Упав, наделает шуму. Нет, этого он не допустит.
И не допустил. Молниеносно нагнулся и на лету поймал ключ, хотя куда охотнее грянулся бы вместе с ним на пол и, обхватив башку руками, завыл от унижения и отчаяния. Но мало ли чего ему хочется! Быстро распрямился, с трудом удержавшись на ногах. Кто-то протянул ему руку: Поля, побледневшая от волнения Поля. Повернувшись, Джакомо заслонил Иеремию — не столько от зала, сколько от девки. Черт, тысяча чертей, это же она во всем виновата. Проклятая потаскуха. Отняла у мальчика силы, высосала лучшее, что у него было, ведьма. Как же он сразу не сообразил. А если — сто тысяч пар рогатых свиней! — если совсем его опустошила, раз и навсегда выхолостила, лишив сверхъестественных способностей…
— Природа этого эксперимента чрезвычайно сложна, и отдельные его стадии редко удаются с первого раза, посему предлагаю набраться терпения. Нижайше прошу вас об этом от имени Иеремии Великого и его помощников. Будьте терпеливы и снисходительны. Недоброжелательная мысль или, не дай Бог, слово могут привести к катастрофе.
— А разве это еще не катастрофа?
Гадать, из какой усатой пасти вырвался вопрос, не понадобилось. Джакомо не впервые слышал этот голос. Безмозглый чурбан. Еще одно слово, и он воткнет этот чертов, обжигающий пальцы ключ ему в задницу. Король жестом осадил Браницкого, а может, только прикрыл ладонью улыбку.
Но то была еще не настоящая катастрофа. Настоящая произошла минуту спустя, когда Иеремия, не дожидаясь знака, взялся за большой медный чайник и под аккомпанемент речей Казановы, сдавленным голосом убеждающего зрителей в превосходстве духа над плотью, уронил его себе на ноги. Случилось непоправимое. Джакомо кинул яростный взгляд на Василя. Занавес!
Счастье ему изменило. Позор. Полный провал. Кошмарный сон наяву. Он стоит перед этой знатью, нагой и босой, с поникшей головой и вялой морковкой вместо могучей палицы. Чего надо той калмыцкой образине? Помощники, называется! Пусть сгинут с глаз долой — он за себя не отвечает. С удовольствием всадил бы всем по ключу в задницу, всем, кроме этой суки Поли, которая ему еще и спасибо скажет.
Зал пришел в движение: кто-то незаметно протискивается от сцены к трону, кто-то повернулся спиной, дамы заслоняют веерами лица. Бинетти сверлит его злобным взглядом, будто он опозорился ей в отместку. Смех Браницкого и Катай, недоверие в глазах епископа Красицкого, презрение на лице посла Репнина. А король? Король ждет, подперев ладонью щеку, будто добросовестное классическое воспитание и придворный этикет заставляют его, не подавая виду, дотерпеть до конца.
* * *
Это шанс. Но что ему — голому, босому, оскопленному — с этим шансом делать? Он недостоин благосклонности монарха.
И все же кто-то ему улыбается. Князь Казимеж. Улыбается и многозначительно подмигивает, словно они, сговорившись, откололи отменную шутку. Считает его остроумцем, а то, что произошло, — шутовской выходкой? Боже, неужто это знак, которого он ждал? Он будет шутом. Шутам прощают неудачи и постыдные провалы, шутов допускают к трону и в спальню. При здешнем дворе шута нет. Не было до сегодняшнего дня.
Джакомо еще раз поклонился — так низко, что вынужден был опереться на руку, чтоб не упасть. Неплохо: веселый шумок прибавил ему сил.
А король? Пока ничего. Боже, помоги шуту!
— Это была всего лишь проба. Неблагоприятное расположение звезд и противостояние Венеры и Марса привели, как вы могли заметить, к тому, что первая попытка, — подбросил вверх согревшийся в ладони ключ, ловко его поймал, — оказалась не по зубам нашему маленькому Иеремии Великому.
Никто не засмеялся, он же охотно плюнул бы себе в рожу, за подобострастную улыбку, а горе-помощников разогнал на все четыре стороны. Что и сделает, как пить дать сделает, только бы пережить эти мучительные минуты. Их всех разгонит, а себя осыплет проклятиями. Мотыгой замахнулся на солнце. Занятие для глупца. Или самоубийцы. Ему, правда, не впервой… Но сейчас солнце выше, мотыга тяжелее, а отступать некуда.
— Ну и есть ли тут какой-нибудь выход?
— Есть. Через дверь.
Услышал или сам произнес эти слова? От напряжения в голове туман.
— Есть. Целых два. Первый — чисто логический. Если признать — а с какой стати отрицать божественные законы логики? — что исключение, любое исключение, подтверждает правило, которому противоречит, можно посчитать неудачу несущественной, нашу же попытку — удачной.
— Как бы не так!
Это тосканский художник, у которого он увел Полю. Да как он смеет, наглец! Тоже претендует на шутовской колпак? Ну и просчитался. Король ободряюще улыбнулся и поудобнее уселся в кресле, словно не сомневаясь, что сейчас наступит самое интересное.
— А это вы где вычитали, у какого философа?
— У российского мыслителя, ваше величество, князя Жопского, которого недавно имел случай лицезреть во всей красе, а уж лобызал неоднократно.
Выпалил эту фразу на последнем дыхании, однако — ура! — король от души рассмеялся.
— А второй выход?
— Второй выход лишен ослепительной простоты первого. Зато сулит незабываемое впечатление.
— Опять обещания. Из посула, как говорится, не сошьешь кафтана.
Эта выбритая скотина осмеливается при короле отпускать такие шуточки. Но король будто не услышал. Может, это не настоящий монарх, а опять его большелапый двойник? Поиздеваться вздумали над шутом? Настоящий король польский, Великий князь Русский, Прусский, Литовский и черт-те какой еще прибудет позже, и тогда все начнется сначала: Иеремия, табакерка, чайник, смех.
— Ну и что же это будет?
Настоящий. Только настоящий способен так невозмутимо не слышать. Да и туфли с золотыми пряжками скрывают небольшую изящную ногу.
— Это будет, мой король, очередное доказательство превосходства духа над материей.
— Лучше покажи, на что ты в самом деле способен.
— Надо полагать, не при дамах?
Браницкий и эта, наряженная человеком, тосканская обезьяна. Джакомо послал им лучезарную улыбку. Да, да, имел я твою Полю на сто пятьдесят пять разных ладов, а когда надоело, отдал слугам. А про твою Катай знаю столько, сколько тебе до конца дней не узнать.
— У вас нет оснований для тревоги, господа. Я намерен показать то, что умею делать лучше кого бы то ни было. И дамы могут не беспокоиться: их скромность не будет оскорблена.
Унылый шут, зануда. Необходимо сменить тон.
— Разве что…
Заметно поскучневший князь Казимеж оживился:
— Разве что? Вы хотите сказать: вдруг не получится?
— Напротив. Вдруг получится.
Лучше б ему не слышать этого смеха, не видеть лицемерного сочувствия, плохо маскирующего презрение к чудотворцу, который сам иронизирует над своими обещаниями. Ладно, пусть считают его шутом, обманщиком, наглым вымогателем, пусть думают что хотят. Только бы дождаться своего часа.
С милостивого соизволения Станислава Августа, короля Польши, Великого князя Литвы, Руси, Пруссии и еще каких-то шелестящих во рту краев — дождался. Монаршья рука, украшенная рубином величиной с куриное яйцо, заставила всех угомониться. Пора. Хватит паясничать. И вдруг… пустота. Что? Кто? Уж конечно, не Поля. Из-за нее все полетело кувырком. Глаза бы его на нее не смотрели. Где Лили и двойняшки? Стул на месте. Но кого на него усадить? Пышное платье — это хорошо. Но только никакой плоти. Из-за ее избытка он теперь на краю пропасти. Епископ! Эту мысль, наверно, небеса подсказали. Епископ Красицкий. Джакомо чувствовал, что тот не откажет. Пытался, правда, робко отнекивался и все же, встретившись глазами с Казановой, согласился, к радости свиты князя Казимежа. Боже, подумал Джакомо, я, наверно, похож на побитого пса. Один епископ это заметил, но он же и увидел во мне человека. Притом человека, нуждающегося в помощи. А те остальные… им лишь бы повеселиться да позубоскалить. Глядят на меня, как на пса, и псом считают или, в лучшем случае, шутом, балансирующим на перекинутом через пропасть канате.
И вот уже на стуле перед ним епископ, раздираемый противоречивыми чувствами: тревогой высокопоставленного служителя церкви, стоицизмом мудреца и желанием позабавиться ценящего остроумие поэта. Рядом сестрички, Этель и Сара, которых нарядили и причесали придворные дамы, только и ждут его знака, чтобы, словно экзотические бабочки, вспорхнуть в воздух. Но у него руки и ноги по-прежнему налиты свинцом. Он способен улыбаться, — кланяться, незаметно поплевывать на пальцы, чтобы лучше слушались, но застрявший в груди комок боли, страха и обиды стесняет дыхание. Ему не расшевелить королевских гостей, не одолеть их холодного презрения, а уж тем более почти нескрываемой издевки. Джакомо явственно ощутил, как падает со своего каната в бездну, как стул с епископом переворачивается и святейшие руки цепляются за что попало, лишь бы не полететь вместе со стулом на пол. Кошмар. Неужто ему суждено такое? Не триумф, а позорная ретирада — крадучись, по стенке, — или кое-что похуже, если кто-нибудь сочтет его выходку оскорблением монаршьего достоинства? Ну и ладно, пускай бросают в темницу, он хоть отдохнет от этой нервотрепки. Рехнулся? Нисколько. Голыми руками его не взять. Никому и никогда. И уж, ясное дело, тем, кто сейчас ждет его провала. Рванул ворот рубашки. Они что, и воздух хотят отобрать?
Резко расправил плечи. Кого он боится? Разве они не такие же смертные? Лишить титулов, содрать богатые одежды — и что останется? Стадо перепуганных людишках. Ему тут же представилась эта картина: втягивающие животы мужчины с бритыми затылками и стыдливо съежившиеся женщины. Острые лопатки, обвислые груди, кривые ноги прячущих лица за веерами насмешниц, дряблые мышцы, гнилые зубы и похожие на свиные хвостики члены премудрых придворных. Браницкий, волосатый, как обезьяна, князь Казимеж с копьем, готовым вонзиться в кого ни попадя. И лишь Катай с вызывающе торчащими грудями, как всегда ослепительная; что это — кара или обещание награды? Да это же библейский Страшный Суд, на котором не они — жалкие, грешные, ничтожные — выносят приговор, а он — уже овладевший собой, сосредоточенный, способный мановением десницы обратить их всех в прах.
Поднял предостерегающе руку — о дне и часе никто не знает, — но не угрожая, не осуждая, нет, просто дал короткий знак девочкам. На секунду придержал их ладошки. Давайте! Это должна быть вспышка, вскрик, полет!
Так оно и стало. Джакомо увидел только внезапно взметнувшиеся вверх фиолетовые одежды, больше ничего. И не почувствовал тяжести отрывающегося от стула тела, и не услышал изумленных и испуганных восклицаний, когда епископ Красицкий, поднявшись выше их голов и опрометью полетев вниз, упал прямо в его объятия. Только какое-то, неведомое прежде, чувство подсказало, что он наконец одержал победу.
Потом, много позже, когда уже все желающие полетали, испуганным визгом и восхищенными возгласами воздавая хвалу его искусству, и забаве пришел конец, король пригласил его в свой кабинет. Боже, свершилось то, о чем час назад он мог только мечтать, Они были одни — не считать же слуг, неслышно подававших фрукты и разливавших вино. Одни. Он и король. Теперь все зависит только от него самого. Ну и кое-что от сидящего напротив мужчины. Stanislavus Augustus, Rex Poloniae… Казанова жадно вглядывался в его лицо. Пожалуй, король старше, чем ему казалось, хотя, возможно, это полумрак прибавляет лет. Тридцать пять — тридцать шесть. Наверняка меньше, чем на коронационном портрете.
— Вы видели мой коронационный портрет.
Это был не вопрос, а утверждение, потом вырванное из его мыслей. Внимание, нужно быть начеку. Разговор предстоит непростой. Король пил легкое вино, Казанова тоже взял бокал, хотя сейчас без колебаний опрокинул бы стакан этой дьявольской местной водки.
— О да. Прекрасный портрет. Достойный народа, который породил такого короля.
Подействовало. Может, все не так плохо. Для порядка несколько любезных слов, а затем приступить к делу. Только с чего начать? Шелковая мануфактура, колючая проволока, лотерея или панталоны с разрезом? Чем кончить, он знал хорошо. Жизнь, его собственная жизнь…
— Честно говоря, я недоволен… Далеко от правды.
Джакомо похолодел, не сразу поняв, что король говорит о портрете. Сейчас можно бы отомстить тосканскому наглецу, вставив какое-нибудь убийственное замечание, например, об отсутствии у него чувства пространства или чересчур крикливой палитре., однако нет, нельзя размениваться на мелочи, когда впереди великие дела. Вино недурное, устрицы и того лучше. Мануфактура.
— Ваш брат, кажется, тоже художник[39]?
Знает про Джованни. Отлично. Мы не одиноки.
— О да. Притом признанный.
— Уговорите его как-нибудь и нас посетить.
— С истинным удовольствием, ваше величество.
С истинным удовольствием он откусил бы себе язык. Противно было даже думать о встрече с чванливым братцем, а уж уговаривать его что-либо сделать…
— Мой брат, правда, предпочитает пейзажи, но и исторических тем не чурается. А история столь замечательной страны наверняка достойна быть запечатленной на холсте. Как и на страницах книг. Признаться, я уже сам начал кое-что писать.
— Что вы знаете о нашей истории?
Джакомо украдкой провел рукой по лбу. Что это: капля пота или уже кровь, бросившаяся в лицо?
— Немногое, но я рассчитываю на помощь вашего величества и на документы из королевской библиотеки.
Станислав Август ответил не сразу. Раздумывает, не послать ли его ко всем чертям?
— Что ж, это не исключено.
Прекрасно. Он напишет. Монографию. Историю Польши для иностранцев. Почему нет? Это гораздо скорее откроет путь к блестящей карьере при здешнем дворе, нежели подбрасывание в воздух даже самых крепких голов и самых ученых задниц. А то, что в данной материи он разбирается не лучше, чем, скажем, князь Казимеж в истории Венеции? Да какое это имеет значение! Не один народ рад был бы обзавестись таким историографом. А если еще хорошо заплатят… Впрочем… внимание! Что означает косой взгляд короля? И раздражение, которое он с трудом сдерживал в начале беседы, а сейчас вымещает на устрицах?
— В Польше многое вызывает удивление. Но и хорошего немало. Ты, например, знаешь, что у нас не убивают королей? Существует такой старинный обычай, если не сказать предрассудок.
Боже, ему конец. Он позволил провести себя, как сопливый юнец. «Знает про Джованни». А уж про него-то, конечно, знает все. Выдаст палачам или прикончит своими руками? О восточных сатрапах он и не такое слыхал, да и сам кое-что видел. Ничего не поделаешь. Его величество имеет право. Он добровольно полез в петлю. Но хоть до конца сохранит лицо.
— Прекрасен народ, у которого такие предрассудки.
Король кисло улыбнулся, но не потому, что выжал на устрицу лишнюю каплю лимонного сока.
— Возможно. Хотя у меня на сей счет нет иллюзий. Как раз сейчас с этим предрассудком ведется борьба, более ожесточенная, чем с истинными врагами. Ну и в один прекрасный день кто-нибудь из моих прекрасных соплеменников всадит мне пулю в лоб или проткнет шпагой печень. Кто? Какой-нибудь Нововейский, Ромейко или, скажем, Браницкий.
Пресвятая Дева, спасибо тебе! Значит, не о нем речь. Болван. Чуть что, готов наложить в штаны. Нервы никуда. Выпей, Джакомо, и пошевели мозгами. Иначе проиграешь даже то, что выиграл.
— Браницкий? Да это же друг.
— Сатане он друг. Или царскому послу, что, впрочем, одно и то же. Полностью у него на содержании. А кто платит, господин Казанова…
Горячо. Ну, может, не горячо, но тепло безусловно. Как же быть?
— Насколько мне известно, то есть… говорят, он не хочет проливать польскую кровь, избегает схваток с бунтовщиками.
— Бросьте вы. Не хочет с ними расправляться, чтобы не упрочилась моя власть. Пока он им потакает, конфедераты связывают мне руки[40], а у Москвы сохраняется повод для интервенции. Вот так-то, сударь.
Странно, странно. Но, если король говорит… Что же в таком случае означала сцена на лестнице российского посольства? Ведь он видел своими глазами и слышал собственными ушами.
— Но я случайно, благодаря преудивительному стечению обстоятельств, услыхал, что Браницкий недавно поколотил доносчиков, состоящих на службе у его сиятельства графа Репнина.
Король поморщился; почему — Джакомо понял, едва он начал говорить.
— Не называйте этого дьявола его сиятельством. По крайней мере, при, мне. По крайней мере, когда мы наедине. Что же касается моего друга Браницкого… Подумаешь, задал перцу каким-то ничтожным шпикам. Они же, довольствуясь жалкими крохами, сбивают ему цену. Ох, господин Казанова, чей народ дал миру Макиавелли[41] — мой или твой?
Джакомо сел поудобнее, отпил глоток вина. Дело приняло новый оборот. Враг. У них есть общий враг. Этот человек угрожает им обоим. У него отнимает любовниц, а у короля хочет отнять власть. Голову ему снести, а не назначать командующим коронного войска.
— Враг.
Это слово прозвучало, точно заклятье: Казанова сам не заметил, как оно у него вырвалось. Станислав Август внезапно поднялся с кресла, подошел к заваленному бумагами секретеру.
— Не он один.
Что делать? Встать, последовать за королем, сменить тему на более безопасную? Нет, сперва осушить бокал, вино и впрямь отменное.
— Меня здесь не любят. Не возражайте, вы очень любезны, но я знаю, что говорю. И, если нетрудно, не шевелитесь. Искусство живописи мне тоже не чуждо. Когда-то я недурно рисовал. Ну и теперь стараюсь не терять сноровки…
Король будет его рисовать! Боже, мог ли он сегодня утром, когда эти мерзавцы осыпали его, застрявшего головой в печи, пинками, вообразить такое? С достоинством распрямился: в профиль или анфас? Разумеется; он не возражает. Во-первых, это большая честь. Во-вторых, не надо ничего делать, ничего говорить — как будто сидишь в заднем ряду. В-третьих, от рисунка будет проще простого перейти к производству расписываемых от руки шелковых тканей.
— Не любят меня. Единственное, что готовы прощать, это баб. Я, разумеется, таковой привилегией пользуюсь, но можно ли целыми днями только одним и заниматься?
Казанова непринужденно усмехнулся. Истинное удовольствие беседовать о таких материях.
— Вообще… как бы это сказать, — можно. Но… не пристало.
Оба прыснули, будто напроказившие мальчишки. Теперь и о французской лотерее можно завести речь. Станислав Август посерьезнел, однако улыбка в уголках губ осталась.
— Это бы мне охотно простили. Но многое другое — ни за что! Я здесь никому не могу угодить. Для одних я — безумец, конфликтующий с Москвой, для других — трус, российская содержанка.
— Но, ваше величество…
Если это его портрет, что означают штрихи, резко, чуть не порвав бумагу, проведенные грифелем? Ослиные уши?
— Думаете, я преувеличиваю. Хотелось бы. Но никто не простит королю желания твердо взять бразды правления в свои руки. Поляки — темный народ, господин Казанова. Темный и этим кичатся. Позволяют нескольким вельможам дергать за веревочки и препятствовать серьезным реформам. Попробуйте завести речь о развитии промышленности или нуждах армии. Liberum veto[42]. Неучи, но чтобы произнести эти слова, знания латыни хватает. Есть, правда, и разумные люди… но их, к сожалению, мало, очень мало. А соседи? Только и ждут случая, чтобы придушить нас и проглотить. Россия…
В этой паузе для тебя нет места, Джакомо. Не отзывайся, молчи, старательно позируй. С монархами говорить на такие темы опасно.
— Это наша беда. Была, есть и будет. Достаточно поглядеть на карту. Другие соседи не лучше, но этот вдобавок еще и голоден. Пока мы слабые, безвольные и хмельные, они не спешат: стоит ли разевать рот на неудобоваримый кусок? Но едва мы начнем наводить у себя порядок, укрепим хозяйство и армию, станем искать путь к национальному согласию, вцепятся нам в глотку. Не вертитесь, не о вашей глотке речь.
Шутка или предостережение? Шутка. Но, пожалуй, разумнее превратиться в соляной столб[43], чем реагировать на такие шутки. По крайней мере, рисунок лучше получится.
— Итак, едва мы зашевелимся, нас разорвут на части. А будем сидеть тихо — рано или поздно сделают то же самое. Ну, и как вам это нравится?
— Признаться, я ни о чем таком понятия не имел.
— Не ты один. Возможности выбора у нас, как видишь, велики. Можно позволить себя удушить, а можно и дать перерезать горло. Любопытно, что бы порекомендовал твой друг Вольтер. Хотя пока, кажется, он служит советами нашим врагам.
— Вольтер мне не друг. Наши мнения слишком во многом расходятся. А теперь, после того что я услышал от вашего величества, возникла еще одна причина для несогласия — и весьма существенная.
— Ты не знал, что он переписывается с российской императрицей? Впрочем, не стоит придавать этому чересчур большое значение, подумаешь, напыщенная болтовня двух философствующих натур. Правда, за одним из философов триста тысяч штыков, только и ждущих приказа.
Ого, кажется, у него выросли зубы — длинные, волчьи, едва помещающиеся на листе. Надо будет при случае показать рисунок Вольтеру, утереть нос этому мудрецу.
— Что же нам, бедным полякам, остается? Голову поднять страшно, сидеть сложа руки — опасно. Вопить о своих обидах на всю Европу? Но разве можно перекричать ревущего медведя? Впрочем, выход есть, по крайней мере, я стараюсь в это верить. Бег на месте. Понимаешь?
— Не очень.
— Да это же просто. Движение при кажущемся его отсутствии. Перебираешь на месте ногами, чтобы кровь не застаивалась. Иначе говоря, благородное притворство, плутовство во имя высоких целей и мелкие обманы ради истины. Полумеры в государстве, скажем, полуидиотов. Тратить тысячи на оргии, но миллионы — на армию. Строить дворцы, но и библиотеки, театры, школы. Все хорошее делать тайком, без шума, а плохое — с треском, с надрывом, при ярком свете, господа братья. Пусть все знают, что Телок — гуляка, бабник и не в своем уме. Пусть кричат об этом что есть мочи. Может, еще удастся выторговать год-другой. Несколько общественных зданий, несколько неглупых законов, несколько лишних полков. Вот как обстоит дело, господин Казанова. Бег на месте, вот так-то!
— Теперь понимаю. Понимаю и восхищаюсь.
Язык заплетается — от подобострастных слов или от вина? Но что еще можно было сказать? И что пить, если ничего другого нет?
— Рано восхищаться. — Король отложил рисунок, явно неудовлетворенный своей работой. — Что бы я ни сделал, хор надрывается, вопит, мол, я — трус, кунктатор и изменник. Я сам иногда думаю, уж не правы ли они? А на мои письма она даже не отвечает.
Пожалуй, король неспроста завел этот разговор. Но зачем, с какой скрытой целью? Ободрить хочет или смутить своей откровенностью, шутит или смертельно серьезен, издевается или просит подсказать путь? Боже, как все запуталось. Тут уж не до картофеля и не до панталонов с разрезом.
— Разрешите взглянуть?..
Вопрос замер у Казановы на губах. Нет. Это и без слов было ясно, хватило короткой вспышки гнева. Королевского гнева, то бишь тяжелого, сокрушительного. Джакомо съежился в кресле. Что это: он допустил ошибку или угодил в заранее поставленную западню? Недаром ему с самого начала мерещился какой-то подвох. Какой именно, он, вероятно, сейчас узнает. Но разве уже не знает, разве и впрямь не догадывается? Вдобавок язык как-то странно пощипывает.
— Ты с ней виделся?
То был голос не монарха — раненого самца. Значит, можно верить тому, что о нем рассказывают.
— Имел честь быть представленным императрице.
— Говорят, она постарела.
Ну конечно, спал с массивным шкафом. Но тогда, вероятно, это еще был изящный секретер.
— Немного.
— Могу себе представить. Если хоть частица того, что о ней говорят, — правда… Так и есть?
«Да. Ужасная, пугающая правда», — подумал Джакомо и, словно бы извиняясь, улыбнулся.
— Не мне об этом судить, ваше величество.
Взгляд короля смягчился; казалось, ему стало неловко за свое любопытство.
— Хитрец. Умеешь отвечать на трудные вопросы. Из тебя бы вышел неплохой дипломат.
«Или шулер, — мысленно добавил Джакомо, наклоняя голову в знак благодарности за доброе слово. — Шулер, притом такой, который уже сам не знает, когда передергивает. Или шут. Или…» Он вдруг помертвел — или покойник! Пресвятая Дева! Почему такое пришло в голову? Откуда выскочило это слово? Неужели настал момент, которого он больше всего боялся? А если язык горит не от изжоги, а от яда… Ну конечно же, его отравили, его — неплохого дипломата, российского шпиона, несостоявшегося похитителя, увы, заслужившего такую участь! Вот она, единственная правда, все остальное было чудовищной шуткой. Надо спасать свою шкуру, может быть, еще не поздно. Ведь он пришел, чтобы рассказать все без утайки, как на исповеди. Сполз с кресла: хорошо бы, его вырвало, только это и может помочь, надо выплюнуть отравленный язык, вырвать из своего нутра ядовитую змею. Но сперва избавиться от собственного жала.
— Ваше величество, я должен сделать страшное признание!
Взгляд короля опять посуровел. Догадывается или знает? Если читает его мысли…
— Говори.
Не успеет. Перехватило горло — даже самого короткого слова не выдавить.
«» Я…
— Впрочем… можешь не говорить. Я все про тебя знаю. У меня тоже, где надо, есть свои люди. Ну и что ты намерен делать?
Джакомо почувствовал себя насекомым, насаженным на булавку. Еще ниже опустил голову. Королю нет нужды читать в его мыслях. Он знает. Знал с самого начала. Все против него ополчились, разрази их гром. Спасения нет. Это конец. Что он намерен делать? А какие могут быть намерения у жука на булавке?
— Молить о снисхождении и прощении.
Молить, чтобы ему даровали жизнь, черт подери. Быть может, есть еще крупица надежды, противоядие, последняя соломинка. Нельзя вот так, ни за что… Абсолютно ни за что. Ему даже не в чем признаваться. Ничего плохого он не сделал. И, честно говоря, не собирался делать. Тогда за что же его так, за что? О нет, пускай подсыпает яд своей дряблой любовнице, коронованной потаскухе, которая его ни в грош не ставит, или ее клевретам, пьющим кровь из порядочных людей. Только не ему, ради Бога, не ему. Он иностранный подданный, он никому, даже королю, не позволит так с собой обращаться. Еще минута, и он ударится лбом об пол.
— О снисхождении и прощении.
— Считай, что получил и то и другое.
Джакомо почувствовал на плечах руки короля, вместо смрадного дыхания пекла ощутил тонкий запах духов. Чудо, вот уж поистине чудо. Король поднимает его с пола, усаживает в кресло, похлопывает по щекам. Он на какой-то миг потерял сознание или сошел с ума? Трудно сказать. Видно, в голове все окончательно перемешалось. Заподозрить этого необыкновенного человека?! Только потому, тысяча чертей, что защипало язык. Выпил слишком много. Изжога у него, вот что! От этого не умирают. Но спятить можно, бесповоротно спятить. Хорошо, король подошел к секретеру и не видит его дурацкой мины. Продолжает рисовать? Нет, грифель и листок остались на столе. Надо будет взглянуть, только вначале немного прийти в себя.
— Вот тебе доказательство, что я не затаил зла. Как нетрудно догадаться, в кармане у тебя пусто. Они предпочитают запугивать, а не платить.
Столбик золотых монет, второй, третий. С ума сойти! Уронить слезу благодарности или от стыда провалиться сквозь землю?
— Я не имею права этого принять, ваше величество, мне…
— Бери. Королю не отказывают.
Что правда, то правда. Джакомо припал к королевской руке — той самой, которую должен был безжалостно заломить за спину или скрутить веревкой, губами коснулся нежной кожи, которую мог изукрасить синяками или даже расцарапать до крови в пылу борьбы. Гореть им в вечном огне, этим скотам, пытавшимся толкнуть его на такое. Какие это деньги? Дукаты, рубли? А может, голландские гульдены? Сто? Двести? Неудобно же пересчитывать.
— Что ты должен был со мной сделать? Задушить или перерезать горло?
Это было точно удар в низ живота.
— Упаси Бог!
Упаси Бог теперь в чем-либо признаться. Сто пятьдесят уж точно.
— Утопить в ложке воды?
— Я…
Огляделся, словно в поисках спасения. Но все в комнате было чужим и враждебным: стол, фрукты в хрустальной вазе, коварное красное вино и плотно закрытая дверь. Да и странная улыбка на лице короля могла в любую минуту превратиться в гримасу ярости. Тогда все, пиши пропало. Он скажет, обязан сказать.
— Похитить. Я должен был похитить ваше величество.
От одних этих слов можно задохнуться, а уж каковы будут последствия… Однако король продолжал улыбаться.
— Похитить. И что дальше?
— Это мне неизвестно, клянусь. Я не знаю никаких подробностей. И не пытался узнать, в этом тоже могу поклясться. Я философ, а не бандит.
Он жив. Жив и будет жить. Этого, еще молодого, мужчину с красивой головой, которую ему пришлось бы обмотать полой плаща, и римским носом, который легко сломать несильным ударом кулака, его слова явно растрогали. Ничего не заберет, скорее добавит.
— Ты знаешь, почему выбор пал на тебя.
Это не был вопрос, но Джакомо поспешил горячо возразить. Станислав Август на минуту задумался.
— Зато я, кажется, знаю. По крайней мере, догадываюсь. Ты для них — человек Запада, а Запад там, в России, — олицетворение всяческого зла. Какие-то парламенты, права человека, газеты — кошмар! Потому и люди оттуда представляются этакими дьяволами во плоти, способными на все. Теперь понимаешь?
Чего тут понимать, он ведь знал, как оно на самом деле было. Дьявол во плоти надавал бы Куцу по роже, а императрицу обозвал курвой и не трясся бы перед ними как осиновый лист.
— Ваше величество не знает, что такое страх.
— Думаешь, не знаю… А о чем я тебе уже целый час толкую? И, как ты полагаешь, зачем?
Не добавит, разве что по физиономии. Король снова приблизился. Внимание!
— Ты и в моих глазах человек Запада. И не какой попало. У вас там любят обвинять нас в глупости, варварстве, иногда в неблагодарности либо — что, в сущности, то же — в безропотном повиновении могущественным соседям. Может, хоть ты, философ, разберешься в том, что здесь происходит. Мы не глупцы. Мы просто порой очень мало можем…
Какие слова — точные и прекрасные, какой мудрый взгляд! И, будто одних слов было недостаточно, лучший из лучших граждан этого государства, король Польши, великий князь дюжины краев, от названия которых сводит зубы, Станислав Август, которого будущие поколения, возможно, нарекут Великим, шагнул вперед и дружески обнял его, ничтожного червя, перелетную птицу, шпиона и авантюриста, короля девственниц и великого князя нескольких дюжин шлюх, от чьих ласк болят яйца, Джакомо Джованни Казанову, которого потомки, быть может, назовут Сильным. Что за минута! Все стоило снести, чтобы до нее дожить. Наконец его оценили. И кто! Он станет секретарем короля, его правой рукой, канцлером, черт знает кем еще. Victoria! Деликатно ответил на объятие.
— Понимаю. Теперь мне все понятно.
— Я на это рассчитываю, дружище.
Дружище! Да за одно это слово он будет служить королю верой и правдой. А своим гонителям расхохочется в рожу. Пусть попробуют его тронуть. Столько власти, чтобы изрубить их в куски, и у этого государя найдется. И он с удовольствием ему подсобит. Но пока надо позаботиться о себе. Золото в карман. И пожалуй, портрет. От него будет побольше корысти, чем от дукатов. Сейчас попробуем. Но не сразу, надо еще помолчать. Не высовываться. Смиренно ждать. Сейчас прозвучат самые важные в его жизни слова. Лишь бы их понять. На названиях ведомств в этой стране тоже можно сломать язык.
— А теперь… — Король, вдруг нахмурившись, отстранил его. — А теперь забирай свое и уходи.
Казанова с трудом проглотил улыбку, приготовленную совсем для другого. Значит, не все сразу. Ну что ж. Пока только золото. Нет, не только, Еще, по крайней мере, портрет.
— Как можно скорей возвращайся к своим, сударь.
Казанову аж шатнуло к столу. Что это значит? Как же так? Скосил глаза на рисунок. Боже! Его там нет и в помине. Только изображенное несколькими штрихами кресло, на котором он сидел. Пробормотал что-то невразумительное.
— Ни о чем не заботься, все, что нужно, получишь. Прощай.
Аудиенция окончена. Это он понял. Не ждать же, пока выставят силой. Но он вернется, правда? — шептал себе, сгибаясь в прощальном поклоне, моля Бога, чтобы и сейчас король прочел его мысли. Завтра, послезавтра. Может быть, еще сегодня. Кто лучше его понимает капризы правителей, он сам состоит сплошь из капризов, сегодня одно, завтра другое. Хорошо хоть золото сегодня.
— Ваше величество…
Джакомо чуть ли не с благоговением поцеловал королевскую длань. Да, да, сейчас государь прощается с ним, простым смертным, чтобы спустя недолгое время приветствовать в совершенно ином качестве. Завтра. Он чуть не раскровенил губу о горящий на пальце рубин. Завтра, возможно, и этот рубин будет его… Он был уже на пороге, когда король поднял голову и повысил голос:
— Что касается твоего отъезда — это приказ.
Дуэль
Как он оказался в театре, Джакомо не помнил. Да и где находится, понял, лишь увидев карликов Катай, кинувшихся от него в разные стороны. О нет, нет, сегодня им нечего опасаться. Он уже кем попало и чем попало не занимается: Казанова — поверенный короля, а не охотник за кроликами. И пускай кролики не воображают, что он хоть чуть-чуть поступится своим величием и снизойдет до того, чтобы надавать им тумаков. Не сегодня, господа. Сегодня его уже ничто не заставит опуститься так низко.
Играли какую-то пьесу на польском языке. Это ему было даже на руку. Все равно, оставаясь в состоянии полного ошеломления, он бы не смог сосредоточиться. Кланяясь налево и направо, косился на центральную ложу, однако короля там еще не было. И хорошо. Джакомо не совсем понял смысл последних слов государя. Приказ? Но разве можно приказывать друзьям? А так: нет короля, значит, нет и сомнений, он имеет полное право торжествовать, в этом его убеждают взгляды тех, кто прежде едва удостаивал вниманием. Ему не впервые было наслаждаться радостью победы — мало ли раз в жизни он добивался своего! — но эта победа, нельзя не признаться, особенно приятна. Князь Казимеж молча потрепал его по плечу. Боже, как мало нужно, чтобы почувствовать себя в раю.
Перед ложей Бинетти Джакомо на секунду заколебался и, вероятно, без приглашения не рискнул бы войти, но дверь была приоткрыта, и он посчитал это очередным чудесным знаком, которым грех пренебречь. Бесшумно проскользнул внутрь, готовый целовать, обнимать, бурно делиться своей радостью. Вначале увидел Браницкого в народном мундире, сверкающем в полутьме, как наряд сатаны; он сидел боком к сцене, со странно напряженным лицом. Бинетти, прислонившись к барьеру ложи, внимательно следила за происходящим на сцене, но и ее поза была какой-то неестественной. Джакомо понял, в чем дело, до того, как его заметили. Рука Бинетти, будто оторвавшаяся от тела, лежала между ног графа. Джакомо хорошо знал эти пальцы — не составляло труда догадаться, какой они высекали огонь, какие дьявольские силы пробуждали. Вон оно что. Помирились. Она опять прибрала неверного любовника к рукам, притом в буквальном смысле. Всего наилучшего. На здоровье! Ведь она этого и добивалась.
Казанова поклонился, чтобы скрыть улыбку, — он не был уверен, что Браницкий действительно его не видит. Очень рекомендую панталоны с разрезом, дорогой граф. По крайней мере, тут мы с вами, кажется, найдем общий язык.
Расхохотался он лишь в уборной Бинетти, где, как и предполагал, застал просиявшую при его появлении Лили. Чудесная девочка! Пожалуй, ей причитается нечто большее, чем взрыв дикого смеха. Даже если она никогда не узнает, что он ее отец. Но что можно ей подарить? Перстня с рубином он никому не уступит, тем более что пока еще его не получил. Золото? Она чересчур молода, чтобы знать цену золоту. И кроме того, может неправильно его понять. Рукопись? Ба — если бы рукопись не скончалась в печке. Что ж, ничего, кроме смеха, не остается. Джакомо расцеловал Лили в обе щеки, чтоб не подумала, будто он смеется над ней. Когда-нибудь, позже, он даст ей несколько добрых советов. Как жить, с кем и за что. А пока пусть запомнит хотя бы это: он был весел и нежен.
Лили не пожелала ограничиться поцелуем в щечку, обняла его и подставила губки. Прекрасно. Сегодня его любит весь мир. Даже это невинное дитя, которому, возможно, следует его ненавидеть. Легонько коснулся губ девочки: в конце концов, это каждому дозволено, даже отцу. Теперь и она негромко рассмеялась. Что ее насмешило? Не такого поцелуя ждала? Он в ней ошибся? Может, она не столь неопытна, как он думал.
— Король…
Никакого впечатления. Перестала смеяться, но веселые искорки по-прежнему сверкали в глазах. Джакомо отстранился. Лили явно смеялась над ним.
— Его величество…
Ничей авторитет, даже королевский, не заставит удержаться от смеха при виде съехавшего набок парика. Джакомо понял это, случайно взглянув в зеркало. Боже мой, ребенок, совершеннейший ребенок. Резко подняв руку к парику, полой сюртука смахнул на пол шкатулку с театральной бижутерией Бинетти. Стеклянные бриллианты, изумруды и рубины с шуршаньем вывалились на ковер и рассыпались сверкающими звездами. Лили захлопала в ладоши и бросилась ловить, подбирать, складывать побрякушки в малахитовую шкатулку; она так радовалась, словно он специально для нее придумал увлекательную забаву.
Все вмиг исчезло. Неприветливый мир вокруг. Карлики, предатели и скособочившиеся парики. Все, кроме этой веселой крошки, ползающей у него под ногами. Его кровь. Рожденное его чреслами послание, которое он оставит людям. Душа Казановы преисполнилась благостным спокойствием. Будто и тело, и ум, простив ему сегодняшнее насилие, замерли в призрачном сладостном тумане, снимающем усталость. Он мог бы пребывать в этом состоянии бесконечно. Или умереть. Или совершить необыкновенный поступок. Да. Теперь наверняка получится.
Затаил дыхание. Подождал, пока Лили присядет на корточки — о, прелестно изогнувшееся тело. Вызывающее только нежность, а не губительное вожделение! — и без предупреждения шагнул вперед. Девочка и пикнуть не успела, как он, обняв ее, словно для кровосмесительного акта, ощутив на мгновенье ее тепло и запах, оторвал хрупкую фигурку от пола и без труда, будто во сне, подбросил вверх, к самому потолку. Длившееся целую вечность мгновение Лили висела в воздухе с беспомощно раскинутыми руками, с выглядывающими из-под задравшегося платья стройными ножками в белых чулках, а затем, испуганная и изумленная, упала в его объятия всей тяжестью разгоряченного тела.
Victoria! Истинная victoria! Он добился своего. Он это сделал! Как Бог свят — сделал! Прижал к себе трепещущую Лили, не меньше ее ошеломленный. Ничего, ничего, все хорошо. Теперь хоть она знает, на что он способен. А кто он? Надо ей сказать. Будет ли более подходящий случай?
— Вижу, я не вовремя.
Если он спал, это было внезапное пробуждение. Браницкий еще с каким-то бритоголовым офицером, похожим на переодетого разбойника.
— Сдается мне, вы приударяете за этой юной дамой, господин Казанова.
Вероятно, там, в ложе Бинетти, граф его видел, ну конечно, видел. Оттого и жажда крови в глазах. Джакомо деликатно отстранил полуживую от испуга Лили.
— А разве вы, господин граф, не находите ее очаровательной?
Не приближаются. Хотят отрезать ему путь к отступлению или оставить место для взмаха шпагой. Скорее всего, и то и другое. Браницкий побагровел от его любезных слов, на шее вздулись и запульсировали жилы.
— Почему, нахожу. Больше того, настолько очарован, что сам имею некоторые виды и заявляю, что не потерплю соперничества.
— В таком случае не смею ни на что претендовать.
Отодвинул ногой колючую блестящую брошь. В другое время он бы пригляделся повнимательнее — уж очень она смахивала на настоящую, — но сейчас нельзя было терять ни секунды. Под ногами ничего не должно валяться, когда он бросится на Браницкого и вцепится ему в горло. А это горло раздувалось от сдерживаемого бешенства.
— Осторожный вы человек, господин Казанова, мягко говоря. Значит, готовы убраться с дороги?
Мягко говоря… Того, второго, он просто вышвырнет за дверь. А чванливого графа одним пинком собьет с ног и раскровенит рожу колючей брошью из поддельного золота. Пусть узнает, болван, каково издеваться над человеком чести.
— Безусловно, граф. Притом незамедлительно. Кто б посмел соперничать со столь достойной особой.
Не этому тебя учили, Джакомо. При чем тут улыбка? Пусть тебе приходится быть лисой, а не дворнягой, громким лаем оповещающей об атаке, но порой и лисе не вредно оскалить зубы. Этот мрачный волчище с бритым затылком только того и ждет. Вон даже ноздри раздуваются от злости.
— Я считаю трусом всякого, кто при малейшей угрозе прячется в кусты.
Ах, так? Он заставит его выплюнуть это оскорбление, выплюнуть и снова проглотить, перебьет потянувшуюся к шпаге лапу, вырвет ноги из задницы, а усищами подотрется. Но… посмотрел на Лили и понял, что ничего такого не сделает. Девочка застыла, точно ее парализовало. И лишь умоляюще сложенные руки и замутненные слезами глаза просили о милосердии — его, а не этого надутого хама. Почему? Не хочет, чтобы он подвергал себя опасности, боится за него, прелестная крошка. Хорошо. Еще сильнее он ее пугать не станет. Снял руку с гарды[44]. Ради нее он готов побыть и зайцем. Пренебрежительно пожал плечами и, сдерживая волнение, на неестественно прямых ногах шагнул к двери.
— Венецианский трус!
Джакомо был уже за порогом, когда его ушей достигла эти слова. Замер как вкопанный. Этому задире мало, что он прикинулся трусом, — несмываемым позором покрыть хочет. Почуял в нем врага? Или, быть может, соперника? Да. Как он раньше не понял. Зато теперь, медленно поворачиваясь, преодолевая сопротивление мышц и собственную нерешительность, понял больше, чем хотел. Граф рассвирепел, увидев Лили в его объятиях. Скотина! И на нее положил глаз. Матушки ему мало. А Бинетти? Потворствует этому? Как знать. Может, для Браницкого бережет девочку, охраняет от других, даже от собственного отца? Нет, мир все же беспредельно мерзок, подумал с яростью и кинулся обратно к двери. Убить гада! Она ведь еще дитя. Даже ему совесть бы не позволила.
Девочки Казанова уже не видел. Перед ним были только презрительно сощуренные глаза Браницкого и расплывшаяся от удовольствия рожа его спутника.
— Граф, я готов в любое время и в любом месте доказать, что венецианский трус не боится польского…
Он хотел сказать «польского магната», этот «магнат» уже вертелся на языке, но какая-то заноза воткнулась в горло, и последнее слово утонуло в бессвязном бормотании. Казалось, воздух вскипел; лысый дружок Браницкого схватился за шпагу, но граф не позволил ему ее обнажить. Побледнев и не гладя на Казанову, словно стыдясь своих слов, медленно процедил:
— Завтра на рассвете я пришлю за вами карету.
Джакомо не мог решить, что делать. Попарить ноги, выблеваться, написать завещание? В конце концов попробовал заняться всем одновременно и теперь, лежа нагишом под шерстяным пледом, смотрел, как Василь, согнувшись, вытирает тряпкой пол. Не запачкал ли он сюртук? Если запачкал, то что наденет завтра? Тот, золотой? В нем он будет похож на шута, а шуты на рассвете могут вызвать только злобное раздражение. А шпага? Где взять приличную шпагу? Его парадной можно драться с мышами, но не с Браницким. Бог мой — шпага! Еще полбеды, если им предстоит скрестить шпаги. А вдруг граф выберет пистолеты? Тогда ему конец. Даже с кочергой в руке он имел бы больше шансов.
Тело сотрясала мелкая дрожь, непонятно, от холода или от страха. Чья-то рука подсунула стакан с подогретым пивом. Ага, Иеремия. Хоть раз в доме кто-то почувствовал, в чем он нуждается. Но от Иеремии можно было ждать и большего.
— Ну что, герой? Хочешь мне что-то сказать?
Впрочем, не нужны ему никакие объяснения. И без них все ясно.
Что этот дурачок может сказать? Что не он виноват? А кто? Именно он. Бабы сопляку захотелось в самый неподходящий момент. Чуть не опозорил его, Казанову! Из-за кого ему понадобилось лезть вон из кожи. Результат — неистовое возбуждение, чуть ли не психический срыв; сам перестал понимать, что говорит и делает. А когда опомнился, было уже поздно: он вызвал Браницкого. Боже, теперь надо расхлебывать проклятую кашу, которую заварил этот горе-фокусник. Хорошо хоть не кашу принес, а пиво — горячее и вкусное. Тем не менее пускай убирается с глаз долой. Пока еще он не в том настроении, чтобы прощать, а слезы в глазах, трагические ужимки и все такое прочее только подольют масла в огонь, и он снова разгневается.
Котушко. Этот откуда взялся? Уж не собрался ли посреди ночи взять урок хороших манер? Нет. Видно, с чем-то другим пришел, вон даже лицо озабоченно сморщилось, а вздернутый нос побелел от волнения. Может, у него хоть сигара найдется? Достойная была бы плата за необходимость любоваться такой рожей. Нету. Тогда пускай наконец раскроет рот, нельзя так распускаться. Минуточку… да он же явился предложить свои услуги в качестве секунданта. Ну конечно. Славный малый. Но и сигара к пиву очень бы пригодилась. Пусть расслабится, пусть куда-нибудь сядет, пусть сбросит с кресла кучу мятых листков и располагается как дом. И простит его наряд — он привык во время медитации укрываться пледом. Может, подогретого пива? Прошу, не надо стесняться. Дуэль? Какая дуэль? Котушко откашлялся и принял самую торжественную из поз, которым его научили.
— Я пришел вызвать вас на дуэль.
Хорошо, в зубах нет сигары, не то бы он, наверно, от изумления ее проглотил. Снится ему это все, что ли? Но почему сны всегда такие дурацкие? Когда Котушко заговорил, Казанова в свою очередь потерял дар речи.
— У меня есть основания полагать, что вы без должного уважения относитесь к даме, к которой я питаю самые серьезные чувства. Потому мне не остается ничего иного…
— Минутку, минутку, о чем, собственно, речь? И о ком?
Надо думать, не о Бинетти, не совсем же бедняга сбрендил.
Катай. Еще хуже.
— Речь идет о мадемуазель Лили. Я ее люблю и не позволю, чтобы ее честь….
Дальше слушать необязательно. Лили! Уши вянут от напыщенных слов… впрочем, смысл их весьма приятен. Этот мальчик влюблен в его Лили. Казанова засопел от радости и облегчения, даже плед рискованно опустился с плеч.
— Лили.
— Мадемуазель Лили.
Сдержать улыбку, не то этот сопляк сморозит какую-нибудь глупость. Или подумает что-нибудь, еще более глупое. Ему рассказали, какая сцена произошла в уборной Бинетти. Нетрудно догадаться, кто рассказал.
— Н-да… мадемуазель. Прекрасно. Отличный выбор. Поздравляю. Мадемуазель и вправду чудо как хороша. Я испытываю к ней самые теплые… гм, я бы сказал отцовские, чувства. Стыдись, если ты подумал что-то другое. Я угадал?
— Да.
Экая серьезность — слона может растрогать. Но мальчику она к лицу. Удивительно, что на свете еще не перевелись такие юноши.
— Глупый ты. Но девочка — чистый мед. Поздравляю.
— В таком случае прошу меня простить.
Джакомо поднялся с кресла. Нельзя не разделить радости, прозвучавшей в голосе юноши. Протянул ему руку, но тут же отдернул — этого мало! — и сердечно обнял за плечи.
— Драться хотел. Это не умаляет достоинства мужчины, напротив — внушает уважение. Жениться собрался?
— С Божьей помощью.
А почему бы нет? С таким Лили будет хорошо. Скучновато, но он ее не обидит. И вправду славный малый. Немного неотесан, хотя в его возрасте это не страшно. Обезьянничать научится позже.
— Браво. Знай, я готов всячески тебя поддержать. И немедля это докажу. У меня для вас кое-что есть — пригодится в начале жизненного пути.
Отбросил плед. Обнаженный до пояса, нагнулся, пошарил рукой под кроватью.
— Я завтра уезжаю — да, да, дела государственной важности требуют спешного отъезда, — и хочу доверить вам драгоценнейшее свое сокровище. Без преувеличения: истинное сокровище.
— Но в таком случае я… мы не сможем его принять.
Опять тошнота подкатила к горлу. От того, что нагнулся.
И от этой безнадежной порядочности.
— Послушай, не говори так. Больше отваги, решительности — тогда будешь иметь в жизни все, что захочешь. А у друзей даже сокровища можно брать.
Где же этот проклятый кофр? Ведь только вчера сам затолкал его под кровать. Ага, вот он.
— У меня есть предчувствие, мой мальчик, что это сокровище принесет тебе славу и богатство, а твой народ будет тебя чтить, как героя. Я не шучу. Так и будет, если ты последуешь моим указаниям. И если все пойдет хорошо.
Еще минута, и эти слова перестанут быть пустой болтовней. Крышка поддалась, но внутри не было того, что он искал. А ведь голову бы дал на отсечение, что должно быть. Дорожная сумка? Ну конечно. Хотел иметь это при себе и переложил в сумку. Машинально, потому и не запомнил. Да что он вообще сейчас помнит?
— Хорошо пойдет, почему бы нет. Будете богаты и счастливы.
Merde, это уже совсем непонятно. И здесь ничего. Тряпки да коробочки с пудрой… Где же его чудесные, годами усовершенствуемые картофельные красавицы, бесценные клубни, с помощью которых он хотел спасти эту часть света, а прежде всего — набить собственный карман. Может, этот идиот куда-нибудь задевал?
— Василь!
Еще до того, как слуга появился, холодное, как лед, подозрение начало превращаться в уверенность. А тут еще под руку попался надвое разодранный мешочек. Кровь ударила в голову. Василь! Едва тот вошел, стало ясно: надеяться не на что, эта угрюмая скотина, с тупым отчаянием уставившаяся на доказательство своего преступления, покорно ждет наказания.
— Сожрал?
Джакомо подскочил к Василю с неожиданной для самого себя яростью, раздвинул ему челюсти и, точно укротитель на арене, заглянул в разящую луком пасть. Отрезвила его смущенная физиономия Котушко. Верно, считает его сумасшедшим, пытается понять, насколько он опасен. Захлопнул источающее яд жерло вулкана.
— Сожрал. Ты бы мать с отцом слопал, будь они съедобны, и вообще, если бы они у тебя были. Не бойся, бить я тебя не стану. И не рассчитывай. Думаешь, получишь раз по морде — и освободишься от греха? О нет. Я найду способ похлеще. Завтра увидишь. Завтра. А сейчас — вон! Убирайся, я за себя не ручаюсь.
«Завтра меня здесь уже не будет, а тебе достанется за то, что недоглядел, — подумал мстительно, провожая взглядом неуклюже пятившегося к двери гиганта. — Но до завтра есть еще немного времени. Пожалуй, даже много».
— Стой! Принеси рубашку. Живо.
Котушко, зардевшийся, как барышня, тоже направился к двери.
— Я, пожалуй, пойду.
О нет, один он сейчас не останется, ни за какие сокровища. Пожалуй, даже за те, что сгинули в пасти Василя.
— Ты хорошо стреляешь?
Юноша еще сильней покраснел, хотя минуту назад Казанова готов был бы поклясться, что это невозможно.
— Неплохо. Если позволительно так о себе говорить.
— А я — ужасно. О чем могу сказать с полной откровенностью. Я бы предпочел… Согласись, человеку чести не пристало браться за такое простецкое оружие.
— Но иногда, согласитесь, в определенных обстоятельствах…
— Иногда. Но шпага, видишь ли, всегда достойна дворянина. Покажи-ка свою.
Ничего особенного. Обыкновенная офицерская шпага. Хотя получше, чем его огрызок или парадная кочерга. Даст ему на один день? Не может? Запрещено? Какой же это закон запрещает оказывать услуги друзьям? Возможно, человеческий, но уж никак не Божий. А какой важнее, по его мнению? То-то. Впрочем, речь идет лишь о временном обмене, его оружие пострадало при обстоятельствах, о которых ему сейчас не хочется распространяться, а то рассказ может затянуться до утра. Ну так что — договорились? Договорились. Теперь снова можно его обнять с непритворной сердечностью.
— Я и ей завидую — есть, в чем. Что ж, хотел я вам облегчить первые шаги по жизни, да не вышло. Придется удовольствоваться моим благословением.
— И на том спасибо.
Теперь уже можно проводить его до двери — вежливо, почтительно, ну конечно, с какой стати быть невежливым?
— Ты очень великодушен, но, понимаешь, мне хотелось сделать вам более основательный подарок. Перед тобой открылись бы неслыханные возможности. Увы, не повезло.
— Быть может, с Божьей помощью откроются другие.
— Безусловно. Но все равно жаль. Очень обидно. Картофель — будущее мира. Сами увидите. Или ваши дети. Или внуки.
Котушко приостановился, как-то странно, словно бы свысока, улыбнулся.
— Здесь нужно будет драться, а не картошку сажать.
— Драться? Надеюсь, не на пистолетах. Терпеть не могу шума.
— Без шума мир про нас забудет. Да и сами мы заснем. Шум необходим.
— Перестань. Не хватало, чтобы еще и ты стал меня запугивать.
Этот честный малый скорее шут, чем глупец. Интересно, с кем он собирается драться? С диким российским медведем, напирающим на них своим ненасытным брюхом? И каким оружием? Даже шпагу отдал невесть кому. С говном нельзя воевать, милый мальчик. Ничего не получится. Глазом не успеешь моргнуть, как извозишься с головы до пят. Бежать отсюда надо, бежать без оглядки. Но вслух этого не сказал. Василь наконец принес рубашку. Вот что сейчас в тыщу раз нужнее любых слов.
— Не буду больше отнимать у вас время. Завтра зайду попрощаться. То есть… мы зайдем.
Сквозь тонкую ткань рубашки мир не казался много нелепей обычного.
— Даст Бог, я до тех пор доживу.
И прикусил язык. Надо быть осторожным. Если поползут слухи, они дойдут и до короля, а тогда… Тогда, правда, драться им запретят, но его сочтут трусом, который специально раструбил о дуэли. Оттолкнул Василя, неуклюже пытавшегося то ли его задушить, то ли расправить ворот рубашки.
— Подумать только, если б не эта обезьяна в человечьей шкуре, не этот кусок дерьма, прикидывающийся слугой, и ваше имя могло бы прославиться на весь мир, господин Котушко.
Ответом был изысканнейший, однако самый холодный из всех поклонов, каким он обучил этого юнца.
— Надеюсь застать вас завтра в добром здравии. А фамилия моя, господин Казанова, — Костюшко. Тадеуш Костюшко[45], к вашим услугам.
Венцом этого поклона была побледневшая физиономия и далеко не дружелюбный взгляд. И тотчас юнец нарочито твердым шагом переступил порог и скрылся за дверью. Джакомо отхлебнул пива. Какая муха укусила мальчишку? Котушко или Костюшко? Не один черт?! Да катись он со своим норовом… и без него забот хватает.
И все же… нехорошо, что малый ушел обиженный. Как бы из-за этого ему завтра не изменила удача. Кроме того… вдруг Лили действительно свяжется с этим благородным глупцом? Не выпуская из рук шпаги, Джакомо кинулся вслед за учеником. Зачем искушать судьбу? Если они не помирятся, он вернет ему шпагу. Поздно. Темный коридор пуст, внизу хлопнула дверь. Ничего, догонит на улице, выговорит «Костюшко», хоть сломав язык.
Не догнал — налетел на кого-то, чуть не сбив с ног. И сам лишь чудом устоял и не скатился с лестницы. В последнюю минуту его поддержали чьи-то сильные руки, чье-то дыхание обдало перегаром.
— Браво, господин Казанова, браво.
Князь Казимеж! Этот что здесь делает? Пить его не уговорит, пусть и не пытается, от вчерашнего еще трещит голова. А может… Боже, это было бы превеликим счастьем! — может, его прислал сам король? Узнал о дуэли и повелел ее отменить. Так и честь будет сохранена, и голова цела. Спрятал руку со шпагой за спину. Еще князь сочтет его отчаявшимся упрямцем и откажется ‘Выполнять Свою миссию.
— Это вы, князь? Милости прошу в наши скромные хоромы.
— В другой раз, господин Казанова. Я предпочитаю… поймите меня правильно… я здесь тайно, инкогнито, так сказать. Брат короля — это в некотором смысле и король, а король должен блюсти закон, короче говоря — не позволит!
Сердце так и подскочило от радости.
— Не позволит?
Дыхание князя могло бы замертво свалить коня. Эге, да он улыбается, лицо расплылось в широкой улыбке. Джакомо скорее это почувствовал, чем увидел.
— Скажем так: не позволил бы, если бы знал. Но он не знает. И надеюсь, не узнает. Во всяком случае, не от меня. И не от вас, господин Казанова, верно? Не для того ведь мы загнали кабана в нору?
— Клянусь честью, князь…
Это не вестник мира — шпагу можно не прятать. Merde. Неужели сбываются только дурные предчувствия?
— Вы видели, как я с ним тогда… не очень-то… Политика. Мне с Браницким схватываться не пристало. Честь трона и всякое такое. Ну а ты, сударь, — руби наотмашь не раздумывая, да только поглядывай, стоит ли еще на ногах. И королю услугу окажешь, и сам останешься цел. Иначе он тебе, господин Казанова, мозги выклюет.
Ничьи объятия, даже княжеские, сейчас не в радость. Тут и с лестницы недолго свалиться, если королевский братец не перестанет его трясти. Ну что бы им, хоть на денек, поменяться ролями…
— Мои мозги, князь, не всякая ворона выклюет.
Казимеж расхохотался прямо ему в лицо. Даже утереться нельзя — князь не дает шевельнуть рукой. Брызги слюны — забыть, слова, напротив, записать сегодня же. Разве они не достойны великого полководца в канун исторического сражения?
— Молодец. Это по мне.
Не успев понять, что происходит, Казанова почувствовал на своих губах мокрые, пахнущие, как притон поутру, губы князя. На мгновение его парализовало: не столько от неожиданности, сколько от омерзения. Это как понимать? Обычай у здешних варваров такой или, может, в темноте этому молокососу что-то не то померещилось? Высвободил руку со шпагой. Он никому не позволит себя оскорблять.
— Прощай.
Прощай. Джакомо вздохнул с облегчением. Поцелуй в губы. Забыть. Ничего князю не померещилось. Разве не так в Древней Греции или в Трое прощались с воинами, идущими на смерть? На смерть? Кто это сказал? Какой бес шепнул на ухо страшное слово? За спиной слышится чье-то дыхание. Да, ему не почудилось. Князь Казимеж продолжал трясти его руку, словно невесть почему старался продлить минуту прощания. Чего ему еще нужно? Джакомо слегка повернул голову. Чего им нужно — ведь там, в темноте, затаился кто-то еще. Спина и ладони покрылись холодным потом. На смерть?
— Я ухожу, сударь, но оставляю человека, на помощь которого ты можешь рассчитывать. Покажись, Бык.
Сопящий призрак отделился от стены. Это, кажется, тот самый офицер, который ворвался с князем в репетиционный зал. Бык, настоящий бык. Только зачем он ему? Казанова ни в чьей помощи не нуждается. Разве что Господа Бога.
— Береженого Бог бережет, как у нас говорят. Учти это, сударь.
Они уже и мысли его читают? Он ведь ничего не сказал. Да и не смог бы при всем желании. В глотке застрял колючий ком, от ярости перехватило дыхание. Так, значит? Прикидываются друзьями, а сами боятся, как бы он не удрал. Охранника под видом помощника к нему приставил, наглый мальчишка. И еще Бога припутывает.
Не бывать тому. Он не позволит, не даст, никому ни в чем не уступит. Ни Браницким, ни Казимежам, ни тем более каким-то Быкам. Они увидят, с кем имеют дело. Вытер тыльной стороной ладони рот. Его на смерть? Да знает ли этот забулдыга, каков у смерти вкус? Желает узнать?
Казанова бросился вдогонку за князем со шпагой в вытянутой руке и какой-то дикой путаницей в голове. Он и сам не знал, чего больше хочет: убить Казимежа или со словами благодарности повалиться ему в ноги. Однако сквозняк от открытой внизу двери и грозное ворчание Быка за спиной быстро его отрезвили. Он лишь перегнулся через перила глухо гудящей под ногами князя лестницы и крикнул не своим, каким-то петушиным голосом:
— У меня даже шпаги приличной нет!
Темнота на мгновение стихла, а потом наполнилась далеким, точно с того света донесшимся эхом:
— Я тебе пришлю какую только захочешь. Хоть золотую. А пока возьми у Быка.
Взял. С тем большей охотой, что минутою раньше почувствовал ее острие где-то на уровне печени. Стало быть, он не ошибся. К нему приставлен охранник. Он его разоружил, но малый здоровенный и, похоже, сильный. Такого шпагой не уложишь. Да и шпага никудышная, немногим лучше той, что ему дал Котушко. Неужели эти поляки ничего поприличнее не могут себе позволить? Отправили бы несколько купцов в Милан, тогда б увидели, что такое настоящая шпага. Кстати… стоит когда-нибудь этим заняться. Стыдно королевским офицерам носить на боку такое! Пятисот штук для начала хватит. Для себя он выговорит, допустим, пятнадцать процентов со штуки… А, и двенадцати хватит. Сколько же это получается? Бык ткнул его в бок, вероятно, сильнее, чем собирался, — голос у него был спокойный, дружеский:
— Шпагу. Мне тоже нужна.
Ладно уж. Если охранник, может, хорошо, что вооруженный. Черт знает чего еще ждать — до утра далеко. Мало ли головорезов на свете. И у Браницкого могут быть свои. Протянул Быку ту, что взял у Котушко. А о торговле шпагами он подумает в другой раз и в другом месте. И наверно, осуществит эту идею — в другом месте и в другое время. Пока только б не перепутать, кому какая принадлежит; не исключено, что завтра еще парочка психов изъявит желание с ним драться.
Завтра… Джакомо приостановился на пороге. Сколько часов ему осталось? Пять? Шесть? Завещание. Необходимо написать завещание. Но прежде избавиться от этого цербера, который громко сопит и обдает смрадным дыханием его затылок.
— Коли уж ты здесь, будь любезен, позаботься, чтобы ко мне никого не впускали. Я должен сделать несколько важных дел.
И захлопнул дверь. У Быка перед носом.
Приказал принести еще свечей, сам их зажег, но на душе не посветлело. Сел писать письма, однако дело не шло, и вскоре он отложил перо. О чем писать? Это что — прощание? Вряд ли стоит раньше времени огорчать друзей в Венеции, которые много лет его поддерживали — не очень щедро, но постоянно. И тем более двух-трех женщин, в памяти которых он хотел бы остаться. Если же эта история завершится благополучно, он так все опишет — только чернильные брызги полетят. Но сейчас — без эффектного конца — рассказ ни черта не будет стоить, получится банальным и пресным. Да и тяжело писать в его теперешнем состоянии. Ну а если конец будет плачевным… Лучше составить завещание. Однако и тут ничего не получилось. Прекрасным почерком — в свое время он не один месяц потратил на овладение искусством каллиграфии, — Джакомо вывел только название: «Мое завещание». Потом перо отказалось повиноваться. Буквы хромали, протыкали бумагу, расплывались бесформенными кляксами, да и смысла в этой писанине он уже не видел.
Глупо заявлять: «Находясь в полном физическом и душевном здравии», когда желудок подкатывает к горлу, коленки трясутся, а мысли, точно алчные стервятники, кружат над одним-единственным, самым важным сейчас вопросом: пистолеты или шпаги? Выиграет или проиграет? Жизнь или… Но даже если бы он справился с этой идиотской формулировкой — о чем писать дальше? Что у него есть, чтоб кого-нибудь одарить? Рукописи — в печке, картошка — у Василя в желудке; несколько горстей золота да пара изящных тряпок, которые он отдаст своим домочадцам перед дуэлью… для этого никакие завещания не нужны. А остальное? Туфли с золотыми пряжками, шляпа с орлиным пером, кафтан, который будет на нем? Это все сдерут слуги Браницкого, не успеет смолкнуть гром выстрела и успокоиться поверхность грязной лужи, в которую он — не приведи Господь! — свалится мешком. Хотя, скорее всего, так оно и будет. Достаточно посмотреть на этих головорезов и вспомнить, в какой он стране. Даже шпагу некому оставить. Во-первых, потому, что ее нет, во-вторых, никого, достойного такого подарка, он не знает. Нет наследника — Джакомо вдруг осознал это с мучительной ясностью.
Бывало, конечно… то в Париже, то в Венеции, то в Цюрихе он обнаруживал свой нос, челюсть, взгляд у каких-то сопливых младенцев, без особой гордости демонстрируемых ему женщинами, которых он когда-то любил. Обычно все ограничивалось намеками, но он предпочитал их не понимать, дамы же не проявляли настойчивости. Да и уверенным быть он почти никогда не мог; другое дело, что и не хотел, однако здесь и сейчас это ровным счетом ничего не меняло. А Лили? Ей-то нужно оставить о себе память, если уж не получится — упаси Господь! — самому с ней остаться. Но что? Огляделся. Все его имущество умещалось в одном кофре и двух-трех пригоршнях. Не гаванские же сигары, не запонки с жемчужинами — они ему еще понадобятся, — и не комплект ложек в форме слоновьих хоботков для надевания башмаков.
Сара и Этель! Он подарит Лили право их опекать. Вот что! И Пестрого подарит, чтобы возле нее не одни волки крутились. И волшебную медную монетку Иеремии. Может, хоть ей принесет счастье.
Что же еще? Да ничего. В голове пустота. Чернила густой каплей застыли на кончике пера. Джакомо вытер перо рукавом рубашки. Написать королю? Неплохо бы, опередив клеветников, все ему объяснить. Однако, кроме гладких расхожих фраз, ничего не приходило на ум, а сейчас нужны особые слова. И клеветники, уж конечно, найдут более выразительные. Если Браницкий его убьет — больно кольнула пронзительно ясная мысль — в рай ему не попасть. Если б рая вообще не существовало, это бы еще полбеды, тогда можно и смириться. Но рай есть: не для того же люди мучаются целую жизнь, чтобы лишиться и этой надежды. Впрочем, для него там места не будет. И никогда не было. Всю жизнь он стремился в самое высокое общество, добивался милости сильных мира сего, но когда в конце концов ее удостаивался, что-нибудь непременно сталкивало его вниз. Злобные наветы, забытый карточный долг, опрометчивое признание в неблагородном происхождении. И вот уже много лет, с грустью подумал Джакомо, ему неотвязно сопутствует такая же неуверенность и фальшь, как частичка «де», которую он порой для шика приставляет к фамилии Сенгальт. Много лет впереди него бежит худая слава. Если бы мир только лишь догадывался, что он собой представляет на самом деле. Увы! Никто этого не знает и не желает знать. Заурядный авантюрист. Таким и останется до конца своих дней. Такие — что при жизни, что после смерти — не заслуживают доброго слова.
Да? Тогда пусть хоть один человек узнает, что он был незаурядным авантюристом.
«Многоуважаемый господин Вольтер!» О нет, никаких «многоуважаемых», пора выспренних условностей давно миновала. К тому же он намерен сказать нечто весьма дерзкое.
«Уважаемый господин Вольтер!» Тоже не годится. Значит, просто: «Господин Вольтер! Пишу вам из далекой, маленькой и несчастной Польши, где, быть может, завтра завершится моя не слишком короткая и не слишком долгая, счастливая и бессчастная жизнь. Я приехал сюда из России, из империи, с владычицей которой, помнится, вас связывает некое подобие интеллектуальной дружбы. Говорят, можно дружить даже со змеей — не знаю. Ваши сексуальные пристрастия мне неизвестны и, честно говоря, неинтересны. И все же хочу вас предупредить: эта нахватавшаяся философских знаний, искушенная в политике змея — сущее чудовище, изрыгающее огонь и серу. Водить с ней дружбу — все равно что издеваться над остальным человечеством и насмехаться над самим собой. На человечество, вам, возможно, плевать, но стоит ли быть столь безжалостным к себе? Ведь рано или поздно люди все узнают. Вскоре чудище проглотит оцепеневших от страха и бессилия соседей, икнет, обожравшись, и похвастается, что пользовалось кулинарными рецептами великого французского мудреца. И каково вам тогда будет, господин Вольтер? Не знаете? В таком случае я, человек, обожженный этим ядовитым пламенем и отравленный пропитанным серой дыханием, вам скажу: вы почувствуете себя великим французским глупцом».
На этом «глупце» чернила — брызнули из-под пера, заливая бумагу. Надо будет переписать. Притом два раза. И копию отправить в Венецию. Предоставить правде лишний шанс.
Всего переписать он не успел. В коридоре что-то происходило.
— Нельзя, говорю, нельзя.
Зычный голос Быка был громок, но его заглушал весьма решительный женский визг. Нельзя сейчас обращать внимание на такие мелочи: важность минуты, необходимость сосредоточиться… он даже старался не думать про переполненный мочевой пузырь и героически сдерживался. Однако, черт побери, он еще не покойник! За дверью женщина. Что этот пьяный болван себе позволяет?! Джакомо вскочил, дернул дверную ручку. Заперто! Он чуть не обезумел от ярости. Его пленили, как они посмели, хамы! Кровью, только кровью смыть позор! Схватил со стола шпагу, толкнулся плечом в дверь:
— Откройте!
Голоса в коридоре на мгновение стихли, но тут же что-то ударилось о стену и шум поднялся снова, правда, не с такою силой. Что этот монстр с ней делает? Душит? Всемогущий Боже, кого? Лили, его прелестную Лили? Бинетти, которая пришла оказать ему последнюю услугу? Или, быть может, Полю, толстозадую Полю, накануне подарившую ему столько сильных переживаний? За каждую он будет драться как лев, сорвет дверь с петель и будет колотить ею безмозглого великана, пока тот не поймет, что женщина создана для любви, а не для того, чтобы ее душили. Любить нужно женщин, а не душить, поганый ублюдок!
Поднатужившись, навалился на дверь — безуспешно. Приготовился к следующей атаке — со стулом, со столом, с кроватью! — но тут случайно задел локтем ручку, и эта паршивая, вовсе не запертая дверь распахнулась. Джакомо отступил на шаг, чтобы больше было простору, размахнулся… стоп, никого не надо душить, бить, калечить. Вообще ничего не надо делать. Клубок тел за порогом внезапно распался: у Быка, получившего удар в пах, подкосились ноги, а женщина в черной накидке полетела прямо в объятия Казановы. С немалым — и малоприятным — удивлением Джакомо узнал Катай. Не душить? Кто это сказал, тысяча чертей?
Втянул Катай в комнату. Этот стонущий от боли и ярости великан может глазом не моргнув разбить им головы. Осторожно высунулся в коридор:
— Ну полно тебе, полно.
Почему-то Казанова произнес эти слова по-польски, сам не очень понимая, что говорит. Но они возымели неожиданное действие: Бык оставил попытки подняться и, будто потеряв не только охоту разбивать головы, выкручивать руки и сворачивать шеи, но и вообще желание жить, как мешок повалился в угол. Лишь теперь стало видно, насколько он пьян. Merde, даже охранник попался никудышный. Не уберег от Катай.
— Чего уставился? — В светлом прямоугольнике кухонной двери появилось испуганное лицо Иеремии. — Принеси лучше воды.
Обидел мальчика. Но сожаления не почувствовал. Так ему и надо. Ничего другого паршивец не заслужил. Ну почему его преследуют только неудачи и неудачники?
— В чем дело?
Было бы наивно думать, что Катай смутит его наглый тон. Она и прикидываться не стала, актриса! Как дрянной фокусник на провинциальной ярмарке, извлекла из-под пелерины знакомый кошелек: он знал его лучше, чем все шлюхи, которых из него одаривал.
— Я собираюсь вернуть долг.
Джакомо взвесил кошелек в руке:
— Похвальное намерение. Это все?
Катай была очень взволнованна, даже на высоко открытом лбу выступили капельки пота. Вряд ли ее привела в такое волнение необходимость расстаться с деньгами. Попыталась поймать его взгляд, а когда ей это удалось, с дьявольским очарованием обнажила в улыбке зубы.
— Я принесла то, что вы оставили. И еще кое-что — кажется, вам хотелось это купить.
Будь осторожен, Джакомо, пожалуй, этот пьянчуга Бык был прав, не пуская ее к тебе, тут пахнет чем-то нехорошим.
— Это значит…
— Это значит, что я, возможно, позволю себя соблазнить, господин Казанова.
Покосилась на дверь, заперта ли. И он посмотрел туда же. Как сопляк, выдал себя этим взглядом. Однако — стоп, пусть слишком много о себе не воображает. У него сейчас одно желание: опорожнить мочевой пузырь.
— Если это старые шутки…
— А если не шутки?
Соблазн был велик, противиться становилось все труднее. Гостья сбросила накидку, откинула назад волосы, прекрасно понимая, какое впечатление произведет ее обнаженная грудь. Перед ним стояла уже не Катай, а искусительница родом из пекла. Надо быть святым, чтобы устоять. Что ж, хорошо. Почему б не попробовать… Не исключено, что в последний раз. Только с оглядкой, не торопясь. Не верить ни единому ее слову. Отодрать — да, но поверить — ни за что. Джакомо грубо, точно торговец, оценивающий залежавшийся товар, схватил одну из нацеленных на него грудей.
— Сколько?
— Нисколько. Почти даром. Чуточку доброй воли. Вот и все.
Ошибка. Джакомо отдернул руку, но было уже поздно. И она это знала. Ох уж эта скользкая и влажная уверенность в себе. Merde! Нет, рано ей еще радоваться!
— Доброй воли… чьей доброй воли? Моей? Я уже ее проявлял, и слишком много раз.
Можешь сколько угодно с возмущением фыркать, Джакомо, нести любой вздор, прикидываться безразличным — что случилось, то случилось. Ты почти готов. Одно небрежное прикосновение разожгло неугасимый огонь. Она должна быть твоей. Сейчас, немедленно.
— Ты не будешь драться.
В ее голосе не было ни тени кокетства, слова прозвучали как сводка с поля боевых действий. Знает что-то, чего не знает он? Ну ясно, ее прислал Браницкий. Струсил, бритая башка, струсил!
— Возможно, я позволю перед собой извиниться.
— Не о том речь. Утром ты уедешь. Не станешь драться.
— Это еще почему?
Они сговорились, решили чуть позже нанести удар исподтишка, разбить ему затылок на каком-нибудь грязном и голодном постоялом дворе. О нет, он не такой дурак и не настолько ослеплен. На свете нет такой дырки, ради которой он бы добровольно полез в петлю.
— Потому, что я тебя об этом прошу.
Теперь она положила ладонь ему на грудь — мягко, нежно; когда же, согнув пальцы, провела ногтями по коже, Джакомо понял, что всемогущая, способная толкнуть его навстречу гибели дырка на свете есть и до нее буквально рукой подать. Проклятие! Даже мочевой пузырь от потрясения стих и перестал домогаться своего.
— Тебе так уж важно, чтобы он остался цел?
Откуда эти телячьи нотки в голосе? Ревнует к напыщенному хряку? Ни капельки. Просто несет какую-то чепуху, чтобы не молчать, чтобы отвлечь внимание от того, что происходит без участия слов, от горячих мурашек в том месте, где лежит ее рука, от внезапного пробуждения где-то там, пониже немого, который набирает силу и вот-вот заговорит, притом весьма красноречиво.
— Может, и важно. И не только мне.
Вот черт! Важно не важно, ей не ей, да пускай хоть все владыки мира и полдюжины тайных полиций встанут на защиту Браницкого. Ему плевать. Этот, внизу, уже вообще ничего не желает слышать, а разгадку тайн искусительницы намерен искать у нее между ногами. Ибо истина там, а не в замаскированной лжи и двусмысленных намеках.
— Ты уедешь без помех. Лишь бы не причинил ему вреда. Этого будет достаточно.
Смотри, как бы я тебе не причинил вреда, обманщица. Ты еще будешь просить о повторении. Но все-таки на секунду заколебался.
— Почему я должен тебе поверить?
Она облизала губы — демонстративно, чтобы он видел. На переносице сверкнула капелька пота. Наверняка знает больше, чем он думал, бесовка. Русская, прусская или австрийская.
— Не глупи. Иди ко мне!
Джакомо хотел что-то сказать, но тот, внизу, уже одолел его, заткнул рот, заставил искривить лицо в дурацкой улыбке. Он еще только подскочил на секунду к двери, чтобы повернуть в замочной скважине ключ. Холод ручки… проклятое пиво напоминает о себе на каждом шагу, по спине забегали мурашки. Скорее он ее убьет, чем позволит и дальше морочить себе голову. Она задула свечу, он накрыл ладонью вторую и, уже сжимая теплое тело в объятиях, остро ощущая его приятную тяжесть, изогнулся, чтобы погасить последнюю, но Катай его удержала. Пускай горит. Непредсказуемая, страстная Катай! Джакомо даже застонал, когда ее рука скользнула вниз. После вчерашних Полиных бесчинств он ждал скорее боли, но почувствовал истинное наслаждение — обжигающее, задевающее каждый нерв, обещающее высочайшее блаженство.
— Ну!
И все же что-то его остановило; он даже знал что, но предпочел себе в этом не признаваться. Какой же из страхов, таящихся под кожей, самый главный, самый мучительный? Может, этот — простейший, страх кожи перед уколом шпаги или ожогом выпущенной из пистолета пули?
— Какое он выбрал оружие?
Катай, будто не услышав вопроса, не разжимая пальцев внизу, обняла его свободной рукой и притянула к себе. Он почувствовал ее губы на лице, твердые соски. Но тревога не отступала. Опять она хочет его провести? Ведь эти груди продаются, а губы, даже если с непритворной нежностью касаются его губ, напоминают о чем-то неприятном. Недавно пережитом. Ну конечно — прощальный поцелуй князя Казимежа! Капелька слюны для обреченного, для живого трупа. Тьфу!
Хотел отстранить Катай, а получилось, что оттолкнул. Намеревался спокойно задать вопрос, а получилось, что рявкнул:
— Пистолет или шпага?
Она отшатнулась, но его не выпустила.
— Что с тобой, Джакомо? Какое это сейчас имеет значение? Ты уедешь, я ведь обещала.
— Не понимаю, что вокруг меня происходит.
Он весь дрожит, мысли и слова путаются. А она… она играет ва-банк. Видно, высока ставка. Уши или яйца Браницкого? А может, какие-то тайные интриги, витающие в здешнем воздухе, не дающие дышать?
— Ничего не происходит. И я тут ни при чем.
Снова придвинулась; грудь, прекрасная, божественная грудь приближалась к его губам. Минутку, минутку, нельзя сейчас позволить заткнуть себе рот. Отступил назад, едва не перевернув стол; задрожал огонек единственной горящей свечи.
— Мне нужно написать несколько писем…
Кто-то пробормотал эти слова вместо него, а он ясно увидел, как от гнева Катай докрасна раскалилось слабое пламя свечи и полумрак расцветился всеми цветами ее ярости. Джакомо покачнулся, и лишь потому когти не задели его лица.
— Свинья! Я тебе этого не прощу!
Красное пятно — ядовитое, кипящее, кровавое. Что за перемена? Теперь перед ним была фурия, готовая кусаться, царапаться, лягаться. Пальцы, ласкающие его минуту назад и сами домогавшиеся ласк, превратились в когти, глаза убили бы, если б могли, губы — покалечили; даже груди, ослепительной красоты груди задрожали, как адская машина за секунду до взрыва. Казанова вытянул перед собой руки — не станет же он драться с этой рассвирепевшей ведьмой, на сегодня достаточно, больше он глупостей не наделает.
И она внезапно замерла, словно пораженная тем, что чьи-то руки посмели ее оттолкнуть.
— Ты заслужил, чтобы он продырявил тебя с первого же удара.
Удар, продырявил с первого же удара… Это была вспышка не одной, а сотни свечей, лучшее, что есть в мире, тепло, смех, вода горного ручейка, омывающая натруженные стопы, и солоноватый вкус женского лона. Живем, господин Казанова! Не пистолетом же наносить удар, с одного удара продырявливают шпагой. Шпага, Бог мой, шпага! Стоп, минуточку. Куда это она собралась? Не нужно дуться. Все будет хорошо, он клянется. Обхватил Катай за талию, когда она была уже возле двери. Все будет хорошо, обещаю, шептал ей в ухо. Она перестала вырываться. Будет хорошо, подумал, торопливо срывая с нее платье. На шпагах? У Браницкого нет шансов. Пожалуй, можно позволить легко себя ранить, подумал, больно уколовшись о застежку корсета. Merde. Нет, не позволит. При первой же возможности продемонстрирует такой блестящий удар, что под этого дурака тазы подставлять придется. Не зря мясники Астафьева учили его разным азиатским штучкам.
— Уедешь?
— Уеду, уеду…
Но сначала въеду, добавил мысленно, возясь с панталонами и легонько подталкивая ее, уже обнаженную, неожиданно застеснявшуюся под его взглядом, к кровати. Въеду, да так, что на всю жизнь запомнишь. Чертовы портки. Разрез, гимн будущего — надо всерьез этим заняться. Рванул так, что панталоны затрещали по швам, но наконец освободился. И сам поразился тому, что увидел. Какая-то таинственная пружина растянула до грани сладкой боли массивную стрелу, которой он никогда особо не гордился, но отныне — о благословенный случай! — будет гордиться.
Он не испортит себе этой минуты животной страстью. О нет. Он уже давно не юнец, умеющий только молотить бабу до потери сил и рассудка. Он хочет не торопясь познать каждый уголок ее тела. Не пропустить ни с чем не сравнимый момент первого прикосновения, когда ее уступчивость и его настойчивость, слившись воедино, обретут форму, запах и вкус. Тайна. Божественная и человеческая. Прыжок в пропасть. Сладость и терпкое обещание неземного блаженства. Щекочущее наслаждение и страх первооткрывателя. Это — секунды наибольшей близости мужчины и женщины. Все, что будет потом, — лишь отчаянная, попытка повторить тот единственный, первый миг, лихорадочный поиск. Сколько раз такие попытки заканчивались безрезультатно? Но не сейчас, о нет, сейчас этого не случится. Он не допустит. Возможно — дурацкая, назойливая мысль! — ему суждено испытать такое в последний раз. А может быть, в первый — если считать, что с этой минуты начнется новая, свободная жизнь.
Поэтому он не спешил. Постучался в дверь. Медленно вошел и тотчас замер от упоения и восторга. Все было так, как он себе представлял. Упруго и атласно, нежно и разнузданно. Они подходят друг другу. Он ей покажет, чего она до сих пор себя лишала. Разорвет надвое, доведет до исступления, заставит молить: еще, еще! Она уже это поняла? Поняла. В полумраке ее глаза светились таинственным магнетическим блеском. Оба задержали дыхание и одновременно замерли. Поразительно! Может, стоило так долго ждать. Может…
Он хотел уже пойти дальше, но она вдруг начала сопротивляться. С такой силой сжала бедра, что он чуть из нее не выскочил, и при этом обвила руками так, что стало больно дышать. Опять взялась за свое? Снова, курва, решила его провести? Какую же теперь мистерию вознамерилась сыграть? Джакомо рванулся, но — увы! — никуда не взлетел. Хорошо. Он будет бороться до победного. Видно, это ей больше всего по вкусу. Наверняка искушает его, дразнит, чтобы довести до белого каления. Черт, только бы не переиграть. Но откуда этой идиотке знать, что там, в глубине живота, таится опасность, стократ более грозная, чем все его мысли о мести?
Только бы не опозориться… кто подсунул ему это пиво, эти мочегонные помои, Иеремия, ну, для него сегодняшний день добром не кончится… углубиться в нее до самого дна или вырваться и убежать куда глаза глядят… но тут она, приподнявшись, нежно коснулась его губами. Это было восхитительно. Восхитительно и неожиданно. Джакомо опять почувствовал прилив сил, но уже не протестовал, когда она остановила его влажным поцелуем.
И все же что-то тут было не так. Ему она не давала пошевелиться, хотя сама трепетала, даже губы дрожали, а взгляд убегал куда-то вбок, в сторону двери. Безмозглый глухарь. Увлекшись токованием, забыл обо всем на свете, перестал видеть, слышать и понимать. В коридоре опять что-то происходило, слышался топот, перешептывания, по полу волокли какой-то тяжелый предмет. Джакомо убедился в реальности этих звуков, лишь когда увидел глаза Катай — безумные от волнения. Она знает что-то, чего не знает он. Слышит то, чего он не услышал. Приподнялась и прильнула к нему отнюдь не в порыве нежности, замерла не потому, что потрясена его любовным искусством, а для того — о, наивность его распалившегося дружка! — чтобы лучше слышать, а то и видеть. Но что?
И внезапно облился холодным потом. Пришли его убивать. Это заговор. Браницкий, слуги Браницкого, карлики Катай, лжекороль, вся эта свора, покушающаяся на его честь и жизнь! Очередной поцелуй смерти? Эрекция приговоренного? Да, Погруженный в женщину, связанный ее руками и оглушенный пульсацией крови, он представляет собой отличную мишень. Что они выберут — печень или сердце? Вот он — тот первый удар, которым она ему угрожала. Джакомо не почувствовал желания защищаться. Будь что будет. Ведь его ждет покой. По крайней мере, избавление от этой банды и от усталости, перепутавшей все мысли в голове. И разве такая смерть — не достойное завершение жизни?
Но то была лишь минутная слабость. Воля к жизни — вкупе со взбунтовавшимся мочевым пузырем — внезапно побудила его к действию. И даже вновь вспыхнувшая активность Катай не смогла остановить. Даже пронзительное наслаждение, которое он на мгновенье ощутил, не заставило свернуть с пути. Пузырь приговоренного к смерти! О нет, только не это! Дверь негромко скрипнула, будто кто-то проверял, заперта ли она, или случайно к ней прислонился. Стало быть, это слуховой обман! Джакомо вырвался на свободу так стремительно, что его дружок больно ударился о край кровати. Катай попыталась его удержать, но он опередил ее, соскользнул на пол, схватил только панталоны и шпагу и, скрючившись, заковылял к двери. Проклятое мерзкое пойло. Проклятое невезение. Всегда оно начеку.
— Я сейчас…
За дверью никого не было, если не считать похрапывающего Быка, лежавшего у стены в немыслимой позе, с лицом между колен. Да уж, лучше охранника и вправду не придумать. И опять Джакомо что-то услышал: то ли шуршанье пересыпающегося гороха, то ли топот легких ножек. В той стороне коридора, где была комнатушка Этель и Сары, хлопнула дверь. Ну конечно, следовало бы раньше догадаться. Придется наконец задать девчонкам перцу. Но не сейчас, сто тысяч переполненных мочевых пузырей, не сейчас!
Пытаясь на ходу застегнуть панталоны, чтобы никого не напугать, Джакомо добрался до углового чулана. Больше ждать было невмоготу, и, сбросив крышку огромного бака, он нацелился в невидимую бездну. Страшный миг в ожидании взрыва, который в клочья разнесет живот, и — ничего. Но еще через секунду — облегчение, равное предшествующему страху, да какое там равное: в сто, в тысячу, в миллион раз большее! Теперь уже можно поднять голову. Это все она! Она его убьет. Скомпрометирует. Выставит на посмешище. И тем не менее игра стоила свеч. Какое странное наслаждение он испытал. Чудеснейшая из потаскух! Сейчас он к ней вернется, это была всего лишь закуска, ужин еще впереди. Откуда свет? Казанова усмехнулся. Не будь дураком, Джакомо, она не уколет тебя ни злым словом, ни кинжалом наемного убийцы. До конца исполнит свою потаскушью повинность. Откуда этот свет? Из окна напротив. Свеча? Коли уж деньги принесла… Эта бритая башка так на нее влияет? Тот, второй, усатый, лысый… черт с ними! Кто там возится в кухне? Иеремия? Да. Этому все мало. Лопает по ночам, будто его днем не кормят. Кто из него вырастет? — в лучшем случае второй Василь. Огромный безмозглый мужик, по правде сказать — обыкновенная скотина. Табуретку подставляет. Ну конечно, жрать надо с удобствами. Но при чем тут веревка? Что?..
До финала было еще далеко — пенистая струя летела вниз с неослабевающей силой, — когда Джакомо с ужасом понял, что там, в полумраке кухни, происходит на самом деле.
Надо немедленно туда бежать, но… он вынужден был стоять на месте, беспомощно глядя, как мальчик без колебаний, медленно и размеренно, словно занимаясь привычном делом, влезает на табуретку и перекидывает через балку длинную веревку. Джакомо хотелось бы ошибиться — может, это какие-то щенячьи забавы с веревкой, новый номер, который мальчик собирается им утром продемонстрировать, — но рядом с головой Иеремии закачалась петля, безжалостно и однозначно свидетельствующая, что он не шутит. Закричать? — но что толку, стены толстые, оконца узкие, как в крепости. Казанова рванулся, попытался заткнуть проклятый фонтан, но результатом стала лишь лужица на полу и досадное сознание, что потеряна бесценная секунда. Быстрее, быстрее, должен же когда-нибудь этому извержению прийти конец. Конец. Что за отвратительное, жесткое слово. Как острие шпаги, как дуло ружья после выстрела, как — Боже, нельзя этого допустить, — шуршанье веревки, затягивающейся на шее. Нет! Что этот несчастный делает!
Джакомо бросил в окно шпагу — боль в пальцах напомнила, что он сжимает ее в руке, — но не попал. Стекло не разлетелось вдребезги, уничтожая страшную картину: Иеремия, всовывающий голову в петлю. Свет померк, уже почти ничего нельзя было различить, кроме тени в центре этой картины, и вдруг тень качнулась… Все. Господь милосердый, он это сделал, сделал! На его, Джакомо Казановы, глазах. Грязная свинья, дырявый пивной бочонок, жалкий раб своего пузыря!
А вот и нет. Он уже свободен. Выскочил в коридор, аж посыпалась штукатурка с потолка. Помчался стремглав, придерживая сползающие панталоны. Ступенька, поворот, шершавая стена, загородившая путь. Джакомо оттолкнулся от нее, отпрыгнул. Об Иеремии он не думал, весь был движение, энергия, полет. Скорее, тут решают секунды. Вот она — дверь кухни в конце коридора. Но рядом другая дверь, куда более притягательная! Наслаждение, безумие, Катай! Только бы не сбежала, тысяча чертей.
Наступив на что-то мягкое, Казанова растянулся на полу. Иисус, Мария! Не успеет. Однако мгновенно собрался с силами, привстал на четвереньки и — забыв о девушке, не обращая внимая на жалобные проклятия Быка, не чувствуя боли в придавленной руке, — отчаянно, всем телом ударился в кухонную дверь. Теперь счет шел уже не на секунды, а на вздохи. Есть! Медленно покачивающаяся тень. Что ты сделал, засранец, что ты сделал!
Ум работал четко, любая ошибка могла привести к непоправимому, поэтому, еще не видя висельника, Казанова схватил со стола нож. Тело Иеремии, какое-то крохотное и словно подернутое серостью, качалось выше, чем ему показалось. Джакомо приподнял мальчика, чтобы ослабить петлю, но не сумел дотянуться до веревки ножом. Свой просчет он осознал слишком поздно. Ножа мало, нужна еще табуретка, без нее вряд ли что-нибудь получится. Как же быть? Чтобы дотянуться до табуретки, надо выпустить худые ноги мальчика, но тогда искорка жизни — а он верил, хотел верить, что она еще теплится в тщедушном теле, — бесповоротно угаснет. Что делать? По спине катился холодный пот. Тяжело дыша, Джакомо лихорадочно соображал, как поступить. Им овладевало отчаяние. Вскоре даже надежды не останется — у него затекут руки, и теплое еще тело под собственной тяжестью повиснет, затягивая петлю. По его, черт возьми, вине. Вина? Кто тут говорит о вине?
Хотел позвать на помощь, но прежде, чем голос ему повиновался, в кухню с шумом кто-то ввалился. Казанова не успел обернуться, как над его головой просвистел какой-то предмет, и внезапно освободившееся тело Иеремии мягко свалилось на него, а рядом упал на колени сбитый с ног силой собственного прыжка Бык. Откуда у него эта кривая сабля?
«У меня бы мог быть такой сын, — подумал Джакомо, на негнущихся ногах шагнув вперед. — Что же ты сделал, что ты сделал, сынок?» Положил мальчика на стол, прижался ухом к груди. Жив? Услышал только стук собственной крови в висках. Ждать больше нечего. Теперь уже все во власти одного Бога. И, может быть, его, понятливого ученика доктора Готье, который за свои эксперименты был сочтен растлителем молодежи и изгнан из Парижа.
Распутав веревку на шее Иеремии, Джакомо со злостью швырнул ее на пол. Какой ужас. Ведь мальчик решил покончить с собой из-за него. Из-за его дурацких затей. Животный магнетизм, чудеса, левитация. Сила сверхъестественная, а немочь обыкновенная. Тысяча чертей, сегодня следовало быть с ним помягче. Если бы знать… Он же еще ребенок, подумал, торопливо расстегивая рубашку на худенькой груди Иеремии. Хотел надавить на грудь ладонями, сделать искусственное дыхание, но, увидев хрупкие косточки, испугался. Еще ненароком сломает…
— Свет, зажги свет, — крикнул подымающемуся с пола Быку. То, что нужно, он видел и так, но ему хотелось вырвать и себя, и мальчика из темноты, которая в ту ночь была скорее грозной, чем таинственной. Пусть позовет всех, подумал еще, но уже не успел сказать вслух. Склонился над мальчиком и, зажав ему пальцами нос, выдохнул весь воздух из легких в полуоткрытый рот. И еще. И еще. И еще. Доктор Готье мог делать так и сто раз. Только пониже нагнуться и сильнее впиться в губы Иеремии. Бог мой, если бы не боязнь за мальчика и за свою шкуру, это вовсе не было бы неприятно. Губы Катай — возможно ли? — минуту назад имели совершенно такой же вкус. Вкус жизни, а не смерти. Значит, не все потеряно? Несомненно. Еще раз. Катай. Если б она сейчас его видела, наверно, лопнула бы от смеха. Рано смеяться. Через минуту увидит. Подождет. Ждет? Ждет. Это будет его награда. Что-то ведь и ему причитается.
Ничего ему не причитается. Пуля в лоб завтра утром. Мальчик не шевелился, и ничто не указывало, что на это есть хоть малейшая надежда. Пациенты доктора Готье давно бы уже встали и церемонно поклонились своему спасителю. Он однажды видел нечто подобное. Но сейчас видит только закрытые глаза и беспомощно открытый рот Иеремии. Хуже того: он сам начал задыхаться и, похоже, вот-вот потеряет сознание. Все вокруг стало затягиваться черной пеленой. Надо отдохнуть, но отдыхать нельзя, дорого каждое мгновение. Нет, он должен передохнуть. Пошатнулся, но успел схватиться за стол. Желудок опять подскочил к горлу. Спокойно, спокойно. Держись, малыш, еще минуточка. Лишь бы не грохнуться в обморок, лишь бы не вырвало.
Но оказалось, могло быть и хуже. Уже почти придя в себя, Джакомо почувствовал на затылке смрадное дыхание: чья-то тяжелая туша отталкивала его в сторону. Обернувшись, он напряг зрение: глаза еще не привыкли к угрожающе пульсирующей темноте. Долго гадать не пришлось. Джакомо разглядел искривленную странной улыбкой рожу склонившегося над Иеремией Быка. Боже, только не это! Пьяная скотина. Из-за таких извращенцев затравили доктора Готье. Вон! Куда лезет?! На место! От одного вздоха, вылетающего из вонючей пасти, можно свалиться без чувств. Целоваться захотелось? Пожалуйста — пускай поцелует его в задницу. Но к мальчику не сметь прикасаться!
Размахнуться, чтобы дать Быку по шее, он не мог, да и понимал, что придавленной при падении рукой больно не ударить, поэтому со всей мочи пнул великана в щиколотку. Ничего страшного не произошло: Бык, понурившись, попятился, беззлобно бормоча что-то себе под нос, — не похоже было, чтобы он горел желанием дать сдачи. Наверно, сам не понимает, что делает, пьяная образина. Чудо, что не покалечил Иеремию своей саблей. Как бы сейчас исподтишка не располосовал его сзади… Эта мысль прибавила сил. Джакомо быстро нагнулся к мальчику. Вдох-выдох. Вдох-выдох. И настороженный взгляд через плечо — не летит ли на него вооруженное огромной саблей чудовище. Однако прежде, чем взгляд пробился сквозь полумрак к забившейся в угол фигуре, дверь медленно приоткрылась, и в тусклом свете лампы Казанова увидел перепуганные личики близняшек и возвышающуюся над ними заспанную физиономию Василя. Но все это произошло секундой позже.
До того на столе что-то изменилось. Он это услышал, почувствовал? Понял во внезапном озарении? По-видимому, все сразу. Но что, что? Иеремия продолжал лежать неподвижно, не подавая признаков жизни, с мертвенно-бледным лицом. Где же на мгновение вспыхнувшая надежда? Опять он обманулся? Махнул рукой: пусть войдут, случилась беда, вот что. И вдруг Иеремия громко икнул и открыл глаза. Значит, все-таки произошло чудо, сегодня ночью случилось чудо. Благодарение Господу и — Джакомо вытер рукою рот — доктору Готье. Мальчик, похоже, не понимал, что с ним но, увидев Казанову, испуганно заморгал.
Меня боится, меня, который заменил ему отца, который хотел сделать из него великого артиста, прославленного на всю Европу, который ни одной розги не сломал об его спину, словом не попрекнул после сегодняшнего провала. Вот она, плата за его доброту, за — он предплечьем вытирал губы — выкачанные досуха легкие. Что этот мальчишка воображает? Кто его вытащил с того света? От судьбы убежать думал? Наивное заблуждение. От судьбы никому не убежать. Ну, может, мало кому. Кое-кто все же убежит, притом скоро. Одного такого он сам знает.
— Приветствую тебя. Ты дома.
Слабая, но счастливая улыбка Иеремии. Злости как не бывало. Может, еще из мальчика выйдет толк. Не все же, надо надеяться, вытрясла эта крепкозадая корова. Что-то от его необыкновенного дара, возможно, осталось, пускай хоть искра, едва тлеющий уголек; не беда, уголек можно раздуть в костер до небес. Надо будет только всерьез заняться маленьким чудотворцем. Потрепал Иеремию по щеке. Пусть лежит, не двигается, пока не придет в себя. Отвар мяты. Мгновенно согреет кровь. Он бы и сам выпил чего-нибудь горяченького — Сара уже разводила огонь в плите, — но жалко терять время. Они тут и без него управятся. А там — там его ждет следующее чудо. Только бы не опозориться. Впрочем… неловко признаваться, но он все еще возбужден. Губы Иеремии не сильно отличались от губ Катай. Джакомо еще постоял минутку, поглядел, как Этель платком вытирает мальчику лицо. Лишь теперь он почувствовал, какой в кухне холод, а ведь единственная его одежда — собственная шкура. Полуобнаженный и босой — ну и вид у него, должно быть. Будет здесь торчать, наверняка схватит воспаление легких, и завтра злые языки раструбят, что он струсил. Не дождетесь.
Холодно не холодно, ему тут делать нечего. Теплая постель с горячей красоткой — разве это не лучшая награда? Он сперва велит ей прикрыть себя пледом, крепко обнять и не выпускать, пока не скажет. Божественные будут минуты. Ну а потом позволит разогреть себя другим способом. Джакомо нагнулся, чтобы вытащить застрявшую между пальцами ноги крошку, а когда выпрямился, ощутил на голой спине грубую шерстистую рубашку. С удивлением обернулся. Василь. Волосатый, как обезьяна, и рожа, как у обезьяны, выпрашивающей морковку. Ну и почитатели у него. Дождался! Вместо Катай — Василь. Надеется, он забудет его каннибальскую выходку. Впрочем — забудет, уже забыл. Неожиданно для самого себя улыбнулся Василю и вышел, чтобы окончательно не расчувствоваться. Рубашка воняла козлиным потом и липла к спине, но он и виду не показал, как ему противно. А то еще и этот вздумает сунуть голову в петлю…
За дверью, однако, он сорвал с себя эту пакость — что подумает его почти коронованная возлюбленная, почуяв отвратительный запах? — и швырнул в глубину коридора. Обольется одеколоном, она и не почувствует, подумал, не сомневаясь, что расстается с вонючей тряпкой навсегда. Но не успел сделать и шага, как рубашка оказалась у него на голове. Кто-то его придержал, кто-то обхватил шею руками. Джакомо даже не вырывался, не пытался оказать отпор. В глубине души он этого ждал. Головорезы Браницкого или какого-нибудь другого дьявола. Явились, чтобы его убить. Ну, скорей же. Чего они ждут? Он готов. Может, хоть последнее доброе дело зачтется ему на небесах. Как там будет? Как там будет? Этот вопрос вытеснил все прочие мысли. Словно на этом свете его уже ничто больше не интересовало. Как? Наверно, темно, но, уж конечно, никакой вони. Он задохнется от этого смрада еще до того, как убийцы решатся всадить ему под ребро нож или перерезать глотку. Почему они медлят? Пускай делают свое, лишь бы кончились мучения. Это конец? В самом деле? Верно, конец, раз даже пошевельнуться нету сил. Он уже мертв?
— Хватит.
Кто это сказал? Почему по-французски? Местные бандиты не столь образованны. Голос знакомый. Ну и что — ему знакомы тысячи голосов. Клещи на шее внезапно разжались, мышцы — должно быть, невольно, он ведь не сопротивлялся — напряглись, и мерзкая тряпка взлетела высоко вверх.
— Браво. Браво, господин Казанова. Первый правильный поступок.
Огонек сигары приблизился к лицу. Даже не узнай он голоса, запах крепкого табака подсказал бы, кто перед ним. Полковник Астафьев. Призрак или сон? Кошмар, сотканный из нервного напряжения и усталости?
— Я, разумеется, не трюк с рубашкой имею в виду, не тем более дурацкое паясничанье при дворе. А вот идея прикончить Браницкого вполне достойна вашего ума.
Это не сон. Явь. Неужели так плохи его дела? Полковник, надо полагать, не развлекаться сюда приехал…
— Я не собираюсь никого убивать. Это дуэль, — растерянно пробормотал Джакомо. — У меня не было другого выхода.
И сейчас нет. Он чувствовал это спиной, за которой затаился кто-то, верно только и мечтающий — как перед тем рубашкой — обмотать ему шелковым шнурком шею или хорошо рассчитанным ударом проломить череп. Чувствовал всем телом, внезапно одеревеневшим, неспособным сопротивляться, точно заранее знал, что это бессмысленно. Он почти видел усмешку на лице Астафьева.
— Отлично, отлично, дуэль. Но дуэли по-разному кончаются. Предположим, с Браницким случится беда, скажем, душа выпорхнет через небольшое отверстие, к чему вы, господин Казанова, будете иметь самое прямое отношение. Что за этим последует, как по-вашему?
— Не знаю. — Он услышал свой жалобный голос и от стыда набрался наглости. — Не знаю, и меня это нисколько не интересует.
— А жаль. Больше того — это ваша ошибка. Сегодня, впрочем, не первая. В самом деле: почему б вам не пригласить нас в, комнату?
Сигара подъехала к самому подбородку. Джакомо не ответил, загипнотизированный движением огненной точки. Пускай сами, глупцы, догадаются, отчего он не хочет и не может. Не хочет, поскольку не может. И даже так: не может, потому что не хочет.
— Ну ладно, Бог с тобой. Нет у нас времени тут рассиживаться. Будем считать, что этой ошибки не было, идет?
Бандит за спиной громко загоготал. Куц? Нет, уж скорее тот, что не выпускал его из печи.
— Что касается других ошибок… деньги, которые ты потратил на эту шлюху, придется вернуть. Мы золотом не разбрасываемся, любезный. Во всяком случае, ради потаскух…
Merde, подумал Джакомо, не опасаясь, что кто-нибудь прочтет его мысли, не понимаешь, что говоришь, евнух. Ради такой добычи никаких денег не жалко. Знают, что она его ждет, что принесла золото? Знают, они все знают, Астафьев не стал бы так спокойно с ним говорить.
— А твой визит к Репнину, к послу Репнину… Своим длинным языком ты причинил нам немало хлопот. Но… что было, то быльем поросло. Только учти… — вспомнив, что сигары существуют также и для того, чтобы их курили, глубоко затянулся, — в следующий раз за подобную оплошность поплатишься головой. Понял?
Понял. И еще понял, что на этот раз выскочит из переделки живым. А ведь уже почти не сомневался, что счет идет не на часы и минуты, а на секунды. Опять ощутил холод, ледяной каменный пол обжигал босые ступни. Поскорей бы вернуться к себе, к ней, к раскаленной печке, к готовому взорваться вулкану.
— Поговорим о более приятных вещах. Итак, ты убил Браницкого. Что дальше?
— Я не хочу никого убивать.
— Хорошо. Но предположим, Браницкий погибает на дуэли. Я тебе расскажу, каковы примерно будут последствия. Его сторонники — а у него их немало, и весьма влиятельных, — учуяв, что тут не обошлось без сторонних сил, а возможно, и короля, подымают бунт. Армия восстает против трона и отказывается усмирять мятежников. Смута, хаос. Что делать королю? Его величество вынужден обратиться к нам за военной помощью. Мы, разумеется, ее оказываем — незамедлительно и, так сказать, бесповоротно. Не задаром, естественно. С золотом, правда, не только у тебя туго, но ничего, обойдется без золота. Ценой будут некоторые уступки, допустим, территориальные.
Не боится, что кто-нибудь услышит? Но кто, например? Пьяный вдребадан Бык, Василь, которого они сами к нему подослали, девчонки или едва восставший из мертвых Иеремия? Н-да, отличные у них союзнички. С такими в лучшем случае блох ловить. Никто его не защитит. Даже Пестрый уже несколько дней как куда-то запропастился. Приходится рычать самому.
— Я пойду к королю.
Опять дыхание того, второго, на затылке. Перегрызет горло или грохнет своим лбом в темя, так что эхо, прокатившись по лестнице, разнесется по улице? Астафьев прервал размышления над этой мрачной загадкой.
— Попробуй. Кстати, он уже знает, кто ты. Прикажет страже вышвырнуть тебя ко всем чертям. А то и собак натравит. Надо думать, ты не всех с его псарни выпустил? А?
Ноги подламываются. Они знают все. И про собак Репнина, и, вероятно, про заколотого караульного. Придерживаясь за стену, чтоб не упасть, Казанова сполз на пол. Желание бунтовать бесследно пропало, осталась только усталость, смертельная, сдавливающая горло усталость. И горькое удивление: неужели он больше ни что не способен?
— Я не хочу никого убивать.
— Придется. Другого выхода у тебя нет.
Знает, что говорит, скотина. Заманили его в западню, загнали в угол. А ведь он и без них собирался продырявить этого высокомерного хлыща или, по крайней мере, изукрасить его бритый затылок, чтоб надолго осталась память. Однако теперь все приобрело иную окраску. Ему отводится роль статиста в политической интриге по знаку махнувшего хвостом дьявола, он бросится крушить троны, переносить границы, убивать и калечить, и не одного Браницкого, а тысячи безвинных людей.
— Я смогу уехать?
— Отчего же нет? Думаешь, мы тебя здесь держим? А может, кто-то совсем другой? Или что-то другое?
Джакомо, скорее всего, не понял бы, о чем говорит Астафьев, слова до него доходили с трудом, голова была занята одним: он попался и бессилен что-либо сделать, — но тот, сзади, так непристойно загоготал, что все стало ясно. Катай! Они что, считают его двадцатилетним недоумком?
Пускай считают. Пускай смеются. Пускай верят, что этим смехом его унизили. Какой невыносимый гогот — трескотня сороки над задремавшим в траве котом. В аду такое может присниться! Хорошо, он им покажет, как униженность превращается в надменность, как повергнутый поднимается, расправляет плечи, гордо вскидывает голову. Если б не этот смех, эти парализующие волю бессловесные проклятия… Нет, не будет он ничего делать. Ничего. Просто посидит здесь до утра. Выдержит, каких бы усилий это ни стоило. Лишь бы оставили в покое. Чтоб их черти рогатые! Спрятал голову в колени. Да хоть бы и убили, пускай.
И — внезапное озарение. Катай! Она-то ведь непридуманная, живая, теплая. Ждет, обнаженная, соблазнительно раскинувшаяся, готовая его принять. Он вернется туда, откуда бежал, вновь переживет дивное мгновенье, которое с другими переживал не более одного раза. И еще возьмет ее сзади, чтобы лучше ощутила его силу. А потом? Никакого потом может и не быть. Нет! Джакомо расстегнул вдруг ставшие тесными панталоны. Это все чепуха. Он свое дело сделает. Завтра. А там ищи ветра в поле! Здесь он не останется, хоть бы пришлось ползти до самого Парижа.
— Вставай!
Ладно, ладно, он сам собирался встать.
— Быстрее!
Жаль терять минуты и слова на этих идиотов.
— Выпрямись!
Знал бы ты, болван, какая прямая у него спина, насколько он готов к бою.
— Сдвинь ноги!
Сдвинет. А потом раздвинет, когда прикажет ей на себя сесть. А потом опять — между ее ногами — сдвинет.
— Ну, живо!
Сейчас. Минутку.
— Шпага!
Холодок стали в руке. Бог мой — шпага! Настоящая шпага. Взвесил ее на ладони. Самая что ни на есть настоящая. Не слишком тяжелая и не слишком легкая. Чувствуется работа мастера. Не то что кочерга Котушко или шило Быка. С чего это они проявляют такую заботу?
— Будь осторожен. Достаточно его поцарапать.
Эти слова дошли до сознания Казановы, когда, уже не обращая на них внимания, только мечтая, чтобы пол, а затем и земля расступились и навсегда поглотили полковника Астафьева и его многотысячную рать, он ринулся вперед, готовый к любовной схватке. Вот, значит, как! Отравленное острие? Очередная шутка или сон? Не остановился, не обернулся. Крепче сжал рукоятку шпаги. Глупая шутка. Кошмарный сон. Пропади они пропадом!
Дверь он толкнул с такой силой, что застонала стена. В комнате горела всего одна свеча, но даже при ее неверном свете нетрудно было увидеть, что там никого нет. Ушла, убежала, не дождалась его триумфального возвращения. Ткнул шпагой в разворошенную постель. Достаточно поцарапать. Он этим не удовлетворится. О нет! Ударит так, что у графа крестец затрещит и глаза вспыхнут блеском, вонзит острие в шею и подождет, пока не закипит кровь. Но тем временем закипело все у него внутри. Он выскочил в коридор, готовый пинать, кусать, плеваться и прежде всего опробовать на Астафьеве мастерски сработанную шпагу. Но и тут никого не было. Из кухни не доносилось ни звука, а ступеньки тихо потрескивали только от старости. Негодяи! Мерзавцы!
Поспешил обратно в комнату, едва войдя, больно ударился коленом о стул. Курва! Чудовищная, величайшая на свете курва. А он чудовищный, величайший на свете болван! Мерзавцы и курвы, вот кто его окружает, вот среди кого ему довелось жить. Поздравляю, господин Казанова. Никогда не поздно делать такие открытия.
Он увидел свое неясное отражение в зеркале. Что у него на лице: кровь, грязь, первые признаки оспы? Схватил свечу, подошел поближе. Нет, это не у него на лбу и щеках пятна, а на зеркале. Какая-то надпись. Размашистые нервные буквы, начертанные губной помадой. Но почерк красивый, твердый. Она? Кто же еще, хотя трудно поверить, что она пожелала когда-либо уделить минуту столь бескорыстному занятию, как овладение искусством письма. Может быть, в детстве… Проклятая свечка. Нашла время сводить счеты с фитилем. «Завтра», — только это он успел прочитать, прежде чем огонек утонул в кипящем стеарине. Завтра. Что завтра? Да или нет? Испугалась или не захотела ждать? Но ведь… Быстро высек огонь. Свечу зажигать не стал. При короткой вспышке увидел то, что хотел увидеть.
«Завтра. Если будешь хорошо себя вести…»
Идиотка. Сама идиотка и его дураком считает. Значит, все было продумано заранее? Он получил задаток, всего лишь задаток. Остальное она забрала у него из-под носа. «Если будешь хорошо себя вести». Не слишком ли эта шлюха уверена в своей неотразимости? Было восхитительно, да, но не маловат ли задаток? Завтра. Ладно, у него сейчас совсем другое на уме. Хороший купец на ее месте заплатил бы вперед и с лихвой. Довольно рискованно рассчитывать на его «хорошее поведение»! Джакомо чуть не расхохотался. Он должен «хорошо себя вести». Тысяча чертей! Надо же такое придумать! Нет, уж лучше, когда баба извращенная, чем безмозглая.
Однако через секунду у него пропала охота смеяться. Смутная догадка быстро превратилась в холодную злобную уверенность. Джакомо провел рукой по комоду, бросился к столу — денег не было. О святая простота! Он заподозрил Катай в наивности!
С трудом удержавшись, чтобы не воткнуть с размаху шпагу в дощатый пол, он осторожно положил ее на стол и отодвинул от себя подальше. Ладно, он будет хорошо себя вести. Не бросится за ней вдогонку, чтобы отыскать и убить. А завтра — полуживой от усталости, рухнул на постель, еще хранящую ее запах, — завтра будет вести себя еще лучше. Не причинит большого вреда ее любовнику, только чуть-чуть, легонько, как бы невзначай его царапнет.
Лошади тронули, не дожидаясь приказа, — видно, место дуэли кучеру указали заранее. Ехали молча, и когда Браницкий коротко о чем-то спросил, это показалось бестактностью. У Казановы болел живот и шумело в голове, за обедом он позволил себе наесться так, словно его неделю морили голодом. Глупец — кто же обжирается перед поединком. Браницкий только усмехнулся, когда он ему об этом сказал. Было холодно, тихо и нереально. Пофыркивание лошадей, желчь во рту, колено человека, которого он должен убить, рядом с его коленом, все более убогие дома за окном кареты, свежий снег на полях.
Реальность вернулась, когда экипаж остановился у ворот парка. Оба торопливо вышли — каждый со своей стороны — и, уже не прикидываясь ни друзьями, ни уверенными в себе забияками, тяжело зашагали вперед по грабовой аллее. Джакомо обеими руками сжимал шпагу — свою надежду. Между тем тревога росла. Почему у графа на боку только кривая сабля? Может, кто-нибудь другой — он незаметно огляделся — несет его шпагу? Трудно сказать. За ними следовала целая свита офицеров и слуг. Никого из них Казанова не знал. Даже седовласого генерала, дружески ему улыбающегося, видел впервые. К счастью, не было наголо обритого хама, в присутствий которого произошла ссора. Тот бы не колеблясь учинил любое свинство.
Аллея заканчивалась скамейкой и каменным столом, испещрённым какими-то латинскими надписями. «Завтра. Если будешь хорошо себя вести». Почему такая чушь лезет в голову? Как только они остановились, воцарилась тишина, еще минуту назад нарушаемая шуршанием гравия под ногами приспешников Браницкого. И тотчас произошло то, чего Джакомо ждал всеми своими, вдруг обострившимися, нервами, всем точно заживо ободранным телом. Один из офицеров положил на каменную столешницу два больших пистолета. Боже — ему конец! Все пропало.
— Ты ведь, сударь, выбрал шпаги.
Браницкий его даже взглядом не удостоил, лишь небрежно пожал плечами:
— Я не со всяким дерусь на шпагах.
Это было как удар, между глаз. Граф что-то знает или просто хочет лишний раз его оскорбить? Джакомо не успел ничего сказать в ответ — седой генерал отчаянно замахал руками:
— Вы что, граф, драться хотите?
— А как же.
— Упаси вас Бог. За это головой можно поплатиться. Поединки строжайше запрещены. Предоставьте решить спор его величеству, пусть он вас рассудит, но драться — нет, никак нельзя.
— Я тебя не задерживаю, генерал, — уже не раздраженно, а яростно прошипел Браницкий, — однако требую сохранения тайны. Я должен сатисфакцию господину Казанове и, с Божьей помощью, намерен возвратить долг.
Лицо генерала сделалось одного цвета с волосами. Он повернулся к Казанове. Почему старик так напуган? Неужто ему и вправду грозит не только пуля Браницкого, но и топор палача? Не чересчур ли много для одного человека? Ладно, пусть сами разбираются. Он здешних законов не знает.
— Ты не можешь драться, сударь.
Не могу, но должен, неужели добродушный старикан этого не понимает? Лучше бы придумал что-нибудь вместо того, чтоб стенать!
— Коли уж меня сюда привезли, я буду драться. Буду защищаться в любом месте, даже в церкви. Разве что граф выразит сожаление и извинится за то, что вчера меня оскорбил.
Слова, слова, какая в них живительная сила! Джакомо сразу приободрился. Браницкий не ответил, только выругался себе под нос и демонстративно принялся снимать плащ. Торопится. Кажется, сегодня не съел ни крошки. Ясное дело — ему есть куда спешить. Вот только застрелит его, Казанову, невесть откуда взявшегося чужака без роду, без племени, лихо плюнет на раскаленное дуло и наконец сможет нажраться и напиться вволю. Скотина!
Генерал, кажется, едва сдерживал слезы.
— Я должен был быть вашим секундантом. Но, видит Бог, не могу.
Джакомо поклонился, чтобы не огорчать славного старика, хотя и тот начал его раздражать. Будь что будет. Браницкий не задумываясь нашел замену: небрежным движением руки подозвал молодого офицера, похожего на хищную птицу. Если б Казанову сейчас хоть что-нибудь могло потешить, он бы порадовался меткому сравнению. Минуту спустя в неожиданном коротком смешке — не послышалось ли ему? — своего нового секунданта он узнал сорочью трескотню, которой ночью пугал его невидимый пособник Астафьева. Вон оно что. Это одна банда. Но ведь… Задумывалось все совсем по-другому. Джакомо позволил секунданту снять с себя плащ.
— Я не умею стрелять. Он меня убьет, и вся недолга. Что тогда?
Офицер равнодушно поглядел ему в глаза. Не понял или не расслышал?
— Советую встать боком, втянуть живот и не слишком долго целиться. Вот так.
Пустое. Даже если он втянет живот до самого позвоночника.
— Вся ваша интрига полетит прахом. Хоть это приятно.
Офицер больше, не притворялся глухим. Но выражение его лица не изменилось; равнодушие если не притворное, то просто нечеловеческое. Впрочем, смешно было бы ждать от его преследователей сочувствия. В приступе внезапного отчаяния Джакомо вдруг захотелось напоследок подложить им свинью: пусть лучше попомнят его, чем запомнят как труса. Сейчас он заставит этого офицерика содрать с рожи непроницаемую маску.
— Я предпочитаю сто раз погибнуть, чем оказать вам услугу. Никогда, слышите, никогда вы от меня ничего не получите.
— Вынужден вас разочаровать. Нам, в общем-то, безразлично, кто погибнет.
Это был не голос, а шипенье подпаленной кожи.
— Если он — ты уже знаешь, что будет. А если ты — тоже неплохо. Королю придется арестовать Браницкого за нарушение закона, а уж мы позаботимся, чтобы скандал получился громкий. Начнутся беспорядки, бунты в армии и тому подобное. Без помощи императрицы опять же не обойдется. Тем более что специальный корпус наших войск сегодня утром пересек границу и спешит королю на помощь.
Что за стук? Череп раскалывается или всего лишь упали на каменный стол уже заряженные пистолеты? Сволочи, приспешники дьявола! У него еще есть шпага. Слишком далеко лежит. С одного прыжка не достать, а второй ему не дадут сделать. Пресвятая Дева, им мало его убить, они и труп хотят использовать для своих гнусных целей. Для успеха заговора против короля! Некрофилы проклятые, пусть со своей императрицей играют в эти игры, с ним у них ничего не выйдет.
Схватил офицера за плечо, правда, с оглядкой, чтобы не заметили другие.
— Я могу им все рассказать.
Опять затрещала сорока — отрывисто, издевательски. Браницкий уже приближался с пистолетами в руках.
— Попробуй. Тебя просто сочтут трусом.
Он и сам это знал. С отвращением выпустил плечо офицера. Зачем напоследок пачкаться в дерьме. Ему уже ничто не поможет. Это конец. Убийца преспокойно протянул пистолеты:
— Выбирай.
Он взял ближайший. Не все ли равно, из какого промазать. А на второй стоит поглядеть. Из серебристого, старательно выточенного человеческими руками дула вскоре с грохотом вылетит смерть, ему предназначенная, неизбежная. А Бог? Что же Бог и святые угодники? Позволят ему умереть? А скольких вещей он еще не сделал, сколько мыслей не успел записать. Его ли вина, что он попал в руки преступников?
— Целься пониже, эти пистолеты дают большой перелет.
Даже в аду сохраняется крупица надежды. Пресвятая Дева, эта гнида, этот пособник сатаны учит его, куда целиться, проявляет заботу. Нет, еще не все потеряно. С такими друзьями, Джакомо, ты высоко взлетишь. Итак, вперед, начинай, не заставляй себя просить. Все тебя ждут. Браницкий, Катай, король, императрица, все святые. Ну же.
— Хорошее оружие выбрал.
Эти слова привели его в чувство. Перед смертью он хотел бы услышать что-нибудь менее банальное. Холодно посмотрел на Браницкого:
— Это я проверю на вашем черепе.
Пять шагов по гравию аллеи. Дальше чахлые кустики, истоптанная копытами грязь. Докуда бы он добежал, если б, вопреки здравому смыслу, вдруг пустился наутек? Не далее чем до ближайшего пруда, а там — головой в воду. Повернулся, поднял руку с пистолетом. Внезапно вокруг будто посветлело, все приобрело четкие очертания. Джакомо видел густую поросль волос на обнаженной груди Браницкого и даже капли пота у него на носу. Но яснее всего — пока еще опущенное книзу дуло пистолета. Колеблется? Неужели не все потеряно? Merde, он не колеблется, он уже целится, но не в голову, не в сердце, а в живот. И даже не в живот — дуло опускается! — в низ живота, в пах, святые угодники, смилуйтесь… в яйца! Это чудовище хочет оскопить его перед смертью. О нет, только не это!
Ждать было нечего. Казанова поспешно заслонил ладонью живот и, точно шпагой, ткнул пистолетом в воздух, указательным пальцем невольно нажав курок. Грохнуло так, что вороны с пронзительным карканьем сорвались с деревьев. Острая боль обожгла левую руку, но не время было обращать внимание на такую мелочь. Произошло нечто невообразимое. Бог мой, попал! Браницкий пошатнулся и рухнул, как марионетка, у которой обрезали веревочки. Сколько было выстрелов: два или одни? Два. Поднес руку к губам. Кровь. Два. Если б секунду назад он не прикрыл живот…
Машинально бросился вперед, первый подбежал к Браницкому, схватил за плечи, попытался поднять, помешать неотвратимому, исправить внезапно разладившийся механизм. Алое пятно на белых панталонах — откуда? Рубашка. Рана пониже груди. Пошатнувшись, чуть не упал, приподнимая тяжелое тело. Почувствовав движение за спиной, скосил глаза: к ним бежали четверо из свиты Браницкого с саблями наголо. Господи, как же так? Его зарубят — сейчас, когда он чудом остался жив. Варвары, дикари, быдло, это ведь дуэль. Довольная рожа царского агента. Бежать! Это ему еще по силам. Но, когда он опустил Браницкого обратно на землю, тот вдруг открыл глаза:
— Умираю.
Хриплый шепот вырвался словно из наливающейся свежей кровью раны. Нет, сейчас шепот, даже сопровождающийся слабой улыбкой, не будет услышан; твердый взгляд и громовой голос — вот что нужно! И без промедления, ведь они уже близко. А у него даже шпаги нет. Даже палки. Ну и пусть! Он не позволит искромсать себя как не нюхавший пороха юнец. И, схватив Браницкого под мышки, напрягши все силы, подтянул кверху и поволок. Два невероятно трудных шага, и спина коснулась ствола могучего дерева. Теперь пускай попробуют его тронуть, свиньи. Видят, что он вытаскивает из манишки и подносит к шее их господина? Булавку — крошечный острый кинжал. Два дюйма венецианской стали — это не шутка. Достаточно, чтобы оборвать любую жизнь, а не только такую, едва теплящуюся.
— Стой!
Браницкий чуть не выскользнул у него из рук, но окрик прозвучал грозно и повелительно. А эти четверо уже заносили сабли.
— Прочь, канальи!
Они растерянно замерли, понурились, как псы, у которых силой отнимают добычу, однако повиновались. Обошлось! Еще бы секунда… ведь, прохрипев эти слова, Браницкий снова бессильно осел на землю. Нельзя, чтобы граф умер, иначе все будет кончено. Так ли, сяк ли — графская челядь с ним расквитается. Они оба должны остаться в живых, наперекор заговорщикам, замахнувшимся на короля. Быстрее, в одиночку эту тяжесть долго не удержать. Какой-то офицер подскочил, подхватил Браницкого с правой стороны. И — бегом вперед. В ста шагах от ворот парка трактир, там, наверное, есть горячая вода, тряпки, чтобы перевязать рану, может быть, даже лекарь. Должны же они были предусмотреть такой поворот дела…
Силы быстро покидали Джакомо. Вначале он держал Браницкого за руку, но, пробежав с полсотни шагов, почувствовал непреодолимое желание самому опереться на эту руку. Его сменил какой-то усатый великан, похожий на Василя. Но оттеснить себя от раненого Джакомо не позволил, опасаясь тех, что бежали сзади, и ухватился за ногу в сверкающем высоком сапоге, тяжеленном, точно отлитом из свинца. То и дело спотыкался, сапог выскальзывал из рук — кровь из собственной раны мешала крепко его держать. Будь милосерден, Господи. Еще немножечко. Только бы добежать. Потом он что-нибудь придумает. Но не добежал, не удержал скользкую тяжесть. Они уже были за оградой парка. На ухабистой дороге, покрытой неглубоким грязным снегом. Нога графа, как подрубленное дерево, медленно опускалась и в конце концов ударилась о землю, обдав грязью и кровью все вокруг. Браницкий застонал, открыл глаза. Казанову оттолкнули, отгородили спинами, но и так было ясно, кого искал взгляд графа.
— Беги отсюда.
Браницкий произнес эти слова или просто его губы едва заметно искривила гримаса боли? Произнес. Но только Казанова их услышал. Кто-то что-то крикнул, кто-то сунул ему забрызганный грязью плащ графа, и опять все тяжелой рысью устремились вперед. Джакомо бежал рядом с офицерами, несущими раненого, потом, отстав, уже один, позади. На него никто не обращал внимания. Решиться он ни на что не мог — слишком ослабел, слишком отуманен был болью и страхом. Пришел в себя только в корчме. Все рассыпались кто куда, под низким потолком стоял гул от шагов и проклятий. О нем, похоже, забыли. Бежать. Немедля.
Какая-то фигура загородила дверь. Смех — уже не сорочья трескотня, а сатанинский хохот — заставил Казанову замереть. Царицын прихвостень, посланец ада. Этот про него не забыл. Задержать хочет? Сверкнуло лезвие. Не задержать — убить. Добить раненого и безоружного. Такой, значит, план родился в их грязных мозгах?
Нельзя упустить момент. Не для того разве его неделями обучали, не для того он исходил потом и сносил оскорбления капитана Куца, чтобы теперь показать, на что способен? Обмотал плащом руку и шагнул вперед. Тот тоже не зевал, бросился на него, не сомневаясь в преимуществе кинжала. Первый удар порвал сукно, второй разодрал свисающий рукав. Скверно. Он теряет силы и время. У него есть всего несколько секунд, чтобы не остаться в проигрыше, не дать этому негодяю себя зарезать или тем — до смерти забить. Как его учил Куц, сам сатана Куц, Джакомо сделал вид, что отступает, а когда нападающий, уже уверенный в победе, кинулся на него, разразившись своим сорочьим смехом, — сейчас ударит, проткнет, перережет горло! — извернувшись, двинул его ногой в лоб. Голова мотнулась, как резиновая груша, на которой он отрабатывал удары. Вторым пинком Джакомо вышиб из пальцев противника кинжал, третьим — подсек под колени. Глухо стукнул затылок о каменный пол. Казанова потянулся за кинжалом. Сейчас он, достойный ученик сатаны Куца, всадит стальное лезвие в глотку его дружку по самую рукоятку, пусть подавится, сволочь. Размахнулся, но… куда бить, если человек у его ног вдруг забился в ужасном припадке, колотясь головой и пятками об пол, воя и выплевывая пену? Господи Иисусе, дьявол, дьявол во плоти! Джакомо, не выпуская кинжала из правой руки и плаща из левой, протиснулся между стеной и корчащимся на полу телом и бросился к двери.
Он бежал, а потом шел не разбирая дороги, едва не теряя сознания, не ощущая ни боли, ни холода, и остановился, лишь когда его догнали крестьянские сани.
— Варшава, — крикнул он, протягивая на ладони дукат, — Варшава!
Ему еще хватило сил, чтобы твердо пройти последние несколько шагов, но на брошенный для него на дно саней мешок с сеном он свалился, уже не чувствуя ни рук, ни ног, чуть не выбив себе зубы. Закутался в плащ Браницкого, напряг всю свою волю, чтобы не впасть в беспамятство. Катай, что он ей скажет? Кто скажет, при чем тут Катай? За такие груди никаких денег не жалко. Левая, с крошечкой родинкой, чуточку меньше правой. Лили, прелестное дитя, он теперь никогда с ней не расстанется, пусть только сейчас поддержит ему голову, а то шея отказывается служить, пусть подопрет пальчиками веки, а то он провалится в темную бездну… Отрезвил его раздирающий легкие и горло кашель. Он жив. Он будет жить. Помалу стал приходить в себя. С каждым причмокиваньем возницы, фырканьем лошади и стоном скребущих по грязному снегу полозьев в голове прояснялась и крепла надежда: он уцелеет, ничего плохого с ним уже случиться не может.
У самого въезда в город Джакомо услышал громкий топот. Он не испугался и не схватился за кинжал, ведь звук доносился не сзади, а спереди. Лишь когда всадник, не обратив на них внимания, проскакал мимо на взмыленном сивом коне, в лысом лихаче, яростно размахивающем саблей, Казанова узнал ближайшего дружка Браницкого.
Теперь можно было с уверенностью сказать только одно: ни в чем нельзя быть уверенным.
Finale
Жизнь — просто-напросто искусство самоограничения. Эта фраза уже не первый час вертелась в голове. Откуда она взялась? Черт знает. Вольтер? Пожалуй, нет. Какое самоограничение при его непомерных аппетитах? Но, с другой стороны, изречение вполне в духе нашего философа, очередной экземпляр из его коллекции банальностей. Итак, Вольтер. А может, и нет. Мало ли таких бесхозных афоризмов засоряют мозги. Хорошо, он попробует применить его к себе.
И потому даже не шелохнулся, когда — в который уж раз! — услышал шаги в коридоре. Не вздрогнул, когда в замке со скрежетом повернулся ключ и со стуком упал засов. Ничего интересного ждать не приходилось. Вероятно, тот самый детина в рясе, который тогда не пускал его в монастырь и уступил, лишь когда был повален на пол и обрызган кровью из раненой руки. Крадется — наверно, решил отомстить; служителям Бога не чужды земные слабости, а жилистым лапам может позавидовать профессиональный душитель. А, все равно. Он, Казанова, не станет сопротивляться. Не сумеет, не хочет, не в состоянии. Всему есть предел. Сколько можно ждать, прислушиваться к шагам за дверью, бросаться с надеждой к каждому переступающему порог остолопу, паясничать перед ним с пересохшим от волнения горлом, чтобы в конце концов выслушать кучу обещаний и снова томиться, как зверь, навечно заточенный в клетку? Сколько это продолжается, сколько — не дней, Господи Иисусе! — недель? Три, четыре?
Джакомо потерял счет времени, да и зачем нужно знать, какой день на дворе, если надежда убывает с каждым часом? Но на этот раз шорох, нарушивший внезапно воцарившуюся за дверью тишину, показался ему необычным. Почудилось? Он привык слышать такое по пять, по десять раз на дню, а сейчас ему это только приснилось… Нет — шорох повторился, стал громче, сменился покашливаньем, шепотом, чуть ли не смешками. Нет, это не может быть ни один из тех вельмож, что в первые дни слетались сюда, как мухи к гниющей падали, возбужденно гудели в коридоре, бренчали орденами и шипели от сдерживаемого смеха, когда он в сотый раз рассказывал, как Браницкий со стоном упал в грязь.
Верно, это один из неразговорчивых писарей, приносивших ему кипы книг и рукописей. Пошли они к черту со своим показным усердием! Он больше ни слова не напишет. Да, была у него охота, но пропала. Конец, schlub. Что написал, то написал. Сдержал свое обещание, пускай теперь Телок что-нибудь пообещает. Как минимум, пару верховых лошадей, полный кошелек и эскорт до границы, чтобы околачивающиеся возле монастыря головорезы, жаждущие отомстить за Браницкого, не вздумали помешать отъезду. А не захочет, не надо. Пускай историю этой несчастной страны ему пишут косноязычные придворные бездари. Хотя бы тот, что сейчас нетерпеливо топчется за дверью, горя желанием бросить на стол очередной опус об очередной национальной катастрофе или загубленных шансах на победу. Господи, что за люди! Что за народ! Столетие за столетием бредут навстречу гибели, пожираемые соседями и собственной гордыней. Точно слепы и глухи. Бог с ними! Он, во всяком случае, не станет больше заниматься чужими бедами — собственных хватает. И открывать им глаза не намерен, наоборот, закроет свои и попробует — по их примеру — слышать лишь то, что пожелает услышать.
Дверь громко скрипнула, словно одобряя его решение. Посетитель был уже внутри. Ну и пускай. Он не проронит ни слова. Не вскочит, о нет! с твердой, как камень, лежанки, не кинется приветствовать вельможного пана. Довольно. Не сдвинется с места, откажется принимать пищу, вообще от всего откажется. Пока его отсюда не выпустят. С королевскими почестями и с королевской охраной, ибо здесь надежная охрана важнее любых почестей.
Что-то зашуршало по каменному полу кельи — крыса? Шаги безмолвного посетителя? Дверь с тяжким стоном закрылась, а когда стон оборвался, вновь настала тишина. Тишина. Ключ в замке, кажется, не повернулся? Нет. Значит, это не королевский библиотекарь, а более важная персона. Какая разница? Кем бы незваный гость ни был, он пожаловал не вовремя. Господина Казановы нет. Уехал, победив на дуэли, провожаемый слезами друзей и заверениями в дружбе врагов. Здесь остался узник без лица и без имени, готовый терпеливо дожидаться торжества справедливости. Хорошо. Он им покажет, что такое искусство самоотречения. У них волосы встанут дыбом и отвалятся челюсти. Пожалуй, только дышать не перестанет, хотя и в этом не уверен. Даже испражняться будет под себя. Как бы ни разыгрался геморрой. Пусть увидят, что он действительно на все готов. Предпочитает заживо сгнить, чем и впредь забавлять эту свору. Молчанием заставит их призадуматься, а вонью — наконец что-то предпринять. Вот так-то! Прекратятся многолюдные паломничества к «нашему доблестному Казанове», и, быть может, кто-нибудь из этих молодящихся хлыщей подумает, как его отсюда вызволить, вместо того чтобы развлекать бесконечными однообразными рассказами, что Браницкий, как Браницкий, с кем Браницкий. Идите вы со своим Браницким куда подальше, чтоб я вас не видел! Меня не интересуют его заживающие кишки, у меня есть собственные, переворачивающиеся десять раз на дню от вопиющей несправедливости, которая победу превращает в поражение, а победителя — в узника, ждущего помилования. Насрать на такие порядки. Прямо сейчас, немедленно. Почему нет? Пусть этот, первый, все еще не решающийся заговорить смельчак увидит, что их ждет.
Джакомо напрягся, надулся, но эффект был ничтожный. Так, значит? Даже на это он уже неспособен? Жадно глотнул воздух, но не успел протолкнуть его сквозь судорожно сжавшуюся глотку, как с порога прошелестел тихий голосок:
— Это я…
Матерь Божия, святые угодники, грешный мир! Ему явился ангел, настоящий ангел — Лили! Джакомо мгновенно расслабился, мысленно благодаря Бога, что не слишком поздно, и торопливо вскочил. В темной епанче с полуопущенным капюшоном, оставляющим открытым только нос и рот, Лили и впрямь была похожа на посланца иного мира, где смертный может быть вознагражден за свои страдания. Да нет, вздор! Разве у ангела может быть такая улыбка? И такой любопытный взгляд? Боже, разве так смотрит дочь на отца? И так — минуту спустя — обнимает?
Ее прислала тетушка, с едой и запиской. Ага, грудь пополнена или она, как никогда, крепко к нему прижалась? Что? Ах, корзинка. Но что может сравниться с этим запахом и этими округлостями… Он болен? Нет, почему, неужели так скверно выглядит? Лежал? Лежал. А что здесь еще делать? Можно, конечно, стоять либо сидеть, но в одиночестве эти занятия лишены всякого смысла. Когда лежишь, по крайней мере, вспоминаются разные приятные минуты. Рука? Зашипел, едва она коснулась повязки, не от боли — скорее от обиды, что тогда, когда он действительно нуждался в помощи, рядом никого не было.
Она слыхала, что ему хотели отрезать руку? О да, местные коновалы только о том и мечтали, ходили к нему табунами. Но он отлично понимал, что им на самом деле нужно. А она не догадывается, наивная барышня? Впрочем, откуда ей знать, сколько в мире подлости и грязи. Они хотели — это ясней ясного — в качестве презента преподнести Браницкому отрезанную по плечо руку. Уравнять чаши весов. Какое там уравнять — ведь граф поправляется, так что в проигрыше остался бы только он, с пустым рукавом в том месте, которого она сейчас касается. Впрочем, зря он ее пугает, все эти ужасы позади, он не поддался, выгнал в шею неучей и интриганов, теперь все будет хорошо. Пусть она располагается как дома, снимет накидку, присядет, расскажет, что творится на белом свете.
Свеча… пожалуй, надо зажечь свечу, сумрак сгущается с каждой минутой. Но не сдвинулся с места. Так лучше. Незачем ей видеть его не мытое несколько дней лицо, круги под глазами, пятна на рубашке. Совсем опустился. Позор! Возможно, жизнь — это искусство самоотречения, но стоит ли начинать с собственной внешности? Ведь вчера — вчера или неделю назад? — ему принесли новый парижский камзол, который он заказал еще до выступления при дворе. А рубашки? Целая дюжина лежит в сундуке под окном — их с букетиком засушенных цветов прислали Этель и Сара. А башмаки? Грязные и запыленные, небрежно брошенные в угол, они даже в полутьме сверкают атласной кожей и серебряными пряжками. Так что зачем свеча? Чтобы девочка разглядела его босые ноги, небритую физиономию и несвежую рубашку, вылезающую из панталон? Чтобы отпрянула с отвращением?
Итак, он не сдвинулся с места. И она не отстранилась. Наоборот, крепче его обняла и прижалась лицом к этой ужасной рубашке. Влага на груди — неужели плачет? Поднял за подбородок прелестную головку — это еще что? — и тут слезы хлынули ручьем.
— Это все из-за меня.
Больше он ничего не сумел разобрать. Все остальное было безудержным рыданием, потоком слез, вздохов, слов, оборванных на середине, по многу раз начатых и не оконченных фраз. Да, да, из-за нее, она хотела руки на себя наложить, когда узнала, что он ранен, любимый, единственный, не вступись он за ее честь… она уже давно рвалась сюда, сразу же… служить ему, как умеет… но ее не пускали и сегодня не позволили, но она придумала… а сейчас умоляет, умоляет, чтобы он ее не отталкивал…
Господи, да как же можно оттолкнуть ее, чудесную крошку, чьи слезы красноречивее всякого признания в любви, его заплаканную дочурку, прижимающуюся к нему с отчаянной нежностью, его кровь от крови, плоть от плоти, слезы от слез. Дьявол! Да как же ее не оттолкнуть, если она опустилась перед ним на колени, продолжая обнимать его и целовать… быть может, это невинные поцелуи, она бы, наверно, так же прижимала к груди потерянную и наконец отыскавшуюся тряпичную куклу, но разве трудно почувствовать, что игрушка не из тряпок сделана, а из раскаленного железа? По крайней мере три недели у него не было женщины, и чтобы ему об этом напомнить, хватило бы искорки поменьше. Но ведь девочка, разжигающая в его жилах огонь, не знает, кто она, не понимает, что делает. Не знает… Но он-то — тысяча чертей! — он знает, и чересчур хорошо.
— Погоди, детка… я зажгу свечу.
— Нет.
Это уже была не слезная просьба, а страстный стон. Адский пламень все разгорался.
— Зажгу.
— Нет. Пожалуйста. Пусть все остается, как есть.
Он бы посмеялся, случись это с кем-нибудь другим. Не может все оставаться, как есть, — поздно. Пусть будет, как было, доченька. И лучше тебе не знать почему. Джакомо нежно поднял Лили за плечи и отодвинул на безопасное расстояние. Мужчины — животные. Жеребцы, быки, хряки. С ними надо осторожно. Ей никто еще этого не говорил? Может, именно ему следовало бы сказать, — разумеется, не сейчас. Он не такой святоша, чтобы испортить сладостные мгновения провозглашением банальных истин. А может быть, не такой уж плохой выход — силой отцовского чувства придушить зверя, для которого нет ничего святого, чтением морали заставить его поникнуть. Вздор. Нужно придумать что-нибудь другое. Пододвинул Лили единственный стул, хотел помочь снять накидку, но вовремя удержался. Сейчас лучше не предлагать ей раздеться. Тем более что от окна тянет холодом. Холод и тьма. Уже не спокойный Полумрак, царивший здесь четверть часа назад, — темнота сгустилась, покрыв стены графитовой плесенью. Только лицо девочки смутно светилось да поблескивали выбившиеся из-под капюшона локоны. Улыбается? Плачет?
— А что тетушка? Сердится на меня?
Лили даже засопела от возмущения: сердится? Почему? Кто бы посмел на него сердиться, даже господин граф Браницкий отзывается о нем с уважением. А у тетушки сейчас много работы в театре, наверно, потому она его до сих пор и не навестила. Как бы не так, подумал Джакомо, это благодарность за то, что он для нее сделал. Графа-то своего она, в конце концов, заполучила. А что досталось ему: четыре грязных стены под неусыпной охраной. И потоки красивых слов вместо свободы. Ах да, еще корзинка с едой.
Женщины тоже животные. Только другого вида. Может быть, птицы. Да, птицы. Ничто, кроме собственного гнезда, их не интересует. А если кто-нибудь попробует в это гнездо вторгнуться, у них есть клювы, и когти, и крылья, которыми можно брезгливо махать. Конечно, и с Бинетти выпадали приятные минуты, когда ее гузка милостиво подрагивала, но сейчас это не имеет значения. Он ей больше не нужен. Как будто перестал существовать. Глупая курица! Хотя… не такая уж глупая, раз прислала к нему Лили. Она хоть понимает, сколь это рискованно?
Птицы — жирные, крепкозадые гусыни, злобные орлицы, надменные совы, индюшки со сморщенной обвислой кожей, серенькие куропатки, смиренно ожидающие на меже своей участи. Кошмар! Но попадаются ведь и прелестные пташки. Например, эта, робко присевшая рядом, готовая в любую минуту вспорхнуть и улететь. Джакомо протянул руку, погладил, успокаивая, нежную, как атлас, холодную лапку. Лили накрыла его пальцы ладошкой, поднесла к лицу. Знает ли он, как все его любят, как не могут дождаться? Кто, интересно, чуть не пробормотал он вслух, те, по чьей милости он здесь сидит уже которую неделю, или те, что изо дня в день кормят его пустыми обещаниями добиться заступничества короля, или приятели первых, с нетерпением дожидающиеся, когда он выйдет, чтобы пустить ему пулю в затылок, а пока упражняющиеся на воронах, итак, кто эти «все»? Он хотел язвительно рассмеяться, но подавил и это желание.
Воспоминание о толпящемся перед монастырем сброде, готовом оторвать ему голову при попытке к бегству, подействовало не хуже прикосновения пузыря со льдом к животу. Сейчас он уже мог без опаски зажечь свечу. Склонился над принесенной Лили корзинкой — отчасти из любопытства, отчасти чтобы не огорчать девочку; после сегодняшнего обеда — разваренной капусты со шкварками — даже мысль о еде была пыткой. Сверху лежал небольшой конверт. Ага, письмо. Письмо от Бинетти. Лили беспокойно зашевелилась, посмотрела на него так, будто чего-то ждала.
«Офицер, который вручит тебе это письмо…» Какой офицер? Лили, точно услыхав немой вопрос, выпалила:
— Таде.
— Котушко?
— Да.
— Не захотел?
— Я захотела.
— И он тебя отпустил?
— Он для меня все сделает.
— А ты для него?
— Не все.
Казанову в равной мере удивила и ее твердость, и собственная дурацкая несдержанность. Ему-то какое-дело? Мало у него неприятностей? Скомкал письмо, почему-то совершенно уверенный, что ничего хорошего там не найдет. Однако любопытство взяло верх. Ну ладно, он только взглянет.
«Офицер, который вручит тебе то письмо, рискует честью. До того дошло, что всякие с тобой отношения грозят ее утратой, притом по твоей, Джакомо, вине».
Что эта баба несет! Она ему будет говорить о чести! По крайней мере, его-то честь всегда при нем, он ее утратить не может. Подлая! Пусть только когда-нибудь ему попадется — тут они и побеседуют о чести. Но что интересного она сможет сказать, если во рту у нее будет торчать нечто, от чести весьма далекое?
«Завтра мы с королем уезжаем на охоту, а затем в Петербург, где зимы, говорят, бесподобные, а высшее общество жаждет искусства. Так, во всяком случае, утверждает граф. Стало быть, мы никогда больше не увидимся, о чем я ничуть не сожалею. По сути дела, Джакомо, ты — сукин сын. Но чтобы не поминал меня лихом, посылаю тебе корзинку того, что — после самого себя — ты любишь, пожалуй, больше всего на свете…»
На мгновение Казанова рассвирепел. Словно получил оплеуху, пощечину, причем нанесенную отнюдь не женской ручкой. На обороте была еще приписка, но ему вполне хватило прочитанного, и он сунул письмо в карман. Зачем подставлять вторую щеку? Пускай уезжает. Он не станет поминать ее лихом. Вообще не вспомнит. Неблагодарная тварь — ничего другого она не заслужила. Хотя — он посмотрел на застывшую как изваяние Лили, не сводящую с него напряженного взора, — может быть, это не совсем так.
— Она… — ему пришлось проглотить слюну, чтобы не подавиться этим словом, — тетушка… знает, что ты здесь?
— Не знает. Думает, я пошла на урок.
Ах вот оно что. Интересно. Лучше и придумать трудно. Если б только он захотел…
— А он?
— Он не в счет…
Черт, малышка эта — беспредельно наивна или чересчур сообразительна? Много будет понимать, скоро состарится.
Я…
О нет, нет, нет. Он тоже умеет читать чужие мысли. Никаких признаний, милая барышня. Он еще не решил, как себя вести.
— Хорошенькое дело. Ладно, давай поглядим, что ты принесла.
Вдруг напильник и моток веревки? Что сейчас — кроме собственной персоны — он бы оценил выше всего? Сдернул салфетку, прикрывающую корзину, медленно, не испытывая особого любопытства, приподнял крышку. Наверняка котелок капусты со шкварками. Замер, недоуменно всматриваясь в горку серых раковин. Пока не потрогал рукой, не услышал шуршанья льда на дне корзины, не коснулся пальцами выпуклого бока лимона, не мог поверить своим глазам. Устрицы! Настоящие устрицы! Бог мой, да это же королевский подарок. Умница Бинетти, знала, что делает. Пожалуй, он ей простит этого «сукина сына». А когда обнаружил еще бутылку рейнского, понял, что простит все.
Вытащил из-под стола табурет, на который сажал не самых высокородных гостей, удобно уселся. Нашлась какая-то тарелка, стаканы, салфетка, чтобы вытирать губы. Чего больше желать от жизни, когда перед тобой горка устриц, бутылка вина и девушка? Даже геморройные шишки вдруг перестали докучать. А то, что устрицы не такие свежие, как он любит, вино недостаточно заморожено, а девушка — его собственная дочь… ну и плевать! Живешь один раз и слишком недолго, чтобы придавать значение таким пустякам.
Боль в раненой руке вернула Джакомо обратно на землю. Он зажал в пальцах раковину и попытался было другой рукой ее вскрыть, но предплечье тотчас свела судорога. Попробовал зубами. Безуспешно. И тут она, его Лили, застывшая в позе дремлющей кошки, быстро к нему пододвинулась. С первого раза у них ничего не получилось: Казанова неловко схватил устрицу, и она полетела под стол. Бог с ней. Но потом дело пошло на лад: Лили крепко держала раковину, а услыхав треск раздвигаемых ножом створок, выдавливала внутрь капельку лимонного сока и подносила устрицу к его губам. Тогда он — какое наслаждение! — просовывал кончик языка внутрь, подцеплял, вертел, высасывал, пока плотный комочек не проскальзывал в глотку. Голова шла кругом. А вино. А слюна, размазанная по подбородку. А возбуждающий запах устриц и пота. Джакомо хотелось, чтобы Лили тоже испытала райское наслаждение, но язычок — прелестный язычок, робко притаившийся меж не менее прелестных губок, — еще не обучен был подобного рода искусству, и вторая раковина ускакала под стол. Эту Казанове уже стало жалко, он нагнулся, а когда снова выпрямился с обретенной устрицей в руке, увидел, что Лили сбрасывает пелерину. И в следующую секунду, неведомо как, оказалась у него на коленях.
Пожалуй, это было несколько неожиданно, однако отнюдь не неприятно. Да и почему, сто тысяч старых дев, должно было быть неприятно? Мало ли таких девочек прошло через его постель. Он еще помнит тот вкус, настолько его память не ослабела. Кровосмешение? Подумаешь! А Леония? Он обладал обеими, матерью и дочкой, в одну и ту же ночь. И ничего, мир не перевернулся. Обе были ему благодарны. Устаревший, достойный черни предрассудок.
Они вместе раскрыли очередную раковину, Джакомо извлек из нее устрицу и, легонько придерживая языком, приблизил лицо к Лили. Девочка была готова. Ждала — с полузакрытыми глазами и приоткрытым ртом, как птенец в гнезде, дожидающийся лакомого кусочка. Он всунул устрицу ей в рот, лишь слегка коснувшись губами мокрого клювика, и тут же отстранился. Но — поздно. Лили судорожно его обняла, а когда он за подбородок поднял ее головку, посмотрела ему в глаза — смело, с отчаянным вызовом.
— Я тебя люблю, Джакомо, и всегда хотела быть твоей.
Нет, все-таки она его удивляет. Детская серьезность, пальчики, застенчиво теребящие его грязную манишку, и это неожиданное недвусмысленное признание. Обнял ее, растрогавшись и развеселившись одновременно.
— И я тебя люблю. — Улыбнулся, глядя поверх ее головы, и нежно поцеловал открытый холодный лоб. — Не так.
Потянула его на себя — он не сопротивлялся, потому что девочка явно намеревалась сорвать с него парик, чего Казанова допустить никак не мог, — и крепко поцеловала в губы.
— Так.
Ею руководило скорее упрямство, чем страсть, но откуда этой телочке знать разницу. Нет, с Леонией было по-другому. Леония была уже женщина, и достаточно опытная. Какая там женщина — пышнотелая самка, умеющая удовлетворить мужика. А эта — девочка, хрупкая, как тростинка. Ведь в ней что-то раз и навсегда сломается. Потерять невинность в мрачной монастырской келье, на куче тряпья, вдыхая запах тухлятины и слипшейся от пота пудры, с любящим папашей, не перестающим думать о своих геморройных шишках…
Джакомо все-таки решил высвободиться, даже рискуя лишиться парика, устриц и уже материализовавшегося желания, но она повторила маневр, опять попыталась язычком разомкнуть его мертвые губы, и тогда он понял, что у него нет сил противиться. Ничего не поделаешь. В конце концов, много ли хорошего ее ждет в жизни? Пускай лучше отдастся искреннему чувству, нежели прибегнет к арсеналу уловок расчетливого кокетства, чему ее, вероятно, учит Бинетти.
Внезапно со стуком открылось окно. Повеяло холодом; с пронизывающим ветром вернулись петербургские воспоминания. Вдобавок, будто по тревоге, забил монастырский колокол… Это был не самый подходящий аккомпанемент к тому, что они делали, и уж тем паче к тому, что собирались делать. Выпутавшись из нежных объятий, Джакомо схватил бутылку и бросился к окну, сереющему в торцовой стене кельи. Сильный порыв ветра распахнул его почти настежь. Казанова захлопнул створки, так что зазвенели стекла, и уже хотел вернуться обратно, но что-то его остановило. Быть может, запах морозного воздуха, быть может, расплывающиеся в сумеречном свете, но еще заметные очертания внешнего мира — дома, костелы, купы деревьев над Вислой, — а возможно, простое любопытство. Ведь где-то там его гонители. Как знать, вдруг он кого-нибудь увидит. Не так уж и темно. Верно, и за ним сейчас наблюдают. О да; вон они, сбились в кучу и наводят на него подзорную трубу: Браницкий, спеленутый тугими повязками, поплевывающий сквозь зубы капитан Куц, что-то бормочущие на своем гортанном языке псевдокупцы, Катай со спрятанным между грудей кинжалом, рябой художник, грозящий отомстить за Полю, Бинетти. Они там. Там все его преследователи, но и свобода там — не здесь; и свет, и жизнь там, а не здесь, в темной норе, чье бы сияние ее ни озаряло.
Никого он за окном не увидел. Только патруль уланов Браницкого со скуки резался у дороги в карты. Колокол звонит, подумал невольно, скоро смена караула. Как каждый день. Уже которую неделю. Стерегут его, точно стадо волков раненого лося. Скоро они сменятся. Новые быстро разведут костры и разойдутся по околице. Тогда и мыши не проскользнуть. Они хоть знают, на кого охотятся? Она — покосился через плечо — по крайней мере знает. Отважно ждет его или замерла от страха? Если второе — проводит ее до двери, и баста. Он не людоед.
— Иди ко мне.
Какая страсть в тоненьком голоске. Точно огненный язык лизнул спину. Идет, уже идет. Сам удивляется, почему так медленно. Боится обжечься?
Что-то хрустнуло под ногой. Потерявшаяся устрица. Кошмар, он чуть не упал. И что это Бинетти взбрело в голову? Куда больше он бы обрадовался напильнику и веревке. Чего она, собственно, хотела? Подразнить его? Иди подсластить горечь расставания? Расставание? Ну да, ведь они уезжают вместе с королем. Минутку, о Господи… Это значит… король уезжает! По спине побежали мурашки. Джакомо поднес горлышко бутылки к губам. Если король уедет, никто и ничто не защитит его от этого сброда. Сейчас они рискуют головой, а в его отсутствие? Меньше, чем ничем, парой синяков, на худой конец, ржавыми пятнами на мундирах! Коварная скотина этот Браницкий. Едва они с королем выедут за городскую заставу, прикажет своим псам его растерзать.
Еще минуту, минутку, минуточку. Он только проверит одну мелочь. Когда? Вытащил из кармана письмо Бинетти: как там написано? Полумрак смазывал слова, но у самого окна кое-что можно было разобрать. «Что же касается Лили…» — это не то, не та сторона, сейчас… что касается Лили? Листок плясал в руке. «Офицер, который вручит тебе это письмо…», — не важно, важно, когда они уезжают, когда его разорвет эта свора. «Дела обстоят совершенно иначе, нежели ты думаешь». Что за дела, чьи дела, его? Поднес листок к глазам.
«Она тебе вовсе не дочь, и если я раньше об этом молчала, то лишь затем, чтобы ты не вздумал ею попользоваться. Завтра мы уезжаем. Больше ты Лили не увидишь. Не для таких, как ты, я ее растила, Джакомо!»
Сейчас, сейчас. Что же это? Когда? Лили — не его дочь. Король уезжает завтра. Еще раз. До боли напряг зрение. Да. Он не придумал эти слова, не перепутал смысла. Что делать? Смеяться или плакать? Аккуратно сложил листок и сунул за пазуху. Последний раз посмотрел в окно. Когда разожгут костры, мыши не проскользнуть. А Лили?
Оглянулся с тревогой, словно опасаясь, что его смятение передалось девочке. Но ничего не изменилось. Она сидела в прежней позе, хотя… минуточку… пламя свечи, затрещав, ярко вспыхнуло и осветило бледное пятно на его постели. Это было уже не светлое платье Лили — оно осталось на стуле, — а ее белое худенькое тело. Обнаженная, она простирала к нему руки, тянулась неожиданно высокой грудью. Когда она успела, чертовка. А он ничего не заметил, не услышал ни малейшего шороха. Верить не хочется.
Поверил он лишь, когда коснулся этой чудесной упругой груди, когда ноздри защекотал запах живой теплой кожи. Лили не его дочь. Вот так. Небеса предпочли не рисковать. Она его, для него, с ним. Почему же он теряет время? Огляделся, запечатлевая в памяти все: пелерину на спинке стула, туфельки под столом, свою рубашку на крюке у двери, — и задул немилосердно коптящую свечку. О руки, пальчики, кожа! Какое наслаждение их касаться! Несколько быстрых движений, и он был готов. Шелест простыней — и она готова. Хотя нет: парик. Он терпеть не может париков в постели. Помог ей отстегнуть напудренные волосы, остатком сознания отметив, что за окном раздался протяжный свист сменяющегося караула. Когда пушистый, увешанный локонами зверек уже был у него в руке, глухо прогремело несколько беспорядочных выстрелов. Палят для куража. Как каждый вечер. Сейчас начнут разжигать костры. Для него разводят адский огонь. Стоп… Замер — даже прижавшееся к нему, ждущее ответной ласки тело не могло вывести его из оцепенения. Овладевшее им чувство было ему хорошо знакомо, и он знал, что здесь от него не избавится. Плотно укутал Лили в покрывало.
— Я сейчас…
Теперь каждое движение должно быть безошибочным, четким и быстрым. Но какое там: босые ступни не желали влезать в башмаки, панталоны добрую минуту не застегивались, один за другим отлетали крючки на рубашке. Только с париком Лили не было хлопот: он сел на голову, точно был сделан по мерке. А пелерина — можно ли придумать что-нибудь лучше? Джакомо одновременно сыпал беззвучными проклятиями и молился, чтобы она ничего не услыхала. Услышала?
— Иди ко мне.
Чертова пятка наконец встала на место. Подтянуть панталоны, поплотней закутаться в плащ. Еще только корзинку в руку, глубокий вдох, чтобы голос прозвучал спокойно. И последняя ложь — одному Богу известно, как трудно ее произнести.
— Уже иду, любимая. Иду.
И — думая со сжавшимся сердцем, что жизнь — это и вправду искусство самоотречения, — тихонько шагнул к двери.
Потом он уже больше не думал о Лили — прокрался мимо ничего не заподозрившего привратника, который не имел обыкновения разглядывать посещающих монастырь женщин, и на негнущихся ногах, не поворачивая обрамленной локонами головы, пошел прямо на суетящихся у дороги солдат. Ничего не видел и ничего не слышал. Только резкий запах конского навоза напомнил, что он еще жив. А когда этот запах растаял в воздухе, понял, что проскочил, что его не остановили. За поворотом не выдержал, кинулся опрометью вниз по травянистому склону — вон из этого проклятого места. Корзинка выскочила из пальцев, пелерина развевалась, как крылья. Успел. Едва его скрыла вершина холма, там, позади, взметнулся вверх кровавый огненный столб. Успел, святые угодники, успел! Теперь его уже ничто не задержит. Башмак зацепился за камень и слетел с ноги — плевать. На середине склона Джакомо споткнулся, перекувырнулся несколько раз на грязном снегу и поехал на промокшей спине и ягодицах вниз, в густеющий мрак, к сулящей спасение реке.
Спуск завершился в полузамерзшей луже. Казанова готов был кричать от радости и целовать эту поганую землю. Поднялся, мокрый до нитки, оглянулся назад, наверх.
Слабое, почти невидимое зарево стояло над неопасными уже кострами. А еще выше, в разрыве ночных туч, мелькнуло что-то знакомое, чей-то внимательный глаз — опять этот любопытный взор, устремленный на его дамские локоны, босую ногу и заляпанную грязью епанчу. Джакомо гордо выпрямился и погрозил кулаком самому неутомимому своему преследователю.
«Как только приду в себя, сам это опишу. Сам, слышишь? Сам. По-своему расскажу, как все было. И кому люди поверят? Ну, как ты считаешь — кому?»
Об авторе
Ежи Журек — современный польский писатель и журналист, родился в 1946 г., окончил Варшавский университет. В литературе дебютировал в 1970 г. романом «Пыль»; является автором нескольких пьес и сборника рассказов. Второй его роман «Казанова» опубликован в 1992 г. Написанная ранее пьеса «Казанова» шла на сценах польских театров.
Примечания
1
Дюма А. Жозеф Бальзамо. М. 1991.
(обратно)2
Прошу (нем.).
(обратно)3
Большой канал (ит.).
(обратно)4
Станислав Август (Понятовский) (1732–1798) — последний польский король, был возведен на трон в 1764 г. партией Чарторыйских при содействии России. Первые годы его царствования прошли спокойно, все были довольны, что на престоле поляк, считали, что его интерес к наукам и искусствам будет способствовать их возрождению в Польше. Но скоро его равнодушие к великой драме польского государства вызвало всеобщую ненависть к нему. После восстания 1794 г. и раздела Польши Станислав Август по требованию России уехал в Гродно и отрекся в 1795 г. от престола. Умер в Петербурге.
(обратно)5
Картофель был вывезен в Европу из Америки испанцами (ок. 1580), которые распространили его и в Италии, а затем в Англии. В Восточной Европе он прививался с трудом, население встречало его с недоверием, правительства внедряли его насильно.
(обратно)6
Дерьмо (фр.).
(обратно)7
В 1755 г. в Лисабоне произошло страшное землетрясение, город был разрушен на две трети. Вольтер посвятил этому событию «Поэму на разрушение Лисабона».
(обратно)8
Бинетти Анна (ум. после 1784 г.) — итальянская танцовщица и с 1780 г. — балетмейстер.
(обратно)9
Орлов Алексей Григорьевич (1737–1808) — граф, генерал-аншеф, с 1770 г. — главнокомандующий флотом. В войне против Турции под Чесмою уничтожил турецкий флот, после чего получил титул Чесменский. В своих «Мемуарах» Казанова в главе «адмирал Орлов» вспоминает о том, как в конце своих приключений «возымел мысль предложить свои услуги графу Алексею Орлову, командовавшему русской эскадрой около Ливорно…»
(обратно)10
В «Мемуарах» Казанова подробно повествует о том, как в Париже, воспользовавшись пристрастием маркизы д’Юрфе к магии, астрологии и колдовству, выманил у нее огромные деньги.
(обратно)11
Браницкий Ксаверий Петрович (ум. 1819) — в молодости служил в Германии, был во французских войсках. Сопровождал Августа III в Семилетней войне. Позже отправился в Россию с Понятовским, тогда посланником варшавского двора при Елизавете Петровне. Браницкий был предан Понятовскому и обеспечил себе блестящую карьеру в его царствование: в 1765 г. — посол в Берлине, в 1771-м — посол в Петербурге, в 1772–1773 гг. — во Франции. В 1774 г. стал великим коронным гетманом. Был женат на А. В. Энгельгардт, племяннице Г. А. Потемкина. Постоянный приверженец России.
(обратно)12
Быстро (нем.).
(обратно)13
Чарторыйский Адам Казимир (1734–1823) — польский государственный деятель. Образование получил за границей, путешествуя по Германии, Франции, Италии и Англии. Играл значительную роль в политической жизни Речи Посполитой, был даже кандидатом на польский престол, но отказался в пользу своего двоюродного брата Станислава Понятовского. В 1812 г. стал маршалом варшавского сейма, был фельдмаршалом австрийским. Автор нескольких литературных произведений.
(обратно)14
Радзивилл Карл Станислав (1734–1790) — князь, любимец шляхты. Содержал десятитысячное регулярное войско, был противником партии Чарторыйских. Примкнул к Барской конфедерации, но после сдачи Несвижа русским войскам эмигрировал за границу. По возвращении был прощен Екатериной II.
(обратно)15
Нет (нем.).
(обратно)16
Сулковский Август Казимир (1729–1786) — воевода, в 1765 г. отправился во Францию с официальным сообщением об избрании королем Станислава Понятовского, был тесно связан с Репниным Н. В., был одним из организаторов постоянного совета при сейме.
(обратно)17
Русско-турецкая война 1768–1774 гг. была начата Турцией после отказа России вывести войска из Польши. После разгрома турецких войск при Ларге и Кагуле, а флота — в Чесменском бою закончилась Кючук-Кайнарджийским миром.
(обратно)18
Известна обширная переписка Вольтера с Екатериной II (Вольтер и Екатерина II. Переписка. СПб., 1882). Екатерина II признавала, что развитием своего литературного таланта обязана Вольтеру и называла его своим учителем. Оживленная переписка между ними велась с 1763 по 1778 г. Екатерина посвящала Вольтера во все свои государственные начинания, тон писем Вольтера необычайно льстив.
(обратно)19
Репнин Николай Васильевич (1734–1801) — русский государственный деятель, князь, генерал-фельдмаршал. В 1763 г. он был отправлен Екатериной II полномочным послом в Польшу с поручением провести дело диссидентов. Действуя решительно и умело, он заключил Варшавский договор (1768) и по нему добился свободы вероисповедания и гражданских прав для всех диссидентов. Польская аристократия составила заговор против Репнина, но Понятовский спас его. Позже он участвовал в русско-турецких войнах, был посланником в Турции, псковским и рижским генерал-губернатором.
(обратно)20
Король Польши (лат.).
(обратно)21
Медичи Козимо (1389–1464) — будучи во главе государства и располагая огромными средствами, употреблял их на благо народа, покровительствовал художникам, ученым, поэтам. Его дворец был гуманитарным центром Флоренции. Его сын Медичи Лоренцо (1448–1492) также был выдающимся гуманистом, признанным поэтом и также покровителем искусств и науки.
(обратно)22
Казанова Джованни Джакомо (1725–1798) оставил интереснейшие мемуары, запечатлевшие нравы современного ему общества и рассказ о многочисленных своих авантюрных приключениях. В молодые годы, изучив право, он хотел принять духовный сан, но за любовные похождения был исключен из семинарии. Путешествовал по Италии и многим европейским странам. Был за богохульство и обман посажен в 1755 г. в тюрьму в Венеции, бежал, вновь путешествовал. Вернувшись в Венецию лишь в 1775 г., стал тайным агентом инквизиционного трибунала по внутренней службе города. В 1782 г. Казанова вновь покинул Венецию, жил в Чехии, занимался кабалистикой и алхимией. «Мемуары» (т. 1 — 12, 1791–1798, на фр. языке) вышли после его смерти (Mémoires écrits par lui-même. Bruxelles 1826–1828). Они доходят до 1773 г., содержат много ценных исторических сведений и яркие портреты исторических и политических деятелей.
(обратно)23
Катай Катерина — итальянская танцовщица.
(обратно)24
Договоры следует выполнять (лат.).
(обратно)25
Известно, что прусский король Фридрих II Великий (1712–1786), прославившийся своей государственной, дипломатической и полководческой деятельностью, дал аудиенцию Казанове в Берлине и даже предлагал ему место наставника в кадетском корпусе, о чем и рассказал Казанова в «Мемуарах».
(обратно)26
Симплиций (Симпликий) (ум. 549) — перипатетический философ родом из Киликии, учил в Александрии и Афинах, оставил комментарий к сочинениям Аристотеля о категориях, о физике, о небе, о душе.
(обратно)27
Гарпии — в греческой мифологии крылатые чудовища — птицы с девичьими головами, в переносном смысле — злые женщины.
(обратно)28
Время правления римского императора Августа (63 до н. э. — 14 н. э.) было названо «золотым веком» римской литературы. Император покровительствовал крупнейшим римским поэтам Вергилию, Овидию, Горацию. Квинт Гораций Флакк (65 — 8 до н. э.), в молодости придерживавшийся республиканских симпатий, затем, сблизившись с покровителем искусств Меценатом, много способствовал в своих произведениях утверждению славы Августа.
(обратно)29
Вероятно, имеется в виду шведский король Густав I Ваза (1496–1560).
(обратно)30
Вольфенбюттель — город в герцогстве Брауншвейгском, славившийся своей библиотекой, которая была построена по образцу римского пантеона. Первым библиотекарем ее был Лессинг, издавший здесь «Вольфенбюттельские фрагменты» — отрывки из сочинений по богословию и философии, найденные им в герцогской библиотеке (изд. в 1774 г.).
(обратно)31
Благородство обязывает (фр.).
(обратно)32
Больше не ставят! (фр.) — выкрик крупье, объявляющего о прекращении новых ставок.
(обратно)33
Реформатору итальянского театра Карлу Гольдони (1707–1793) принадлежит более 200 пьес, но особым успехом пользовались его веселые буффонады — «комедии характера» («Трактирщица», «Скупой» и др.). Вольтер называл Гольдони «сыном и живописцем натуры». Особенно ярко проявилось комическое дарование Гольдони в так называемых «венецианских» народных комедиях.
(обратно)34
Хорошо (ит.).
(обратно)35
Очень хорошо! (ит.)
(обратно)36
Красицкий Игнацы (1735–1801) — польский писатель. Пользовался большим успехом как проповедник. В 1763 г. поддержал Понятовского, произнес торжественную речь в день его коронации. Был епископом вармейским, но постоянно жил в Варшаве, где вел вполне светский открытый образ жизни. Его перу принадлежит много литературных произведений: поэмы («Мышеида», «Монахамахия»), роман «приключения Миколая Досьвядчиньского», сатирические сборники стихов.
(обратно)37
Вот; не угодно ли! (фр.)
(обратно)38
Вперед! (ит.)
(обратно)39
Известен брат мемуариста — Казанова Франческо (1730–1805) — живописец-баталист и пейзажист, член французской королевской академии. Его картины имеются в галереях Парижа, Вены, Лондона, Петербурга. Екатерина II заказала ему картины о победах русских над турками. Есть упоминания о посредственном историческом и портретном живописце Казанове Джованни (1732–1795).
(обратно)40
В 1768 г., когда были уничтожены реформы конвокационного сейма, оппозиция создала конфедерацию в Баре против России и короля-изменника. В 1770 г. конфедераты объявили Станислава Понятовского низложенным, а в 1771 г. пытались его захватить.
(обратно)41
Макиавелли Николо (1469–1527) — знаменитый политический писатель и мыслитель, положил начало науке о политике. Ради блага и упрочения государства считал допустимыми любые средства. Был 14 лет государственным секретарем республики, проявил в своей деятельности удивительные ловкость, проницательность и изобретательность.
(обратно)42
Право наложения единоличного запрета на решения законодательного собрания (лат.).
(обратно)43
По библейской легенде, жена Лота при бегстве из грешного города Содома нарушила запрет Бога и оглянулась на горящий город, в наказание превратилась в соляной столб.
(обратно)44
Металлический щиток на рукоятке шпаги для защиты руки.
(обратно)45
Костюшко Тадеуш (1746–1817) — знаменитый вождь польского восстания 1794 г. Сын небогатого шляхтича, он учился в варшавской кадетской школе, отличаясь способностями и трудолюбием. С 1769 по 1774 г. обучался инженерному искусству за границей, где увлекся идеями французской просветительной философии. В 1778 г. отправился в Америку и принял участие в войне за независимость 1775–1783 гг. Вернувшись в Польшу, примкнул к партии либеральных патриотов. В чине генерала польской армии в 1792 г. участвовал в защите конституции 3 мая. В 1794 г. стал во главе вооруженных сил восстания. Был ранен и пленен царскими войсками, заключен в Петропавловскую крепость. Умер в Швейцарии.
(обратно)

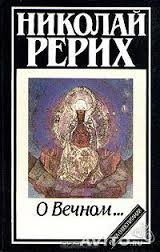

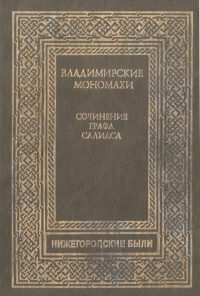


Комментарии к книге «Казанова», Ёжи Журек
Всего 0 комментариев