ВИКТОР АХИНЬКО НЕСТОР МАХНО
Посвящается всем, кто познал сладость и горечь Свободы. В их числе Тишке — моей любимой жене, без самоотверженности которой не было бы ни меня, ни этой книги.
АвторКНИГА ПЕРВАЯ
На острове Голодай их предупредили:
— Степь же кишит головорезами! Куда вас несет?
Но те двое, схватившись за гривы коней, уже плыли к берегу, потом скакали в радужных брызгах по мелководью и наконец исчезли за колючими кустами терновника. Оставшиеся еще посудачили:
— Каторжный ладно, туда ему и дорога.
— Степку жаль. Душевный хлопец.
— Хай проветрятся славяне, а то жрем одну рыбу без соли.
— Можэ, золото надыбалы та ховаються?
— И то так.
По выгоревшим под южным солнцем холмам, прибрежным выбалкам всадники отмахали уже верст пять, когда Степан, голый по пояс и в красных шароварах, крикнул на скаку:
— Ненасытец!
Его спутник, похоже, не расслышал, но сторожко осмотрелся, ничего подозрительного не обнаружил, и они продолжали ехать. Донесся неясный гул. Он усиливался, превращаясь не то в стон, не то в рев.
— Ненасытец же! — опять озорно шумнул Степан и направил коня вниз. — Айда на Царскую скалу!
Они спустились к берегу, в дремотные тростники, привязали лошадей. Потом вскарабкались по крутому горячему граниту на площадку и снова увидели, теперь уже рядом, могучую реку, что кипела, неистово билась в обширном пороге. А то, казалось, шептала, колдовала. Время перевалило за полдень, и камни внизу, водовороты, пена — все обретало палевые, а где и фиолетовые тона. Пахло рыбой и высыхающей тиной.
— Ой, сколько тут затонуло, — сказал Степан, наклоняясь к уху собеседника. — Ему же, ненасытному, все мало!
— Он что, змей? — удивился тот, небольшого роста, щуплый, на вид юноша.
— Нет, их много, на шестьдесят верст тянутся.
— Кого?
— Порогов же. А этот, Ревущий, самый клятый. Видишь пекло, где лава рушится? Там главный бес Вернивод притаился. Черным хезает, як смола.
— Брось трепаться. Хочешь, сплаваю к нему в гости?
— Упаси Боже! — Степан даже за голову схватился. Спутник, однако, вмиг снял сорочку, штаны, соскочил вниз и запрыгал по сухим в эту летнюю пору и белесым от помета чаек валунам.
— Пропадешь, дурень! — в отчаянии завопил оставшийся на Царской скале. — Плоты в щепки разбивает. Вернись, Нестор!
Не оглядываясь, тот ринулся в поток. Его подхватило, как перышко, и понесло в пекло.
— Чокнутый! Чокнутый! — причитал спутник. — Что ж я казакам скажу, конек мой дорогой? — он обнял жеребца. — Не поверят. Душегубом нарекут!
Степан беспомощно оглянулся. Могуче стонала река, и вокруг — никого. Гиблое место. Проклятое. Не зря говорится, Верниводовое. Из расщелины скалы диковинно вытыкалась заячья капуста. Над ней примостилась верблюжья колючка, и по-церковному пахло чабрецом. «Андрей Первозванный! — вспомнил Степан святого и перекрестился. — Ты же тут пустынничал. Помоги несчастному. Хоть к берегу прибей. Хоть само тело, чтоб показать на острове, оправдаться».
Он вскочил на коня, взял в повод другого, поправил карабин на плече и поехал искать труп Нестора…
— Свят, свят, свят, — зашептал Степан в замешательстве. Из нагромождения скал брел к нему голый. — Неужто он? Да черт ковыляет! Нет же, глянь. Нестор! Подружил с Верниводом, гад? Или чудо? Спас его Первозванный. Ох, спасибо!
Не помня себя, Степан кинулся навстречу товарищу.
— Штаны где? — спросил тот, качаясь и придерживая ушибленную руку.
— Ох, забув. Оттуда ж не выходят… из пекла.
— Выносить собрался, ногами вперед? Рано, сынок, — весь в кровоподтеках, Нестор смотрел какими-то не такими глазами. Темно-карие,' они словно схватили Степана и, оцепенев, не отпускали. Ему стало страшно: «Ану заколдует, Верниводок. В степную каменную бабу превратит!»
— Я счас, счас, — лепетал он, спеша за одеждой.
Когда они возвратились, на острове Голодае каждый был занят своим. Кто ловил рыбу бреднем, кто спал под развесистой вербой или чистил пулемет. Другие играли в карты.
— А золотишко не там, куда вы ездили. Оно под ногами закопано, — не без лукавства сообщил Нестору чубатый хлопец, что чистил пулемет.
— Ну так рой. Твое будет! — верховые спешились, подошли к нему.
— Э-э, оно заговоренное. Возьмешь — навек закаешься. Мне дед показал, а ему — его дед: ось прямо тут толклись казаки. Зарыли клад, закляли и углядели хлопчика. Давай пороть. «За шо?» — спрашивает. «Не догадываешься, сопляк?» — и ну хлестать дальше. Тот молчит. «Та вин, курвий сын, мабуть, дурный». — «Ни-и, дядькы, знаю!» — взмолился малец. «Говори». — «Бьете, шоб помнил, где клад схоронен». — «От теперь молодец! Оглянись и ступай с Богом».
Пулеметчик заметил синяки на лице Нестора, решил: «Мабуть, тоже за цэ побылы» и с улыбкой приподнял кончики русых усов.
— Хлопчик стал дедом и на плоту сюда приплывал. Та камней нанесла вода, и дуб исчез.
— Какой дуб? — Нестор подсел к пулемету, взял холщовую ленту с патронами и вставил в гнездо.
— Э, э, осторожнее. Куражатся тут всякие, — запротестовал казак, вынимая ленту. — Еще полоснешь по спинам картежников, не умеючи.
Нестор поглядел на него неподвижными расширенными зрачками.
— Ану подвинься! — велел.
— Зачем?
— Давай, давай. Закрой мне глаза, — и взял отвертку. Боец удивился, но тем не менее подсел сзади, обхватил голову Нестора. Тот ощупью, быстро, ловко разобрал и собрал механизм.
— Циркач! — пулеметчик убрал руки. — На каком фронте бедовал?
— На гуляйпольском.
— Шось нэ чув.
— Какие твои годы, сынок. Зовут-то как?
— Роздайбида (Прим. ред. — Бессребреник).
— Странное имя, — Нестор усмехнулся.
— Ни-и, прозвище.
— Ну ладно. Сейчас многие скрывают свои фамилии. Воевал я рядом, за Днепром.
— Большевик, что ли? А можэ, кацап?
Их гомон привлек картежников. Они не первый день скучали на этом диком острове, куда бежали из гетманской дивизии, которую киевские власти разоружили как зараженную то ли уж ярым национализмом, то ли социализмом.
— Та чоловик же казав, що сыдив в тюрьми пры цари. Каторжный. Наш! — озвался один из них.
— Я за трудовой народ стою, за его свободную, не государственную власть, — объяснил Нестор. — Анархист, значит. А вы, гайдамаки, за кого?
Вперед вышел, видимо, их командир, востроглазый дядя с крючковатым тонким носом и желто-голубой нашивкой на рукаве.
— Мы за самостийну нэньку Украйину! — сказал он с вызовом. — Двести пятьдесят лет, считай, ждали этого счастья.
— Кто же против? — возразил Нестор. — Мне другое непонятно. Зачем ей и гетману Скоропадскому кровавые немецкие штыки? Они же не сами ворвались? Власть позвала. Новоиспеченная!
— Осторожнее, добродию, — предупредил командир, и ноздри его нервно зашевелились. — Ради дэржавы мы побратаемся хоть с чертом!
— Начальству при дележке власти не до нас, — вздохнул Роздайбида. — И слава Богу.
Принесли пойманную рыбу и вывалили из мотни бредня. Осетры, сельди, судаки резво запрыгали по траве. Командир гайдамаков не обратил на них никакого внимания, лишь нетерпеливо поднимал и опускал носок хромового ботинка, ожидая ответ Нестора. Большая щука вдруг вцепилась зубами в кожу, что двигалась.
— Ах ты ж, москалька! — ругнулся командир и с силой отбросил рыбину. Она ляпнула хвостом по щеке пулеметчика. Все засмеялись, а каторжный даже покатился по траве, хватаясь за живот и хохоча. Когда гайдамака начал перечить, затем нервно задвигал ноздрями, у Нестора что-то ухнуло внутри. Он знал об этом своем недостатке — неукротимой запальчивости, которая когда-нибудь может привести его к погибели. Но куда денешься? Словно огонь вспыхивал в груди, и лишь с трудом, не сразу удавалось его погасить.
«Что сгинешь — ладно. Цели никогда не достигнешь!» — возмутился Нестор своей слабостью, раскинул руки и, лежа на прохладной траве, вспомнил, как держится Ленин. Во артист, во настоящий вождь!
Месяц тому, в Москве, Нестор приютился в отеле и нужно было уходить. Но куда? Кто и где ждет его? Отбросив сомнения, как бывший председатель Гуляйпольского ревкома и беженец, он попросил в Моссовете бесплатную комнату. Оказалось, для этого требуется указание самого ВЦИКа, и ему выписали пропуск в Кремль. Там случайно он познакомился со Свердловым, а тот, заинтересовавшись «товарищем с нашего бурного юга», представил его Ленину.
Нестор наслышался о нем всякого: и деспот, каких свет не видывал, и демагог, и недоступен смертным. Так говорили анархисты, которых большевики крепко прищучили. Он и ожидал увидеть насупленного, дубового тирана. Ленин же встретил его по-отцовски, тепло пожал руку, усадил их со Свердловым в кожаные царские кресла и участливо спросил:
— Откуда вы, товарищ?
Гость охотно отвечал.
— А как крестьяне из ваших местностей восприняли лозунг «Вся власть Советам«? — поинтересовался вождь.
— Своеобразно. Поверьте, я же сам держал ее в руках. Власть во всем должна выражать их интересы, сознание и волю. Никаких партийных уздечек!
Ленин не поверил, три раза переспросил:
— Это они… так думают? — и хитровато, вприщур, склонив голову на бок, разглядывал гостя. «Врешь же ты, батенька — вроде хотелось ему сказать. — Сие — ваши анархические бредни, а не думы хлеборобов!» Нестор уловил это его желание, но, закусив удила, твердо стоял на своем; вождь большевиков сделал вывод:
— В таком случае крестьянство у вас заражено анархизмом!
— А разве это плохо? — лез на рожон гость. Он испытывал терпение хозяина.
Тот опять ускользнул, не желая обидеть ходока, но и не уступая своего:
— Я не говорю, что плохо. Наоборот, было бы отрадно, так как ускорило бы победу коммунизма над капитализмом и его властью. Кстати, чем вы думаете заняться в Москве?
Тут бы в самый раз попросить разрешение на жилье, а Нестор подумал: «Этот лысый… о-ох… далеко не прост. Лукавый бес!» и сказал:
— Рвусь на Украину.
— Нелегально?
— Анархисты всегда самоотверженны, — якобы даже с уважением заметил Ленин, обращаясь к Свердлову, и неожиданно прибавил: — Но они же — близорукие фанатики, пренебрегают настоящим ради отдаленного будущего.
Вождь сразу смекнул, что этот гонористый, горячий хохлик может быть полезен для бунта на Украине и завоевания там власти. Поэтому прибавил:
— Вас, товарищ, я считаю человеком реальности и кипучей злобы дня!
Ленин остановился и сверху вниз, как-то хищно взглянул на гостя. Тот похолодел и придавил пальцами глазные яблоки. Внутри все дрожало, ухало. Вот он каков, беспощадный поводырь!
— Я кто? Полуграмотный крестьянин, — с хрипотцой заговорил Нестор, исподлобья, упорно разглядывая хозяина Кремля, — и о столь запутанной мысли спорить не умею… Но скажу, что ваше, товарищ Ленин, утверждение… в корне ошибочно. Анархисты-коммунисты Украины… Вы ее почему-то называете югом России… Они дали слишком много доказательств своей связи с настоящим.
Нестор уже не сдерживался. Будь что будет! Прерывающимся голосом приводил факты, упоминал фамилии, а кондрашка не покидала. Ленин заметил это и вежливо согласился:
— Ошибаться свойственно каждому… Итак, вы стремитесь нелегально перебраться на Украину? Вам нужны деньги, документы. Желаете воспользоваться моим содействием?
— Не откажусь.
Глубоко взволнованный этой встречей, Нестор так и не вспомнил о комнате. Уехал из Москвы по липовому, изготовленному большевиками паспорту на имя учителя Ивана Шепеля. Ни хозяин Кремля, ни его гость тогда и не предполагали, какими смертными врагами будут…
А на острове между тем варилась уха в большом котле. Под ним пылал корявый выворотень, и сюда, к костру, собирались все обитатели. Опускались сумерки, зудели комары.
— Навались, братва! — весело звал повар. — Соли, правда, нет. Речного песочку посыпали. Вку-усно!
После ужина командир гайдамаков предложил Нестору прогуляться. Они пошли вдоль берега. Журчал перекат. Свежо пахло водорослями.
— Чудной ты, казаче. Вроде бы умный, и на ж тебе — анархист!
— А ты что, против личной свободы? — удивился в свою очередь Нестор. — Держава тебе дороже? Новый хомут ищешь на свою шею? Министры с прихвостнями уже шьют его в Киеве!
Собеседник не торопился отвечать. Видимо, тоже волновался.
— Никогда не задумывался, анархист, почему француз живет в своей стране, японец, русский — в своей, а я и ты — в чужой? Мы что, украинцы, — пальцем сделаны? Обидно же!
Теперь Нестор помолчал. Такая мысль приходила ему в голову, но от государства он не получал и не ждал ничего хорошего.
— Тебя как зовут?
— Хорунжий я, Анатолий Кармазь.
— Не кипятись, Толя. Что означает, по-твоему, страна?
— Ну, свое государство, армия, наши начальники. Я, к примеру, мог бы стать войсковым старшиной.
— Чем же вы лучше русских бюрократов? — возмутился Нестор. — Страна — это моя родная земля без каких-либо надзирателей. Только выбранные народом и в любой момент сменяемые исполнители его воли, как у запорожских казаков. Ото настоящая, СВОЯ страна!
— Э-э, те времена уплыли с днепровской водой. Слышь, як вона журчит? — усмехнулся Кармазь. — Нас же миллионы! Без бумажки, крючкотвора и страха не будет никакого порядка. Это у тебя, извини, сладкий бред.
— А Швейцария с ее коммунами? Задуренный ты муштрой, хорунжий! — воскликнул Нестор, возвращаясь к костру.
Каждый из них жаждал того, что диктовали ему личный горький опыт и неопознанная судьба…
Глубокой ночью Нестор, Степан и Роздайбида, тихо оседлав коней и прихватив пулемет, покинули остров Голодай. Были уверены: ночь-мать не даст погибать.
Припав к гривам коней, трое неслись во тьме по степным зверобоям и татарникам, жестко посохшим к осени по балкам и мелким речушкам: мимо Муравского шляха, немецких колоний с добротными каменными домами, что спали в тревоге без огоньков, мимо украинских хат, насупившихся под соломой и тростником. Где-то в полях горели стога, невесть кем подожженные, то ли гайдамаками, скучающими на державной варте (Прим. ред. — В дозоре), то ли крестьянами, мстящими помещикам, что возвратились. На горизонте вспыхивали, гасли зарева, и несло горечью ночных костров, чем-то смятенным и позабытым со времен мирной жизни…
День они проспали в степном яру. К ночи перекусили, зажгли костер. Слушая рассказы Нестора о России, Степан молчал, наконец выдавил:
— У кожного своя доля и свий шлях шырокый.
Нестор насторожился:
— Чего ты хочешь?
— Пойиду сам. Додому.
— Да в чем дело? Говори толком.
— Ну, нэ люблю я москалив! — вспылил Степан. — Ни добрых, ни злых. Хочу, шоб у нас була своя держава. Своя, чуешь!
— Тебе-то, нищему, что от нее? — недоумевал Нестор. Упрямство товарища казалось ему просто нелепым.
— Так думав дид, батько мий и я тоже! — стоял на своем Степан. Оседлав коня, он еще добавил напоследок: — А ты ридну мову забув!
Нестор вскочил, схватился за наган.
— Выдашь нас, что ли?
Беглец ускакал во тьму. Нестор с недоумением смотрел ему вслед.
— А ты чего ждешь? — отчужденно, почти враждебно спросил он Роздайбиду.
Тот сказал заковыристо:
— Из глины — горшок, из зерна — мука, из удали моей чтоб людям счастье вышло!
Нестор удивился такому красноречию, крутнул головой, и они поскакали дальше, к Рождественке. Это степное село тоже ютилось в холмах, верстах в двадцати от Гуляй-Поля. Всадники направились по убранному огороду к хате, что неясно краснела черепицей в темных кронах деревьев.
— Подожди тут, — Махно спрыгнул с коня. — Мужик-то надежный обитает. Но мало ли.
Под деревьями пахло падалицей груш, яблок, сухой баклажанной ботвой, что цеплялась за ноги. Залаяла собака.
— Жучок, свои прибыли. Не узнал? — тихо говорил Нестор, открывая калитку. Лохматая дворняга примолкла, даже взвизгнула.
— Хто там лазэ в таку рань? — послышался недовольный голос.
— Это я, Захарий Петрович, я.
— Тю-ю, Нестор Иванович? Ну, здоровы были! — заскорузлая рука легонько сжала пальцы гостя. — Проходьтэ, будь ласка.
— А немцев или варты не слышно?
— Бог миловал пока. И большевики сгинули.
Захарий Клешня с нетерпением ждал гостя-спасителя.
Сколько же можно мучиться родной, щедрейшей земле? На этих черноземах испокон веку гуляли его предки-козаки: гоняли отары, выращивали золотое зерно. Да тут палку воткни — глядь, вишня соком наливается! Но все захомутали цари. Если б не турнули с престола Миколку последнего да не прилетел соколом из ревкома Нестор Иванович — еще бы век воли не видать!
Не успели захмелеть от нее — опять же с севера большевички заявились, друзья голоты. За ними австрияки прикатили в железных касках, гайдамаков с полупольским говором привели, восстановили старые порядки. Лучшие наделы по низинам, плуги, сеялки помещичьи позабирали. Захарию плеток влепили на глазах соседей и зерно вымели подчистую. А все-таки есть, есть правда на белом свете. Вот он, спаситель, Махно, снова здесь. Он им покажет, подлюгам, где раки зимуют!
— Не-е, не-е, первым заходьтэ, — почтительно приглашал гостя в хату Клешня. — Там Оля крутится.
Из темных сенец дверь вела в кухню, где мерцал каганец и печку уже затопили.
— О-ой, Нестор Иванович! — удивилась хозяйка, блеснув голубыми глазами и поправляя короткую прическу. — А мы перекусить спозаранку собрались. Мойте руки с дороги. Борщ, правда, вчерашний, но прямо сладкий. С красным перцем, як вы любытэ.
— Мастерица хоть куда! — похвалил Махно. Недавно, возвратившись из России, он жил здесь некоторое время, скрываясь на чердаке.
В отличие от мужа, Ольга сразу насторожилась. Конечно, понимала, что приехал свой человек. Он горой стоит за их волю, защитит и поможет. Но чутьем угадывала, какую опасность носит с собой этот невзрачный, худущий Махно. Достаточно поглядеть в его малоподвижные, какие-то лютые глаза, чтобы содрогнуться. Такой не даст в обиду, но разъяренный — ни перед чем не остановится. Для Ольги в самом появлении этого незваного ночного гостя таилось что-то роковое. Не зря же, когда он с товарищами еще раньше совещался на чердаке, у соседей вдруг загорелась хата под соломой. Ни грозы тогда не было, никого чужого в селе. Кто ее запалил? Вот то-то и оно. А если варта с немцами нагрянет? Узнают, кого тут пригрели — шомполами забьют, а то и на старой акации среди улицы повесят, как собак. Думая так, хозяйка не подавала виду.
Пока мать встречала гостя, крутилась у печки, проснулся мальчик, юркнул под стол и прижался щекой к животу Нестора.
— Ах ты ж, головастик, — ласково сказал он, обнимая Клешненка. Так были приятны чистая детская доверчивость и тепло. А мальчик между тем с тайным восхищением ощупывал кобуру нагана.
Встреча глубоко тронула Махно. «Чего стоят все власти, партии, даже свобода без ЭТОГО? — думал он. — Я на Родине!» Что он видел? Сиротское детство, вонючий литейный цех, разбойная юность, аресты, допросы, камера смертников, Бутырки, бр-р-р. И только коммуна, да-а, там тоже было тепло. Крестьяне, вот и Захарий, Оля, радовались наконец-то отданной им земле, а он, Нестор, отмерял ее по совести, две десятины на душу дарил навечно, и Настенька ходила рядом, заглядывала в глаза, родная…
— Вы один? — спросил хозяин.
— Нет, простите. Еще товарищ там.
— Дэ? — забеспокоился Клешня.
— На огороде.
— Ой-йо-йой, пошли!
Когда уже все вместе сели за стол и выпили по чарке, и заговорили о детях, хозяйка всплакнула.
— Немец заходил. Сытый, в железной шапке. А Ванек, последний мой, у порога ползал. Солдат отодвинул его сапогом, як собачку, и не глянул даже. Они нас и за людей не считают.
Ольга вытерла слезы ладонью и вспомнила самое главное:
— Нестор Иванович, у вас, слышно, тоже сын родился. Первенец, а?
От неожиданности он не проронил ни слова. Неужто судьба-жлобина таки расщедрилась? Не может быть! Какая-то неясная, совершенно необъяснимая тревога, почти страх охватили его.
— Что ж ты молчишь, свежеиспеченный батько? — поразился Роздайбида, сидевший рядом. — Казак новый явился на свет. Ану наливайте по полной!
— Так слышно… или правда? — спросил Нестор изменившимся до хрипоты голосом.
— Брехать не стану — не видела, — сказала Ольга, в глубине души надеясь, что Махно уедет. Не может же он не поглядеть на первенца. — Но слухи ходят, что гарный хлопчик.
— Все они одинаковые — розовые, пока у сиськи, — заметил Захарий.
— Тоби то шо? — возмутилась жена. — А попробуй выносить и родить в наше проклятущее время! Эх вы, розовые!
«Уедет или нет?» — думала она. Нестор продолжал сидеть за столом, нахмурив брови, и Ольга побоялась открыть все то, о чем судачили. Куда там! Ребенок-то появился… с зубами! Никогда такого не видывали в этих краях. «Антихрист, не иначе, Господи, помилуй! — причитали бабы. — Ох и бед же натворит». Мало ли что калякают сплетницы. Но и зря все-таки не чешут языками.
Хозяин поднялся с рюмкой, хрустальной, с вензелями, явно из помещичьего буфета.
— Дорогие гости, разрешите…
— Не надо! — резко остановил его Махно, и всем показалось даже, что желтый язычок каганца заколебался, вот-вот погаснет. Наступила тягостная пауза.
— Я должен сначала увидеть его. Тогда и обмоем славно, — Нестор встал. — Еду сейчас же. И только!
— Куда ж вы так сразу? — всполошилась Ольга. Ей и правда было неловко отправлять гостя, не попившего узвару.
— Зато все дороги в сумерках гладки. Коня спрячьте, как обычно. А ты, Роздайбида, поспи на чердаке, — и Махно вышел, ни с кем не попрощавшись.
— Можэ, плащ дать? — заботливо предложил Клешня.
— Какой там!
Хозяин провел гостя в сад, к самому коню, и вдруг заявил:
— Не пущу вас!
— Что такое? — сердито озвался Нестор.
— Утро скоро. Не успеете доскакать, пидстрэлять, як зайця. Можэ, йих и дома нэма. Куда денетесь? — Захарий взял коня под уздцы.
Махно прикусил губу, не привык уступать. В это время в сараюшке пропел петух.
— Чуетэ? — обрадовался хозяин. — И вин нэ пускае!
— Ну, ладно, — согласился Нестор, внимая тревоге, что не затухала. — Пошел и я на чердак.
Вместе с Роздайбидой они проспали весь день.
Август дурновейный в наших краях — маятная кончина лета, и вскоре впереди, у Гуляй-Поля, загремело, засверкало угрожающе. Прижимаясь к горячей холке коня, Махно и не подумал остановиться, поискать укрытие. Он с детства любил грозу и, когда другие почему-то дрожали от страха и прятались — выскакивал на улицу, прыгал, смеялся от радости, что льет с небес и грохочет. Мать лупила его за дурацкие выходки. Он же ничего не мог с собой поделать: неодолимо тянуло к опасности.
Еще в школе, где с горем пополам успел закончить четыре класса, уроки не шли на ум. Хотелось, например, кататься по тонкому льду. Нестор провалился, чуть не утонул, обмерз и прибежал к родному дяде, куда вскоре явилась и мать с куском скрученной веревки.
Когда подрос, пас овец и телят у богатых хуторян, гонял в арбах помещичьих волов, зарабатывая 25 копеек в день. Потом таскал белье в красильной мастерской. Господи, думалось, неужели эта маята и есть то, что взрослые называют жизнью? «Она, проклятая, она, — обреченно отвечала мать-вдова, поднимавшая на ноги еще четырех сыновей. — Учиться б тебе надо, младшенький!» В Гуляй-Поле три гимназии, «высшее» начальное училище. А деньги где взять? О них Евдокия Матвеевна и не заикалась. Позже многие из состоятельных земляков готовы были помочь Нестору хоть тысячами кредиток, хоть золотыми червонцами, локти кусали, да поздно. Куцого за хвост не поймаешь.
Они уже ходили стаей по деревянным тротуарам: Александр Семенюта с братом, Иван Левадний, Назарий Зуйченко, Лев Шнейдер, Нестор Махно, Алексей Марченко, Петя Лютый — все разные, но нищие. С завистью и смутным желанием заглядывались на девушек и мечтали сотворить что-нибудь такое, чтоб те тоже обратили на них, чумазых, внимание. Тут и появился Вольдемар Антони и сразу определил им цену: «Провинциальная шпана». Он уже почитал Бакунина, Ницше, князя Кропоткина и с ходу спросил:
— Знаете Заратустру?
— Кого, кого?
— Из Екатеринослава, что ли? С тобой приехал?
— Эх вы, эрудиты. Это же великий человек прошлого и будущего. Он сверг самого Бога!
Хлопцы принишкли. Они не верили ни во что, но заявлять так открыто, на всю улицу о кончине самого Бога — это уж слишком.
— Ты кто такой? — Антони указал пальцем на малого Махно.
— В красильне работаю. Нестор.
— В краси-ильной, — с презрением сказал Вольдемар. — Ты еще добавь, что пролетарий, раб, ничтожество последнее. Копошитесь, как червяки, в этом дрянном Гуляй-Поле. Нашем Гуляй-Поле.
Сын чеха и немки, Антони тоже тут родился и вырос в бедности. Но губернский город Екатеринослав, куда он уехал на заработки, преобразил его, сделал анархистом-коммунистом. Высокий белокурый Вольдемар продолжал напористо:
— Ты свободный гражданин мира, Нестор! Запомни, жизнь дана, чтобы радоваться. Бери ее, суку, за бока, как говорил Заратустра. Не дают? А кто они такие, чтобы мешать нам: все ваши власти, попы, спекулянты и учителя? Кто? Дерьмо последнее. Для нас одно должно бьггь свято — Свобода! Как сказал Заратустра: «Государством зовется самое холодное из всех чудовищ, и оно врет: «Я — это народ!» Братья мои, любить дальнего, а не ближнего призываю я вас».
То было лихое, вещее слово, которого они ждали, воодушевлявшее на подвиги их «Союз бедных хлеборобов». Звучали, понятно, и другие посулы. Даже сейчас, на скаку, Нестор улыбался, вспоминая ту первую, все решившую встречу. Начинали легко и приятно. Любительский театральный кружок, пьески смешные ставили. Потом с холодком в сердце и дрожью в коленках разбрасывали всякие листовки, доставленные из Екатеринослава, почитывали Бакунина, Прудона. Вскоре появились волнующие лозунги: «Долой самодержавие!», «Владыкой мира будет труд». Наконец кто-то привез револьверы, деньги. Группа расслоилась на «боевиков» и «массовиков». Обычная история. Точно так же (Нестор об этом не знал) приступали к делу каракозовцы в России, карбонарии в Италии, анархисты в Америке, быстро теряя в подполье чистоту помыслов и наивность.
Потому вспомнилось и другое. Эх, Володька-Вольдемар, ловок: бес! Последний раз они встретились на вокзале в Александровске. Переглянулись, и Махно арестовали. Антони почему-то не тронули, дали запросто улизнуть. «Нас, бедных хлеборобов — на виселицу, на каторгу, а сам, сволочь, бежал! — возмущался Нестор. — В каких заграницах гуляешь теперь, Заратустра?»
Подъезжая к Гуляй-Полю, он заволновался. Село лежало в пойме речушки темное и тихое, словно вымерло. Вон там, на околице, приютилась хата, где спит Настенька с его сыном. Странно даже как-то… Его сын! Махно было без малого тридцать лет, и он, помилованный висельник, уже постиг свою смертность. Оттого явление сына казалось редким, незаслуженным подарком судьбы. Сейчас, перед встречей, он почувствовал это особенно остро, и не с кем было поделиться.
— Слышь, конек? — сказал, наклонясь и отпустив повод. — У меня же нашлась родная кровинка!
Мокрый от дождя и усталости жеребец молча устремился к жилью, где тепло и попить дадут. Всадник, однако, попридержал его и прислушался. Где-то взлайнула собака. За холмами сине полыхнуло, и опять глухо лежала ночь. «Эх, к своему первенцу крадусь», — вздохнул Нестор.
По копаному огороду конь ступал мягко, копыта прогрузали в чернозем и чавкали. Махно спешился, на всякий случай ощупал оружие и направился к хате. Собака молчала, или ее уже не было. Он постучал в махонькое, что называется, подслеповатое оконце. Долго никто не отвечал. Наконец за дверью, тоже маломерной, послышался испуганный сонный голос:
— Хто там такый?
Нестор бросился туда.
— Это я, — сказал тихо, и то показалось, что все Гуляй-Поле проснулось.
— Хто? — не доверяли за дверью.
— Да Нестор же, едри вашу…
Теперь и вовсе замолчали. Он знал, что Настенька живет с матерью. Но чей там голос — трудно было разобрать. Он снова постучал, настойчивее, а сам стал спиной к стене, чтобы, если внезапно нападут, не дать захватить себя врасплох. За дверью вроде шептались, что-то звякнуло, опять спросили:
— Та хто ж там?
— Я, Настенька, я. Отворяй скорей! — Нестор терял терпение. Он уже привык, что в родных краях к его голосу прислушиваются, доверяют одному его имени. Поездил по бывшей империи, встречался с князем Кропоткиным, с Лениным, повидал редких краснобаев: Керенского, Троцкого, Марию Спиридонову и, рискуя головой, прибыл освобождать всю Украину. А тут, в жалкой хибарке, не признают, трясутся. Поистине, каждой вошке своя короста дороже всего!
— Ой, счас, — озвался дорогой голосок, и дверь подалась со скрипом. Нестор вошел и попал в объятия. Горячая, из постели, молодка нашла его губы и долго не отпускала. Он даже захмелел.
— Свет мой, — успел выдохнуть, как снова был зацелован.
— У меня чуть сердце не разорвалось, — сказала наконец и Настя. — Тут такая ложь. Ужас!
— Давайте в хату, — попросила мать, плотно закрывая дверь, затем окошко и зажигая каганец.
— Какая ложь? — удивился Нестор.
— Глянь, что пишут, — жена пошуршала в углу, достала и подала ему листовку. Светло-карие глаза смотрели на любимого с восхищением и затаенным сомнением. — Вроде бы ты нашел себе кралечку в Москве, богатую графиню, поселился во дворце, пьешь, гуляешь и забыл про нас навсегда!
— И вы поверили?
— От немца когда бежали, обещал же скоро возвратиться, — не без упрека лепетала Настя, собирая на стол. — А весна утекла, лето уже минуло красное. И убили тебя — все говорят.
Что-то в ее голосе насторожило мужа: вроде пытается оправдаться. Почему?
— Присядьте, будь ласка, — попросила мать, — а то ж с дороги. Бомбы грузные и наган на поясе.
Она была вся, как струна. Явился, благодетель, с пустыми руками! А раньше? Увез и бросил дочь, беременную, в чужих краях! Где это видано? Ради чего? Революция, шумят, потребовала. Хай бы она провалилась в тартарары, та революция!
Гость между тем опустился на лавку, недоумевая: «С какой стати старая величает меня?»
— Сынок спит? — спросил.
Женщины забегали, засуетились, не отвечая. Он не стал добиваться. Появилась бутылка, заткнутая обломком кукурузного початка, мятые железные кружки. Нищета била в глаза. Настя сказала:
— Наливай, хозяин.
Он плеснул в кружки, запахло самогоном. Когда выпили за долгожданную встречу и закусили, Нестор опять поинтересовался:
— Спит?
— Ох, спит! — вскрикнула теща и зарыдала. — Прости нас, несчастных. Спит твой сыночек, Нестор Иванович. Навечно! Бог прибрал!
Настя тоже закрыла лицо руками, вздрагивала от горя.
— Вы что, бабы, сдурели? — он стукнул кулаком по столу. — Можете по-человечески объяснить?
Глухая тоска охватила Нестора. Вот так подарочек судьбы, будь она проклята. Бог прибрал. Да его же нет, как говорил Заратустра! Мы сами хозяева на этом свете. Кто же посмел?
— Кто виноват? — грозно спросил Махно.
— Я лелеяла твое семя, — всхлипывая, заговорила Настя. Тон мужа испугал ее. — Руками и сердцем. А в Царицыне, ты помнишь, пушки бухали рядом, все шарахаются, приткнуться негде. Вагоны, как бочки с селедками, мат-перемат… А оно нежное, еле титьку брало. Мы с мамой…
— Э-эх вы! — только и выдавил Нестор, скрипя зубами. Что-то в нем обрывалось и падало безудержно. Он плеснул еще в кружку, выпил залпом, не закусывая.
— Сколько жил сын?
— Месяц всего… и два дня.
— Э-эх! — муж вскочил, заходил по комнате. Деревянного пола не было — доливка, и она все равно качалась под ногами. — По вашей милости, тетери ощипанные, не увидел первенца. Кто-то обижал вас? Гайдамаки, немцы набегали?
— Булы, булы, — подтвердила теща. Сухонькая, сгорбленная, она скорбно, тыльной стороной ладони вытерла слезы. — Про вас допрашивали. А оно вроде чуяло, плакало…
— Имя дали?
— Василько.
— Наше, доброе.
Боль не отпускала. Кто же перешел дорогу, если нет Бога? Кто? Смерть без подручных не является. Эх, любовь моя первая, Настенька, Анастасия свет Васецкая, твою ж мать! Что скрываете? Какую тайну? Нестор никак не мог примириться с тем, что есть силы, неподвластные никому. Они косили под корень всю его жизнь. Как же бороться за счастье целого народа Украины, если тебя самого вмиг так беспощадно обездолили? И нет виноватых! Не то что неподвластных… Их вообще нет. Кого? Может, смириться? Перед кем? Ну, перед кем же? Василька… за что? Чистейшего!
Мысли путались: «Где же тогда приют свободы? И дана ли она, и нужна ли безутешно несчастным? Зачем она им? Вот мне. Только смирение! Перед кем? Перед вором, что взял чистейшего? Не-ет, в этом подлючем мире что-то не так. Ну, совсем не так устроено…»
Женщины плакали. Махно потерянно ходил из угла в угол, чувствуя, что сердце вот-вот лопнет. Он выскочил на улицу, в темень.
— Куда ты, милый? — услышав растерянный голос Насти, он даже не оглянулся. Потом вспомнил:
— Передай Семену Каретнику, что жду их у Клешни. Завтра.
— У кого?
— У Захария Клешни. В Рождественке.
«Мы еще родим!» — хотела крикнуть Настя на прощанье, да слезы не дали.
Чердак был довольно просторный. По углам, под черепицей, сушилось сено. На нем, опершись на локоть, лежал широкоплечий Семен Каретник. Загорелое лицо его казалось сонным. Но напряженная поза, тонкий, чуть кривоватый нос и жесткие усики выдавали человека скрытного, таящего взрывную силу.
— А что они вытворяли с Моисеем Калиниченко! — запальчиво говорил Алексей Марченко. Нестор вопросительно поглядел на него. Тот приютился на буравке(Прим. ред. — Чердачный отводок дымохода), был высоколоб, худ, горяч, хотя имел уже двоих детей, повоевал, получил, как и Семен, солдатского Георгия.
— У него же золотые руки механика, — скороговоркой продолжал Алексей. — Мухи никогда не обидел. Анархист, наш друг Моисей. Ну и что, за это карать?
— А почему он не ушел тогда со всеми? — спросил Махно.
— Упал с коня, когда мы готовили батальон против оккупантов. Сломал ногу. Куда деваться? Прятался у братьев. Это в то время, Нестор… Полгода назад… Ты удрал с большевиками.
Последние слова прозвучали явно с осуждением. А было так. Зимой восемнадцатого года Центральная Рада, чтобы выгнать большевиков с Украины и самой укрепиться, пригласила немецко-австрийские войска (Прим. ред. — Вскоре они Раду разогнали и поставили гетмана Скоропадского). За помощь им пообещали десятки миллионов пудов хлеба. Однако крестьяне, в том числе и в Гуляй-Поле, вовсе не горели желанием дарить свое добро. Махно тогда возглавлял здесь ревком и отряд самозащиты. Только уехал за оружием, как ополченцев рассеяли. Вот об этом и напомнил Марченко с осуждением.
— Зачем ты так, Алеха? — возразил ему брат Семена Каретника — Пантелей, тоже усатый, крепкий молодец. — Забыл, что ли? Махно достал у красных орудия, пригнал вагоны снарядов, патронов!
— И внезапно исчез, — не сдавался въедливый Марченко.
— Не мели пустое, Алеша. Меня же Егоров (Прим. ред — В то время командарм Крымского направления) позвал, чтобы вместе действовать. Я к нему, а их штаб уже смылся в Волноваху. Но оборону-то надо держать. Я за ними…
— А нас тут взяли голыми руками, разоружили, — вставил слово и Петр Лютый. Несмотря на свою фамилию и довольно неласковое сейчас выражение лица, он был наиболее близок Нестору, может, потому, что тоже невелик ростом и тайком писал стихи.
— Хватит п…! — прикрикнул Семен Каретник. — Тогда все наложили в штаны. Регулярная армия перла!
— Все намаялись, — примирительно заметил Алексей Чубенко, что сидел на мешке с сухарями. Он старался не шевелиться, чтобы не подавить их. Среднего роста, плотный и благообразный Чубенко не лез вперед, не отставал и был, что называется, себе на уме. Вместе с другими анархистами он бежал от австрийцев и агентов Центральной Рады в Россию. Потом, в конце лета, в Курске встретил Махно, и они вдвоем пробирались сюда.
— Потише вы! — зашипел Роздайбида, в окошечко наблюдая за улицей. — Баба какая-то летит. Услышит и раскудахчется, черноротая.
— Так что же с Моисеем? — шепотом спросил Нестор.
— Его прямо из постели выдернули, — тихо продолжал Марченко. — А перед этим Емельяна, твоего брата, на глазах детей…
— Оставь, — попросил Махно.
— Извини. Словом, видят, что зашли далеко, и обратились к людям: «Хто такый Калиниченко? Злодий чи добрый чоловик?» Народ заступился. А власть это не устраивало. Спросили богатеньких: помещика Цапко, купцов Митровниковых, хозяина мыловаренного завода Ливийского, твоего Кернера…
— Не бреши, — перебил Петр Лютый. — Михаил Борисович в такие дела не суется.
— Хай смолчал. А остальные в один голос: «Злодий! Злодий! Помогал Нестору Махно чернь бунтовать, был членом анархического ревкома. Вин проты Дэржавы!» Повезли Моисея в Харсунскую балку, поставили на край. Солдаты дали залп. Моисей упал. Люди, кто смотрел, побежали в ужасе и слышат: «Убивайте скорей!» Оглянулись, а Калиниченко… опять на ногах. Что за чудеса?
Алексей поерзал на буравке, покусал тонкие губы.
— Солдаты еще раз пальнули. Моисей опрокинулся. Люди уже не верят своим глазам: дважды расстрелянный… поднимается! Тут и у зверя бы, наверно, проснулось милосердие.
На чердаке стало так тихо, что послышалась мышь, шуршащая в сене.
— Ну и что же они, гады? — прошептал Нестор.
— Подскочил офицер, сторонник Центральной Рады Гусенко и выстрелил из пистолета в висок. Да, видно, руки дрожали — попал в щеку. Несчастный Моисей завопил: «Убивайте же, палачи, не мучьте!» Тогда солдаты, немота, дали два залпа подряд…
Махно передернулся в холодном ознобе. Все молчали.
— Когда возьмем их за глотку, Нестор? — спросил Петр Лютый. У него не было сомнений, кто должен верховодить. Да, Махно ошибался. А другие что, ангелы? Семен Каретник тугодум, пока сообразит — и рак свистнет. Алеха Марченко въедлив, хуже тещи. 4 убенко слишком осторожен. «У них, конечно, небитый козырь — война за плечами, — прикидывал Петр. — Ну и что? Я тоже унтер. А в главари не рвусь. Кишка тонка».
— Слышали, что творится? — сказал Нестор с яростью. — Я приехал… освобождать родную Украину. Нужно поднимать трудящихся… без различия национальности. Но сейчас…
Он не мог говорить. Мерещился розовый младенец, лезло в голову: «Вот оно, милосердие, смирение. Вот. Вот!»
Мышь легонько шуршала в сене.
— Но сейчас предлагаю… срочно ехать!
— Куда? — Семен Каретник резко приподнялся. — У нас же один пулемет и пять наганов. Это слезы!
— Добудем в бою. Когда ехал сюда, мне встретился отряд Ермократьева. Найдем его и объединимся. По пути возьмем Жеребецкий банк. Купим еще оружия, бричку.
— Ермократьева… не знаю, — озвался Марченко. — А вот матрос Щусь точно сидит в Дибривском лесу.
Нестор насторожился: «Ищут вожака. Я уже не подхожу». Но на слова Марченко не обратили внимания. Всяких слухов хватало.
— Зацапают нас, хлопцы, як солохиных курчат, — сказал Алексей Чубенко.
— Кто дрожит — зарывайся к мышке в сено! — отрезал Махно.
— Давайте хоть ночи дождемся. Бабы шастают, — предостерег Роздайбида.
— Не могу… Паралич разобьет! — Нестор вскочил, ударился головой о пыльные стропила, ойкнул. Все заулыбались, чихая.
— Шуструю вошку первой ловят, — изрек Пантелей Каретник.
Сквозь красную татарскую черепицу сочился мрачноватый день. Пахло сеном.
— Кроме пуль и бомб, Нестор, — неторопливо сказал Семен Каретник, — требуется хоть завалящая организация. Штаб.
— Мы не квочки — не высидим. Поехали! — Махно поднял крышку лаза. — Оля, Захарий, вы тут?
— А шо хотилы?
— Подставляйте лестницу, — и они все, кое-кто нехотя, начали спускаться. Хозяева зашептались.
— Неужто в дорогу? По видному? — испугался Клешня.
— Да, — подтвердил Махно.
— Жинка каже, шо нельзя. Соседи ж выдадут!
— Ах, соседи! — вскипел Нестор. — Передайте им, что вернемся — отрубим язык. Для кого же мы рискуем?
— Нимци и гайдамакы… кожного десятого, — всхлипывала Ольга.
— Может и правда, погодим до темна? — попросил Чубенко.
— Быстро ты забыл лютую казнь Моисея! — темные глаза Махно вспыхнули холодным, беспощадным огнем.
Каждое село, каждая хата были обложены страшными контрибуциями, размер которых определялся самими помещиками… Они имели собственные карательные отряды, образованные из бывших стражников, урядников, полицейских и разного продажного деморализованного элемента. Эти банды терроризировали село, издевались над ним, истязали его.
В. Винниченко. «Відродження нації».В старые лихие времена скакать по Дикому полю без оглядки среди бела дня позволяли себе лишь сторожевые казаки, когда с вышки или кургана замечали татарскую конницу, зажигали «фигуры» (специально сложенные смоляные бочки) и что есть мочи уносили ноги. Сейчас тут тоже был не мед, но нашим смельчакам покамест везло: ископытили десятки верст в поисках Ермократьева и целы. Правда, впереди над полем кружило воронье.
— Не праздную никакого беса, — заявил Семен Каретник, подъехав к Нестору вплотную и нагибаясь, чтобы тот лучше слышал, — а все ж неохота вот так валяться.
Перед ними, в пожухлой стерне, лежал человек в одних трусах. На спине запеклась темная рана и к ней был прилеплен листок. На нем крупно: «ХОТИВ ВОЛИ? ЖРЫ!»
— Кто его? — воскликнул Петр Лютый, оглядываясь. В сухом и ярком небе лишь на горизонте таяли облачка. Кое-где летела серебристая паутина, выше извивались черные птицы, да безлесая степь холмилась вокруг.
— Варта. Кто ж еще? — проронил Пантелей Каретник.
— Похоронить бы надо, — предложил Алексей Чубенко, облизывая запыленные губы.
— Чем, ножом? — Роздайбида замучился с ручным пулеметом, а им, видите ли, копать охота.
— Хоть курая натаскаем, — соскочил с лошади Лютый. — Ишь нечистые вьются, за своих принимают.
Завалив мертвеца колючими шарами перекати-поля, они решили все-таки переждать до ночи где-нибудь в укромном месте. Вскоре попалась низинка с осокорем и вербой, но там дальше что-то шумело подозрительно.
— Сюда! — тем не менее позвал Каретник, ехавший первым. Им открылся странный в выгоревшей степи темно-зеленый яр. По нему весело бежал ручей.
— Тут целый водопад! — шумел всегда сдержанный Семен.
Из-под камней туго бил поток. От него веяло свежестью. Всадники спешились и побежали вниз. Алексей Марченко, однако, остался наверху и поглядывал по сторонам.
— Молодец! — похвалил Махно. — Я тебя сменю!
— Благодатная наша Украина, — засмеялся Петр Лютый, подставляя ладони под изумрудные холодные струи. — Рай истинный, хлопцы!
— Еще б мудрые головы кто подарил ей, — озвался Чубенко.
— Да сердца помягче, — добавил Роздайбида. Он разделся догола и, фыркая, лег в ручей, но тут же вскочил как ошпаренный. — Лед, лед! Остужайся, кто смелый!
Они были молоды, не старше тридцати лет, и резвились, плескались, забыв на время об опасностях, анархизме, о том бедняге, что валялся под колючими шарами, о власти и собственности, о Ермократьеве, которого искали — обо всем на свете. Тем более, что вокруг нежилось в последнем ярком тепле южное лето.
Отдохнув, немного подкрепившись и повеселев, не стали ждать вечера, поехали дальше по балочкам да низинам между полями. Из одной приметили село. Белые хатки мирно ютились у пруда.
— Эх, поспать бы там, — размечтался Лютый, — на пуховой перине в розовую полосочку!
Спутники заулыбались. Разглядывая жилье, они хоронились за кустами шиповника и скумпии пушистой.
— Так это ж Михайло-Лукашово! — определил наконец Пантелей Каретник. — Дядьки нашего хата вон, что под соломой. Верно, Сеня?
Попиликал очнувшийся в тепле кузнечик, сонно озвался нарядный удод. Потом из села донесся какой-то вздох, что-то там шевельнулось, задвигалось. Издалека нельзя было определить, кто ходит и зачем.
— Э-э, да они на кладбище собрались, — догадался Пантелей. — Кого-то, наверно, хоронят. Ану приглядись, Сеня.
— Точно, несут, — согласился брат, придерживая коня. Тот заплясал, заржал, и Семен отпустил поводья. За ним отправился и Пантелей. Остальные напряженно ждали, прислушивались. Никто не стрелял и назад не возвращался. Значит, чужих, видимо, нет.
— Ну что, вперед? — спросил Махно и, не дождавшись ответа, поскакал в Лукашово.
Малое кладбище с деревянными крестами располагалось сразу за селом, на сухом холмике. Людей было немного, и они явно со страхом озирались на конных, что приближались с поля. Их встретил пеший Семен, посеревший, угрюмый.
— Дядю повесили, — сообщил еле слышно, — и еще четырех мужиков.
— За что? — Нестор спрыгнул с коня.
— Бились в отряде Ермократьева. Их окружили. Кого скосили, а кого на акацию.
— Сам-то жив?
Семен пожал плечами, пошел к свежим могилам. Все последовали за ним. Причитали женщины, стучали молотки (уже забивали крышки гробов), предостерегающе пахло глиной и прощальным цветом мальвы. Семен пошептался с мужиками и, когда они пошли в село, сообщил своим:
— Вожак, говорят, прячется недалече, на хуторе. Надо б найти.
— Вперед и только! — сразу же согласился Нестор, направляясь к лошадям.
Но тут возвратилась женщина в черном платке.
— Куда вы, родненькие? — вскрикнула. — Останьтесь! Помянуть же по-христиански чоловика. Сеня, Пантюша, хоть вы. Благаю!
Каретники замялись: тетке нельзя отказать и от своих негоже отрываться.
— Как ты? — спросил Семен у Махно.
— Смотрите, — неопределенно ответил тот.
— Есть святое, сынки. Оно выше нас, ой, выше! — проникновенно сказала женщина в черном. — Забудете о нем в суете — пропадете. Попомните мое слово!
Она глядела так страдальчески, что Нестор предложил:
— Исполним ее волю. Но быстро. Раз-два и вперед.
На том и порешили. Семен с благодарностью обнял приятеля за шею. Им предстояли большие испытания, и, кто знает, может, и из таких уступок рождается преданность и дружба.
По местному обычаю молча помянули покойных, погоревали и отправились искать Ермократьева.
— Слушайте, мы его в глаза не видели. Никто, — заговорил Алексей Чубенко. — А он вне себя сейчас, заупрямится, пальнет сдуру. Может, плюнем и подадимся в Гуляй-Поле? Все равно отряда уже нет. Мы хотели соединиться. С кем?
— Ладно тебе, — буркнул Пантелей Каретник. — Что же, бросить в таком горе?
На это нечего было возразить, и Алексей замолчал.
Хуторок, что они искали, находился недалеко от Лукашово. Пять беленьких хат стояли рядом с молодыми пирамидальными тополями. Теперь на разведку отправился Махно, поскольку хоть ночью, но разговаривал с Ермократьевым. А чтобы местные не побоялись гостей, с Нестором ехал лукашовский мужичок. Он легко договорился с хозяином первой хаты. Тот отвел их к сараю, позвал:
— Павле, тэбэ шукають! Свои!
Чуть погодя появился бородатый, плотный дядя лет тридцати, в измятом пиджаке и брюках, видимо, хоронился на сеновале.
— Что нужно? — спросил мрачно.
Без долгих объяснений Нестор сказал:
— Я Махно. А ты, случаем, не Ермократьев?
Некоторое время бородач крайне подозрительно разглядывал его и наконец изрек грубо:
— Брехать силен, парень! Махно-то я лично знаю… Не вздумайте дурить! — прибавил он сквозь зубы. — Там, за моей спиной, елки-палки, прямо вам в лобешники нацелено дуло «максима», и терять нам уже нечего.
— Дурак ты, — холодно парировал Нестор. — Ночью тогда, у дома Свистунова, у дерева… Помнишь? Это же нарочно не придумаешь!
— Что, ты и есть? — явно разочарованно окинул его взглядом Ермократьев. — Ну, здоров был, Махно.
Он протянул широкую ладонь, и не успел Нестор пожать ее, как Павел порывисто обнял его.
— Мать честная! — удивился он, отпуская Махно и все еще недоверчиво рассматривая гостя со всех сторон. — Точно. Голос твой.
— А чей же? Выкатывай свой «максим». Нас люди ждут. Много у тебя братвы осталось?
— Думал, богатыря встречу, — не мог успокоиться Ермократьев, — а ты вон каков, елки-палки. Эй, ребята, выходи. Это свои! — и он вдруг запел:
Прежде был солдат тетеря, Не такой он стал теперя, Как раскрыли ему двери Стал солдатик хуже зверя.Нестор слушал его, чуть прищурив глаза и покусывая губы: положил столько людей и хоть бы что. Правда, песня уж больно суровая. «Шпендриком» сам же называл, а богатыря ищет. Странная русская натура.
— Служивый? — поинтересовался Махно.
— Не различаешь, что ли? Поустала и рука от железного штыка. Вали, ребята!
Их оказалось восемь человек с «максимом» и ворохом патронных лент.
— Слушай, Нестор Иванович… правильно я тебя величаю? — вспомнил Ермократьев. — Мы вчерась заколбасили ихнего офицерика. Примеряли обмундирование — никому не налазит. Хочешь взять?
Махно пробирался на Украину в погонах штабс-капитана, неловко расшаркивался, отдавал честь, и это помогло избежать многих неприятностей.
— Годится, — согласился он, усмехаясь. — Хоть не понизили, надеюсь?
Ему подали одежду, помогли примерить. Она оказалась впору, и на плечах Нестора заблестели погоны. Выкатили заседательскую бричку на рессорах.
— Тогда бери уж и моего рысака, — расщедрился Ермократьев, как бы сразу признавая верховенство Махно. — Правда, он не мой — помещичий. Да неважно. Гляди — орел! Поскачешь во главе!
— Нет, благодарю, — отвечал Нестор, подумав. — Я лучше на мягком сене поеду, рядом с пулеметом. Тачанка для капитана более подходящее место.
Он и не подозревал тогда, какое военное значение обретут со временем эти его слова.
В старом помещичьем саду осень еще только поселялась. Манили к себе налитые соком груши, сливы, матовые грозди винограда. Осыпались редкие сухие листья. Пахло тиной из заброшенного пруда, и совсем по-летнему, протяжно пела синица.
— Болваны! Собственными руками, с кровью вырывают свое и наше будущее! — возбужденно говорил прапорщик, прогуливаясь в саду с отставным генералом Миргородским. Офицерик был в отлично сшитом синем френче, галифе и сапогах. Так он ходил и на фронте, напоминая самоуверенных юных барончиков.
— Я имею в виду чернь, — уточнил он, видя, что отец нахмурился.
— Слава Богу… штабс-капитан Мазухин… разогнал шайку некоего Ермократьева, — спокойно, разделяя каждое слово, сказал генерал, у которого сегодня был день рождения. Все гости уже съехались: два помещика из близлежащих сел с дамами, его фронтовой друг — полковник и австрийские офицеры. Ждали начальника Александровской уездной варты Мазухина.
— Успели набедокурить, разбойнички, — продолжал Миргородский-старший. — Моего приятеля Резникова отправили на тот свет, царство ему небесное. Жаль и беднягу Свистунова. Чудесный человек, родовитый. А как хозяйство вел! Все у него цвело. Оазис!
— Вот-вот, — подхватил сын задорным тоном, обходя аккуратную кучку сухих листьев. — Священная собственность и прибыль — великие двигатели прогресса. Вы меня правильно поймите, отец, я не в восторге от жадных, примитивных спекулянтов. Но что же делать, если они, думая лишь о наживе, невольно обогащают нашу родную Украину?
На ветках слив, абрикосов дремотно струилась паутина. Генерал потрогал ее пальцем с широким полированным ногтем.
— Свистунов не из них. Бессребреник, — заметил он. — И потом, ты чудно выражаешься. Причем тут Украина? Что это такое? Есть одна империя, которой мы служили и служим верой и правдой — великая Россия. Даже выпускнику Пажеского корпуса Скоропадскому невдомек. Власть ослепила!
— Простите, отец, но эта благодатная земля, которая нас родила и кормит, — прапорщик постучал сапогом, — она же украинская и принадлежит нам испокон веков. Не так ли?
— Нельзя русам делиться! — отрезал генерал. — Пропадем! Кто вокруг? Немцы, поляки да турки. Наш чернозем, лес, хлеб для них, что красная тряпка для быка. Знаешь ли, каждый немецкий и австрийский солдат отправляет домой ежедневно посылку с крупой, салом, сахаром…
— Ну, не каждый.
— А разрешение-то дано всем, еще Центральной Радой. Грабь!
— Какой позор! — горячился сын. — Злейший враг защищает нас от быдла, большевистского и местного. Что же, Украина такая бездарная, навеки обречена?
Тут вышли из дома погреться на солнышке и полковник с австрийцем.
— Господа, уже все готово. Дамы волнуются. Нас зовут, — объявил полковник. Без кителя, в гимнастерке с закатанными рукавами он держался молодцевато. Вместе с Миргородским-старшим они совсем недавно служили в казачьем корпусе, когда появились красные банты, комиссары. Казаки перестали кормить и чистить лошадей. Солдаты отнимали у белорусских крестьян деньги, хлеб, потехи ради стреляли в коров, насиловали женщин. Полковник попытался заступиться. Его схватили, целой ротой повели к расправе, поставили под дубом на колени. Но нагрянул Миргородский со свежим Уманским полком, отборным конвоем, с трубачами. Выручил, и запомнилось: высоко над лесом одуванчиками разрывалась германская шрапнель.
— Ну никак не втолкуешь ему, сукиному сыну, что такое Украина! — улыбнулся полковник.
— Ja, ja, — подтвердил австриец.
— Это наш Faterland! — выпалил с горечью сын генерала.
— О-о! — воскликнул гость. — Понимаем. Са-мо-гон! Са-ло!
— Черта лысого он разберет, — поморщился полковник. — Для них что красные, что гетман Скоропадский, Россия или Украина — одна сатана. Мы для них — пожива. Дикое поле. Не более того.
— Нет, нет, — запротестовал австриец. В это время на крыльцо белого помещичьего дома вышла уже сама хозяйка.
— Господа, прошу к столу!
— Да, кого ждем? — поинтересовался полковник.
— Смута, банды шастают, — ответил хозяин. — Одну выловили. Начальник добровольной охраны отличился, Мазухин. Что-то задерживается.
— Бог с ним, прибудет, — полковник давно привык к любым передрягам. — Куда он денется?
Они направились в дом. По пути сын генерала попытался продолжить разговор:
— Чего они добиваются?
— Кто? — не понял полковник.
— Да все эти плебеи. Морды в кровь бьют, имения сжигают. Ну, месть я еще допускаю. Но им же этого мало? О счастье на развалинах кричат!
— Я довольно пожил на свете, — печально сказал отставной генерал Миргородский. — Там, в Петербурге, Киеве, балуются идеями, играют в новые власти, златые горы сулят. Эдакий современный иллюзион. А сменят лишь правящую элиту. Только и всего.
— Никакой смены! — возмутился полковник. — Пусть и не мечтают, скоты!
Австрийцы были хуже немцев, у них конфликты с населением были чаще, чаще были и жестокие репрессии, вызывавшие глубокую анархию…
Но еще хуже, разлагающе действовали появившиеся местами добровольческие карательные отряды (офицерские).
Н. Могилянский. «Трагедия Украины»Они держали путь на восток. Когда выехали из балки, уже вечерело. В лучах заходящего солнца тени от лошадей, брички вытягивались, бежали впереди отрядца. Всюду, куда не кинь взгляд, лежала голая, холмистая, словно вымершая степь. Ее оживляло лишь высокое пение жаворонка. Дорога поднималась на кряж, и там вдруг показалась группа конных.
— Глянь, варта! — не без испуга воскликнул Петр Лютый.
Трое ехали в экипаже и пятеро верхами, но не было видно, есть ли кто еще за ними, дальше.
— Не бзди, возьмем как миленьких, — рявкнул Ермократьев. Он сидел на сером в яблоках рысаке, которого еле сдерживал.
— Приготовь «максим», — тихо приказал Махно.
— Есть, — доложил Роздайбида, что тоже примостился в тачанке.
Неизвестные приближались.
— Стой! — зычно крикнул Ермократьев. Он с трудом владел собой. Встречные, однако, молча наезжали. Их разделяло уже метров сто, и в том, что чужаки не отвечали, чувствовалось нечто зловещее.
— Кто такие? — послышалось наконец. — Я штабс-капитан Мазухин, начальник уездной варты. Какой отряд, я спрашиваю?
Он не мог разглядеть незнакомцев: солнце светило им в спины. Но на плечах сидящего в бричке взблеснули погоны. «Значит, свои, — решил Мазухин. — Откуда взялись?»
Подъехали еще ближе.
— Сдай оружие! — потребовал тот, с блестящими погонами, и развернул тачанку. Но вартовые в мгновение ока взяли винтовки на изготовку.
— Пали поверх голов! — велел Махно пулеметчику.
Треск выстрелов ошеломил людей Мазухина. Они соскочили с лошадей и побросали оружие.
— Так-то лучше, — сказал Нестор, направляясь к ним. — Значит, начальник варты? Собственной персоной!
Штабс-капитан, тоже лет тридцати, краснолицый, с тонкими усиками, ошарашенно глядел на него.
— Вы что, сдурели? — спросил, спрыгивая на землю. — Не видите, с кем имеете дело? В крысиный карцер потянуло?
— Простите. Я капитан Шепель из Киева, — Махно небрежно козырнул. — Направлен в это бунтарское Запорожье самим гетманом Скоропадским. «Железной рукой наведи там порядок, — наказал мне Павел Петрович. — Революционеры совсем обнаглели, а варта спит».
Люди Нестора между тем со всех сторон окружили пленников, и Мазухин это заметил.
— Позвольте, пан Шепель, почему же я не был поставлен в известность? Дело-то общее.
— Милый мой, время какое? Вы откуда и куда?
Махно хотел выведать намерения карателей. Семен Каретник, Алексей Марченко, другие с удивлением, а кто и с завистью смотрели этот спектакль. «Во артист, во настоящий атаман!» — думал Роздайбида.
— Тут скоты-пролетарии раздухарились. Волю, видите ли, учуяли. Некто Ермократьев вылез из навоза. Кавалера высоких орденов Свистунова изувечили. Имение подожгли. Но мы им дали по шапке! — строго докладывал Мазухин. — До-олго будут помнить и детям закажут. Все деревья увешали, как грушами.
— Нестор, — прошипел в изнеможении Павел, щелкая затвором.
— Отстань, — левую щеку Махно тронул нервный тик. — А теперь куда путь держите?
— Недалече Миргородский, может, слышали, отставной генерал обитает. У него в аккурат день рождения. Поужинаем вместе, пан Шепель. Не возражаете? — начальник варты закурил трубку, пустил кольцо дыма. Он чувствовал себя полным хозяином в этих краях.
— Отчего же, с удовольствием.
— А там денек-другой поохотимся на дичь… и на крамольников. Коль у вас спешное дело, завтра и сыметесь.
Махно больше не выдержал:
— Вы, господин капитан, совсем потеряли нюх, — холодно осклабился он. — Я со своим отрядом анархистов несу смерть палачам…
— Махно!
Мазухин побелел. Трубка выпала из руки и дымилась в дорожной пыли. Он начинал службу стражником в полицейском управлении Екатеринослава, насмотрелся на бандитов, познал их коварство и жадность. «Чем лучше этот? Ничем», — решил начальник варты. Презирая себя, он встал на колени. Авось клюнут подонки, отпустят.
— Осел, осел! — повторял он с отчаянием. Наконец опомнился, вскочил. — Поехали в имение. Сколько вам нужно тысяч? Сколько?!
— Не-естор, елки-палки. Пора кончать! — рычал Павел. Его широкоскулое лицо закаменело. — Это же… зверье-е!
Он подскочил к Мазухину и рванул его за шиворот. Блестящие пуговицы с треском отлетели.
— Снимай штаны, гад! И ты тоже, чего стоишь? — Ермократьев ткнул пальцем в грудь секретаря варты. — Дайте мне, ребята, бомбу.
— Зачем? — не понял Петр Лютый.
— Отстегивай скорей, говорю!
Ермократьев схватил ремень штабс-капитана и принялся бить его медной бляхой. Тот молча прикрывал голову руками, увертывался.
— Пляши, елки-палки, — приговаривал Павел в озверении. — Это еще не все, не все! Теперь-то узнал Ермократьева?
Он поцепил гранату на ремень, затянул его на животе Мазухина, который не сопротивлялся, отвел его подальше и выдернул чеку…
— Теперь ты, — приступил Павел к секретарю варты. — Марш вперед! Бегом!
Голый офицер посмотрел на своих подчиненных угасшим взглядом, затем уставился на солнце, что уже касалось горизонта в лиловой туче, и не двигался. В тишине послышался пронзительно нежный голос жаворонка.
— Я только писал, — прошептал секретарь.
— Вперед! — рыкнул Ермократьев, касаясь штыком его живота. Офицер, однако, не повернулся спиной, стал пятиться. Раздался выстрел.
— Хватит! — решил Махно. — Этих свяжите, бросьте подальше от дороги и поехали.
— Как… палачей? — ярился Павел.
— Они не зверствовали. Пусть полежат, покаются. К тому времени мы будем за Днепром, — хитрил Нестор. Он собирался ехать совсем в другую сторону и хотел сбить с толку будущих преследователей. На свою беду, арестованные не поверили ни одному его слову и в страхе кинулись, куда глаза глядят. Их постреляли навскидку.
Лошади вздрагивали, грызли удила.
— А теперь, братва, рвем на именины к генералу! — бодрился Нестор, но вышло это у него невесело.
Отъехав верст пять, они увидели старинную, каменную, со всех сторон заросшую усадьбу.
— Она? — спросил Махно у Ермократьева.
— Бес ее разберет.
И никого вокруг. Опускались сумерки. Всадники обогнули крохотное кладбище и направились к дому.
— О-о, кто-то выткнулся, — заметил Алексей Чубенко.
— Далеко разогнались? — подал голос неизвестный. Он был явно не робкого десятка, подошел, увидел фуражки с желтыми околышами, бесхвостых австрийских лошадей, успокоился.
— Что за стрельба там, откуда вы едете? — поинтересовался.
— А вы кто такой? — обратился к нему Нестор.
— Голова Лукашовской державной варты, поручик Иванов.
— Начальник и не знаете, что делается в вашем районе? Мы никакой стрельбы не слышали.
— От б…! — рассердился Иванов. — Такие деньжищи получают и никогда ничего не ведают.
— Кто?
— Да военные карательные отряды, — он имел в виду тех, с кем говорил.
— Хватит болтать! — оборвал его Махно. — Где сейчас генерал Миргородский?
— У себя дома, на именинах, — поручик понял, что пожаловало серьезное начальство.
— Далеко отсюда?
— Вот по этой дороге с версту.
— Ладно. Кому служите?
— Дэржави та ясновельможному гэтьману Павлови Скоропадському.
— Так, возиться нам с тобой некогда, — решил Махно. Упоминание о гетмане взбесило его, сердце зашлось, и он обратился к товарищам: — Обезоружьте поручика и повесьте на самом высоком кресте. На кладбище, чтоб далеко не носили.
— Да вы что?! — изумился Иванов, потянулся к кобуре, но его уже схватили.
Нестор вспомнил убитого в поле, под колючими шарами, и прибавил:
— Оставьте на нем все как есть. На грудь, Ермократьев, пришпильте записочку: «Нужно бороться за освобождение трудящихся, а не за палачей и угнетателей».
Поручик что-то кричал, но ему зажали рот и поволокли на кладбище. Он так и не узнал, кто и за какие грехи приговорил его.
— Может, человек и не виноват? — попытался заступиться Петр Лютый.
— Здесь вчера… Слышал? Одиннадцать удавили… А этот, по-твоему, чист? — прохрипел Махно.
— Мы же анархисты! Свобода для нас не трали-вали! — настаивал Лютый.
— Адвоката позвать? Прокурора? — взвился Нестор.
Он уже давно переступил ту черту, где присутствует жалость. Разве она способна изменить этот подлый мир? Осталась одна справедливость. Святая справедливость! Но Петр и в ней сомневается. Нашелся верховный судья! В груди что-то больно дрожало, падало, наконец оборвалось, и стало очень тяжело, как тогда в Кремле при разговоре с Лениным, когда тот обвинил анархистов в наивности, как на станции Цареконстантиновка, когда пришла весть о разгроме коммун и сдаче австрийцам Гуляй-Поля. Это было превратное и вместе с тем редкостное состояние. Тяжесть ушла. Тело словно вскипало в нервном возбуждении, решения приходили мгновенно, ниоткуда, без участия сознания. А Лютый желал доказательств, милосердия. Что за вздор?
— Вперед! Они догонят, — твердо велел Махно.
К имению Миргородского подъехали в темноте. Вызывающе светились большие окна (в хатах о таких и не мечтали). Слышались звуки рояля, веселые голоса. Сладко пахло из кухни. Чужая, недоступная жизнь манила и раздражала.
— В дом… пойду я, — голос Нестора прерывался. — А также Семен, Пантелей и оба Алексея… Ты, Петя, остаешься за старшего… Наладьте пулемет и сторожите… Прибудет Ермократьев — пусть подчиняется.
Лютый хотел что-то возразить, но промолчал.
— Ну, айда. Говорить буду я. Вы — слушайте, — добавил Махно уже у крыльца. Их встретили радостными возгласами:
— Наконец-то, желанные гости!
— Заходите. Мы вас заждались!
Хозяин тепло пожал руку Нестора, полюбопытствовал:
— А где Мазухин?
Махно не растерялся, ответил почти небрежно:
— Задержался в пути. Скоро будет. Я его заместитель, капитан Шепель. А это — начальник дружины, — указал на Семена Каретника.
— Чудесно. Присаживайтесь.
— Ура нашим защитникам! — воскликнула тонкая девица в белом платье.
Гостям искренне радовались, даже похлопали в ладоши. Сын хозяина почтительно наполнял бокалы. Миргородский-старший встал:
— За возрождение великой России! За вас, господа офицеры! Да поможет нам Бог освободить христианскую церковь от анархистов-большевиков!
Пили, закусывали. Нестор впервые попал за такой богатый стол. «Ах, сволочи, что кушают! — думал, поспешно обгладывая куриную ногу, зажаренную в сметане с сельдереем. — Вокруг война — тут пир горой. А дамы какие, наряды, девицы. Господи, помилуй!»
Поднялся офицер в необычной форме. Нестор таких не встречал еще.
— Рус-сия… понимай, — сказал с улыбкой.
— Кто это? — спросил Махно.
— А-а, венгерский улан, — объяснил хозяин.
— Ук-крайна… не понимай.
— К чему он клонит? — шепнул Нестор. Дрожь не проходила, и Миргородский с некоторым удивлением заметил это. «Ему неприятно», — решил он.
— В наших распрях они слабо ориентируются, — отвечал генерал поделикатнее. Все-таки Шепель представляет гетманскую власть и может обидеться.
Еще выпили понемногу, и слово взял полковник:
— За счастливую жизнь, дамы и господа! Чтобы сгинули все на свете революции, банды, в том числе и объявившийся некто Махно!
Этого Нестор уже не вынес, нащупал в кармане гранату, выхватил ее и поднял повыше.
— Я сам и есть Махно!
Граната шлепнулась в хрустальную вазу с винегретом. Убегая, бросили бомбы и братья Каретниковы. Потрясенные невиданным коварством хозяева, их гости не пошевелились…
Вскоре подъехал Ермократьев, и они, посовещавшись, взяв на кухне вино и еду, решили теперь же, ночью, отправиться в Гуляй-Поле.
— Это лишь эпизод, — Нестор махнул рукой на зловеще темнеющий, с выбитыми окнами помещичий дом. — К действиям радикальным против контрреволюции мы только приступаем.
Петр Лютый слышал какие-то слова своих товарищей, видел вблизи, как они хорохорятся или злобятся, и ему было дурно. Вот же, минуты назад, в этом светлом доме пели, играли, наверно, гордо ходили девушки в длинных белых платьях, чуть поводя плечиками. Иногда он встречал их на улице. Сестры его, ну совсем не так ходят: развязно или устало топают. Сын хлебороба, Петр не знал, что манерам специально учат. Он даже не догадывался об этом. Но ему очень нравилось, когда холеная девушка словно парила над деревянным тротуаром в центре их городка, и казалось, что она совсем-совсем из другого теста. А они ее сейчас… бомбой… в клочья!
«По какому праву? — спрашивал он себя, еле сдерживая рыдание. — Мы анархисты. Да. Больше всего на свете любим свободу. Но и они же любили ее! Ладно, помещики-шкуродеры, варта, офицеры лютуют. А девушек за что?!»
В Гуляй-Поле они прибыли на заре. Гнали во весь опор. Надеялись, наконец, остановиться в надежной хате, напоить лошадей, поесть, поспать. Но не тут-то было. Уже приближались к мосту, что на пути в центр городка, когда услышали голос, видимо, знакомого, который поднялся чуть свет:
— Куда вас хрен несет! Полно германцев, хлопцы! Тикайте скорей!
На скаку свернули, взяли ближе к окраине, и вдруг подвода с ранеными, товарищами Ермократьева, как на грех, сломалась. Посреди дороги. Солнце еще не взошло, но из-за холма разливался прохладный сентябрьский рассвет. Рядом, рукой подать, мерцала речушка Гайчур.
— Эй, Махно, — грубо позвали с подводы, — что посоветуешь?
Дескать, ты нас увлек сюда, милый, теперь выручай. Приятно быть вожаком. Да приходится выслушивать и такие вот претензии. Мужиков деликатности не учили. Нестор чуть не рявкнул: «Что я вам, нянька?» Но положение было действительно отчаянное. Ану как налетят австрияки! Из жителей никто даже нос не высовывает на улицу. Хоть и плохонько, а видно, уже и доносчиков хватает. Небось, выглядывают из-за углов, паскуды! Махно подъехал к Семену Каретнику.
— Где тут наш сотский?
Надо заметить, что еще в XVIII веке, когда на целинные черноземы от Южного Буга почти до самого Дона садили эту и другие слободы «для производства провианту» и защиты от набегов татар, гуляйпольцы были поделены на сотни. Позже местные мужики (украинцы, русские, греки, болгары) служили по жребию или назывались ополченцами, но старый порядок сохранялся. Недавно, по приходе оккупантов, сотни затаились. Оружие, полученное Нестором у красных, было надежно припрятано.
Ни слова не говоря, Семен направился к глинобитной хате. Жил ли там сотский или просто знакомый, кто знает. Однако через несколько минут подводу с ранеными загнали во двор и все стихло. По безлюдной улице отряд отправился дальше.
— Куда теперь? — Павел Ермократьев устало поднял слипавшиеся веки.
— В Марфополь подадимся. Недалеко, и явки надежные.
Слепящий шар солнца уже выкатился из-за далекого горизонта, когда они попали в это село. Нестор направил коня к знакомой хате, постучал. Ни звука в ответ.
— Где же хозяева? — еще погремел. — Ну, поехали дальше.
Так они торкались в четыре двора, и все без толку. Приметили сонно бредущую корову, за ней бабку.
— Брат Захария Клешни живой? — спросил Махно.
— Позабирали мужиков, — бабка склонила голову.
— Кто?
— А вы… чьи будете?
— Друзья бедноты.
— Эх, сынки, сынки. Мне уже все равно. Вчера проклятущий германец вместе с нашими украинскими оболтусами нагрянул. Укрывателей Махно искали. Да где он тут возьмется? — бабка искоса, цепко оглядела приезжих: что скажут, как поведут себя? Те были серые от пыли, угрюмо молчали. «А лошади не наши, богатые!» — доглядела старуха и облизнулась. Но гости ее не тронули, отправились дальше.
— Фу ты! — в сердцах воскликнул Нестор. — Ни поесть, ни поспать. Негде даже приткнуться на родной земле. Во, б…, дожились. Хуже волков!
— Может, елки-палки, разбежаться? Все-таки по одному, по два проще, — предложил Ермократьев. Ему надоели эти бесцельные скитания. «Куда прем? — молча пожимал он плечами. — С кем воюем? Так и с голодухи подохнешь».
— Верно, верно, — поддержали его те, кто присоединился в Лукашове.
— Не рвите постромки, — Махно поджал пересохшие губы. — Вон и колодец!
Холодная вода немного взбодрила их. Правда, края деревянного ведра были изгрызены лошадьми.
— Где-то тут Хундаева балка, — заметил Алексей Чубенко. — В незапамятные времена казак стоял зимовником. Надежная укрома.
— Айда! — скомандовал Нестор.
Ничего другого и не оставалось. Схоронившись там, расседлали коней, притащили сена, на выходах установили пулеметы с дежурными и уснули, как убитые…
К вечеру прибыл гонец из Марфополя, рябой разбитной хлопец.
— Дужэ просым до нас, Нэстор Иванович!
— А что случилось?
— Батьку моего отпустили из Гуляй-Поля. Крепко побили там в каталажке. Ноги еле приволок.
— Напомни, как его.
— Та Клешня ж.
— Захария брат?
— Ну да, Николай. Як узнав, шо мы вас утром, як вы стукалы, нэ пустылы в хату — став матом крычать!
В Марфополе отоспались, поплавали в пруду, правда, ночью. Николай Клешня, покряхтывая от боли, разрешил зарезать последнего кабанчика. Отведали горячей, давно забытой колбасы и на сытый желудок посовещались. Поскольку земля у них и, как они полагали, у властей горела под ногами, решено было начинать восстание. Махно написал и отправил с сыном Клешни в Гуляй-Поле призыв к открытому выступлению против карателей.
К вечеру принесли ответ: «Присутствие ваше, Нестор Иванович, здесь необходимо. Настаиваем, чтобы вы в эту же ночь перебрались к нам». Его звали старые друзья и сотские, имевшие влияние на селян.
— Еду! — сказал Каретнику и Чубенко, которые квартировали у соседей. — А вы оставайтесь пока тут.
И пошел собираться. Во дворе увидел мирно воркующих сизых голубей и взволнованного хозяина. Перед тем он всё время отлеживался.
— Ой боже, тикайте! — воскликнул Николай Клешня, полусогнувшись от испуга и боли.
— А что случилось?
— Иван, сосед, углядел в помещичьем леску германцев и варту. Сюда скачут!
— Где Петя?
— В хате пишет.
— Лютый! — позвал Махно. На пороге показался пулеметчик. — Давай Лютого! — заорал Нестор.
Голуби взлетели. Выскочил Петр.
— Одна нога тут — другая там. Варта в селе! Беги к Чубенко, предупреди.
— Та якый Чубенко? — возопил хозяин. — Тикайтэ хоть сами!
Приглашая их на постой, он был крепко зол на разбойную власть и мало заботился о последствиях. В душе надеялся: обойдется. Вон у брата сколько прятался Нестор Иванович, и ничего. Соседи не выдадут. У них тоже опасные гости, другие побоятся или промолчат из сочувствия. А в случае внезапного появления карателей Махно скроется — и концы в воду. На это сейчас и рассчитывал Николай Клешня. Слава Богу, Лютого как ветром сдуло.
— Роздайбида, — обратился Нестор к пулеметчику. — Верховых лошадей не брать. Седла присыпь сеном.
Услышав это, хозяин обмер. Такого оборота дела никак не ожидал.
— Та шо ж вы робытэ? — взмолился. — Хлопци, мэнэ ж повисять! Мы так нэ домовлялысь.
— Выгоняй тачанку! — стиснув зубы и отвернувшись, командовал Махно кучеру. — Мигом давай!
Прибежал Петр и кинулся в хату.
— Куда ты? — Нестор недоуменно вскинул плечи. А Лютый не мог оставить тетрадку со стихами. На улице уже слышен был топот, выстрелы.
— В огород гони. В огород! — Махно схватил вожжи и помог кучеру. Роздайбида с пулеметом примостился в задке тачанки. Нестор запрыгнул к нему и заметил, что убегать поздно: человек десять в чужой форме пересекли подворье, подняли карабины, винтовки. Сейчас перебьют, как щенков.
— Назад поворачивай! — крикнул Махно.
Сердце его зашлось, упало, исчезло. Тело обрело необычайную легкость, и всё вокруг стало трын-травой. Кучер очумело скосил глаз, не понимая.
— Назад! — рявкнул Махно, и тачанка, чуть не перевернувшись, крутанулась. Преследователи тоже оторопели: почему возвращаются? Неужели свои?
Нестор поднял руку:
— Пан, стой! Не стреляй! Мы милиция! — и шипел кучеру: — Подворачивай! Еще! Еще!
Их разделяло теперь метров тридцать. «Бес его разберет в этой кутерьме: свои там, чужие?!» — колебались солдаты.
— Яка милиция? — прокричали с недоверием и злобой. Тот миг нерешительности оказался для них роковым.
— Бей! — выдохнул Махно, стреляя из нагана. «Максим» в упор косил нападавших. Ни один из них не устоял: кого разорвали пули, кого ранили, а кто и со страху упал. Их быстро окружили.
— Глянь, живой!
— И цэй дышэ.
— Не притворяйся, гад. Встать! — раздавались голоса. Из соседнего сада стрельнули. Ермократьев бросился туда.
— С теми, Нестор, как? Которые убежали… — спросил Алексей Марченко.
— Мигом на тачанку! Кто не сдается — бей. Других — сюда.
Пока выводили коней, резали телефонные провода на столбах и расстреливали пойманного начальника варты, вокруг убитых собрались крестьяне.
— Вы-то пойидэтэ, а нам як? — спросил Нестора Николай Клешня. Руки, губы его тряслись. Только теперь он понял, в какой капкан попал по собственной воле, и надеялся, что этот Махно, «защитник трудящихся» все-таки ж придумает выход, не посмеет просто так удрать. Клешня продолжал, чуть не плача: — Оцэ дывиться: за кожного нимця нашего повисять. У йих же такый закон!
— Отправляйтесь с нами, — жестко посоветовал Нестор. В его тоне уже не было и следа той доброжелательности, с которой они беседовали вечером за чаркой и домашней колбасой.
— Та куды ж? А симья? — не терял надежды Клешня.
«Какой из него боец? — с презрением подумал Махно.
— Как из моего г… пуля!» Стоящие рядом бабы плакали. Над ними свежим ветром несло темных запоздалых птиц.
— Вин правильно кажэ, — вступил в разговор беззубый дедок с впавшими щеками. — Всих нэ забэрэтэ с собою, а нас тут пококають. У йих порядок: дэ найдуть свого покойныка, там и карають.
Нестор сжал губы так, что их совсем не стало видно.
— Несите лопаты, — приказал. — Погрузите трупы на подводы и закопайте в помещичьем леску. Хай вин за все и отвечает. Не падайте духом. Мы еще вернемся. По коням!
Петр Лютый в последний момент увидал руки молодой тетки, что провожала их. Грубые от земляной работы, с крупными венами, они жалко, беспомощно вздрагивали, и ему стало не по себе…
Отъехав порядочно от Марфополя, отряд спустился в балку, чтобы передохнуть, скрыть следы, да и надо было решить, что делать с тремя пленными, которых везли на подводе. Не таскать же их за собой.
— Ты откуда? — спросил Нестор мрачного усатого хлопца в австрийской форме.
— С Галычыны мы, — он локтем указал на соседа.
— Кем работал?
— Столяром.
— А ты?
— Зэмлэроб.
— Дисциплинку забыли! — подскочил к ним Ермократьев. — На фронте вы нас, русских, не больно-то жаловали. Император Франц Иосиф вам дороже. Ану слазь!
Приперлись на чужую землю, сволочи, еще и выпендриваетесь!
— Цэ наша, украйинська зэмля, — тихо озвался столяр, сползая с подводы. За ним последовали и те двое.
— Это, елки-палки, русская земля! — горячился Павел.
— Не будем делить. Всех она примет, — заметил Махно.
У него созрела идея, и этот спор был сейчас неуместен.
— А ты кто? — обратился он к третьему пленному.
— С Полтавы.
— Зачем подался к гетману в каратели?
— Мы служим нэ йому, а наший Украйини.
Нестор усмехнулся. Ему понравилось, с каким достоинством отвечал этот мужичок в вышитой, правда, грязной сорочке вместо гимнастерки, жизнь которого висела на волоске.
— Да ты, видать, из богатеньких? У Скоропадского нищие не в почете. Не так ли?
— Мы вси за народ.
— Ну что, Алеша, отпустим? — обратился Махно к Чубенко. — Хай расскажет (он явно не глуп), что мы не живодеры, как их варта.
— Я не против.
— Иди, иди! — поторопил пленного Лютый. Но тот не мог поверить в свое счастье и топтался на месте.
— Просить надо, елки-палки? — гаркнул Ермократьев. — Ишь ты, большой пан. Возьмем и передумаем!
Только теперь полтавчанин пошел, не ускоряя шаг. Ожидал пулю в спину, однако не побежал, терпеливо карабкался по склону балки.
— А с вами… особый разговор, — Нестор ткнул пальцем в грудь мрачного галичанина. — Предлагаю написать обращение к солдатам. Земля, говорите, одна, родная, украинская. Так?
— Так, — подтвердили пленные. Их поразило, как легко отпустили полтавчанина. «Свойи. Царю служылы. От и жалко», — решили они.
— Зачем же тебе, столяру, угнетать гуляйпольских тружеников? Ответь! — потребовал Махно.
— Нэ знаю.
— Может, ты, черная кость, зэмлэроб, объяснишь?
— Офицеры трэбують, и мы прысягалы. Аслово трэба дэржать.
— Земля, значит, украинская у вас, а присяга австрийская. Ловко получается, хлопцы. Не-ет, на двух стульях сегодня не усидите. Выбирайте одно. Согласны писать?
Галичане едва заметно кивнули.
— Петя, дай тетрадь.
— Там же вирши, Нестор.
— Скорее, а то полтавчанин подмогу приведет. Пиши посередине:
Солдаты!
Гуляйпольская повстанческая организация предлагает вам всем не слушаться своих озверевших офицеров. Перестаньте быть убийцами украинских революционеров, крестьян и рабочих, палачами их освободительного дела. Поверните штыки против тех, кто привел вас сюда. Нам нечего делить. Советуем по совести: уезжайте в Галичину, Австрию и Германию и освобождайте там угнетенных братьев и сестер.
В противном случае, солдаты, мы будем принуждены убивать вас и вырезать поголовно. Выбирайте, что лучше. Потом не жалейте.
— Все, Петя. Как твоя фамилия, столяр?
— Володымыр Оленюк.
— Подписывай! — велел Махно. — И на другом листе тоже. Это документ для нас. А ты?
— Олэсь Бандура.
— Давай и свою каракулю. Вот так. Теперь забирайте листок и валяйте на все четыре стороны. Живо!
Не долго думая, галичане побежали.
— Стой! — приказал Нестор, и усмешка играла на губах.
Двое ошарашенно оглянулись, оцепенели. Неужели конец? Уж больно легко отпустили. Сейчас пальнут! Вместо выстрела они услышали:
— Запомните, браты, у рабов нет и быть не может родной земли. Ступайте!
С дороги галичане приметили (Махно и это учел), что отрядец выбрался из балки и уехал направо. Но они не видели и не могли видеть, как он повернул затем назад и направился совсем в другую сторону.
Агроном Михаил Дмитренко, круглолицый, коренастый, в добротном костюме, выпил чарку в шинке и, не закусывая, что было на него не похоже, пошел по деревянному тротуару. На душе кошки скребли. «Капкан, капкан», — навязчиво лезло в голову дурное слово. Оно прилипло к нему с самого утра, когда появился во дворе рябой, обычно разбитной хлопец, племянник из Марфополя — сын Николая Клешни.
— Не спится? — удивился дядя. — Батько прислал?
Хлопец как-то загадочно молчал, краснел и вдруг заплакал.
— Ану в хату, Костя, — велел Дмитренко, впервые обнимая племянника. — Ану говори.
— Нэма… билыне… батька.
— Та дэ ж вин? — Михайло сжал зубы от недоброго предчувствия, что поселилось в нем еще с тревожной весны.
— Махно був… — Костя зарыдал.
Дядя дал ему воды. «Неужто за пособничество… отомстили Николаю? — терялся в догадках Дмитренко. Предчувствие беды усилилось. — Теперь же моя очередь!» Племянник выпил, смахнул слезы и продолжал:
— Стоял Махно у нас, а тут варта. В капкан попали. Он их и покосил. А потом… солдаты… батька…
Вспомнив об этом тяжелом разговоре, Дмитренко наклонил голову и так шел мимо коммерческого банка, когда услышал:
— Пан агроном! Что закручинились?
Перед ним вертелся молодой еврей. Руки, плечи его то и дело беспокойно дергались, но темные с синевой глаза смотрели пристально, вприщур. Это был командир взвода уже разбежавшейся еврейской роты Леймонский.
— Не до шуток, — тихо произнес агроном, оглядываясь. По улице мимо них строем шагали австрийцы.
— Судьба-злодейка? — игриво продолжал офицер.
— Бросьте вы этот тон! Неужто не видите, что творится?
— А что, собственно? Прекрасный сентябрь! Клен вот пожелтел. Дожди скоро зарядят…
— Не корчите из себя поэта! — рассердился Дмитренко. — Кто ездил по хатам анархистов? Кто их ловил, как зайцев, и гнал прикладом в кутузку? Или, надеетесь, люди позабыли?
— Вот тебе и здрасте. Да мы же с вами вместе спасали нэньку Украйину! Простите, агроном, я же видел вас на столбе, — прошептал Леймонский, дергая правым плечом, и собеседник отмахнулся от него.
— На каком таком столбе? Что ты мелешь?
— Не паникуйте, дружок. Отойдем лучше в садик, а то мадьяры уже на нас глаза пялят. Так-то надежнее, — Леймонский похлопал по шершавому стволу липы. — Не с веревкой на шее видел. Пока нет. В поле, когда вы, радуясь, резали телефонные провода, чтобы удиравший Махно не мог связаться со своим анархическим батальоном. Два мальчика вам помогали. Весной, вспомните, в апреле, сирень как раз цвела. Это чудо. Запах стоял одуряющий!
«Прохвост, ой, прохвост, — думал агроном. — Ему что московская Украина, что независимая — одна сатана. Лишь бы прибыльно торговать. Выдаст с потрохами, и не икнет».
Дмитренко вырос под белой кипенью вишен, в запахах степных трав, любил тонкоголосые печальные песни бабушки, но только в Екатеринославском коммерческом училище, посещая концерты, собрания, лекции общества «Просвгга», узнал, насколько пренебрежительным и порой жестоким было отношение великорусских властей к его родной культуре. Вначале он не мог вразуметь, кому мешают его привязанности? Что в них плохого или вредного? Потом до него дошло, что в национальных делах все лишь начинается с песен или вышитой сорочки. За ними неизбежно идут требования раздела земли (он стал членом «Крестьянского союза»), потом власти, вскипают обиды, вековые претензии, разгорается свара. Он окунулся в нее с радостью и тревогой, приветствовал Центральную Раду, помогал ей. А эти примитивные бандиты, друзья Махно, — считал агроном, — и хитромудрые сионисты лишь путаются под нашими ногами. В пылу и ярости не хотелось и некогда было допускать, что у них есть своя, тоже выстраданная правда, и Дмитренко не признавал ее.
— Вы о себе, о себе побеспокойтесь, — посоветовал он угрюмо. — Девятьсот пятый год не забыли?
— Под стол пешком ходил, — по-прежнему беспечно отвечал Леймонский, притопывая. Собеседника это взбесило.
— Погромы грядут. Тогда мы вас еле отстояли. А привалили из Александровска, у-ух, живодеры: Щикотихин, Минаев. Отборное зверье! — агроном говорил о них, как об элитном зерне. Хотелось сбить спесь с этого вертуна. — Но в тот час и повода нападать на вас не было. Подумаешь, захватили лавочки да мельницы. Теперь, хлопец, совсем другой коленкор. Из вашей паршивой роты целую еврейскую дивизию раздуют! Красного петушка позовут!
На белой шее Леймонского жалко, вверх-вниз задвигался кадык.
— Не надо пугать. Мы не из тех, — выдавил он с трудом.
— А чув, шо вчера было в Марфополе?
— Не-ет.
— Махно перестрелял варту и этих вот, мадьяр. Целый отряд выкосил.
— Глупости. Миф! Куда ему?
По тротуару мимо садика шла удивительно стройненькая девушка. Рыжие волосы ее были аккуратно сколоты на затылке и прямо просились в гости к клену. Она приветливо взглянула на Леймонского. Он церемонно поклонился.
— Кто эта губернская краля?
— А-а, знакомая. Тина.
— Хрен с ней, — продолжал Дмитренко. — Я б тоже не поверил, что он выкосил вояк, да племяш утром прибегал оттуда…
Агроном чувствовал, что про все остальное говорить нельзя, опасно. И так уже сболтнул лишнее. Но не мог остановиться. Николай Клешня был не просто родственник — редкостный землероб. Пшеницу выращивал не какую-нибудь. Арнаутку! Даже немцы-колонисты (на что уж мастера!) и те завидовали.
— Племяш поведал, что наша помощь опоздала, и Махно ушел. А они перепороли баб да дедов. Хозяина застрелили.
–. Какого? — офицер все смотрел вслед девушке.
— Того, где ночевал Нестор. Золотого сеяльщика!
— И правильно! — Леймонский рубанул ребром ладони по стволу липы. — Пусть не пригревают гада. Пусть дрожат.
— Контрибуцию наложили на село: шестьдесят тысяч рублей! Мыслимо ли? Совсем сдурели!
— Австрийцы — суровые ребята, — сказал бывший командир взвода.
— Да как же требовать невозможного?
— А что солдат угробили — не в счет? — уколол Леймонский.
— Ох, не знаешь ты наш народ. Это все равно, что спичку бросить в стог сена. У них там в Берлине, Вене, в вашей синагоге чтут силу и закон. А тут до-олго терпят, но, если раздразнишь, кровью умоются, а глотки врагам порвут. Да что с тобой толковать? Ты девку пасешь! — Дмитренко плюнул с досады и пошел. Потом почесал затылок, остановился и добавил: — Вспомнишь мое слово. Капкан! Все в нем запляшем.
Ночь была уже прохладной, и они грелись у костра. Отблески его падали на крутые склоны оврага, на лица собравшихся. Кто стоял, кто сидел на траве или лежал, отворачиваясь от жара. Наверху примостились караульные.
— Вот и настало наше время, мужики, — заговорил Махно. — Будем брать Гуляй-Поле?
— Завтра ночью.
— Завтра! — в один голос заявили сотские, и Нестор порадовался неукротимости земляков. Их бьют, штрафуют, расстреливают — все нипочем. Он не ошибся: анархический идеал воли живет в них неистребимо. Пусть бы поглядели на этих «темных» дядек всякие сладкопевчие соловьи — тот же Ленин, Спиридонова или Скоропадский. Хай бы почувствовали, какая силища клокочет здесь, в глухой провинции, которую они самонадеянно считают пыльными задворками. Но сейчас было не до соловьев.
Весть о событиях в Марфополе полетела далеко. Ее понесли также гонцы, отправленные Махно. Железо, полагал он, нужно ковать пока горячо. Ермократьева с его людьми отправили к Днепру. Остальные прибыли в Гуляй-Поле, зная, что каратели пока шастают по селам да хуторам. Городок стерегли рота солдат и гетманская варта. Как их разогнать? Об этом и толковали у костра.
— Они тут кто, оте немцы, галичане? Чужаки! А для нас каждый угол — брат. Попрем так, что и чертям тошно станет! — запальчиво уверял Гавриил, или по-местному Гаврюха Троян, толстяк лет двадцати пяти. От волнения он то и дело мял свой крупный нос, который, по выражению жены, «для праздников рос, а ты и в будни носишь». Троян возглавлял песчанскую сотню. У него и остановились Махно с Лютым. Домой лишь наведались.
— Та то ясно! Ось пидожды, Гаврюха. Не надо рассусоливать. Тут вси грамотни, — перебил худой и высокий дядя, похлопывая кнутом по штанине. Фома Рябко заправлял гурянами (Прим. ред. — Жители разных частей Гуляй-Поля. В нашей местности исстари повелось давать имя даже одной хате, коль она стояла на отшибе). — Ты лучше скажи, где мне вдарить? С какого флангу? Во-о главное!
Чуть пригасили пламя, помолчали.
— Бомб нэма, Нэстор. Патронив мало, — пожаловался третий командир сотни, Вакула. Он лежал у костра, досадливо морщился и отворачивался. Известен был тем, что зверски пил по праздникам, но и работал как вол.
— Да, товарищи, — заметил Махно вроде бы вскользь, — когда пойдем на дело, в рюмки не заглядывать.
— Ни, ни. То погыбэль.
— Погы-ыбэль!
На том и разошлись.
Это была первая боевая операция, которую затевал Нестор Махно. Не будучи ни офицером, ни даже рядовым, он имел весьма смутные понятия о тактике, стратегии. Зато неоднократно участвовал в ночных налетах анархистов на богатых земляков, полицейских, в начале года под Александровском разоружал эшелоны казаков, возвращавшихся с фронта. Сейчас, в партизанском деле, этот опыт кое-что да стоил. Кроме того, Каретники, Марченко, Вакула, Лютый, Чубенко, Троян, Рябко вернулись с войны унтер-офицерами, бивали немца и бегали от него. Так что сообща они надеялись на успех.
Дома неугомонный Гавриил признал:
— Глаза, ну прямо слипаются.
— Нет, нет, неси сюда каганец! — потребовал Нестор. Он был возбужден, тер ладонями бока.
— Нашо? — забеспокоился хозяин.
— Стратегия, — отвечал Махно.
Троян нахмурил брови. Ничего не понял, а подавать виду не хотел.
— А-а, несу. Жинко, ану закрый викно, а то ще подумають, що у нас покойнык.
— Представь себе, Гаврюша, мы победили, — усмехаясь, продолжал Нестор. — Прослышат в Александровске, Мелитополе, Бердянске, схватятся за головы: чего они там хотят, в том Гуляй-Поле?
Троян чесал за ухом: «Зачем ему каганеп?»
— Прокламации буду писать! — Махно постучал пальцем по лбу хозяина. — Дорог дождик на посевы!
За столом сидели Семен Каретник, Марченко и Чубенко — самопроизвольный штаб. Лютый уже спал в углу на лавке, свернувшись калачиком…
Когда стемнело и в лицо кого-либо трудно было узнать, песчанские мужики с ружьями, а кто и с вилами потянулись к условленному месту, к перекрестку. Собралось человек тридцать из сотни. Их ждали Махно, Лютый и Троян. «Штабисты» Марченко, Каретник и Чубенко были отправлены в другие сотни.
— Разберитесь по пятеркам. Кому с кем лучше, — предложил Нестор. — Если нападут, в кучу не сбиваться, не удирать. Забегай один справа, другие слева. Да своих не колотите!
Безлюдными переулками они направились к центру, где в школах, конторах, богатых домах были расквартированы военные. Нужно окружить и взять штаб. Он располагался в гимназии. Но не успели добраться до нее, как где-то рядом вспыхнула беспорядочная стрельба. Рушился весь замысел.
— За мной! — Нестор с наганом в руке побежал к гимназии. Там горел свет. Никто не показывался.
— Выходи! — крикнул Махно и прилип к стене у открытых дверей. Это его насторожило: «У аккуратистов… без часового… настежь! Улизнули, змеи!» Он кинулся в здание. На столе еще дымилась примятая папироса. Вокруг валялись брошенные бумаги. Мужики забегали по классам.
— Никого! — радостно доложил Троян.
— Скорее на улицу! — шумнул Нестор, догадавшись: «Заманили в ловушку ротозеев!»
Но ничего не случилось. Испуганно лаяла собака, постреливали, кто-то взвизгнул:
— Стой, гад! Стой! — и бабахнул недалеко. Перебежками, прижимаясь к стенам, заборам, восставшие устремились дальше, увидели освещенное окно.
— Телефонная станция, — шепнул сзади Лютый. Озираясь, Нестор юркнул в сенцы. Внутренняя дверь была на замке.
— Открывай! — загремел Троян.
— А кто там? — послышался женский или детский голосок.
— Революционная власть!
Мужики набивались в сенцы. Махно погрозил им поднятым вверх наганом, но в темноте никто этого и не заметил. Щелкнул замок, дверь отворилась, и он увидел тоненькую высокую девушку-еврейку в коричневом платье, аккуратно причесанную. Часто мигая, она беспомощно смотрела на него темными, чуть раскосыми, ну, точно заячьими глазами.
— Здравствуйте, — сказал Нестор, входя. Вот так война, вот так добыча! Этот аккуратный длинный зайчонок словно выпрыгнул из совсем другой жизни, изумился и робко шевелил белыми пальчиками. В станции больше никого не было.
— Доброй ночи, — прошептала девушка, склонив рыжую головку. Ее вид, голос, манеры никак не вязались с тем, что происходило, с мужиками, дышавшими перегаром в затылок Махно, и даже с теми женщинами, которых он знал или близко видел: с хлопотливой хозяйкой Настенькой, бой-бабой Марусей Никифоровой, страстной краснобайкой Марией Спиридоновой и милой, но твердой саратовской анархисткой Аней Левин. Сейчас перед ним было изящное, беззащитное существо, каких он не встречал.
— Где немцы, варта? — спросил, с трудом преодолев волнение. Телефонистка повела плечиками.
— Наверно, убежали.
— Ла-адно. Мы вернёмся, — пообещал Нестор уже грубо и двусмысленно. — Теперь слушайте сюда. Как вас зовут?
— Тина.
— Занятное имя, — он помолчал, прикидывая, как же лучше поступить.
Девушка взглянула на него кротко, с явным интересом: малыш, а командует.
— Троян, бери пятерку самых отчаянных, — приказал он, — и оставайтесь тут. Понял?
Гавриил съежился в недоумении. Бой идет, нужно бежать, помогать другим сотням.
— Для нас этот дом — главнейший! — объяснил Махно. — Без телефона мы глухие и слепые, вроде котят. Никого не пускать. Тина, вы подчиняетесь только ему. Сообщения принимайте, но в ответ — ни звука. Если нарушите… — он угрожающе потряс наганом. — Вперед, мужики!
На улице их встретил запыхавшийся Алексей Марченко.
— Все кончено! — доложил радостно. — Кто бежал, а кого поймали, в основном интендантов. Гуляй-Поле наше!
Лица мятежников, однако, были суровые, озабоченные. Они понимали: каша лишь заваривается.
Тина поспала после дежурства, и, когда раскрыла глаза, уже тлел за окном серый сентябрьский день. «О-о, не стреляют. Где же австрийцы? Неужели смирились? На них не похоже, — подумала. — Что там на улице? Какая власть? Интересно, сбежал Леймонский или прячется?»
Девушка сладко зевнула. Все эти приключения властей мало волновали ее. Кто бы не пришел, — считала она, — работа никуда не денется. Телефонистку никто не тронет. Ой, как прав был отец, когда помогал ей выбрать профессию. Он сейчас, конечно, в своей лавке, торгует гвоздями, красками, хомутами. Ему тоже не страшна смена власти. Единственные, кого он побаивается, — это большевики. Но и они, полагает, без хомутов не обойдутся.
Во дворе, за дощатым забором, незлобиво полаяла собачка. «Муся пришла убирать, — догадалась Тина. — Видимо, отец просил рано не беспокоить». Поскольку они постоянно заняты, а мать умерла четыре года тому назад — наняли соседку, и та стирала, готовила обед, кормила курей, песика.
— Проснулась? Привет! Я счас быстренько все сделаю, Тиночка, и побегу на митинг, — лепетала соседка, круглолицая, маленькая и шустрая. Она уже подметала пыль в комнате.
— Какой митинг? — удивилась молодая хозяйка, одеваясь.
— Тю-ю, да ты что? А еще телефонистка. Людям не говори — засмеют!
Тина смотрелась в зеркало и не нравилась себе. Ночное дежурство, тем паче такое — не сахар.
— Власть же наша опять! — убежденно и радостно сообщила Муся. — Кто был никем, вот как я, тот станет всем. Представляешь?
— Ой, не торопись, милая. Ты веришь, что власть может что-то дать? — Тина не раз слышала это дома и потому криво усмехнулась.
— А как же! Махно в прошлом году, помнишь, верховодил в ревкоме? Коммуны завел, земли нам подарил. Даже шапка помещика бате досталась!
Дочь лавочника была далека от земли.
— Как он выглядит? — спросила.
— Тю-ю, ты ни разу не видела? Сменя ростом.
— Такой малый? — Тина подумала: «Неужели ночной атаман?»
— А что я, кнопка? — простодушно обиделась Муся. — Еще как нравлюсь. Гоняются кобели о-го-го!
— Но он же мужчина!
— Ну и что? Зато его все великаны боятся.
— Прямо там, — не поверила Тина, хотя ее это очень заинтересовало.
— Криво! — передразнила соседка. — Махно такой, ну, такой…
— Какой же?
— Волк его увидит, подожмет хвост и в страхе убежит. Наши на хуторе наблюдали. Во какой! Тю-ю, да мне ж обед еще варить…
— Давай помогу, — предложила молодая хозяйка, — а потом вместе и отправимся на твой митинг.
— Правда? Ну, живо чисть картошку!
Когда они пришли в центр городка, там уже собралась давно не виданная публика: крестьяне с окраин, прислуга, мастеровые, многие с женами, детьми. Стояли, о чем-то спорили, смеялись, поглядывая на дверь ресторана, что срезанным углом выходил на площадь. Крыльцо его было каменное, со ступенями, высокое — готовая трибуна. Тина и не заметила, как туда взобрался какой-то дядя в соломенной шляпе и начал что-то выкрикивать. Его живо прогнали. Потом еще двое пытались говорить, но было заметно, что это люди незначительные. Их тоже никто не слушал. Все ждали, когда появится Махно.
— Айда поближе, — Муся не могла долго стоять на месте.
Пока они пробирались к ступеням, раздались радостные и уважительные возгласы:
— Нестор Иванович! Тише!
На крыльце стоял тот самый мужичок, что ночью ворвался в помещение станции. Тина сразу его узнала, но теперь рассмотрела получше. Военный френч без погон, явно с чужого плеча, сидел на нем несуразно. Лицо плоское, монгольского пошиба, и носик небольшой. «Степняк», — небрежно определила девушка. Она любила читать исторические романы.
— Кхэ, кхэ, — кашлянул Махно.
«Ему бы еще лохматую лошадку и колчан со стрелами», — Тина улыбнулась.
— Нравится? — спросила Муся.
— Ага.
— Вот видишь. Я же говорила — сокол!
Тут Тина не сдержалась и прыснула. Махно взглянул на нее холодно, пристально и начал речь:
— Только что я из типографии. Всю ночь печатали вот это, — он показал пачку прокламаций, передал ее стоявшему у крыльца парню с черным знаменем, и тот принялся их раздавать. Тина с Мусей тоже взяли по листочку. Нестор продолжал:
— Революционно-повстанческий штаб призывает вас, каждого, не теряя времени, записываться в боевые отряды. Наша социальная революция — это продолжение и развитие русской. Степная ширь Украины не терпит диктатуры: ни царя, ни Скоропадского, казачьих генералов, ни большевиков. У нас дух от природы антигосударственный и требует простора!
Публика ожила, многие аплодировали.
— Хотите свободы? — спросил Махно глуховатым голосом, когда шум приутих.
— Мы с вами! Хотим! — послышались выкрики.
— Тогда запомните: нет ничего дороже. Любой возразит: «Я это, дескать, и сам знаю». Прекрасно! Вы что думаете, Махно умнее вас? Вздор! Я только выражаю ваши желания, вековечные мечты крестьян, иных рабочих людей. Не более того.
«А степняк-то хитер, — определила Тина, — и распаляется».
Карие глаза Махно засветились, голос окреп. Он продолжал:
— Быть рабом хоть и трудно, зато кормят, худо-бедно одевают, инвентарем обеспечивают. Чуток и рублишки подкидывают. Верно?
— Точно! Так и есть!
— А свободный сам по себе. Но и сладко же это, поверьте, — быть хозяином своей судьбы. Вот к чему призывают вас анархисты. Никакая государственная власть, никакая! — Нестор поднял палец и тряс им. — Никакая, будь она трижды золотая, тебе лично ничего даром не даст. Наоборот, такой хомут накинет, что и не брыкнешься!
«Господи, да он же мои мысли читает», — поразилась Тина. Но дальше, когда речь пошла о гетмане, «опричниках непрошенных», сборе оружия и «тружениках села», она почти не слушала. Это уже ее не касалось.
— Какой сокол! Убедилась? — возбужденно говорила Муся по дороге домой. — Это тебе не еврейская шпана, что бегает за твоей юбкой. Он им быстро утрет сопли, всяким Леймонским.
— Кому? — встревожилась Тина.
— Посмотришь, — загадочно пообещала прислуга.
Штаб восставших разместился в гимназии. Сначала решили занять коммерческий банк — здание солидное и надежное в случае нападения. Но Алексей Чубенко предостерег:
— Скажут, и новая власть прилипла к мешкам с деньгами.
Тогда кто-то предложил засесть в конторе Кернера: тоже в центре и каменная.
— А вы уйдете — с меня шкуру сдерут! — взмолился Марк Борисович.
— Как уйдем? Не веришь в нашу силу?
— Дорогие мои, мужик полагает, а Бог располагает.
Плюнули и заякорились, как и австрияки, в гимназии.
Первым делом Махно зачитал сочиненную им телеграмму:
— «Всем, всем, всем! Районный ревком настоящим извещает о занятии повстанцами Гуляй-Поля и установлении здесь свободной республики трудового народа Украины. Объявляем повсеместное восстание рабочих и крестьян против душителей и палачей революции — австро-германо-гайдамаков».
— Не слишком ли громко? — усомнился Алексей Марченко. — Мы что, вся Украина?
— Постой, а ты против размаха запорожской вольницы? — наскочил на него Петр Лютый.
— Есть еще соображение, — неторопливо заметил Семен Каретник. — На фронте не принято кричать о своих успехах. Зачем давать противнику оперативную информацию?
— У нас другая война, — возразил Махно, — и у нее свои законы. Где взять соратников?
— Все равно давайте по одежке протягивать ножки, — настаивал Марченко, — а то потом куры засмеют.
— Я подумаю, — пообещал Нестор, и вскоре дерзкую телеграмму с изумлением приняли в Александровске, Бердянске, Мариуполе.
Тем временем в штаб зачастили гонцы. Песчанский доложил:
— Румыны прут!
— Ага, не нравится им в степи! Далеко ли они? — уточнил Махно.
— Иван с колокольни шумит, что на взгривке гарцуют.
Все, кто был в штабе, засмеялись.
— Хай потешатся, мамалыжники. А вы там, хлопцы, потуже затяните пояса.
— Для чого? — не понял молодой лупатый гонец.
— Чтоб не потерять штаны, когда полные наложите.
— Ну вас! — хлопец обиделся и убежал. За ним явился гурянин, тоже порол чепуху.
— Роздайбида! — позвал Нестор. Вошел бравый пулеметчик. На ногах юфтевые сапоги, чуб вырывается из-под офицерской фуражки. Даже кокарду не снял. Он теперь охранял вход в штаб.
— Слушай, не пускай сюда этих паникеров. Мы мозгуем, как стратегию развернуть, а они блохами за пазуху лезут.
— Момэнт, — козырнул Роздайбида. — Просю на выход, парень. Ни одна муха больше не залетит!
— О главном речь, — Махно зашагал из угла в угол. — Будем уходить или продержимся?
Семен Каретник рассеянно поглядывал в большое окно. Во дворе гимназии чинили колесо тачанки, переминались лошади, прогуливались опоясанные патронташами повстанцы и сидел крупный черный кот без уха. Он явно никуда не спешил. Но как только кто-то пытался обойти его, кот срывался с места и перебегал дорогу. «Ах ты ж карнаухий бандюга!» — ругались мужики. «Закрой глаза и скрути ему дулю!» — хохотали наблюдатели. Семен тоже усмехнулся.
— Что такое? — возмутился Махно. — Ты тоже не согласен уходить?
— Без боя нельзя, — твердо заявил Каретник. — Защитнички нашлись, скажут люди. Пустили мыльные пузыри о свободе, а сами вроде черного кота. Только и могут перебежать дорогу под носом у немца.
— Какой кот? Эх вы, забыли казацкую историю, — Нестор даже стукнул кулаком по столу. — Забыли! Дикое поле вокруг, орды шастают, а запорожец живет себе в зимовнике и в ус не дует. Как ему это удавалось?
Историю мало кто из них знал, тем более такие подробности. Махно выждал и продолжал:
— Терпение и ловкость! Святой старец Кропоткин тоже такого мнения. Мы сто раз уйдем, но если в конце концов возьмем верх, нам в ножки поклонятся. Что там опять? Я же приказал никого не пускать!
На пороге, однако, стоял очередной гонец.
— Вас к трубке, — сообщил. Нестор возмущенно отвернулся. — Господина Махно лично просят…
— Какого еще господина?
— Я ж повторяю — их.
— Кто просит?
— Со всех концов. Троян уже в мыле!
Махно поднялся.
— Будьте тут. Я скоро.
Прискакав на телефонную станцию, он вошел и увидел Тину. Возле нее, согнувшись, стоял Гавриил и что-то говорил в трубку. Девушка тоже смотрела на Нестора, не отводя темных, испуганно-кроличьих глаз. Он стал привыкать, что и другие точно так же замирают, когда увидят его, а потом тушуются. «Боятся, что ли? — недоумевал Махно. — Раньше такого не замечал. А ведь я нисколько не изменился. Не меня боятся — силы нашей».
— О-о, идет, идет! — обрадовался Троян, протягивая трубку. Он впервые в жизни говорил по телефону и как будто даже похудел. На крупном носу, на лбу блестели капли пота.
— Они меня, Иванович, ну, замучили, суки. Вы послухайте, послухайте!
Нестор взял трубку и, прежде чем говорить, невольно взглянул на Тину. Не мог не взглянуть. На какое-то мгновение глаза их встретились близко, задиристо. Девушка тут же опустила веки, а он сказал в трубку:
— Махно слушает вас, — и забыл о Тине.
— Не ведаю, как тебя там величать, — донеслось из аппарата, — но стерва, видать, добрая. Зачем толкаешь людей на бойню? Отдаешь себе отчет?
— Кто это? — несколько даже растерялся Нестор. Таких вопросов и так открыто, нагло ему никто еще, никогда не ставил.
— Я переводчик начальника штаба регулярных австрийских войск господина Клауса Гейнце, расположенного в Пологах.
— Говори, что он хочет, а то мне некогда.
— Значит, так, — переводчик замешкался. — Фамилию мою послухай сначала. Васильченко. Годится?
— Да на хрена мне твоя поганая фамилия? — рассердился Махно, отдал трубку Трояну и хотел выйти, как телефонистка, смущаясь, попросила: — Возьмите еще, пожалуйста, Покровку. Целый час добиваются.
Нестор услышал ее голосок, по-детски тонкий и чистый, и снова подивился: как изобретательна природа! Пока они с Сашей Семенютой и другими анархистами потрошили толстосумов, скрывались, судились, пока он, Нестор, маялся в Бутырках, будь они трижды прокляты, тут проклюнулась и лозой вымахала у какого-то спекулянта, лавочника такая прелесть. Устоять же невозможно! Вот и воюй после этого!
Нестор больше не стал слушать. Скакал по центру Гуляй-Поля на куцехвостой кобьше и радовался пусть временной, ненадежной, однако не случайной — внезапной победе. Выгнали карателей и установили свой порядок здесь и на железнодорожной станции, что в семи верстах от городка. Ишь как они взвыли, шакалы! Лают и дрожат. Но надолго ли воля? Стоголовые змеи вокруг, перевертыши. Из Киева их окрик доносится, из Москвы, с Дона. Э-эх, что они могут против народа? Встанет стеной — все зубы поломают!
Окрыленный этими мыслями, а также встречей с Тиной, о которой старался не вспоминать, Махно вошел в штаб.
— Ну давайте, давайте вешать подряд! — в сердцах говорил как раз командир сотни Фома Рябко.
— Кого это вы? — не садясь, спросил Нестор.
— Хай Лютый объяснит. Он больно умный у нас.
— Причем тут голова, если сердце разрывается от гнева, — заговорил Петр. Он был теперь помощником у Махно: передавал приказы, проверял дозоры. — Про агронома Дмитренко речь, Нестор Иванович. Пакостит председатель «Просвгги» или нет? Резал телефонные провода, когда немцы наступали? Пушки оказались без панорам, а связи нет. Забыли? Из-за таких патриотов мы сдали оккупантам Гуляй-Поле, потеряли лучших хлопцев. И пощадить его? А Леймонский? Это же гад из гадов! — горячился Лютый. — Нужно разыскать и других героев их поганой роты. Не простая — центральной называлась!
— Дурью маетесь от безделья? — Махно присел к столу.
— Они вас, меня, Каретникова искали по всем закоулкам, словно чумных! — не унимался Петр. — Вон Алексей Марченко не даст сбрехать: три бомбы кидал, чтоб скрыться. Поймали бы — на месте прикончили. Без жалости. А сейчас адвокаты нашлись.
— Ты видал ту роту? — Рябко подскочил к Лютому. — Чешут языками! Ну собрались пацаны поиграть в войну, погромов боялись. Что ж их, на грушу тянуть?
— Они не дети, Фома. То выкормыши капитала. Леймонский и Лев Шнейдер ведали, что творили.
— Громилами желаете стать? — заговорил Нестор с дрожью в голосе. — Кто тебя спас, Петя, когда Богу душу отдавал?
— Доктор Лось.
— А как его зовут?
— Абрам Исакович. Это все знают.
— Утром, на улице он упал передо мной на колени, — Махно сделал паузу. — Уважаемый человек. Год назад организовал для нас лазареты, санитарные отряды, а сын оказался у Леймонского. Я поднимаю доктора с пыли, а он просит: «Пощадите. Миши не будет — мне конец!»
Стало слышно, как во дворе с руганью гоняют безухого кота.
— Вот так, — подвел итог Нестор. — Требую, чтоб до нашей твердой победы, когда можно будет разобраться, кто действительно гад, о мести не заикались. Ясно? А то завтра возьму… и женюсь на еврейке!
Все в штабе заулыбались.
— Даешь, Нестор, — удивился Фома Рябко.
— Ага, ты их защищал? Будешь сватом у меня!
— А я тамадой, — загудел Вакула.
Тут уж и всегда сдержанный Семен Каретник захохотал:
— Поп не обвенчает. Чужая вера!
— Без креста обойдемся, — ответил Махно.
На следующий день опять прибежал посланец Трояна:
— Вас клычуть до трубкы.
— Слушай, ты уж крой прямо: труба! — пошутил Нестор.
— Вы як скажэтэ, то хоть стий хоть падай, — смутился гонец, конопатый, с грустными голубыми глазами. Краем уха он улавливал телефонные перебранки, догадывался, что Гуляй-Поле окружают, и прямота Махно понравилась ему.
Разговор с Пологами, городком, расположенным южнее, на этот раз велся неторопливо и корректно. Начальник австрийского штаба Клаус Гейнце спросил через переводчика:
— Почему господин Махно называет экспедиционные войска бандой? Это оскорбительно для нас. Такое слово проскользнуло в прошлый раз. Оно же фигурирует и в листовках, которые принесли нам простые люди, представители любимого вами украинского трудового народа.
— Как же прикажете вас величать? — удивился Нестор. — Дорогими гостями? Но они не грабят хозяев, не бьют их шомполами и не вешают на столбах. А вы что творите?
— Позвольте вам возразить. Мы прибыли на Украину не самовольно и не как захватчики, — отвечал Гейнце. — Нас пригласило законное, я подчеркиваю, законное правительство, Центральная Рада. Она может вам не нравиться, но в цивилизованном мире принято считаться с этим.
— Рады нет. Вы же сами ее незаконно разогнали. А Скоропадский — проститутка. Вы и его попрете, если заупрямится.
На том конце провода некоторое время молчали, видимо, соображали, что ответить на новую грубость, не лишенную яда. Они говорили на разных языках. Махно забеспокоился. Что случилось? К чему эта философия?
— Неделю тому я остановился у крестьянина Клешни, — сказал Нестор. — Прискакал ваш отряд, чтобы схватить меня. Защищаясь, мы побили солдат. А вы в бессильной ярости расстреляли мирного Клешню. За что? Какие тут в черта законы?
Телефон молчал, и Махно учуял опасность. Тянут время! Ах вы, жмурики косоротые! Хотите застать нас врасплох?
Он отдал трубку и увидел Тину. Еще входя сюда, приметил, что она сегодня в белом платье. Невеста! Так показалось. Но потом увлекся спором с этим поганцем. А она и правда невеста! Покраснела, когда он пристально посмотрел. Опустила глаза, словно ждет предложения. А нужно же скакать в штаб, предупредить об опасности. Ну, жизнь-индейка!
— Здравствуй, — сказал как мог ласковее, и Тина выдала себя с головой: вскочила, горя, подошла и поглядела ему в очи так откровенно-преданно, что Нестор не сдержался, обнял ее и поцеловал. Сквозь прядь рыжих волос заметил вытаращенные зенки Гаврюшки Трояна, отстранился и почти бегом покинул телефонную станцию. У штаба, прямо на улице, его встретил Алексей Марченко.
— Уже наступают!
— Сколько?
— Два воинских эшелона.
Махно не поверил, отвернулся. Командиры сотен седлали лошадей. «А чутье не обмануло», — подумал он, вздрагивая.
— Откуда вести? Верные?
— Начальник станции сообщил наблюдателям. Эшелоны идут из Полог.
— Ишь ты! А этот гад-законник мне зубы заговаривал, — Нестор направился в штаб. — Вот их кровавая правда.
Семен Каретник шагал из угла в угол.
— Перестань маячить! — рявкнул на него Махно. — Что предлагаешь?
Алексей Марченко хитровато прижмурился.
— Как поступали в таких случаях запорожские казаки? Намазывали медом пятки!
— Не ехидничай, — осерчал Нестор. — А ты, Семен?
— Надо врезать им. Хоть пощечину. Иначе на душе деготь залипнет.
— Считаешь? Эй, Роздайбида!
— Я здесь, Нестор Иванович.
— Готовь тачанку. Кто там у нас под рукой? — он выскочил на крыльцо. — Фома, иди сюда!
Рябко подъехал на кауром жеребце, соскочил.
— Ты куда собрался?
— Сотню сбить в кучу. Прут же.
— Забыл, что ли? Мы приняли решение: днем не показываться на улице. Ты отступишь с отрядом, а хлопцам — петля. Поедешь со мной.
— Им навстречу?
— Да. И другим сотским предложи. Кто хочет. Там толпой делать нечего.
Во двор влетел гонец от Трояна.
— Нестор Иванович, Нестор Иванович, они уже рядом!
Все, кто был во дворе, кинулись к крыльцу и так пнули кота, что он яростно взвыл.
— Говори толком, — потребовал Махно.
Гонец доложил:
— Начальник станции нам звонил, хотя вы и запретили ему. Сказал: каратели остановились, выгрузились, валят сюда.
— Где они?
— Посреди пути.
Нестор холодно, вприщур поглядел на всех, кто был около, и они ощутили надежную силу. Каждый день ждали этого часа, но все равно поджилки дрожат.
— Делаем так, — начал Махно, обращаясь к гонцу. — Передай Трояну: отключить все телефоны. Понял? Скачи! Каретник и Марченко остаются здесь. Остальные за мной!
Никто ни словом не возразил. На трех тачанках (две были реквизированы в австрийском штабе) и с десятком верховых они отправились навстречу неприятелю. Нестор не мог бы объяснить, зачем это затеял. Сказанное Каретником: «Надо врезать им. Хоть пощечину» — лишь подогрело чувства, с которыми Махно возвращался с телефонной станции. Возмущение коварством оккупантов, порыв Тины, поцелуй взвинтили его и привели в то состояние, когда он знал, что принимает единственно правильное решение, и никаких сомнений на этот счет уже не испытывал.
Железная дорога из Полог в Гуляй-Поле терялась в холмах, и где остановились эшелоны или эшелон, никто не ведал. «Посреди пути». Где она, та середина? Взяв левее от дороги, что вела на станцию, отрядец с оглядкой продвигался по проселку.
Бабье лето тихо скончалось. Кое-где в низинках неярко желтели дубы или шелковицы. Накрапывал дождик. В скошенных полях не бьшо ни души. Но, поднявшись на кряж, повстанцы увидели тугую серую колонну, что молча грозно двигалась навстречу.
— Вот они, всемогущие и непобедимые! — с какой-то лихостью воскликнул Нестор. — Хай идут, иду-ут. Поближе, побли-иже!
— Может, хоть тачанки с пулеметами развернем? — обеспокоился Рябко.
— Давай, давай, — так же, почти весело согласился Махно, и это было странно землякам. Прет силища. Их же — горсточка. Акомандир радуется. Чему? В своем ли он уме? И вместе с тем твердость Нестора внушала уважение.
— Поберегись! — крикнул с другой тачанки Вакула.
— Кого не смогли повесить, — говорил Махно, — того пуля боится. Ану, Роздайбида, возьми их на прицел. Да не торопись, сынок. Очередями бей!
— Бей! — послышался и бас Вакулы. Пулеметы застучали ровно и гулко. Запахло пороховым дымом. Колонна сломалась, рассыпалась и залегла. Австрийцы открыли ответный огонь. Они недоумевали: откуда напасть? Что за отчаянные смельчаки? Видимо в Гуляй-Поле действительно собрались тысячи стрелков, готовых к отпору? Иначе что за вздорная выходка?
После легкой, почти бескровной весенней кампании на Украине батальон провел чудное, сытое лето, и вот теперь кто-то осмелился на такое дерзкое нападение. «Махнэ. Махнэ», — догадывались, говорили друг другу солдаты, целясь в людей на тачанках. В сырой после дождя, чужой степи австрийцы всерьез не воспринимали крохотный дорожный заслон. И тем не менее они вынуждены были защищаться, позорно валяться на открытом месте. Стонали раненые, и неизвестность смущала: вдруг эти коварные восточные налетчики ударят и с флангов, из засады? От них можно всего ожидать!
Конные австрийцы, поскольку никто не предвидел такого оборота дела, замешкались при выгрузке из вагонов в открытом поле и лишь теперь появились. На резвых рысях они шли к тачанкам. Те не стали ждать и ретировались.
Люди Махно скакали во весь опор и смеялись. Нервно, лихо. Ни о каком поражении не могло быть и речи. Слегка попугали немоту, положили на сыру землю. Пока хватит. Еще когда собирались захватить Гуляй-Поле, каждый догадывался, что это скорее всего временно: показать зубы, подергать за усы жирного европейского кота, и только.
— Нагоняют, Нестор Иванович! — с опаской крикнул Роздайбида.
Оглянувшись и насчитав десятка два всадников, Махно приказал кучеру:
— Притормози!
Тот согнулся, словно под занесенной саблей, и натянул вожжи.
— Бей их, Бида! Бей!
Три вражеские лошади ковырнулись.
— Точнее бери. Короче! — Нестор помогал вставлять ленту.
Преследователи рассеялись, да они особенно и не лезли на рожон. За ними, правда, накатывали из-за кряжа другие.
— Вперед! Не догонят. А в село побоятся сунуться! — шумел Махно.
Вместе с двумя тачанками, которые их поджидали, они влетели в Гуляй-Поле и, не останавливаясь, проскочили несколько улиц.
С колокольни Крестово-Воздвиженской церкви, где в свое время нарекли и записали младенца Нестором, наблюдатели заметили, как одна тачанка, скорее всего та, в которой находился Махно, отделилась от остальных и направилась в центр.
— Ворвутся или побоятся? — спросил своего товарища наблюдатель.
— Я б не рискнул, Иван.
— Да ты прямо говори!
— Тормознут. Ради чего им, жирным, лезть на шальную пулю?
Действительно, всадники покрутились на месте, посовещались и стали ждать подкрепления. Иные сняли карабины и принялись, нехристи, палить по колокольне.
— Ну их на… — выругался Иван, цыганского вида, тощий и юркий. — Побежали по хатам. Что нам, больше всех надо?
— Ты хоть Бога побойся. Гнешь тут! А вообще-то пошли, — согласился товарищ, и они начали шустро спускаться.
— Во бля! — опомнился Иван. — А людям сообщить!
Он так же быстро покарабкался назад.
— Сдурел, что ли? Убьют же!
Но Иван все-таки взобрался на площадку и порушил колокол. Пуля звонко клюнула в медь, и она загудела, раскачиваясь и разнося тревожную весть на всю округу. Австрийцы, что прибывали, тоже стали оторопело слушать, даже прекратили стрельбу. Не зря же эти славяне так гремят! Сколько их там собралось?
Между тем Махно подъехал к телефонной станции. То, что вело его сюда, не успевало подать голос. Оно вроде светлячка подмигивало и указывало путь. В любую минуту могут ранить, пристрелить, а то и вздернуть на первом попавшемся столбе. Жизнь-копейка!
— Ждите, — он легко спрыгнул с тачанки, хотел войти в помещение, как появился Троян.
— Что… там? — подбежал с тревогой.
— Полный порядок. Они уже на окраине.
— Австрияки?! — оцепенел Гавриил.
Отстранив его рукой, Нестор вошел в станцию. Тины там не было.
— Где она?
— Кто? — Троян думал об опасности. Что делать теперь? Ведь по головке не погладят, а дома хозяйство, жена, мать больная. Пропади оно все пропадом: и революция, и справедливость, и свобода!
— Телефонистка где?
— Так ты ж приказал… всё отключить. Она дома.
— Тетери! — Нестор был вне себя. Заняты коровами, крупорушками, как выгладить белое платье, обед послаще сварить, сволочи. Каждый о собственной шкуре печется. А я, выходит, крайний?
— Приказ… выполнили, — растерялся Троян. Он даже взмок от страха. Вот-вот австрийцы нагрянут, и Махно не шутит, готов наган выхватить. Провались ты…
— Ладно, — смягчился Нестор, поправляя темно-русый чуб, что лез на глаза. — Едешь с нами или остаешься? Быстро решай!
Донеслись тревожные удары колокола.
— Поехали, — махнул рукой Троян. — Один конец!
— Ты это брось! — И уже в тачанке Махно спросил: — Где она живет?
— Кто?
— Да Тина, твою ж мать! Что с тобой?
— А-а, не знаю. А зачем?
— Жениться хочу!
Потеряв последнее представление о том, что происходит, Гавриил помял пальцами нос и вымученно заулыбался.
— Что ты скалишь зубы, Кощей? — возмутился Махно. Все шло кувырком, шиворот-навыворот. Тачанка неслась по улице, но кучер не ведал, куда править.
— Стой! — вспомнил Троян. — Вот же лавка ее отца. Узнаем?
— Будешь сватом! — решил Нестор. — Больше некому.
«Этого еще не хватало», — струхнул Гавриил. Он вспомнил и другое, что рассказывали о первой женитьбе Махно. Настенька Васецкая жила с матерью неподалеку, и не было особой тайны в том, что девушка переписывалась с вечным каторжником, любила его, ни с кем иным не встречалась, и это казалось просто… Мать Насти не находила слов и крестилась. Надо же было такому случиться, что Нестор, отсидев всего лишь семь лет, вышел на свободу и возвратился. Сыграли свадьбу. Вот тут-то и произошло непредвиденное. Махно возглавлял в Гуляй-Поле крестьянский союз, ревком, черную гвардию, коммуны. Забот полон рот. Но любовь к Настеньке перевесила все. Нестор забросил дела, сутками нигде не показывался, и анархисты категорически потребовали: «Брось ее!» Махно, дескать, ответил: «Не могу!» Тогда они пригрозили Насте: «Уезжай подобру-поздорову и больше не показывайся!»
Так оно было или нет, Троян не знал, но что Васецкая перед приходом австрийцев исчезла — это точно. И теперь назваться сватом, чтобы завтра прищучили уже его?
— Не могу, — уперся он у самой лавки.
— Трясешься? Не хочешь каторжнику помочь? — карие глаза Нестора потемнели в гневе. Шрам на левой щеке дернулся, и Гавриил сдался. Зашли.
Из-за прилавка на них тоскливо смотрел хозяин: лет сорока, полноватый еврей в маленьких очках в серебряной оправе. От удивления он поднял их на лоб, опустил. Сомнений не было: сам Махно зачем-то пожаловал с револьвером, бомбой на поясе, и второй разбойник с ружьем. Заберут?!
— Слушаю вас, господа… товарищи, — как можно вежливее сказал хозяин, поднимаясь и кляня себя, что в такое лихое время не остался дома. Хорошо, хоть дочь отправил подальше. Он неловко зацепил рукой хомут, и тот грохнулся под ноги гостям. Нестор как-то по-детски отпрыгнул в сторону. Троян, чтобы не засмеяться, нагнулся, поднял хомут и положил на место.
— Где Тина? — спросил Махно, забыв обо всех условностях сватовства.
— У… уехала, — опешил хозяин. Он ждал любой гадости, но только не этого, и даже не поинтересовался, зачем им, чужим людям, его единственная дочь.
— Далеко?
— В направлении Юзовки (Прим. ред. — Ныне Донецк).
Нестор в упор посмотрел на Трояна.
— Что ж ты молчал?
Тот пожал плечами:
— Она сдала дежурство и свободна. Мне ничего…
— Ах ты ж! — Махно повернулся и выскочил на улицу.
— Зачем вам Тина? — кричал вдогонку обеспокоенный отец, но его уже не слушали…
У штаба Нестора ждал весь отряд — человек тридцать: Каретники, Марченко, Лютый, Чубенко, сотские, а также кто был раньше арестован вартой, кто по другим причинам не мог оставаться. Тачанки, подводы стояли наготове. Опять накрапал дождь.
— Где пропали? — сердито спросил Алексей Чубенко. — Мы тут уже не знаем, что и думать.
Махно не ответил, поинтересовался:
— Все взяли? Харчи, патроны, самогон?
— Это есть.
— До свиданья, родное Гуляй-Поле! — Нестор неожиданно упал на колени посреди двора и поклонился на все четыре стороны. Мужики смотрели сдержанно, никто не улыбнулся и не проронил ни слова. У каждого на душе кошки скребли. Только Петр Лютый покачал головой: «Ну Нестор Иванович! Ну артист, ядрена кость. Молодец!»
Снявшись, они вскоре оказались на Бочанской стороне, на окраине. Тут стали совещаться.
— Обстановка неясная, — сказал Семен Каретник, — выскочим и нарвемся на засаду.
— Ночевать собрался? Люди и так перепуганы. Глянь, никого на улице! — набросился на него Фома Рябко. — Проскочим, а там — ищи ветра в поле.
— Я не против, — согласился Семен. — Дальше-то куда? Кто нас ждет? Вокруг одни враги.
— Не заговаривайся, — поостерег его Махно. — Если так, то ради кого мы воюем?
Стрельба со стороны австрийцев не прекращалась, и одну тачанку отрядили, чтобы осмотреться и, в случае чего, тоже ответить огнем, попугать.
— Нас ждут не дождутся обиженные властью крестьяне, — продолжал Нестор. — Конечно, осторожничают. Ох, как воздух нужна победа!
— Ждут! Унести бы ноги, — не без иронии заметил Алексей Марченко. — Но куда?
Махно мог ответить. Ему донесли, что в Дибривском лесу хоронится какой-то отряд, вроде бы под командой матроса Бровы. Форменные разбойники. Не хотелось к ним подаваться. А не исключено, что придется. Нестор решил помалкивать, чтобы даже ближайшие помощники (мало ли что случится) не могли предать. Кроме того, еще в Бутырках уяснил, что тайна всегда укрепляет авторитет вожака. В дальнейшем он часто придерживался этого правила и никогда не пожалел.
— Дождемся вечера, — сказал неопределенно, — покормим, напоим лошадей и прорвемся. А ночь — мать родная, приголубит!
Донесение екатеринославского губернского старосты департаменту державной варты
…В с. Больше-Михайловке Александровского уезда австрийским карательным отрядом произведено разоружение и несколько человек предано смертной казни как заподозренных в вооруженном нападении на 5 участок варты. В дер. Темировке тем же отрядом расстреляно 7 человек и в селе Алексеевке один…
10 июля 1918 г.Когда уже и с юга, и с севера замаячили конные группы врагов, освещенные заходящим солнцем, и центр Гуляй-Поля был занят, и, казалось, ловушка захлопнулась, Махно решил:
— Теперь, хлопцы, пора! Они все тут. Прорвем кольцо — и на воле. Для этого делаем фокус. Идем в атаку во-он на тех, что с востока. Их как будто поменьше. Слушай внимательно. Когда сблизимся на верный выстрел, разлетитесь: вы пятеро во главе с Каретником — вправо, а вы с Марченко — влево. Поняли?
— Нет, — насупился Семен. На фронте он такой странной тактики не встречал. Ну и фантазеры же эти штатские! И потом, что за манера: без совета предлагать решение в последний момент?
— Наши две тачанки идут под вашим кавалерийским прикрытием, — спокойно объяснил Нестор. — Как только разлетитесь — мы их покосим.
— Занятно, — сразу согласился Марченко. — Действительно фокус!
— А они что, простофили? — усомнился и Лютый.
— Какое там! Это же венгерские уланы. Видали, как они налетели утром? Я еще тогда подумал: эх, коварно скосить бы. Сейчас они тоже попрут с пиками наперевес. Верные мишени. Ты, Вакула, со своей тачанкой и кто на подводах — стерегите тыл. Вперед!
Эскадрон улан, завидев легкую добычу, что шла прямо на их пики, бросился навстречу, очертя голову, как и предполагал Махно. Когда же крестьянские конники мнимо дрогнули, рассыпались — атакующие неслись во весь опор. В мгновение ока они были покошены кинжальным огнем с развернутых тачанок. А тех, кто пытался уйти, с флангов перехватывали и секли Каретник и Марченко. Путь к отступлению был свободен.
— Во мы им дали! — крикнул в азарте Роздайбида, но Нестор не разобрал слов, их отнес влажный степной ветер. Не останавливаясь, тачанки и подводы устремились подальше от Гуляй-Поля.
Австрийцы еще некоторое время маячили на горизонте, видимо, определяя, куда удирают коварные славяне. Когда же холмистые поля обезлюдели и опустились сумерки, Махно сделал небольшой привал и повернул к Дибривскому лесу.
Верст пять они ехали без всяких приключений, пока впереди не появились темные силуэты домов, похоже, немецкой колонии. Десять их было или двадцать — не разобрать. Тут этих поселений много. Завелись при Екатерине II и жили тихо, богато, дружили с соседями.
Внезапно затрещал винтовочный залп. Стреляли из огородов. Отряд ехал мимо и не собирался ввязываться. Но послышались стоны.
— Рас-средоточиться! — зычно скомандовал Вакула и первым, с гранатой, кинулся к нападавшим. Немцы дали еще залп. Вечером их предупредили, что в округе злобствует банда, может нагрянуть, и достаточно встретить ее пожестче, чтобы отпугнуть. Взрыв гранаты, однако, потряс колонистов, и они отступили к домам. Там, в сараях и погребах, были заготовлены амбразуры, и хотя ночью это не имело значения, но вселяло надежду на успешную оборону.
— Ваку-улу уби-или! — заорал кто-то, и вовсю матерились раненые.
— У кого спички? — позвал Нестор. — Спички давай!
К нему подбежали трое. Из колонии постреливали, явно для острастки.
— Что ты чиркаешь? Не зажигать! — рассердился Махно. — Мы не можем теперь уйти. Пал наш товарищ, пролита невинная кровь. Троян, ты где?
— Я тут.
— Бери этого хлопца со спичками, и бегом в конец колонии. Там необмолоченные снопы должны быть, сено, солома во дворах. Жгите! Рябко, а ты на другой конец. Тоже пускайте красного петуха. Мы пошумим, чтобы отвлечь. Роздайбида, ану чесани из пулемета.
— Там же дети, бабы! — подскочил к Нестору Лютый. — Пожарим же!
— А моя мать… не баба? Кто нашу хату спалил? А у брата Савелия не дети? А Вакула не отец?
Петр не нашел, что ответить. Вскоре немецкое поселение запылало. Все мужчины, кто пытался спастись бегством, были постреляны. Отряд собрался уезжать, и тогда в отблесках огня Махно увидел Вакулу. Тот лежал на подводе голый по пояс. Грудь была перевязана.
— Жив курилка! — обрадовался Нестор, и вместе с тем что-то нехорошее шевельнулось в его огрубевшем сердце. Кто же орал, что Вакула мертв? Какой провокатор? Или со страху?
— Еще не родился тот, кто меня кончит, — прохрипел сотский. — Дерзкая жила имеется, неистребимая!
— Ну, ну, не забывай, что пуля — дура. Держись, — и они поехали в темноте дальше, в сторону Юзовки, к Дибривскому лесу. На дороге попалось что-то белое, вроде привидения. Пригляделись — женщина с ребенком на руках.
— Какие же вы… ай, ой, ой! — стенала она, и похоже было, что это беженка из погорелой колонии. Одна. Ночью. В чистом поле!
— Надо взять, — Петр Лютый соскочил с лошади. — Подбросим до села.
У Нестора тоже екнуло сердце. Дикая степь, волки стаями шастают. И оставить? А где его ребенок? Не по их ли милости прибран?
— Садитесь на подводу, — предложил Петр незнакомке, взяв ее за локоть.
— С вами? Нет! Нет! — воскликнула женщина, освобождая руку. — Душегубы! Омэр-зительные! Нет!
— Простите, — сказал Лютый, и отряд поскакал дальше.
В Новопокровской волости появилась рота австро-германских войск, к которым присоединились немцы-поселяне, собственники. Вооружены пулеметами и винтовками, приезжают в каждое село и деревню, где собирают поголовно всех граждан, строят их в ряды, по указанию местных немецких колонистов-землевладельцев расстреливают, бьют нагайками без пощады, привязывают к бричкам и волокут по земле.
Газета «Мысль»— орган екатеринославского комитета правых эсеров.
19 апреля 1918 г.
Неширокая покойная речка Волчья открылась им в угасающем лунном свете. Давно перевалило за полночь, и не слышно было даже пустобрехих собак. С высокого берега отряд различал мост, за ним угадывалось село Больше-Михайловка, или Дибривка. Сразу потянуло на сон.
— Кому чин, кому блин, а кому и дубовый клин. Пошли! — предложил Фома Рябко.
— Может, разведку все же пустить? — заметил Пантелей Каретник.
— Кто местный? — спросил Махно.
Из темноты выступил широкоплечий молодец с впалыми щеками, словно давно голодал или болячка замучила.
— Я вроде.
Нестор приметил его еще в Гуляй-Поле: хваткий без увертки и на кавалерийской лошади сидит по-особому.
— Служил?
— Точно так. Прапорщик Петр Петренко.
— Слушай, а есть тут брод?
— А как же. Злодийскый. Недалече. Мелкий, и брюхо коня не замочим.
— Бери пару хлопцев и мотоните в село, разузнайте обстановку. Одна нога тут, другая там. До кумы пока не суйтесь!
Мужики заулыбались, хотя всех клонило ко сну. Трое живо поскакали. В той стороне взлайнула собака. Отряд насторожился. Но снова стало тихо, и кое-кто свалился на подводах, чтобы вздремнуть. Махно не будил их, пошел к кустам и сторожко прислушался. От речки тянуло уже осенним холодком. Запахло тысячелистником, что хрустнул под ногой. «Если ОНИ тут, то куда? — думалось. — Ну, куда? Не горюй, найдем. Родная ж земля».
Наконец трое опять перебрели Волчью, и Петренко доложил:
— Чисто! Ни австрийцев, ни варты. Трое суток никого. Поехали с Богом.
Осторожный Махно не велел, однако, ступать на мост, греметь среди ночи. Отряд вошел в село по Злодейскому броду. Оно оказалось большим. Пробрались на самую околицу, к лесу, и здесь у чьей-то хаты, которая в случае нападения защищала бы хоть с одной стороны, люди повалились прямо на улице. Прежде чем заснуть, Нестор определил часовых…
— Ой, сказка, а не конь! Дывысь, сэрэбряна узда. Ой! И пулемет. А вин стриляе? — услышал он во сне какие-то приятные, вроде бы из далекого детства голоса и с трудом раскрыл глаза. Среди спящих бегали мальчишки с удочками. Часовые их не трогали.
— Кто такие? — спросил Махно, поднимаясь. Рассвет разгорался во всю ширь неба и обещал теплый, ясный день.
— Мы тутэшни, — бодро отвечал старший мальчуган, черненький и курносый. — Окунив ловым.
— Кто вас послал?
— Сами захотилы. Чеснэ слово А вы, дядьку, нэ з отряда матроса?
К разговору уже прислушивались многие.
— Какого матроса?
— Ой, нэ знаетэ? Та дяди Фэди Щуся. Вин тут нэдалэко жывэ, а счас ховаеться з нашым батьком и сусидамы в лису.
— Не может быть, — Нестор небрежно махнул рукой и отвернулся.
— Ну вы, дядьку, як Хома! — возмутился мальчик. — Та кого угодно спытайтэ. Вси знають!
— Спасибо вам, ребята. Идите за окунями. Щусь, Щусь, как будто знакомый, а кто — убей не вспомню. Ты не подскажешь? — обратился Махно к Петру Петренко.
— Мы вместе по девкам бегали. Потом его в морячки забрили, и след простыл. Лет двадцать пять ему, как и мне.
— А-а, он же у нас в гуляйпольской гвардии был! — напомнил Алексей Харченко. — Еще отступали вместе, толкся на конференции анархистов в Таганроге. Красавчик такой, с красным бантом. Даже гром-баба Маруся Никифорова — и та заглядывалась!
— Верно. Славный малый и, видишь, не сидит сложа руки. Петя! — позвал Махно Лютого. — Ану возьми кого хочешь, и хоть из-под земли найдите Щуся. Стой! Напишу ему.
Взяв бумажку, гонцы ушли. Пока определяли дозорных на разные концы села, поили, кормили лошадей, готовили завтрак из кабанчика, выменянного на спички в ближайшей хате, — Лютый возвратился без матроса.
— Никому не верит, — доложил. — Пуганый воробей. Роздайбиду оставил заложником в блиндаже и требует тебя лично.
Нестор опустил голову. Ловушка? Что на уме у того Щуся? Если Брова — разбойник, чем этот лучше? Они же вместе, говорят, промышляли. Заносчивая, коварная матросня.
— Поехали! — настаивал Семен Каретник. — Вдруг что, я их сам размечу бомбами.
— Айда, — поддержал его Алексей Чубенко.
— Ну, добро. Вперед, и только!
Дорогу указывал Лютый. Поплутав по лесу, степняки наконец выбрались на поляну. Там вместо партизан… в аккуратном каре стояли австрийцы! Махно оторопел. Попались! И как глупо! Он мгновенно повернул коня, чтобы дать деру, и услышал:
— Товарищ Махно! Это я, Щусь! Вот ваш заложник!
Но тропе бежал улыбающийся Роздайбида, и у Нестора отлегло от сердца. Он спешился и пошел навстречу Щусю. Тот был в клеше и форменке, с пулеметной лентой через плечо, на боку сабля, наган, гранаты — вылитый броненосец! Никакого сомнения — давно знакомый красавец. Они обнялись и поцеловались.
— Здравствуйте, бойцы! — приветствовал Нестор отряд и лишь сейчас рассмотрел немецкую форму, и австрийскую, гайдамацкую, и крестьянские свитки, суконные серяки. Ответ был дружный, даже восторженный. Чувствовалось, что помощь ждали, были ей рады.
— Что ты, товарищ Щусь, делал до сих пор и что намерен предпринять? — спросил Махно нарочито громко, чтобы все слышали.
— Нападали на возвратившихся помещиков, уничтожали их, охранителей и солдат.
— Теперь послушай меня. Тут ты погибнешь, рано или поздно. Брось лес, выйди на простор, зови селян, особенно молодежь, в революционную бурю. Ринемся в открытый бой с палачами. Согласен?
Федор молчал, поглядывая на повстанцев. Тщеславный малый, он привык верховодить. А Махно не зря появился, первенство не уступит. «Эх, неохота идти в подчинение. Но силы-то будут о-го-го. Я и в большом отряде не потеряюсь. Или не стоит, а? Спрошу братишек», — решил Щусь.
— Слышите, что он предлагает?
— Слышим! — радостно донеслось в ответ.
Это развеяло сомнения. Федор схватил Нестора в объятия, поднял его и крикнул:
— Да, да! Пойдем с тобой!
Отряды объединились, и Махно нетерпеливо прикидывал, что теперь-то можно будет отправиться и в дальний рейд: по селам и хуторам Юзовки, Мариуполя…
— Обедать пора, — напомнил Гаврюха Троян.
— У тебя ж пузо!
— В молодости сорок вареников глотал, а счас еле-еле пятьдесят.
Тем временем на окраине села людей собралось изрядно. В отряд просились родственники тех, кого расстреляли австрийцы, бывшие фронтовики, что раньше колебались. Рядом толклись их жены, невесты, зеваки, дети. Махно радовался. Вот он, народ, и что пожелает, то и будем делать, а не по указке умников из Киева или Москвы. На улице уже не хватало места, и все не спеша пошли в центр.
— Голод не свой брат, — настойчивее напомнил Троян.
— Где у вас кулаки живут? — спросил Нестор селян.
— А нэдалэко. На тий вулыци.
— Тю, та ось жэ хата Лукьянэнка!
— Позовите. Пусть даст на суп теленка или овцу. На той улице тоже возьмите. Станут возражать — доложите. Лютый, чув? Организуй обед!
Пока они шли на церковную площадь, Федор Щусь легонько прикоснулся к плечу Нестора:
— Думаешь, почему земляки такие сознательные?
Что-что, но подобный вопрос Махно не ожидал от простодушного на вид красавца-матроса.
— Глянь сюда, — он достал из кармана измятую бумажку и начал читать: — «Крестьяне села Больше-Михайловки обязаны выдать для содержания экспедиционного батальона 160 арб сена и соломы, 15 возов картошки, 70 хлебов, 65 пудов сала, 35 курей, 5 кабанов, 6 фунтов чая, пуд табака, 3 пуда кислой капусты…»
— Постой, Федя. Сразу, что ли?
— Конечно. Это приказ. Недавно издан. Еще не все! Слушай дальше: «100 пудов пшена, 550 пшеницы и 800 ячменя». Земляки умоляли, дескать, раньше уже все забрали. Ах так! Приперли солдат, арестовали десять заложников, пулеметы установили и ну шастать по чердакам, погребам, клуням. Последнюю торбу отбирали. Кто раскроет рот — шомполами. Моих дружков — на акацию. А-а! — жарко выдохнул Щусь. — Потому и мы жалостью не балуемся.
Нестор взглянул на него попристальнее и приметил что-то звероватое в веселом оскале.
Да-а, — согласился он, подумывая, что скажет на митинге, который уже стихийно возник на церковной площади. Здесь по воскресеньям и торговали. Взобравшись на базарную стойку, Махно поднял руку. Люди притихли. Он начал говорить хрипловатым тенорком о поборах и жестокостях оккупантов, варты, о том, что нельзя дальше терпеть.
Кто стоял подальше, не слышали, подходили, напирали. Голос Нестора крепчал. Он упомянул о новой опасности: казаках с Дона, царских генералах, офицерах, что сбиваются в стаи, возможно, скоро тоже нагрянут и… увидел такое знакомое лицо, светлое, потерянное. Тина! Как она тут оказалась? Он еще что-то говорил, более страстно. Люди хлопали в ладоши, вскрикивали: «Слава! Нет пощады врагам! Нет!»
По окончании митинга Махно обступили со всех сторон, и он потерял Тину из виду. «Ладно, — подумал, — никуда она не денется. А убежит снова — тоже невелика потеря. Сейчас не до нежностей».
— Ты зря это — о беспощадности, о полчищах врагов, — внушал ему между тем Чубенко. — Политика — тонкая штука. Испугаются и завтра разбегутся.
— Так шумели же, одобряли.
— Не все, ух, далеко не все.
— Народец себе на уме, — подтвердил и Семен Каретник.
— Ничего вы не смыслите в политике. Я всегда буду говорить только правду, — возразил Нестор. — Ложь порождает новую ложь!
Отбирая бойцов в отряд, отвечая на разные вопросы, он нет-нет и вспоминал о девушке, так неожиданно исчезнувшей и вновь появившейся. У Махно даже мелькнула коварная догадка: «А не подсадная ли утка? Чья? Может, своего рода Фанни Каплан? Возьмет и запросто всадит ядовитую пулю! А? С кем черт не шутит? Вздор! Какая утка? Лавочник испугался и отправил дочь подальше от греха».
Прошла ночь, которую штаб провел в бывшем волостном правлении, а теперь совете. Нестор не искал Тину. Она тоже не появлялась. На следующий день опять митинговали, раздавали оружие, лечили раненых, рассылали сообщения о взятии Больше-Михайловки и призывы к восстанию. Австрийцы не показывались, скорее всего копили силы.
Поздним вечером, выпив самогона и закусив, Махно сидел в просторной пустой комнате за шершавым дубовым столом. Члены штаба разошлись по селу. С улицы доносились веселые голоса хлопцев, девичий смех, наяривала гармонь, и Нестор почувствовал себя удручающе одиноким. Ни хаты, ни жены (где та Настенька?), ни детей, как у всех, ни хозяйства — да ни хрена нет! Даже идейно близких. Вольдемар Антони, ретивый поклонник Заратустры, разгуливает по заграницам. В могиле неукротимый Саша Семенюта. В далекой Москве заседают, читают лекции о Льве Толстом теоретики-анархисты. Чтоб им тошно стало! Он попытался представить их, как видел.
Вот высоколобый Лева Черный ходит с книжечкой, записывает туда всякую обывательскую рухлядь. Большевички определили его комендантом двора. Не в Кремле, конечно, на самой заурядной улице. «Они такие нахалы, так навязчивы, — жаловался Черный, — что я не мог отказать». Интеллигентская тряпка, и, поди ж ты, автор «Ассоциационного Анархизма».
Вот Алексей Боровой. Ах, как говорит. Не то слово — поет! Какой у него кабинет-библиотека! А оставить у себя приезжего, предложить умыться с дальней дороги, просто присесть, попить чайку — извините, не удосужился. Может, побрезговал? Иуда Рощин — звезда среди молодых анархистов — опоздал на целый час, забыл, что дал слово выступить. Братцы, да разве с вами в бой ходить? На базар сбегать — и то нужно крепко подумать.
Ну и Аршинов — светлая голова, друг каторжный, секретарь союза идейной пропаганды анархизма. Но как же он сегодня далек, как все они оторваны от поля и станка! Сюда летите, буквоеды! Тут вовсю кипит жизнь и решается ваше и наше будущее. Э-эх, нет отзвука, нет.
Долго сидеть в одиночестве Нестор не мог, вышел на улицу.
— Проверю заставы, — сказал дежурившему у дверей Лютому и направился… на почту. Еще днем приметил, где она находится. В каменном доме уютно светилось окошко, и никого поблизости не было. Он постучал. Знакомый голосок с детскими интонациями спросил:
— Кто там?
— Это я, Тина. Я.
За дверью было тихо. «Испугалась, а может, и не она? — засомневался Нестор. — У них у всех в этом возрасте такие голосочки. Кроме Маруси Никифоровой. Та и родилась в галифе». Наконец стукнул крючок, и дверь растворилась. В сенцах стояла Тина. В белом платье! Ждала!
Ни слова не говоря, Махно вошел, властно обнял ее и крепко поцеловал. Девушка не сопротивлялась. Он закрыл дверь, увидел деревянный диванчик и задул лампу…
— Теперь ты — моя жена! — сказал, уходя. Тина измученно улыбалась.
Проверив посты, Нестор возвратился в бывшее волостное правление, лег прямо на шершавый дубовый стол, еще подумал: «Подарила-таки судьба мгновение» — и забылся.
Приснилось ему, что бредет по полю. Пшеница колосится. По ней и голубым василькам бегают муравьи. Жарко. Жаворонок заливается в небе. Вдруг сама по себе сорвалась с пояса сабля и брякнула в пыль. Он наклонился, чтобы поднять, а кто-то невидимый положил холодную руку ему на голову и говорит, говорит тихим голосом о чем-то светлом, высоком, наиважнейшем. Нестор чувствует это с благодарностью, и легко так стало, покойно, душа радуется, а слов, срамец, не может разобрать. Силится, прислушивается — нет, никак не уловить смысл. Ну, хоть пропади! Тоска охватила сердце, прямо глухая печаль камнем навалилась…
Громкий стук разбудил его.
— Австрияки! — крикнул Петр Лютый. Махно схватил оружие, выскочил на улицу. Темень. Стреляют. Откуда — не поймешь. Мечутся какие-то люди. Он поймал одного за руку.
— Откуда бьют?
— Из-за Волчьей. В ваш огород.
— У меня нет его!
— В этот же, правленческий. Кони там, раненые. Ужас!
Со всех концов села сбегаются повстанцы. Марченко и Щусь пытаются их построить. Ничего не получается. Многие впервые видят друг друга. Растерянно спрашивают:
— Та шо ж робыть? Шо?
Махно ворвался в толпу с наганом.
— Слушай сюда! — и выстрелил вверх. Это подействовало, но лишь на миг, и его следовало немедленно использовать. — Где члены штаба? А, вы здесь. Семен, лети на северную заставу. Помоги, разузнай, в чем дело. Марченко, бери бойцов, вот этих, и в огород. Выхватывайте из-под огня тачанки. Щусь, подавите чертов пулемет!
Сейчас главное было показать, что есть управление. Глупое или четкое — не имело значения. Иначе паника и гибель. Тачанки вытащили во двор. Возвратился Каретник.
— Первую атаку отбили, — доложил впопыхах. — Не проспали хлопцы, а то б всем крышка.
— Много их лезет?
— Бес знает.
— Что предлагаешь?
Семен понимал, что в этой неопределенной обстановке их отряду, где немало новичков, лучше отступить.
— Пока темно — в лес, — ответил он.
— В лес! — приказал Махно.
— В лес! В лис! — передавали друг другу повстанцы, направляясь к южной окраине села. Только теперь Нестор вспомнил о Тине и подъехал к почте.
— Это я, — позвал. Она тут же вышла. В белом платье, как игрушка.
— Сколько их у тебя? — спросил Махно, не слезая с лошади. — Быстро переоденься, возьми теплые вещи. Есть?
— Найду.
— Бросай всё, и поехали!
— Зачем?
— Австрийцы напали. Едем в лес. А там видно будет.
Девушка лишь начала привыкать, что все ее капризы выполняют, мечтала о любви, нежности, и вдруг такой тон. Она вздрогнула, повела плечиками. Нестор это заметил.
— Живо! — приказал. — Если хочешь быть со мной. Нет времени!
Тина повиновалась. Он усадил ее на первую попавшуюся подводу, предупредил бойцов:
— Кто тронет — голова с плеч. Это моя жена, — и ускакал вперед. Улицы были запружены крестьянами. В темноте они тоже шли к лесу, вскрикивали женщины, плакали дети. Махно слышал:
— Не покидайте нас! Эх вы — защитнички! Что удираете? — и ему было не по себе. В этих возгласах оживала древняя мольба славянок перед нашествием орды. Потому тут долго никто и не селился, кроме хитромудрых хозяев-зимовников. Веками кочевали скифы и сарматы, гунны, печенеги, половцы, и бежали женщины с детьми, умоляли защитить…
На скаку Махно увидел, как на опушке или рядом что-то загорелось. Слышна была частая пальба.
— Что там? — спросил он возвращавшихся.
— Засада! Не пройдешь!
— Дальше есть еще одни ворота в лес.
Он тоже повернул туда, дождался бойцов из отряда Щуся, разделил их.
— Будете бить вдоль ворот, чтобы упредить вражеский огонь, — приказал. — А вы — по тому берегу Волчьей.
Повстанцы дружно стреляли. Путь был свободен.
— Федор, пропускай в первую очередь обоз! — крикнул Махно Щусю, и словно в ответ раздался встречный залп. За этими воротами в лесу тоже была засада. Нестор оглянулся. Вот это да! Никого вокруг. Все, как зайцы, удрали, бросили одного, и пули свищут. Не долго думая, он тоже кинулся назад, к ближайшей хате. Положение казалось хуже некуда: окружены со всех сторон, люди в панике, и скоро рассвет!
От волнения Махно побежал по двору в кусты, снял штаны и чуть не свалился в глубокий овраг, что явно тянулся к лесу. Оправившись, Нестор закричал:
— Как мокрые куры… вашу мать! Самые смелые — ко мне! Роздайбида, выкатывай тачанку и через полчаса лупи вокруг ворот, пока там не стихнет. Понял? А вы — за мной!
Он прыгнул в овраг, поскользнулся и в клубах пыли еле удержался на ногах. За ним, ругаясь, посыпались остальные. Перебежками они достигли леса, углубились в него и, стреляя на ходу, кинулись к воротам. Из села доносился яростный стук «максима», и на головы наступающих падали ветки, срезанные пулями.
— Стой! Не палите! — Нестор прислушался. Умолк и «максим». В лесу была странная тишина, и на фоне бледного рассвета темнели ворота. Стояли привязанные лошади, ящики с патронами. Похоже, неприятель бежал.
— Мотай к нашим, — сказал Махно первому попавшемуся бойцу. — Передай: путь свободен!
Их собралось человек сто. После всех передряг женщины, дети, многие из новеньких, испугавшись, остались в селе. Члены штаба совещались на поляне.
– Скем воюем? — спрашивал Махно. — Захваченные лошади — помещичьи, может, варты. Австрийцев пока мы не видели.
— Надо выяснить. Послать разведку. Я готов, — согласился Пантелей Каретник. — Потом и в атаку.
Его поддержали Рябко, Вакула и Чубенко.
— Какая разведка, братва? День же. Схватят на первой улице. Унас одно спасение — неприступный блиндаж! — возразил Щусь. Он, скрепя сердце, согласился на объединение отрядов, чтобы их боялись. Но затевать резню в родном селе — это не входило в его планы. Не нравилось ему и то, что прибывшие все решали в своем кругу.
— Мы не суслики, — ехидно заметил Лютый.
— Чушь собачья! Куда денете раненых, суслики? — взорвался Федор. — А село, такое красивое, вам не жалко? Мне оно, если хотите знать, дороже всех революций!
— Ты говори, да не заговаривайся, — предупредил Семен Каретник.
Федор поджал губы, но опять не выдержал:
— Немчура считает нас дикарями. Не раз слышал: «Грязные славянские свиньи». Наши очаги для них… — он плюнул. — Подпалят Дибривку и глазом не моргнут. А тут мой дед родился и прадед. Поверьте, я не трус. Мы ибез. вас побеждали, и теперь возьмем свое. Но малой кровью, тихой сапой.
— Тогда пусть решат хлопцы! — нервно сказал Махно, направляясь к ним. — Слушайте, что делать? Прятаться в блиндаже или разведать противника и наступать. Как вы считаете?
Люди подходили поближе. Он повторил вопрос. Но Федор Щусь вдруг крикнул:
— Братва! За мной в блиндаж!
Бойцы из его отряда не посмели ослушаться, молча отделились и на подводах с ранеными скрылись за вековыми дубами, осокорями.
Лицо Нестора стало землисто-желтым. Свои бьют наотмашь! По какому праву? Он ценит толковое мнение. Хоть и не без упрямства, но меняет решение. Да в конце концов, для какого дьявола они здесь мыкаются? Ради свободы тружеников? А спесивый матрос на глазах повстанцев втаптывает в грязь саму анархическую идею вольной жизни. Герой, мать твою!
— Что… будем… делать? — еле сдерживаясь, спросил Махно. Гуляйпольцы сурово смотрели на него. Это внезапное разделение, почти предательство, больно хлестануло всех.
— Каков гусь! Пошел он на…! — не выдержал Петр Лютый.
— Спокойно, земляк, — охладил его пыл Алексей Марченко. — Предлагаю проверить первые ворота в лес. Если супостат еще там — побьем или словим «языка».
Так и поступили, но неприятель и оттуда ушел. Зато повстречался весь в саже, измученный крестьянин, чью хату ночью подожгли каратели, чтобы видеть бежавших в лес повстанцев.
— Много было бандитов? — спросил Махно.
— Около полуроты австрийцев и с десяток помещичьих и кулацких сынков.
— Толково. Ты же местный. Сходи, земляк, в разведку.
— Мне теперь что в разведку, что в контрразведку. Что нужно?
— Погляди, какие силы в Дибривке и где стоят. Ладно? Только сначала умойся, а то даже собаки будут шарахаться.
Мужики сдержанно заулыбались: хоть и клоун клоуном, а хата-то сгорела. Крестьянин ушел.
— Роздайбида, ты был в блиндаже и разряжен под стать Федору, — грубовато пошутил Нестор. — Сбегай еще к нему. Пусть возвращается. Попроси от моего имени.
Федор вскоре явился к воротам вместе с отрядом. Пришел и хозяин сгоревшей хаты, которому Махно особо доверял.
— Они расположились на церковной площади, — донес добровольный разведчик. — А штаб в бывшем волостном правлении. Ходят слухи, что еще прибудет австрийское подкрепление.
Это же подтвердили и крестьяне, снова набежавшие сюда.
— Ага, хотят окружить нас и уничтожить, — сказал Нестор.
— Ясное дело, — согласился Семен Каретник.
— Нужны мы им больно. Засядем в блиндаже — никто не сунется, — стоял на своем Щусь.
— Хорошо, а что дальше? — вставил слово и Алексей Марченко. — Волю, Федя, из зубов вырывают. Это вся история доказала!
Махно молча кивал, глядя на Тину, что сидела на подводе рядом с ранеными и вымученно улыбалась ему. Леймонский не узнал бы ее. В темном платочке и вязаной фуфайке, она казалась беженкой и была ею. Тина и сама не понимала, как, привыкшая к деликатному обращению, уюту, светлым нарядам, попала в этот жалкий, дикий обоз, что за сила занесла ее сюда. И почему она смирилась, улыбается, когда так хочется плакать?
На опушке леса шумели под ветром тополя, потемневшие от первых холодов, и пахло растоптанными груздями.
— Оккупанты не вечны — уйдут, — упорствовал Щусь. — Они нас уже боятся. А богатые тем более. Зачем кровь ручьями проливать? Повторяю, и село спасем от пожара. Как считаешь, Петренко?
Бывший одноклассник потупился: неохота перечить Нестору и родные хаты жалко. А что их сожгут, он не сомневался. Уже бывало. Крестьяне прислушивались к разговору и тоже заволновались. Махно понял: наступил решающий момент. Грудь в крестах или голова в кустах.
— Предлагаю сейчас же напасть на врага и разбить его! — заявил он.
По крупному миловидному липу Федора пробежала гримаса боли.
— Это безумие! — воскликнул он и даже хохотнул, настолько нелепым казался ему призыв Нестора. Мало того, что не хотят идти в лес — нападать вздумали!
Вперед вышел Петр Лютый и, подняв голову, продекламировал:
3ібралися гуляйпольці! По-над лісом тихо. Ой, жде когось біля церкви Великеє лихо.Щусь взял его за плечо и чуть ли не оттолкнул.
— Брось, хлопец! Еще стишков тут не хватало.
Махно вскочил на тачанку. Вокруг толпились повстанцы.
— Согласен с Федором. Это безумие! Никому, и прежде всего врагу, не придет такое в голову. Среди бела дня горсточка смельчаков навалится на батальон. Это же пол нашей победы!
Голос у Нестора глуховат, жесты рукой скупые, сам он невзрачен. Но такая энергия и страсть в его словах, что люди заволновались, и Федор Щусь сдался.
— Пошли с ними, братва! — сказал без колебаний. Морская душа его почитала пылкость вернейшим признаком правоты.
— Так просто крепости не берутся, — Махно понизил голос и сошел с тачанки. — Когда мы ударим по церковной площади, ты должен быть уже с другой стороны. Понял? Побегут они или нет — лупи вместе с нами. Видел, как мы на рассвете взяли ворота? Сколько тебе дать бойцов?
— Пол-отряда.
— Бери и вперед! — все это Нестор заранее продумал.
Пока они говорили, пожимали руки, Каретник, Марченко, Лютый, Чубенко отбирали желающих идти в атаку. Взяли с собой два ручных пулемета «Люйс» и цепью двинулись к центру Больше-Михайловки. Но не по улице, где их было бы издалека видно, а крадучись огородами.
Рядом находился базар, и торговые стойки были надежным укрытием. Перебравшись туда, они рассмотрели церковную площадь. Метрах в сорока от них сидели, лежали австрийцы, строем ходили вартовые. Охраны не было и в помине.
— Даже пулеметы в чехлах, — шепнул Фома Рябко Трояну.
— Огонь! — выдохнул Махно, и началось избиение. Видя, что солдаты заметались, повстанцы бросились на площадь и стреляли в упор. А с тыла, куда побежали атакуемые, их огнем же встретил Щусь, и они улепетывали, пытаясь вплавь одолеть речку Волчью. Но были покошены с крутого берега. Других настигали крестьяне и били вилами, лопатами. Третьих потом встречали даже у Гуляй-Поля без мундиров и шапок.
В этой панике и озлобленности сожгли девять хат: то ли убегавшие вартовые, то ли под шумок подлые соседи.
Пленных офицеров и гетманцев расстреляли вместе с той женщиной, что бежала их предупредить. Рядовых же австрийцев накормили, перевязали и, пригрозив, чтобы больше не попадались, отпустили.
Победа была полная. После нее, как водится, митинг, и тут впервые Нестор услышал в толпе приятно поразившее его выражение:
— Хай скажэ батько! — шумели селяне. — Батько Махно — давай!
Еще не сознавая этого, он становился героем, пока только героем, народным героем.
По старому, такому одинокому, чудом выжившему в голой степи Дибривскому лесу били пушки. Снаряды рвались где-то в глубине или с недолетом. Трещали, дрожали вековые дубы, ясени, дикие груши, осокори. Похоже было, что австрийцы принялись за повстанцев теперь уже по-настоящему.
Разведка донесла Нестору: на село наступает батальон пехоты при эскадроне кавалерии. Такие же силы идут к лесу. Кроме того, им на помощь подтягиваются отряды варты и добровольцев из богатых. Махно, однако, приказал занять оборону на опушке и был уверен, что устоит. Может, и врут разведчики? У страха глаза велики. Хотя Семен Каретник еще вчера предостерегал:
— Пора уходить, товарищи. Они не дремлют. Подтянут силы, окружат и влупят по самую ж…!
— Не пори горячку, — отвечал ему Петр Петренко. Прапорщик царской армии, получивший это звание за отчаянную смелость, он тоже был членом штаба. В селе жила его семья, и двое спокойных суток после победы вселяли добрую, хотя и слабую надежду, что все обойдется. Им дадут еще погулять на воле.
— Может, самим вжарить? — предложил Федор Щусь. Недавняя безумная атака вдохновила его. — А чего ждать? Они же недалеко. Пощекочем!
Он все надеялся отвести удар от родных Дибривок.
— Ишь ты, не успел выползти из блиндажа — уже кусается, — улыбнулся Лютый.
— А куда… уходить? — спросил Махно. Он мог бы прибавить: «Опять скитаться?», но промолчал. Проведя две чудные ночи с Тиной, не прочь был прихватить и третью. Вместе с тем понимал, что весть о позорном разгроме разнеслась далеко вокруг и не такие австрийцы воины, чтобы простить избиение. Они обязательно нагрянут, вот-вот. А тут понаехало столько крестьян из соседних сел и хуторов, просят оружие, добиваются приема в отряд. Бросить их на произвол судьбы, без боя казалось подлейшим делом.
— Ку-да? — переспросил Нестор резко. — Мы со всех сторон облеплены обездоленными. Кто и что их ждет? Это же целая орава!
Члены штаба притихли в смятении. Верили, что скоро вспыхнет восстание. Села ведь стонут! А иначе как же ИМ жить — отпетым негодяям и висельникам в глазах власти? Хоть пропади. Но на пламенные призывы, сообщения о взятии Гуляй-Поля, Дибривок никто не откликнулся. Молчали Бердянск, Мариуполь, Юзовка, Александровск. Так где же их ждут?
Ничего лучше не придумав, они остались в Больше-Михайловке, потом поспешно отступили, укрепились в лесу, где тылы прикрывала речка Волчья и ее приток — Каменка. Садилось солнце, и в косых лучах видно было, как бегут из села опоздавшие. Их ловят, избивают.
— Сволочи! Что творите? — кричат из своих засад повстанцы, но ничем не могут помочь. Лежа у комля вербы и целясь, Федор Щусь терзался думой: «Эх, зачем это затеяли? Ну зачем? Задирала Нестор виноват. Нестор!»
Опускались сумерки. Уже нельзя было различить ни крестьян, что бежали, ни австрийцев, и Махно занервничал: «Если навалятся в темноте — крышка!» Но спустя некоторое время вдруг странно посветлело. Зарево со стороны села расширялось, росло ввысь, и теперь все догадались с ужасом, что это… хаты жгут! Мстя за избиение, оккупанты уничтожают Дибривки. Они превращались в огромное огнище. Бойцы из отряда Щуся, он сам, Петр Петренко плакали, стреляя. Махно ходил среди них и до крови кусал губы. Вот оно как! Вот. Новая орда зверствует!
— Я ж тебе говорил… Говорил, что так будет! — подскочил к нему Федор, угрожающе размахивая растопыренной ладонью. В отблесках пожара крупное лицо его было мертвенно-бледным. На щеках темнели оспины.
— Поостынь! — взял Федора за плечо Роздайбида. Он постоянно находился рядом с Махно, вроде телохранителя. Невдалеке грохнуло. Разъяренный Щусь оглянулся… и закачался. Роздайбида подхватил его.
— На подводу, к раненым, — велел Нестор.
Между тем залпы австрийской батареи становились все прицельнее. Вздрагивала земля под ногами, выли осколки. Упал Лютый. Зацепило и Махно. Зажимая рану на руке, откуда сочилась кровь, он приказал Каретнику:
— Бери пяток мужиков с пулеметом и командуй отступление. Будете прикрывать отряд. Петренко, указывай путь!
Нестор забрался на тачанку, где уже примостилась Тина. Прибежал растерянный кучер.
— Роздайбиду в клочья! — прохрипел.
У Махно сжалось сердце. Как и Петр Лютый, это был вернейший друг. «Эх Роздай, Роздай, имени даже не знаю», — подумалось с тоской.
В лесу было довольно светло от пожара, и приставшие к отряду крестьяне увидели, что их покидают на произвол судьбы. Они в растерянности бросились к тачанке, облепили ее со всех сторон.
— Батько Махно, спаси нас!
— Заберите с собой! — причитали женщины.
Тина перевязывала Нестора. Что он мог ответить? Кривясь от боли, бессилия и еще чего-то неопределенногнетущего, говорил:
— Не падайте духом. Клянусь, мы вернемся! Поможем. Поможем.
Отряд перебрел речушку Каменку и по ее левому берегу направился в село Гавриловку. Противник не преследовал, гремел за лесом, где зарево становилось все более зловещим. Конная разведка донесла, что впереди австрийцев нет, но люди стоят на околице и в замешательстве смотрят на пожар, которого от роду не видели. Все-таки расстояние не шуточное — двенадцать верст, а греет небо. Не иначе, как конец света, полагают старики…
Ночью им попалось имение. Конная разведка, которой командовал Пантелей Каретник, оцепила его, расспросила батраков. Барин был дома. В отличие от других владельцев поместий, он после революции никуда не убегал. Землю, инвентарь раздал крестьянам и работал в поле вместе с ними. А вот при гетманщине искус не поборол: возвратил имущество.
— Наш пан непоганый, — тем не менее говорили мужики.
Когда об этом доложили Нестору, он мельком подумал, что барин-то редкий, может, даже совестливый и обижать его как-то не совсем с руки. Лучше бы не трогать. Какой пример был бы! Пусть и другие знают, что они не разбойники с большой дороги.
Тут послышались выстрелы, возгласы:
— Стой, падло! Стой!
Это секреты ловили бегущих из имения. Кто они — неизвестно. Может, и притаившиеся враги (потом оказалось — напуганная прислуга). Кроме того, люди обессилели, край нужен отдых, еда, и ни о каком милосердии нечего и заикаться. В который раз Махно почувствовал с раздражением, что обстоятельства сильнее его замыслов и желаний.
Барин встретил их на крыльце, с ружьем, но, приняв за своих, пригласил в освещенную залу. Сам же куда-то отлучился. Нестор снял шинель, погоны. Помещик увидел его и обомлел.
— Зовите всех сюда. Хочу предупредить кое о чем, — строго велел Махно, и высокий, в годах, лысоватый барин догадался с ужасом, что это же, вероятно, и есть те бандиты, о которых ходили столь зловещие слухи, а он лично пригласил их в дом!
— Вам нужны деньги? — он побелел, расставил трясущиеся руки. — Я дам. Дам! Умоляю — не убивайте! — и упал на колени. — Я не шел… против народа, — лепетал помещик. — Поверьте, если бы не сама власть… отобрала, я бы… никогда.
Вместе с Федором Щусем, что уже оправился от контузии, Нестор взял под руки хозяина, поднял его с колен. Тот плакал по-детски. Ну что ты с ним будешь делать? Погладить по лысине?
— Перестаньте, — сказал Махно. — Прошу вас. Зовите же своих людей.
Но барин раскис окончательно, и его усадили в кресло.
— Батько, брось возиться с ним! — грубо вмешался Петр Лютый. — Будь он в силе, дал бы тебе сапогом в лицо или прикладом по голове.
Нестор укоризненно взглянул на помощника, и тот умолк. Тут явилась барыня, тоже в годах, со следами былой симпатии на узком, нервном лице.
— Здравствуйте, незваные гости!
— Позовите слуг, — не обращая внимания на ее тон, весьма вызывающий, велел Махно. Она распорядилась, и дворовые мигом пришли.
— Не бойтесь и не волнуйтесь, — сказал он. — Только прошу: никуда из имения не отлучаться. Иначе всё сожжем, а убегающих уничтожим. Теперь освободите залу!
Он не мог и не хотел объяснять им, что отряд скрывается от врага.
— А мне скоро готовить завтрак барыне, — сообщила, посмеиваясь, молодка и озорно взглянула на Щуся. Она считала его главным. — Так что же, я не могу никуда пойти? Ни за молоком, ни за сметаной?
— Идите… отсюда! — прикрикнул на нее Нестор.
Когда прислуга с барином удалились, хозяйка и не подумала уходить, присела в кресло и спросила без тени смущения:
— А кто вы, собственно, такие, господа? — и ясно стало, что именно она здесь командует.
— Я Батько Махно.
— У вас, быть может, есть имя, отчество?
— Нестор Иванович.
— Очень приятно. А меня зовут Алевтина Валентиновна. Слушаю вас.
Махно валился с ног от усталости, болела рука, и Тина там ждет во дворе. Но помещица держалась столь корректно и уверенно, и еще что-то было в ней такое, что невозможно не отвечать.
— Мы враги богачей, гетмана Скоропадского и посадивших его на трон немецко-австрийских офицеров. А боремся за волю всех униженных и оскорбленных властью, которая строит тюрьмы, держит полицию и творит, что хочет, мадам. Много преступного вы делаете для тех, чьим потом и кровью пользуетесь, бездельничая.
— Позвольте, — перебила его хозяйка и продолжала наставительно: — Так было от веку. Кто-то работает в поле, кто-то руководит и следит за порядком. Хотя вы, вероятно, считаете это бездельем. А кто-то еще занимается наукой, искусством. Желаете это поломать?
Ей казалось нелепым, что эти простолюдины, отравленные гордыней и вседозволенностью, мечтают сами управлять, более того — хотят переделать Божий мир!
— Да, у нас будет свой, революционный порядок.
— Кстати, слышали, что гетман бежал в Германию?
— Нет, — удивился Махно.
— Значит, воюете с тенью. Куда же вы денете несогласных?
— Уберем в соответствии с волей народа, мадам.
— Ой-йо-йой! — испугалась Алевтина Валентиновна и даже ручками притворно замахала. Нестор разглядел на ее тонком носу синюю жалкую прожилочку.
— Вы не шутите? — спросила барыня.
— Отнюдь.
— Кровь станете возами возить. Вы что, Люцифер?
Махно улыбнулся.
— Ни в какого черта не верю.
— Простите, Нестор Иванович, это ваше личное дело. Но коль скоро намерены обездолить несогласных, распорядиться их будущим, то невольно на место Всевышнего претендуете. Он создал этот мир, и никому не подвластно менять его. Да, да! — она вскочила с кресла. — Сверхчеловеки! Заратустры!
«Треклятущая баба», — рассердился Нестор. В божественный промысел он не вникал, и что дано человеку, а что нет — его не волновало. Но эта высь, до которой поднялся их спор, была ему недоступна, раздражала, выводила из себя. Бежавший Вольдемар Антони тоже козырял Заратустрой. Что он им дался?
Алевтина Валентиновна, уходя, перекрестилась и еще спросила:
— Так вы, господа, своей честью заверяете, что наша жизнь останется неприкосновенной?
Чудная женская логика! Только что ей толковали о «воле народа» — нет, она опять о какой-то чести.
— Пока не возьмете в руки оружие, — предупредил Петр Лютый. — Немедленно сдайте его!
Махно вышел на улицу. Близился рассвет. Бойцы вповалку, мертвецки спали во дворе, другие свежевали к завтраку барского бычка.
— А Дибривки все горят, Батько, — сказал Петр Петренко с нескрываемой горечью. Нестор угрюмо кивнул и, не ответив, нашел Тину, и они отправились спать…
Разбудил его Пантелей Каретник.
— Мои разведчики немцев поймали. Из колонии Мариенталь. Допросишь?
Махно со сна не мог понять, зачем его потревожили. Болела рука, грудь, всё тело. Как-то нехорошо было, муторно.
— Все-таки немцы, — растолковывал Пантелей. — Мы же австрийцев отпускали.
— И этих гоните в шею!
— Да у них браунинг был. Возьми, послухай их, — не отставал Каретник.
Нестор нехотя согласился и вышел к ним в форме офицера.
— Почему разъезжаете с оружием, бандиты?
— Мы, наоборот, хотели побить их, этого Махно и Щуся!
— Удалось?
— Нет. Зато бунтарское село сожгли.
Нестор сорвал погоны со своих плеч.
— Вот кого вы ловили!
Это мгновенное превращение, означавшее верную смерть, потрясло немцев. Что же имеет ценность на дикой славянской земле? Кто тут прав, кто виноват? Не жизнь, а кошмарный бал сатаны! Не долго думая, колонисты упали на колени.
— Товарищ… Махно, мы… пойдем с вами. Будем служить! — взмолился один из них, продолжая вынужденный маскарад.
Нестор чуть не взвыл от безнадежности. «Ничтожества! Если бравые немцы, знающие себе цену, так легко падают, предают. Если барин… Где я живу? Какая воля?» Дальше не хотелось и думать. Он схватился за голову и выскочил во двор.
С рассветом над Больше-Михайловкой поднимались к небу черные клубы дыма. «Чем же мои хлопцы лучше? — лихорадочно пытался найти ответ Махно, переступая через спящих. — Вот этот или этот. Отрекутся от меня, от всего на свете. Ради чего же пожар? Ужасный дым! Кому, зачем?» Ответа не было. Нестор выхватил из кармана отобранный у колонистов браунинг, ощутил его холодное дуло у виска и нажал на курок. Осечка! «Если всё так ничтожно и бессмысленно: революция с пустыми надеждами, грабеж-дележ богатых и бутырская маята, Настенька с преданной любовью и бесприютная девочка Тина, и падающие на колени — зачем это? И ты тоже! Куда заведешь? Один дым. Всю Украину… спалить?»
Думать так было невыносимо, и слезы бежали по щекам Нестора. Тлен! Всё тлен. Ему померещилось, к к стрелял себя Саша Семенюта в доме, подожженном полицией. Желтые языки пламени. Как он жаждал добра бедным хлеборобам! И что же изменилось в Божьем мире после этого? «Мы загубили… за предательство… семеновского священника, самого слугу Его, — мерекал Махно, оказавшись уже под навесом, в углу, заплетенном паутиной, — и ничего с нами не случилось. Что же может измениться? Кому свобода? Этим сухим комахам? На коленях? А кто не падает? Где? На станции Дно? На острове Голодай?»
Мысли путались. «Эх, Василек, первенец мой. Кто унес чистейшего? По чьему… милосердному праву? Может ли оно… после этого… являться в наш поганый мир?» Нестор поцеловал браунинг, снова поднес к виску. Закрыл глаза — тьма. Тут она… и там. Осечка! Увертливое сознание шепнуло: «Нет разницы… где быть». Он ухватился за эту соломинку, вышел во двор.
Бойцы уже топтались у котла с завтраком, потирали руки. Кто-то хохотал. А за ними, над крышами и деревьями, разгорался новый день. Махно смотрел вокруг и ничего не признавал. Вроде всё это было давным-давно. И вот опять. Хлопцы, потирающие руки, котел, дым, утро — не настоящие, повторные, чужие.
Он покусал нижнюю губу, присел на обрубок акации. «Если так, — думалось, — то и я — не я. Глупость!» Дрожь во всем теле утихла, но холод, что проник в сердце еще в камере смертников, не рассеивался, словно бы его поддували. «Ладно, — сказал себе Махно. — Хватит комедий. Всё! Иди!»
Уходя подальше от Дибривского леса, отряд направился в греческое село Комарь. Варта оттуда загодя сбежала. Созвали митинг, однако крестьяне отмалчивались. «Кто сегодня не сулит золотых гор? И куда оно всё ниже клонится?» — вздыхали бабы с мужиками. К повстанцам присоединились только два бедовых хлопца. То же повторилось в татарском селе Богатырь и в еще одном греческом — Большом Янисоле.
— Крысы подпольные, — тихо говорил Нестор Семену Каретнику. — Их жмут, а они прячутся, пока жареный петух не клюнет в самую ж…!
Дальше ехали вдоль притока Волчьей с редким названием Мокрые Ялы. Издали приметили крылья ветряной мельницы.
— Это Времьевка, — определил Петр Петренко, скупо улыбаясь. — Богатенько ютятся, да и пашут как черти. Здешний злыдень в России за кулака сойдет. Невеста у меня была отсюда. Глаза — вишанки!
— Звали как? — заинтересовался Махно.
— Аня.
— Приятное имя. Тут сейчас?
— Кто знает. Сколько воды утекло в Мокрых Ялах. Замужем, видать.
— Так. Разыщи. Если жива-здорова, у нее и поужинаем.
После митинга Петренко подошел к Батьке.
— Ждут.
— Кто? — не понял Нестор. Выступая, он забывал житейские мелочи.
— Да Аня же с семьей. Знакомьтесь.
Рядом стоял худой и загорелый до черноты мужичок, протянул ладонь:
— Михаил.
Батько поглядел на него оценивающе. Вроде надежный и по калибру подходящ. Длинные да толстые симпатии обычно не вызывали. Спросил:
— Дети есть?
— А як же. Трое, и тоже все на «мы»: Митрий, Микита и Миколай.
— Остряк! — хохотнул Нестор. — Веди в свою хату. Лютый! Ужин варят?
— Давно, Батько.
— Проследи. Потом к нам.
В хибарке Михаила было тесновато для членов штаба, но кое-как разместились за низким столом. Аня, тоже маленькая, худенькая, с глазами действительно как спелые вишни, быстро носила хлеб, кружки, ложки. Петренко поглядывал на нее искоса, с сожалением. Эх, утекла любовь, а ягодки все-таки остались, не сохнут, милые.
Налили борща, самогону. Еще подошли мужики, завязалась беседа.
— Тут такое дело, — осмелев, сказал Михаил и пыхнул самосадом. — Бачылы мельницы? У нас есть и маслобойни. Революция отхватила их у хозяев и поднесла нам. Хорошо! Где ни возьмись — немчура и варта. Забрали опять и лупят за помол деньгу крутую. А куда денешься? Семечек, зерна подсобрали. Як бы, Батько, того… назад воротить?
В хате притихли. Только сало шкворчало на сковороде. Ясно было, что для мужиков это больной вопрос.
— Нет ничего проще, — ответил Нестор, смачно закусывая. — Считайте, с данного момента мельницы и маслобойни уже ваши!
Крестьяне, однако, радости не выказывали.
— Что, не отдадут толстопузые?
— Не-е, вы ж поймите, Батько, отдать-то они пожалуйста. А як потом?
— Когда мы уйдем, что ли? Вы прямо режьте, прямо!
— Вот именно. Як же потом? — смуглое лицо Михаила было печальным, зеленые глаза сощурились. Он всё пыхал самосадом.
— Я же решил, — строго напомнил Нестор. — Мельницы и маслобойни уже ваши!
— А вы им это скажите. Им!
— Кому? А-а, чего проще. Зовите сюда захребетников. Немедленно!
Через некоторое время в маломерных дверях показался краснощекий молодец и с достоинством, слегка поклонился.
— Где остальные? — неприязненно спросил Махно.
Гость протиснулся поближе.
— Прошу прощения, тесновато у вас. Может, на мельницу заглянете? Всех приглашаем, — он с сомнением почесал за ухом. — Там есть на что поглядеть!
Нестор вспомнил первобытную крупорушку, которую с трудом вертел у Трояна. Захотелось увидеть настоящую технику, и он велел:
— Петя, ану сбегайте с Гаврюхой да осторожно всё проверьте там.
— Может, не надо, — попросила Тина, что тоже сидела за столом, но хозяйке не помогала.
— Боишься, — усмехнулся Нестор. Всем она хороша для него, а в отряде и здесь вот чужая и, похоже, никогда не будет своей: к уюту приспособлена, к шелковому гнездышку.
— Публика-то коварная. Беспокоюсь, милый.
Он обнял ее за плечи.
— Со мной тебе сам Люцифер не страшен!
Троян с Лютым и краснощеким молодцем ушли.
— И вы б не бегали. Припомнят, а у нас же трое, — подала голос Аня, глядя не на мужа — на Петра Петренко с болью и сожалением. Какой кавалер был, богатырь и умница. Даже эти разбойники прислушиваются к нему. Ах, не суженый!
— Всегда так! — возмутился Михаил, перехватив взгляд жены. — Нужда загрызает — ты виноват. Не лезешь из кожи вон. А чуть поднимешь хвост — дергают: сиди и не рыпайся. Та як же ее, ту справедливость, достанешь со связанными руками? — он вскочил. — Пошли!
Попив компота из вишен, шелковиц, абрикос и поблагодарив хозяйку, они направились к мельнице.
На улице было по-осеннему холодно, пахло прелью палых листьев и тянуло свежестью с Мокрых Ялов.
— Чуете, чуете? — подняв палец, как-то даже восторженно вопрошал краснощекий, что встретил их у ветряной мельницы с группой хозяев. В сумерках большие крылья ее тихо вращались.
— Ни одного скрипа, ни стука. Прислушайтесь! — торжественно взывал умелец. — Она живая! Мы с братьями и отцом душу в нее вдохнули. А сколько сил, денег вбухали! Кто считал? Голые и босые остались. Помните?
— Так. Так, — подтвердили мужики.
— Теперь что ж она, без меня? Осиротеет, зачахнет, родная, — словно и впрямь о живом существе говорил с горечью умелец. — Заходите с Богом.
Он открыл дверь, изукрашенную полированными фи-' гурками. Внутри горело несколько семилинейных ламп и тоже чувствовалась рука мастера. Пол, стены, потолок были «расписаны» разными сортами акации, клена, дуба, бука. Налет муки вытерли, текстура древесины играла, и Нестор даже головой покачал. Это не крупорушка — прямо храм какой-то, Василий Блаженный! Вот тебе и Времьевка. Кто б мог подумать?
— Но ты же хмырь! Шкуры, небось, сдираешь с односельчан? — сказал мельнику Петр Лютый.
— А кто считал наши убытки? — обиделся краснощекий. — Шестерня полетела. Где взять? Да ни за какие деньги сейчас не купишь…
— Погоди, Ванёк, — степенно обратился к нему другой хозяин, постарше, с окладистой бородой. — Мы не против того, чтобы отдать все это людям. Будь ласка. Но кто его будет содержать?
— Мы! — запальчиво отрубил Михаил, шевеля протабаченными усиками. — Миром поддержим и не хуже вас, Петрович!
— Он прав, — вмешался Алексей Марченко. — Гуртом ловко и батьку бить.
Намек был явно неуместен, и все сделали вид, что не заметили его.
— Вот именно. Один кует, другой дует, и никто не ведает, что будет, — упрямился краснощекий Ванёк. — Общее оно все равно, что чужое.
— Тогда ни нам ни вам! — подскочил к нему Михаил. — Давайте, Батько, взорвем к чертовой матери все мельницы и маслобойни. Вот это будет по-справедливости!
— Муку где возьмешь для грызунов? — не выдержал Семен Каретник. Прислушиваясь к их спору, Нестор спросил себя: «Кто же здесь господа? Кого прищучивать? Краснощекого умельца? Глупо. Ишь ты, куда оно заворачивает. Не так всё просто, и нищий не всегда прав. Занятно».
Тогда снова степенно заговорил Петрович, обращаясь к Махно:
— Ежели уничтожить или закрыть — кому польза? Отдать же людям, повторяю, будь ласка. Но появятся гетманцы. Опять нервотрепка. Давайте положим умеренную оплату. Налог-то… не берут.
Он жалко лукавил. Война доила их четыре года. Какие налоги? Поборы! Сейчас же стало и совсем невмоготу. А лазейку-то надо искать, хоть завалящую, хоть ужом чтоб проползти, обдирая кожу.
Пока они препирались, Нестор не проронил ни слова, хотел выслушать всех. Теперь наступил его черед.
— Прав… Петрович, — веско подвел он итог. — Но глядите, хозяева: нарушите зарок — будете трепыхаться на крыльях своих мельниц. И Только!
Тихой ночью Петя Лютый сочинил и записал в тетрадь такой стих:
ВЕСНА Деревья и кусты тоже кричат, словно родихи. Их твердую кору прокалывают нежные почки новой листвы. А мы этого не слышим и радуемся.Генриху Гизо век бы не видеть ту фотокарточку. Пусть бы себе висела на глиняной стене в ажурной деревянной рамке с другими плебейскими реликвиями! Нет, рука сама потянулась, вроде ее кто-то подталкивал. Уж больно бравый матрос был изображен на той карточке: славянский светлоглазый тип озорно глядел из-под небрежно зачесанного чуба. Он давно сидел со своей шайкой в Дибривском лесу, совершая дерзкие набеги. Теперь с другими разбойниками снюхался. Мать его, молоденькую жену допрашивали тут же, в хате. Они клялись, что не знают, где он и когда возвратится. Гизо и подумал: «Возьму портрет — найдем мазурика». Снял карточку и спрятал в карман. Банда ускользнула. Они ее преследовали, потом разъехались по имениям.
Генрих гордился своим родом. Его прадед более века тому бежал из мятежной Франции и оказался на юге России. Это в их семье помнили, передавали из поколения в поколение. Екатерина II приютила тогда многих аристократов. Ришелье даже был пожалован в губернаторы новых земель Тавриды, правда, ненадолго. Во всяком случае так гласила легенда. А прадеду подарили голые тогда поля на восток от Днепра. С тех пор и осели здесь Гизо.
Но Генрих помнил и более ранние деяния своих предков. Не кто иной — тезка его, герцог, возглавлял резню гугенотов католиками, известную Варфоломеевскую ночь. Отец предостерегал: «Приятно сознавать, что твой род велик, соперничал с самим королем Франции. Но и грехи длинных ножей, Генрих, не проходят даром. Лучше молчи. Молчи!»
К тому же приспели смутные времена. Война прошумела мимо, Гизо был стар для окопов. Однако, где ни возьмись, какая-то советская власть объявилась, дурно понятое равенство: не гражданина перед законом, а материальное. Поместья стали отбирать, землю, дарованную навечно. И надо же такому случиться, воистину ирония судьбы — пришли австрийцы, с которыми воевали, и все возвратили хозяевам. Казалось бы, живи себе и дальше в благодатной степи и радуйся. Нет же, банды какие-то появились, арендаторы отказываются платить, прислуга косится. Прямо девяносто третий год. Так, глядишь, и гильотину изобретут на свой, славянский лад. Хоть убегай! Но куда? Домой, в забытую Францию?
— Зачем, Генрих? Успокойся, — говорил ему сосед, тоже помещик Маркусов. Они вместе возвратились из Больше-Михайловки, поужинали, выпили доброго вина и вышли в сад проветриться. В ночной тишине с голых ветвей срывались холодные капли, шлепались на шляпы, на палые листья. От этих глухих, словно потусторонних звуков становилось еще тоскливее на душе.
— Нас всегда защитят! Да и мы не лыком шиты, — убеждал соседа Маркусов. Лица его Гизо не видел, лишь ощущал теплый пар изо рта собеседника. — Вон сколько этих австрийцев кругом. Они прекрасно вооружены. А дисциплина…
В сырости и темноте послышались неясные, чавкающие звуки, вроде кто-то подъехал, или показалось. Но нет, действительно уже стучали в ворота, и собаки залаяли. Гизо с Маркусовым достали револьверы, пошли к ограде.
— Эй, кто там шебуршит? Отворяй! — донесся грубый голос.
— Что надо? — спросил Гизо.
— Не вздумай бабахнуть, — предупредили с улицы. — Нас много.
Как бы подтверждая это, заржали лошади. Они чуяли тепло, корм.
— Спустите собак, — шепотом посоветовал Маркусов. — Потом откроем.
Гизо ушел.
— Эй, за забором! Дождетесь, что сами ворвемся. Хуже будет! — угрожали неизвестные. Маркусов был не робкого десятка. Вернулся с фронта майором, хорошо владел стрелковым оружием, но сейчас призадумался: «Сколько их там, бандитов, и что мы вдвоем можем сделать?»
Род Маркусова тоже известен в этих краях. Его предок — Эммануил Марк приехал сюда вместе с прадедом Гизо, но, в отличие от француза, купил землю, и не где-нибудь — в самом тороватом, историческом месте, называемом Павло-Кичкас. Именно здесь переплывали Днепр скифы, греки, татарские орды, теперь же стоит ажурный Кичкасский мост, а возле него балка Маркусова. Так перевирали их фамилию местные дядьки. Оно и к лучшему, звучит вполне по-русски.
Прибежали узкоголовые борзые, стали радостно тыкаться влажными носами в руки, ноги. Появился и Генрих в сопровождении арендаторов, прислуги, открыл ворота. Конные въехали, трое спешились. Один спросил нагло:
— Кто тут главный?
— Я. Гизо. Это мое поместье.
— Убери собак. Эй, Грыцько, скакай до батька, доложи, шо пиймалы якогось Гизо чи Пузо. Живо!
— Как это понимать? — возмутился хозяин. С ним никто и никогда не позволял себе такого тона.
— А счас узнаешь. Если в имении засада — прикончим всех на месте!
Гизо сжимал в кармане холодную рукоять револьвера, прикидывал: «Пострелять нахалов и быстро убрать. Но один уехал. Приведет шайку. А в доме жена, внуки. Нет. Нельзя рисковать. Посмотрим». Не озывался и Маркусов.
Вскоре послышался топот, окрики. Ни о чем не спрашивая и не боясь, в ворота въезжали верховые, за ними рессорные дрожки, подводы. При виде их собаки притихли, жались к ногам хозяина. Он похолодел: «Да их не шайка — эскадрон с обозом!»
— Все постройки проверить! — приказывал кто-то невидимый. — Помещика сюда. Лампу давайте!
— Ось воны, Батько. Ждуть, голубочкы, — тот, что прибыл первым, толкнул Гизо и Маркусова к рессорной бричке. Она подкатила к крыльцу. Вынесли две лампы. Теперь Генрих рассмотрел, что командует небольшой мужичок. Он взошел на ступеньки. Другие шумно спрыгивали с коней.
— Обыскать! — велел мужичок.
Помещиков облапили, отобрали револьверы.
— А у этого какая-то бумага. Не-е, фотка! — обрадовался погорелец-разведчик. — Дывысь, Батько!
Карточку поднесли к лампе.
— Да это же Щусь! — воскликнул тот, которого называли «батько». — Находка так находка. Федор, ану марш сюда!
Гизо чуть не вскрикнул. В желтом свете лампы он узнал того матроса, «славянский тип», что был изображен на фотографии.
— Где взял? — подступил к помещику Щусь. Из-под шапки у него выбивался буйный чуб.
— Подарили близкие знакомые вашего отца.
— Врешь, гад! Она единственная и висела у моей матери!
— Простите, — Гизо покаянно наклонил голову. — Я был в Дибривках, в доме вашей матери. Зная вас как бесстрашного партизана, решил снять со стены на память.
— Постой, так ты находился там во время боя? — заинтересовался Махно.
— Хай расскажет. Послухаем, — в один голос потребовали Марченко и Лютый. Им, а также хлопцам из Дибровок не терпелось узнать подробности сожжения села. Они как раз и направлялись туда с этой целью, да по пути попалось имение Гизо. Чистая, как говорится, случайность.
Но послушать не удалось. Федор Щусь набросился на помещика, ударил его в лицо, пытался повалить. Гизо с трудом вырвался и и кинулся прочь, чувствуя, что это — конец. Расплата. За ту далекую Варфоломеевскую ночь. Его поймали, принялись бить, но выручили борзые. Они стали рвать преследователей. Кто-то выстрелил. Собака жалобно взвыла. Помещик юркнул в амбар, на лестницу. Его схватили за ноги, сопя стащили. Он опять увернулся, завопил:
— Я мирный француз! Не сбейте! По какому праву?
В этой жуткой украинской ночи, однако, никто никакого права не признавал. Озверевшие люди и собаки, рыча, гонялись за беспомощным хозяином. Одни стремились его поймать, другие — спасти. В погоню включились и те, кто здесь жил, арендовал землю. Они надеялись на лакомый кус, когда будут делить имение.
А Генрих не сдавался, прятался. Его снова находили. Он удирал, и казалось, что этой травле не будет конца. Махно не выдержал, выхватил шашку:
— Стой!
Этот подлый гон коробил его. Рядом переминались Маркусов, Лютый, члены штаба. Гизо, задыхаясь, бежал мимо. Он уже ни на что не надеялся и, на свою беду, не остановился. Шашка зацепила его по затылку, и Генрих упал. Разъяренный Щусь схватил его, приподнял и спросил Батьку:
— Что?
Для помещика это был последий шанс. Теряя силы, он закричал. Ему казалось, невыносимо громко. На самом деле голос уже пропал.
— Никакой пощады! — требовали дибривские повстанцы.
Нестор взглянул на Марченко, Каретника, Чубенко. Никто не проронил ни слова, и участь Генриха Гизо была решена.
Маркусова, который не вмешивался, отпустили с миром.
После такого тарарама ночевать в имении не стали, нашли хутор поглуше. Быстро разместились кто где. Нестор с Тиной спали на сеновале. Утром, когда позавтракали, она принялась перевязывать ему руку. Пустяковая рана не заживала, беспокоила. Конюх, что пришел за сеном, спросил:
— Помбчь?
— А ты что, доктор? — усмехнулась Тина.
— Не-е. Зато у нас тут ведун имеется. Рожденый.
— Какой? — хмуро поинтересовался Нестор.
— Они встречаются двух сортов: деланые и рожденью, как и ведьмы, — охотно объяснял конюх, опираясь на вилы. — Хотя настоящий ведун, понятно, рожденый. От природы, значит. Мне вот этого ярчука подарил.
Тина теперь заметила, что у ног мужика стоит большой серый пес. Глаза его злобно поблескивали. А из-за широких амбарных ворот выглядывал Петр Лютый. Он не доверял тем, кто ходит около Батьки с вилами и собакой, пусть и простой крестьянин. Мало ли что у него на уме. Петр сжимал в кармане браунинг.
— Помесь волка с собакой — ярчук надежнее любого друга, даже и любимой жены, — убежденно сказал конюх. — Дедулька наш, ведун, и с травками крепко знается. Ранку твою в два счета примнет. Позвать?
Он хотел угодить атаману и не скрывал этого. Тина взглянула на Нестора. Тот покусывал губы.
— Не сомневайтесь. Он вас не побоится. Ссамим лешим боролся в обхват.
— Ну, и кто кого? — не выдержал, усмехнулся Махно.
— А никто никого. Наши в одночасье косили в Дибривском лесу. Вдруг ка-ак засвищет, ка-ак повеет. Аж дубы поклонились, и огонь полосой, полосой хлещет, и оттуда вопль грозный: «Гэ-эй! Гэ-эй!» Дед Панас, ведун значит, один не наложил в штаны, кинулся в огонь… — конюх судорожно глотнул.
— Продолжай, — попросила Тина, прикрывая Нестора кожухом. Было довольно прохладно, хотя сквозь щели уже пробивалось осеннее солнце.
— Леший его как сграбастал, ка-ак крутанул… — рассказчик поднял вилы и вертел ими. Лютый оторопел: бежать на помощь, стрелять? Но конюх опустил их. наконец, и продолжал с почтением: — Не тут-то было. Дедок наш тоже не подарок, и покатились они пламенным колесом в чащобу. До самой высокой зари борюкались. А потом Панас…
— Ладно, зови его, — согласился Махно.
Взяв добрый навильник сена, конюх ушел. Появился Щусь, доложил обстановку. Пока всё было тихо.
— Надо ж в Дибривки сбегать, — напомнил Федор. Ему не терпелось увидеть жену молодую, мать, хату: сгорела или уцелела случайно? Чем можно помочь? Как там соседи? Да и хлопцы рвутся домой.
— Всем идти опасно, — заметил Нестор. — Вдруг засада. Давай-ка, наверно, так. Собери только земляков.
Щусь согласился. Зашли Семен Каретник и Петренко. Разговаривая с ними, Махно увидел высокого и совсем не сгорбленного деда, который тихонько приблизился.
— Здоров! — сказал он как будто даже чуть насмешливо. Каретник и Петренко недовольно оглянулись. Они уже начали привыкать, что их беседы с Батькой не прерывают.
— Звал? — так же независимо уточнил дед Панас.
— Проверьте рану, пожалуйста, — попросила Тина.
Члены штаба поняли, что это лекарь и не стали мешать. Дед добыл из кармана тряпочку с толченым цветом тысячелистника, ноготков и центурии, посыпал на рану и пошептал. Тина принялась перевязывать.
— Ярчука где взял? — поинтересовался Нестор.
— В яме вырастил. Рядовой щенок был, — старик опустился на сено, смотрел пронзительно-испытывающе. Махно стало неуютно от его холодного, какого-то потустороннего внимания.
— Ты ведь, малый, там тоже до-олгонько сидел, унюхал, каково оно, — продолжал ведун. — А для человека это еще хуже оборачивается. Меня… не проведешь!
Нестор заерзал на сене. Тина тоже беспокойно отодвинулась от деда, ждала, что милый взорвется. Она уже всякого насмотрелась. Но он почему-то больше не шелохнулся, хотя ясно было, что причислен к волкам.
— Вижу камень-гранит на сердце твоем. Далеко-далеко отсюда, — говорил Панас доверительно. — Желаешь людям добра большого, которого они, сирые, не просят. А потому когда получат — не оценят, неблагодарные. Плата за самонадеянность извечно тяже-еленькая! Ох, намаешься, бедовый. За то жена принесет тебе… не радуйся… девочку.
— Эта? — не сразу спросил Нестор, тоже негромко, с хрипотцой. Ведун перевел свой липучий взгляд на Тину, и она съежилась от холода.
— Не-ет. Эта… временно. На ее счастье.
— Как понимать прикажешь?
— А за все, что сотворишь — не успеешь ответить. Ты уже заклят. Ни одна пуля, ни сабля тебя не возьмет. Рядом свистать будут, до крови бить будут, а не доконают.
— Правда, — согласился Нестор покорно, и Тине стало не по себе от их знахарского сговора.
— Понесут кару за всё другие, даже кто не вылупился. Неласковое солнце светит им, бедовый.
— Чьи… другие?
— Твои, малый, твои. Мои тоже.
— А если я тебя, ярчуковое отродье, сейчас пристрелю? — так же тихо, но с закипавшей яростью спросил Махно. В саду, за стеной, зазвенела синица.
— Воля твоя. Мне давно уже пора туда, — спокойно отвечал ведун. Его непоказное величие поразило Нестора. Столько вокруг мерзкой мелюзги шныряет, падает на колени, предает, заискивает. Одно слово — грязь! Уже и не верилось, что среди земляков может встретиться вот такое. Сам князь Кропоткин не произвел на него большего впечатления. Петр Алексеевич мудр и ласков, желал свободы и побед. А этот Панас с опущенными белыми усами и гордой сухой головой словно выпрыгнул из плавней Запорожской Сечи, напророчил всякого бесовского мрака и не сожалеет, характерник (Прим. ред. — Так называли здесь вещих атаманов).
Втайне, боясь признаться даже самому себе, Нестор предчувствовал почти все, о чем поведал этот пакостный гость. И то, что он, первый из людей, так глубоко заглянул в его душу и высказал запретное, да не с глазу на глаз — было для Махно хуже любого преступления. И тем не менее он не смел наказать чародея. В нем таилось нечто родное, очень редкое и потому неприкасаемое.
— Я тебе сообщил, — продолжал дед Панас бесстрастно. — А помру сегодня или завтра — нет разницы. В твоей ничем не остановимой маете, малый, это все равно ничего не изменит.
Он поднялся, прибавил:
— Ранка засохнет, — и не прощаясь, так же бодро, независимо пошел себе.
Поглядеть на родные хаты, сожженные или уцелевшие, вызвалось человек пятьдесят. Выскочив на горку, они в недоумении остановились. Да где же Дибривки?
Моросил мелкий дождь. Темное осеннее поле спускалось вниз к Волчьей. Конечно, к ней, а то куда ж еще. Но речки тоже не было. Она не блестела под сумрачным небом, скорее всего пряталась в кустах, крутых берегах. Зато вон же церковь стоит! И лес темнеет… точно… справа. Куда же подевались рядки веселых белых хат? Ну никак невозможно было поверить, что их просто нет. Что-то же светлеет все-таки.
— Вперед! — пришпоривая коня, сказал Махно. Не из праздного любопытства, не для того только, чтобы дать бойцам посмотреть на свои опоганенные очаги, уронить слезу, встретиться с родными и помочь им, отправился он в эту рискованную поездку. Нет. Вместе с Марченко и Семеном Каретником они сообразили, что сожжение села — печальный, тяжелый, но и красноречивый факт для пропаганды. Вон какие зверства творят враги простого народа! Пусть повстанцы своими глазами увидят несчастные Дибривки, а потом будут рассказывать. Пусть!
Внизу дождь прекратился. Издали то здесь, то там среди черных стен стали заметны уцелевшие хаты. Но ни одной живой души. Мертво. Федор Щусь, его соседи молча, потерянно приглядывались через речку к пожарищу. И это их родимое гнездо? Где они бегали босиком по мягкому спорышу, играли в жмурки, пасли коров на солнечных полянах? Да не может быть! Раньше, говорили старики, татары жгли села. Но когда то случалось, Господи!
Конь переминался с ноги на ногу, чуть покачивая Федора, и, не желая того, он мельком вспомнил палубу эсминца «Верного», блестящие медные поручни, рядом с ними офицера со связанными руками. «Давай, чего ждешь?» — кричал Брова, что был за старшего. Щусь должен столкнуть арестанта за борт, в ледяную воду. Тот не просил о пощаде, не ругался и не сопротивлялся, лишь проговорил: «Попомнишь, братишка». Когда летел вниз, тоже слышалось: «Попомнишь!» Из стального брюха эсминца доносились тяжелые шаги. Брова выталкивал на палубу уже нового обреченного, а Федор всё слышал:
«Попомнишь». Вот оно. Мстят мертвые даже, подлюги! Щусь поежился беспомощно. Слезы капали на холку коня.
— Батько, ты… бачыш, шо сделано? — спросил он, всхлипывая, и склонился к луке седла. Плакали все вокруг. Нестору тоже было жалко Больше-Михайловку. Но что теперь? Корить себя, что затеял все это? Каяться? Опять дуло к виску? Не-ет!
— Повод! — вскрикнул он и поскакал. За ним отправились остальные к хатам, что кучкой ютились по эту сторону Волчьей. Встретился пожилой мужик.
— Солдат не видели? — обратился к нему Махно.
— Не-е.
— А хата целая?
Встречный показал на черные стены.
— Ось вона, — и смотрел явно недружелюбно. Ему хотелось взвыть от боли: «Шляются тут всякие! Вам революция, свобода чи вильна Украйина. Мэни як жыть? Семью куда? Эх, шо там. Еще зарубят и фамилию не спросят». Он отвернулся и, сутулясь, побрел дальше.
А отряду попались еще две тетки в цветных платках, чем-то вымазанных, скорее всего сажей. Лица измученные, не поймешь даже, сколько им лет.
— Здрасте, бабоньки! — оживившись, приветствовал их Щусь. — Немца нет в селе?
Они остановились, приглядывались.
— Ой, та цэ ж Хвэдир! Кавалер наш! — узнала одна. — Шо ж вы наробылы, шалапуты? Дэ ж наши хаты?
— Враги сожгли, — попытался оправдаться Щусь.
— И тоби нэ стыдно брэхать? Ради чого вы йих побылы? Якщо ради нас, то дэ ж та правда?
Видя, что этот разговор ни к чему доброму не приведет, Нестор толкнул Федора:
— Поехали.
Женщины сообщили вдогонку:
— Нэма нимця. Ни души. Нэ бойтэсь, хлопци!
На окраине Махно спросил:
— Проскочим, сынки, в главную часть села?
— Веди, Батько.
Дальше поехали скоро. Попадались нехотя лаявшие собаки, перепачканные в золе свиньи, ревущие телята. Повстанцы останавливались у своих хат, смахивали слезы, звали, но никого не было. Люди, похоже, разбежались по родственникам или куда глаза глядят, а кое-кто и прятался здесь, боясь показываться. Лишь в одном дворе мужики строгали бревна, ладили крышу. Отряд завернул к ним.
— Помощники нужны? — предложил Щусь.
— Давай бомбу, Федор, — отвечал тот, что стоял на стене. — Я их, паскуд, на кусочки буду кромсать!
— Мать моя, жена где?
— Подались, Федя.
— Куда, не знаешь?
— Я и своих не найду пока.
— А сколько хат сожгли? — поинтересовался Махно.
— Сотни, дружок, сотни.
Еще немного поговорили, поехали дальше, к лесу. Пахло гарью. Улица расширялась, и на поляне повстанцы увидели кучку людей со знаменами или хоругвями. Нестор придержал коня.
— Кто такие? — с тревогой спросил Щуся.
— Счас узнаем. Сергей, Вася, ану за мной!
Навстречу им вышел священник в рясе и с крестом в вытянутой руке. Федор узнал его. То был отец Иван, который, по словам матери, когда-то крестил младенца Щуся.
— Бог в помощь, православные.
— Что вы тут делаете? — удивился Федор, спрыгивая с лошади и направляясь к батюшке. Тот все держал крест впереди себя, ожидал, что они поцелуют его согласно обычаю. Но обвешанные оружием повстанцы остановились поодаль. На флоте, принимая присягу царю и отечеству, Щусь уже прикладывался к кресту. Где теперь те «святыни»? Предано и забыто. Хватит!
— Вы еще там были, на той стороне, а мы уже внимали, — сказал священник. — Оглянитесь! Разливанное море слез. Не утонуть бы нам всем. Пора христианам замириться ради Бога и Святого Духа. Простите врагов ваших. Пусть они не православные, однако же исповедуют Христа: и колонисты, и австрийцы. Негоже нам убивать друг друга.
— Я доложу, — буркнул Федор и направился к Махно.
— Что им надо?
— Хотят мира, Батько. Просят не проливать кровь христианскую.
— Передай скорее, чтобы никогда не выводил навстречу мне крестьян и не подходил с крестом!
Нестор не мог забыть, как ждал виселицу жутких пятьдесят два дня и каждое появление священника в камере бросало в холодный пот. Ни всемогущая церковь, ни прихожане никогда не помогли, не защитили его, мальца, ни многодетную его мать-вдову, ни братьев. Хотя бы так, как это делают баптисты: хату подсобят слепить, одежонку, еду поднесут. Иудей Кернер — да, помогал. Но не церковь. Где же она была раньше, когда всё рушилось? А теперь обездоленные поднялись на дыбы, так поп Иван, видите ли, о мире запел с крестом в руке. Кого оберегает? Кому служит? Еще и пророчить начнет, как ведун. Накаркает!
Федор возвратился.
— Он согласен, Батько. Не будет тревожить тебя. Но просит принять хоть хлеб-соль от людей.
«Ох и коварные, прохиндеи, — в бессильной ярости думал Махно. — Чуют, что народ клонится к рабскому миру, и тянут на свою сторону. Не выйдет у вас, святоши!»
— Ничего я у него не возьму. Провокация это. Так и передай.
Получив отказ, отец Иоанн постоял в раздумье. Нестор с седла наблюдал за ним. Священник был среднего роста. На крупной голове проглядывала лысина. Покатые плечи его опустились еще более, когда услышал ответ своего крестника.
Отец Иоанн, неуверенно ступая, возвратился к старикам. Те смотрели на него со страхом и жалостью.
— Я во всем… виноват, — с тихим стоном сказал священник. — Лишите меня сана. Нет… и этого будет мало.
Старики переглянулись. Затем, помолившись и не опуская хоругвей, направились к церкви.
А Махно скомандовал:
— Вперед, сынки. Нас ждут страждущие. И только!
После осмотра несчастных Дибривок повстанцы готовы были рвать и метать.
— Нужно мстить, мстить, мстить! — требовали они. — Веди нас, Батько, на врагов!
Мужская злоба коробила Тину. Она близко увидела перестрелки, убийства, страдания женщин и детей, и ей казалось, что люди сошли с ума. Нестор между тем говорил, что сейчас им не страшен даже полк австрияков. Но на юге Украины расквартирован целый экспедиционный корпус, тысячи штыков и сабель. Вымести их сможет лишь грозное восстание. А землеробы дрожат, выжидают. Чтобы их расшевелить, велено было собирать оружие, деньги. Узнав новость, повстанцы запротестовали:
— Та як же цэ так?
— Будем миротворцами?
— Поп Иван закрутил вам голову, Батько! — громче всех кричал парень с вытаращенными голубыми глазами. Тине он не нравился.
— Я не глухой, — обратился к нему Махно. — А ты кто такой?
— Лазаренко из-за Днипра. В отряде Ермократьева бедовал. Те умотали, а я остался. Забыли?
Нестор не мог всех знать, но виду не подал:
— Отличаю тебя, ветеран. Успокойся. Никакие мы не миротворцы. Чтобы проснуться, люди ждут справедливую силу. Ее же нет, сынки, без оружия, конной тяги. Завтра вспыхнет восстание. Дай винтовку, скажут, дай пулемет. Где взять? Чем платить? А вдовам, сиротам кто поможет? Вы против?
— Нет, нет! — шумели повстанцы.
— Словом, гроши, оружие и кони нужны позарез. Согласен, Лазаренко из-за Днепра? Брать будем так: у кого четыре-пять лошадей, то одну-две безвозмездно. Правильно?
— Согласны.
— У кого от двух до четырех — даем взамен усталых. Дальше. Никаких самосудов. Спрашиваем у населения. Сход подтвердит, что это враг, тогда к стенке.
Тина отпечатала на машинке первый приказ:
От октября месяца 1918 года ввести в порядок действия правило, согласно которому каждый отряд, занимая тот или другой хутор, немецкую колонию или помещичье имение, должен в первую очередь созвать всех хозяев и, выяснив состояние их богатств, наложить на них денежную контрибуцию и объявить сбор оружия и патронов к нему. При этом за каждую винтовку с 50-тью патронами возвращать три тысячи рублей из общей контрибуционной суммы. Если при обысках оружие не будет обнаружено, оставлять хозяев этих в покое, неприкосновенными. В противном же случае расстреливать…
После этого они отправились в первый рейд, набрали снаряжения, рублей и марок и возвратились в село, которое приглянулось им сразу. Его разделял холм, а по меркам степняков — горка. С одной ее стороны ютилась Малая Темировка, с другой — Старая. В ней-то и обосновались. В случае чего, решили, всегда можно улизнуть. А беречь уже было что — целый обоз.
Летом в этом селе австрийцы расстреляли семь человек. Потому повстанцев принимали как дорогих гостей. Здесь, казалось, можно наконец помыться и по-людски поспать в чистой постели.
Тина, так и не привыкшая к походной жизни, забралась под грубый шерстяной лижнык, поежилась. Бр-р. Куда летишь? Как только она влезла на подводу в Дибривках, смущаясь и мечтая о приключениях, о которых читала в исторических романах, — словно вихрь подхватил ее и понес в пыли, крови, в слезах по глухим степным проселкам. Она увидела десятки хуторов, имений, колоний. Всюду стреляли, ругались, и этот кошмар называется революцией?! Ее утешали, жалели как дочку.
Между тем Тина стала замечать: рядом живут украинцы, немцы и русские, но какая же разница! Тут колючее одеяло, низкие потолки, доливка, соломенная крыша. В немецком же доме, обязательно каменном, деревянные полы, высокие кровати с хрустящими простынями и нежными подушками. Но особенно бросались в глаза в колониях громадные тупорылые чистенькие свиньи. Почему так? Русские, конечно, самые простодушные и подельчивые, но свиньи у них, Господи, помилуй, лучше бы и не глядеть: тощие, грязные, остроносые и на длинных ногах, как борзые собаки в имении Гизо. «Впрочем, — думала Тина, — зачем все это мне: лижныки, свиньи, повстанцы?»
Она догадывалась, что тут не обходится без чего-то мистического. Единственная, не считая невесты тяжелораненого, колесит с вооруженными до зубов мужиками вроде персидской княжны! Но та не по своей воле попала к Степану Разину. «А ты, ты — сама запрыгнула в тачанку, вчерашняя гимназистка. Бедный отец, — тревожилась Тина. — Хоть бы не узнал. С ума сойдет, как выражается отрядный поэт Петя Лютый: «крыша поедет». Отец просто не поверит, спросит: «Тинушка, это правда?» Что отвечать? Любишь Нестора! Какого? Атамана разбойников? Но он же за справедливость, евреев защищает от всякой мрази. Потому что ты рядом? В жертву себя приносишь? А что, не так разве? Может, анархиста уважаешь? Да Батько и сам толком не объяснит, что это, Свобода! Она своя у каждого. Или честно: ты любишь мускулистого малого, сладкого в постели. И грозного! Даже пуля его боится. Но разве отцу об этом скажешь? Как придирчиво он приглядывался к Леймонскому: вежлив, умница, из родной торговой семьи. Чем не жених? Чем?»
Нестора все не было, шумел со своим штабом в другой комнате. Скоро явится. Как ни моется, а лошадиный дух остается. Бр-р. Не могла Тина и к этому привыкнуть. Еще запах спиртного. Отец пьет только по праздникам, серебряную рюмочку с фамильным вензелем. Здесь же дочку научили, как говорит бесцеремонный кот Щусь, «прикладываться». Пока помаленьку, с отвращением. Сидишь рядом — не откажешься. Бр-р. Сжавшись под грубым, колючим одеялом, она захихикала. «Ох, и вышвырнут же меня когда-то, как ту княжну, — думалось. — Счастье, что моря в степи нет».
Скрипнула дверь.
— Прости, голубка, — сказал Нестор. — Задержался чуток.
Он снял тяжелый пояс, разделся в темноте и юркнул под лижнык. Тина порывисто обняла его и забыла об отце, Леймонском, о лошадином духе и персидской княжне…
Разбудил их дежуривший по отряду Алексей Марченко:
— Батько, Батько, — говорил он, постучав. — Хлопцы помещика поймали!
— Что там… на улице? — через некоторое время спросил Махно.
— Рассвет скоро. Шесть часов.
Нестор легко оделся, нацепил шашку, вышел. Было сыро, холодно. У крыльца ждал Марченко. Поодаль стояли еще трое или четверо.
— Кто такие? Что за нужда? — недовольно осведомился Батько, поеживаясь.
— Цапко фамилия. Недалеко проживает, — докладывал дежурный. — Я их давно знаю. Злобная семейка. До революции жилы тянули из мужика. Потом с гайдамаками прикатили, землю отбирали назад. Дядю моего шомполами секли. Я этому гостю хотел сразу закатать пулю в лоб. Чего шляется ночью у села? Но есть же приказ — не чинить самосуд. Вот и решайте.
— Подойдите сюда! — позвал Махно.
Цапко бодро выступил вперед. Был он вроде в барашковой шапке, в пальто, высок ростом.
— У нас там свадьба, — заговорил громко, уверенно. — Я их предупреждал. Не время, ребята. Да им что? Охота пуще неволи! — он хохотнул. — В церковь, видите ли, потянуло. Захотели венчаться на рассвете и послали просить вас, Батько, чтобы проехать через Старую Темировку. Вся история. Как на духу.
Нестор слушал его внимательно и не поверил ни единому слову. Между тем это была чистая правда, но как всегда — не вся. Изо рта помещика шел пар, пахло вином. «С кем пил? — тревожась, прикидывал Махно. — Черт его разберет. Скорее всего, с офицерами. (Это тоже была правда). А шустер, однако, неглуп, подлец. Мы тебя все равно проведем. Зябко что-то, пробирает до костей».
— Подождите тут, — сказал Нестор, возвратился в хату, надел шинель, шапку, вышел. — Дежурный, поднимай отряд! — скомандовал. — Будем немедленно уходить!
— Слушаюсь, — ответил Марченко и, не задавая лишних вопросов, побежал исполнять. В сарае задорно кукарекнул петух.
— А вы, гражданин Цапко, — продолжал Нестор, — передайте сватам, что могут ехать. Нас здесь уже не будет.
Помещик поклонился и ушел с разведчиками.
— Что ж ты наделал, Нестор? — возмутился Петр Лютый. Он стоял с Семеном Каретником и все слышал. — Это шпион! Никакой свадьбы нет!
Петухи уже перекликались вовсю, и доносились голоса команд.
— Ты, Петя, умнее детей моего отца? — съязвил Махно. — Срочно найди Марченко и передай: выезд отменяется. Но чтобы никто не раздевался, и раненых пусть не снимают с подвод. Мало ли что. Не зря он шлялся тут.
Лютый убежал.
— Опасаешься нападения? — поинтересовался Каретник.
— Надеюсь, пронесет. Цапко сообщит о нашем уходе.
— Слушай, Нестор, помнишь, барыня… как же ее, старую куклу? Каркала, что гетман Скоропадский утёк. Зачем она это брехала?
— Лукавую бабу и в ступе не истолчешь. Пошли в хату.
Хозяева тоже не спали, возились у печи. Там потрескивали дрова, и отблески огня хоть немного веселили душу.
— Доброе утро, — сказал Махно, направляясь в комнату, где спала Тина.
— Дай-то Бог, — вздохнула хозяйка, — чтоб скорее закончилась вся оця смута. В чем мы провынылысь пэрэд ным?
Нестор остановился, хотел возразить, но тут влетел Петр Лютый.
— Пулемет бьет! Навел-таки помещик!
Они поспешили на улицу, прислушались. Трещало уже как будто с трех сторон, и пули свистели над крышей, где вяло, нехотя занималась заря. Со всех ног во двор бежали командиры.
— Чубенко, обоз у нас на вес золота. Хватай его и за горку. Там закрепитесь, — приказывал Махно. — А вы, Рябко, Щусь, Петренко, Вакула — каждый на своем участке выдвигайтесь и бейте! Быстро!
На улице скрипели подводы, мелькали всадники.
— К горе! К горе! — указывал им Батько, а сам торопился в обратную сторону, на зарево рассвета. Показались последние хаты. Дальше угрюмо чернело поле. Над ним клубился туман. Из него вынырнула тачанка, и несколько верховых летели. Семен Каретник бросился к ним.
— Стой! Что такое?
Нельзя было понять, где противник, каков он. Тачанка притормозила.
— Пулеметчик ранен. Они… сзади! — растерянно прохрипел кучер, указывая кнутом на поле. Теперь и Махно увидел, как из тумана выплывают ряды вражеских солдат. Он хотел вскочить на тачанку и припасть к пулемету, но ее уже и след простыл.
— Я ж вам, б…! — ругнулся Нестор, сжав кулаки. Пуля с посвистом чмокнула в глиняную стену хаты. Он невольно пригнулся.
— Держи, Батько!
Лютый подал ручной пулемет. Махно кинул его на спину Петру. Тот опустился на колени, спросил:
— Годится? Пали! — и они ударили по наступающим. Те не ожидали отпора, замешкались, падали. Лютый отстегнул, подал новую ленту. Из села перебежками выдвигались повстанцы.
— Вперед, хлопцы! — призывал их Алексей Марченко. Казалось, еще немного и противник дрогнет, отступит, как бывало не раз. Австрийцы и румыны, варта, гайдамаки уже не рисковали. Похоже, это мадьярские стрелки. Дрогнув по центру, теряя убитых, они тут же зашли с флангов, густо кидали гранаты и прицельно стреляли. Вот уж рядом!
Забыв, что это их родная земля, что собирались мстить, необученные повстанцы побежали. Вместе с ними спешно отступили Махно, Каретник, Лютый. Пулемет системы «Люйс» бросили. По пятам рвались гранаты. Нестор гневался. Их гнали, словно гусей. Откуда у оккупантов такая дерзость? Или просто умеют драться, мерзавцы? А ведь и правда умеют.
— Учитесь, сынки! — крикнул Батько с непонятным бойцам азартом. — Вот так нужно воевать!
Он схватил карабин у какого-то повстанца, прицелился. Бац, бац, попал же, попал! Плечом к плечу метко стреляли Щусь и Петренко. Но противник наступал неудержимо. Вот и окраина Старой Темировки. Всё. Устоять невозможно и прятаться негде. Дальше чистое поле до самого гребня горки. Нужно уходить и как можно скорее.
— Батько, Батько!
Нестор оглянулся. Сзади стояла Ивка — невеста тяжело раненного еще в Дибривках повстанца, худенькая, остроносая.
— Ты почему здесь? — поразился Нестор. — Где твой жених?
— Там.
— А ты зачем…
— Ось пидождить. Ваша Тина тоже тут!
«Ну, е… твою!» — чуть не вырвалось у Махно. Что ж теперь делать? Связался с бабой. Петя Лютый не раз предупреждал: «Лучше бросьте ее, Батько». Советовать легко. Сам попробуй отлипнуть! У Хмельницкого была? У Разина была? У Пугачева…
— Поздно, Ивушка, спасать ее, — как можно сдержаннее, чтобы не обидеть девушку, ответил он. — Постой, а ты зачем вернулась?
— Та за ранеными.
— Что ж ты молчала? — взорвался Нестор. Она прибежала в самое пекло, чтобы спасти чужих, а он, Батько, бросает жену на произвол судьбы! Едри ж твою… Он выскочил на улицу к Щусю, который тащил раненого. «Счас мы с Федором… пробьемся», — сгоряча решил Махно. Щусь вдруг упал, схватившись за ноги и вопя от боли. Его подхватил Петренко.
— Тащи через горку! — крикнул Нестор. — Отступаем!
Во дворе его ждали Каретник, Ивка и Лютый. Взяв раненых, они побежали к полю. Теперь по ним строчили уже откуда-то сбоку. Пришлось залечь.
— Эй, эй, — звал Семен, теребя раненого. — Очнись… Он готов, Батько.
Пули срезали бурьян, пели над ухом. Нужно было превозмочь себя и бросками уходить, иначе гибель.
— Ива, есть силы? — спросил Нестор. Девушка не отвечала. Раскинув руки, смотрела в небо, где сквозь лохматые тучи еле-еле проглядывало солнце.
— Ивушка! — он заметил на виске ее струйки крови. Значит, их осталось трое. Нет, еще кто-то полз, сопел сзади. А до вершины горки, казалось, уже не добраться. Повыше лежали повстанцы. Не выдержав обстрела, побежали. Их тут же срезали.
— Нажрались воли, — хрипел тот, что приполз. Нестор через плечо увидал васильковые, меркнущие в ужасе глаза Лазаренко из-за Днепра. Мелкими перебежками они одолели еще метров пятьдесят. Дальше была пахота. Вдавливаясь в сырую борозду и задыхаясь от усталости, Махно ящерицей полз и полз наверх.
— Н-не… могу, — услышал он сдавленный голос, заметил бегущих, оглянулся. Лазаренко приставил наган к виску и выстрелил. Нестор мацнул свою кобуру, ощупал пояс — никакого оружия! Где оно делось? Пот застил глаза, а люди бежали, топали. Свои? Откуда? Мадьяры? Махно бросился к Лазаренко, упал рядом, схватил наган, примерил к виску. Бот и вся свобода, будь она неладна. Не дамся!
— Это я, Лютый! — услышал он и увидел своих, что невесть где взялись. Подняться не было сил. Его посадили на две винтовки и потащили.
— Наши… вон… ударили, — говорил, запыхавшись, Петр.
Они наконец проскочили за горку, и только там Нестор пришел в себя. Вокруг хлопотали Марченко, Чубенко… и Тина. Сняли шапку, шинель. Они были пробиты в нескольких местах. Болела рука, вся в липкой крови. Тина ее перевязывала. Поодаль топтались повстанцы, и не было в их косых, быстрых взглядах почтения к Батьке.
— Как вырвалась? — сидя на подводе, спросил он довольно холодно.
— Со всеми. По твоему приказу, милый.
— А где Каретник?
Стали искать. Нет Семена. «Неужто на поле остался? — отчужденно подумал Махно. Нечто теплое, жалостливое отмирало в нем с каждой потерей. — Эх, Сеня. Самый верный. Все меня бросили, когда припекло. А я оставил тебя. Вот что значит страх. Вот где одиночество».
— Семен же, подстреленный, схватил «максимку» и побежал вас спасать, — сказал Иван Вакула, и нотки осуждения послышались в его голосе. — Чуете, як бьет? Чуете!
За гребнем не стихала перестрелка.
— Сюда его! — приказал Нестор. — Будем уходить.
Отряд начал строиться. Ругались, стонали раненые, и каждый боец оглядывался угрюмо: где же брат, сосед, где кум и остальные? Лежат не остывшие, а может, и живые еще вон за горкой. Хотя бы взглянуть, похоронить по-христиански. А если в плен их захватят мадьяры? Берут ли? Дома спросят: где наш? Язык же не повернется отвечать по совести. Ишь, воронье каркает на тополях. Считай, пол-отряда выкосили. Пропади оно всё пропадом — эта война, свобода и Батько с его любовницей!
Прибежал Семен Каретник с пятью бойцами и двумя «максимами». Разгоряченный боем, голова перевязана.
— Куда драпаете? Мы их тормознули! Там же раненые! — шумел возмущенно. Отряд, однако, уже выстроился для отхода.
Легкий ветерок, что гулял по горке, донес к ним странные звуки. Гармонь играет, что ли? От страха показалось? Повстанцы оглядывались. Та то ж баян наяривает с переливами, твою ж мать. И поют! Долетало:
Ты ж мэнэ пидманула, Ты ж мэнэ пидвэла. Ты ж мэнэ, молодого, 3 ума-розуму звэла…Что творится на белом свете! По дороге, навстречу им, из-за развесистых ив, осокорей выкатывала свадьба. В карете… точно… невеста в фате! Нестор смотрел на нее с усмешкой: «Непредсказуемо, и только. Ну, народ! Куда ж они прут?»
— Поле гуляет, — многозначительно заметил Петр Лютый и стал подпевать:
Ты ж мэнэ, молодого, 3 ума-розуму звэла…На него зашикали. Он оправдывался:
— Та я ж не про любовь. Про долю нашу несчастную!
Ровные таврические степи остались южнее. А тут белые поля то покато опускались в балки, то снова поднимались на взгорки. Красным шаром над ними выкатилось солнце, принялось лизать пугливый ноябрьский иней, и стали видны отрадные зеленя. Гляди ты, засеяли! Махно порадовался, что хоть еда будет на худой конец. В это время прискакал разведчик.
— Эшелон с немцами торчит, Батько!
— Куда едут?
— Бес их разберет.
— Чего ждут?
— Топливо кончилось. Акации рубят. Далеко слышен стук топоров.
На путях стояло как раз то, что они давно искали: оружие и припасы.
— Станция далеко? — еще поинтересовался Нестор.
— Рядом. Новогупаловка, и паровозы видно, пыхтят.
— Ладно. Скачи назад, передай Пантелею Каретнику, чтоб наблюдал. А мы сейчас займемся.
Махно решил так. Алексей Марченко с полусотней отправляется на станцию, захватывает два локомотива на парах и ждет. Если начнется стрельба — пускает их на австрийский эшелон.
— А зачем два? — не понял Марченко.
— Лучше переборщить, чем недосолить.
Алексей же Чубенко с опытными подрывниками едет в обратную сторону и минирует колею. Услышит, что идет бой — взрывает рельсы к чертовой бабушке!
Через некоторое время Нестор подозвал Александра Калашникова, секретаря гуляйпольской группы анархистов, только что освобожденного из тюрьмы вместе с Саввой Махно и уже отличившегося в бою под Синельниково. «Георгиевский кавалер. Сколько их у меня? — размышлял Батько. — Каждый, может, второй, но старые заслуги не в счет. Ты сегодня сверкни!»
— Так, Саша. Бери Лютого и кого бы еще… — сказал он Калашникову, оценивающе присматриваясь к нему. Молодцеватый, с лихо закрученными усиками, тот был прирожденным командиром: сам летел вперед и других увлекал без крика. Да задание предстояло особое. Справится ли?
— Кого еще? — напомнил Александр, глядя на Батьку без смущения.
— Да вот хоть этого кудрявого здоровилу. Он, надо полагать, не из робкого десятка. Позабыл, как тебя?
— Лев Задов, — представился повстанец, довольный, что на него обратили внимание.
— Помню. Агитатор. Пора и в дело. Ты, кажись, тоже из каторжан?
— Пять лет отбухал за теракты: почтовая контора, желдоркасса.
— Знакомо. А фамилия у тебя, Лева, извини, больше для бегства приспособлена, — Нестор прижмурил левый глаз.
— Я теперь Зиньковским прозываюсь.
— Ладно. Поедете, Александр, вон к австрийцам. Готов? — тот кивнул. — Предложите условия мира. Пусть возьмут себе на всякий случай десять карабинов и ящик-другой патронов. Остальное немедленно сложат. Понял? Немедленно! А не согласятся — хай пеняют на себя.
Посланцы с белой тряпкой поскакали к железной дороге. Отсюда, из низины, ее не было видно. Махно велел приготовиться к бою. Тачанки, подводы, верховые рассредоточились и выезжали на пригорок. Могло показаться, что наступает целый полк. Было тихо, лишь в сухих крылатках ясеня позванивала синица.
У вагонов расхаживали военные. Завидев конных, они замерли, потом вроде заметили всю наступающую силу и забегали, вскрикивая. Нестор своих остановил. Зачем без нужды лезть под прицельный выстрел? Батько оглянулся. Лица повстанцев посуровели, в глазах горел боевой азарт. Рядом были хлопцы, битые под Старой Темировкой, Синельниково. А Фома Рябко, Гаврюша Троян, Иван Вакула да и другие перед самой революцией служили в украинизированном по распоряжению генерала Корнилова 34 армейском корпусе, который, единственный, еще сдерживал немцев на Юго-восточном фронте. Так что они давно познали цену дисциплине и упорству в бою.
От головного вагона к посланцам направился офицер. Александр Калашников спрыгнул с коня. «Напрасно! — Нестор недовольно пристукнул себя по колену. — Заколят и глазом не моргнут». Лютый и Задов-Зиньковский, однако, не спешились. Внимание Махно отвлек разведчик, что вернулся.
— Мы ошиблись, Батько. Там не один — два эшелона! Еще с той стороны стоит, незаметный.
— Тетери неощипанные! Нужно же глядеть в оба. Но теперь уже поздно. Значит, два возьмем. А не выедет, передай Пантелею, что я с него и с тебя шкуру спущу!
Разведчик мигом скрылся.
Между тем австрийский офицер высокомерно спрашивал:
— Что вас требуется?
Он был белолицый, в чине капитана. Голубая шинель сидела на нем щеголевато.
— Мы вас не тронем, — сказал Калашников. Дипломат он был неважный. — Нейтралитет. Ясно?
— Затшем тогда… это? — офицер повел рукой, указывая на тачанки, подводы, что со всех сторон окружали эшелон. Капитан видел перед собой каких-то грязных, измученных крестьян, превратившихся в наглых бандитов. Даже эти переговоры казались ему нелепыми. Достаточно пугнуть — и они разбегутся.
— Отдайте нам по-хорошему паф-паф, — строже продолжал Александр, а Зиньковский для наглядности показал свой карабин. — Оставьте себе десять. Понял? Остальное нам. И патроны тоже.
— Да, да, — легко согласился австриец. — Момэнт!
Он зашагал к классному вагону, что находился у паровоза, вспрыгнул на подножку и скрылся. Посланцы возвратились к Махно.
— Они согласны, — доложил Калашников. В это время из штабного вагона выскочил, похоже, тот самый капитан в голубой шинели и побежал вдоль эшелона, что-то выкрикивая.
— Будут драться, — предположил Зиньковский.
Нестор угрюмо поглядел на него.
— Не веришь офицеру? — спросил, чтобы испытать.
— А я никому не доверяю, — отвечал Лев. — Тем более офицеру. Он как дуб: крепкий, но кормит одних свиней.
«Занозистый. Нужно будет его приблизить», — решил Махно. Из вагонов посыпались солдаты в синих тусклых шинелях, начали сгружать ящики, еще что-то.
— Приняли условия! — обрадовался Петр Лютый, подмигивая Левке. Но австрийцы попадали, а из открытых дверей вагонов застучали выстрелы.
— Не двигаться! — приказал Батько. — Бей отсюда!
Паровоз зашипел и, тяжело отдуваясь, толкнул вагоны. Они покатились в сторону Александровска. Раз за разом где-то там грохнули взрывы. Это Чубенко подорвал пути. Эшелоны остановились, постояли и попытались взять теперь на Новогупаловку. Но оттуда уже летели им навстречу два локомотива. Видя такое, австрийцы без паники выпрыгивали из вагонов, залегали у полотна и стреляли. Повстанцы не рисковали, а, находясь в отдалении, наблюдали, как паровозы врезались в составы, и страшный грохот потряс окрестности. Последние вагоны сорвались с рельсов и перевернулись. «А-а-а!» — доносились крики покалеченных. Только теперь повстанцы устремились к железной дороге.
Потрясенные австрийцы некоторое время не могли прийти в себя. Это была испытанная боевая часть, семь месяцев отдыхавшая в тихих южных степях, накопившая всякого добра и уезжавшая, наконец, домой. Но сейчас ей приходилось туго. Махновцы наседали со всех сторон. Оставшимся в живых солдатам и офицерам потребовалась вся их выучка, чтобы вырваться из окружения.
— Уйдут же, Батько! — шумел разгоряченный боем Иван Вакула.
— На хрена они нам? — остудил его Нестор. — Были б умнее, мирно б уехали. Что там в вагонах?
— Колбасы, мука, сахар, кожа хромовая — навалом! — доложил Лев Зиньковский, оказавшийся опять рядом.
— Оружия много?
— Счас посчитаем.
Нашли три неразбитых пулемета и сотню винтовок.
— Столько шума, и один пшик, — разочарованно сказал Махно. — Алексей! — позвал он Марченко. — Ты уже был в Новогупаловке. Скачи снова с хлопцами. Пусть железнодорожники, что нам помогали, и все желающие забирают награбленное у народа. Зови сюда!
Между тем повстанцы деловито, а кто и с азартом, с радостью загружали подводы, тачанки. Пахло кровью, вареньем и подсолнечным маслом. Нестор молча наблюдал. Вспомнились загадочные слова Павла Ермократьева: «Воля хорошо, Батько, но немножко, елки-палки, и доли нужно добавить». Мужики только что рисковали своей шкурой, и не дать им кусок хрома на сапоги или мешок сахара привезти в хату — разве мыслимо? Это же толика той Правды, о которой они мечтали, когда еще вшей кормили на фронте. «Верно, верно. Да как бы эта жадная «доля» не задавила волю! — размышлял с тревогой Махно. — Сильна ж она, подлая, ох сильна!»
Себе он взял лишь бинокль с голубыми линзами.
9 ноября 1918 г.
Секретно
Срочно вне всякой очереди
Курск. Губисполкому и Губкому коммунистов
Сейчас получена радиограмма… сообщающая, что власть в Германии перешла к рабочим и солдатам…
Вильгельм отрекся от престола…
Предсовнаркома Ленин.Две недели в седле — не на чужой свадьбе гулять, и Нестору ненароком припомнился бодрый Ленин. Ему там вольготно, небось, в красном Кремле: споры, бумажки, заседания. В тепле сидит, хотя тоже не мед, пожалуй. Лезут со всех сторон, грызутся за власть, того и гляди спихнут, пристрелят из-за угла. Но хоть спать-то есть где! Белые простыни, жена под боком, детишки прыгают. Сколько их у него? А может, как у меня? Ох, кулак-мужик. Интересно, выдюжил бы в степи этой неприютной? Вряд ли. У них по рангу: кто-то мозгует и отдыхает в хоромах, а другие мечутся с саблями. Тут же один за всех: и штаб, и совесть, и бомба на поясе. Ох, устал. Куда ж податься? Где бы временный покой найти? И пулеметов мало. Семь штук на триста бойцов. Сущий пшик. Постой! А те, что у порогов притоплены синежупанниками. Еще Роздайбида толковал о них не раз. Десяток «максимов» или больше. И берег пустынный там. Лучше не придумать.
— Предлагаю отправиться в Васильевку, — сказал Махно членам штаба.
Они ломали головы: куда теперь? Сидели в просторной хате, в Новогупаловке, пили розовый австрийский ром, ужинали. Хозяин, лысоватый, помалкивающий дядя, был доволен. Гости завалили кладовку разной снедью из эшелонов и еще пару новых сапог вручили. Эх и хром! Блестит что зеркало. Обрадовавшись, хозяин даже плюнул на голенище и попытался продуть кожу изнутри. Ни одного пузырька. Во тачают, гады. За сто лет по грязи не износишь!
— Это какая Васильевка? Та, что ближе к Мелитополю? — попросил уточнить Александр Калашников. После того как он смело съездил на переговоры, где могли кок нуть ни за понюшку табаку, Махно пригласил его на заседание штаба, правда, пока не ясно, на каких правах.
— Туда ж сто верст! — удивился Иван Вакула. Он, здоровяк, опрокидывал уже третий стакан и не хмелел.
— Та цэ ж рядом, хлопци, — не выдержал и вмешался хозяин.
— Учти, батя. Никому ни слова, — предупредил Махно. — Сын твой с нами.
— Ни, ни, Боже упаси!
— Так вот. Эта Васильевка на отлете, малоизвестная. Тишь да благодать. Хоть поспим сутки, — объяснял Нестор. — А кроме того, там пулеметы припасены.
— Откуда? — усомнился Марченко.
— Всё будете знать — быстро полысеете, — съехидничал Махно, глядя на хозяина. — Выступаем через два часа.
— Ничь же, хлопци, — забеспокоился тот. — Жинка высоки подушкы настэлыла, пэрыну прыготовыла. Можэ, шо нэ так?
После выпивки всех клонило в сон.
— Давай, правда, останемся, Батько, — попросил и Петр Лютый. Он уже клевал носом.
— Кровавую Темировку забыл? Желаешь повторить? — прикрикнул Махно. — Австрияк бежит домой, словно пес побитый. Железная дорога ему сейчас, что мать родная. А мы тут костью в горле торчим. Вот-вот нагрянут.
Когда отряд уже построился для выступления, на околице послышались выстрелы.
— Лютый, ану слетай, чтоб дремоту прогнать, — велел Нестор, направляясь в голову колонны. — Уходим! Уходим! — командовал.
В темноте они отправились на запад, к Днепру, подальше от железной дороги Москва — Симферополь.
— Там нагрянули. Целый эшелон! Стрелочник видел, — возбужденно докладывал Петр.
— Ты же дрыхнуть собрался, дубовая башка, — упрекнул его Махно. — Сейчас бы мотался по двору в подштанниках. Вирши бы потерял.
Дальше ехали тихо, даже слышен был волчий вой. Степь опускалась, поднималась. На взлобках дул северок, и многие поопускали уши шапок. Небо вызвездило на ясную погоду.
— Чумацкий шлях (Прим. ред. — Так у запорожских казаков назывались Галактика и дорога в Крым), — заметил Алексей Чубенко, разглядывая россыпь звезд, что лежала поперек их пути.
— Скоро вырулим, — согласился Калашников. Небо его не интересовало.
Впереди что-то засерело, похоже, дорога. Она оказалась широкой и пустынной. Выйдя на нее, отряд взял на север, а у Терновки, хорошо знакомой Нестору (здесь жил его дядя), свернул к длинной балке, где угадывалась речушка, и уже берегом добирался к Васильевке.
— Шо цэ? — встревоженно спросил Фома Рябко. Слева, от Днепра, доносился гул, словно шел тяжелый состав. Фома никогда не был в этих местах и решил, что они заблудились, попали снова на «чугунку».
— Ненасытец! — с почтением ответил Махно, как когда-то выразился Степан, где-то сгинувший гайдамака.
— Шо, шо? — не понял Рябко.
— Утром увидишь. Самый гиблый порог Днепра, — и только теперь Нестор постиг, что его тянуло сюда. Не покой, не пулеметы, хотя они край нужны. Нет, его манил, звал Ненасытец. Кто раз увидел его, не мог забыть: то ли дикий скиф или Константин Багрянородный — грек, лихой разбойник-печенег или князь Святослав, даже сама императрица Екатерина II, побывавшая здесь. О более поздних временах не стоит и говорить. Казалось, молчаливая природа степей являла тут, наконец, свой грозный и таинственный норов, и это смущало, теснило, завораживало душу смертного и не отпускало ее.
Сейчас Дед-порог, или по-славянски еще Неясыть, скрываясь и рокоча в темноте, вроде предостерегал, сулил не то счастье, не то погибель. Такое знакомое что-то, кровное чудилось Нестору в этой стихии. «Да наша же Революция! — догадался он с радостью. — Она, милая. Ее музыка. Эх, еще бабу б найти тонкоухую, чтоб тоже уловила ЭТО и приняла. Совсем тепло стало бы. Тина-дура исчезла вместе с отцом. Это он, хомутник, увез ее. Она — кошка, любит дом. А у меня его не оказалось».
Чуток поспав на пряном сене в Васильевке, Махно поднялся и пошел проверять посты. Караульные не дремали, приветствовали Батьку довольно бодро. За темносиним кряжем уже сияла заря. Нестор сдул пыль с линз бинокля и стал рассматривать берег. Он был пологий, размытый паводками, кое-где зарос белым сейчас от инея тростником. А дальше торчали скалы — через весь Днепр. Справа в него впадала речушка Ворона, и на ней видно было колесо мельницы. Оттуда шел рослый дядя. Нестор опознал в нем Якова Пивторака, сторожа, в клуне которого ночевали члены штаба.
— Як видпочывалось? — поинтересовался он. — Щось вы рано пиднялысь.
— Спасибо, Яков. Вот ищу, кто бы помог сплавать в пороги.
— А на шо?
— Клад поискать на Голом острове или около него. Когда еще выпадет такой редкий случай?
На смуглом, горбоносом лице Пивторака, в жилах которого явно текла скифская или половецкая кровь, заиграла ироническая усмешка.
— Вы нэ шутытэ, Нэсторэ Ивановычу?
— Вполне серьезно.
— Так Голого острова там нэма.
— Куда ж он делся, если я сам там ночевал?
— А-а, можэ, Голодай, дэ гайдамакы ховалысь литом?
— Точно!
— Тоди вам и шукать никого нэ трэба. Я сторожую зимой, а так лоцман. О-он коло млына мий човэн-дуб стойить. Пойихалы!
— Прямо сейчас? — Нестор не ожидал такой прыти.
— А чого ж, — Якову не терпелось показать свое искусство. — Тилькы вода вже лед! Як у вас здоровья? Нэ бойитэсь?
— Чепуха. Найдется у тебя канат с якорем? А лучше два. Для надежности.
Пивторак кивнул.
— Тогда пошли. Я с твоего разрешения пару хлопцев прихвачу, — Нестор направился к клуне, прикидывая: «Кого взять? Каретника и Марченко нельзя. Если все потопнем — отряду хана. Значит, матроса… И кого еще? Гришу Василевского, старого дружка. Болтать языком он мастер. Пощупаем его требуху, чем пахнет. А куда пулеметы складывать? В лодку войдет один, два. Пошлю за порог подводы с Петей Лютым во главе».
Дав указания и одевшись потеплей, Махно вручил бинокль дозорным и отправился к лодке. Она стояла в уютном заливчике у мельницы. Пока шли туда, Пивторак полюбопытствовал:
— Вы из Гуляй-Поля, хлопцы. Есть там вода?
— А как же! — удивился Григорий Василевский, небольшого роста и шустрый, как Нестор. Разве что пошире в плечах да лицом светел. — Река течет. Гайчур называется.
— Воробью по колена, — уточнил Щусь.
— Ишь ты, матрос в штаны натрёс! — взъерепенился Василевский. — Твоя Волчья не глубже.
— Як цэ вы добрэ спомнылы про штаны, — поднял палец Пивторак. — Вон камыш. Сбигайтэ, хлопци, пока нэ пизно.
— Брось, батя. Мы ужо пужатые, — не сдавался Григорий.
— Мое дило прэдупрэдыть, — Яков смотрел снисходительно и вдруг посуровел. — Матрос, бэры вэсла и выполняй команды. А я, лоцман, сяду на стэрно (Прим. ред. — Рулевое весло).
Пока они ощупывали крепкую дубовую лодку и забирались в нее, Пивторак снял шапку, опустился на колени, торжественно перекрестился и коснулся лбом земли.
— Во дает! А что, тут даже лоцманы есть? — иронизировал Щусь, привычно усаживаясь к веслам.
— Вы як диты, — Яков глянул по привычке на небо, голубое, безоблачное, и отчалил, думая: «Ох и покажу ж я вам, бисовым дитям, пэкло!» Он продолжал: — Вверху лэжыть вэлыкэ сэло, называеться нэ як-нэбуть, а Лоцманська Камэнка, дэ мий прэдок був атаманом. Катэрына-царыця пожалувала йому звание поручика.
— Нашел, чем хвастать, — буркнул Василевский, но его слова уже потонули в плеске волн. Здесь Ворона вливалась в Днепр. Лодка пока скользила среди небольших скал. Шум воды нарастал. Впереди вскипали белые буруны. Они словно перерезали реку пополам.
— Держись! Рваная лава! — крикнул Яков. Лицо его преобразилось, стало непреклонным. Дубовая лодка задрожала, вроде в ознобе, и это передалось тем, кто в ней сидел. Справа и слева торчали острые ножи скал. Ледяные брызги, пена летели в лицо.
— Господи Исусе… Господи… — шептал в замешательстве Федор Щусь. Он представил, что сейчас пропорют дно или борт. Крышка же! Каюк!
— Не греби! — шумел Пивторак, мощно управляя одним стерном. А Григорий вцепился в борт руками. Слезы застили глаза, но он все-таки заметил новую полосу бурунов.
— Лава Служба! — донесся до него голос лоцмана. «Сколько же их?» — потерянно соображал Василевский. Берега исчезли. Тянуло низ живота, и, когда лодка слетала с гребня лавы и падала в пену, Григорий с отвращением и жалостью к себе сжимал колени.
— Гострэнька лава! — и через несколько минут или секунд Пивторак опять вещал: — Булгарська лава!
Теперь уже и Нестор побелел от охватившего его трясуна. Не было никаких сил противостоять гудящей, свистящей, улюлюкающей стихии, что несла, кидала их, словно перышко.
— Рогата лава! Грэбы! Грэбы! — кричал Щусю лоцман и яростно махал кулаком. Федор догадался, что скоро они минуют этот ад, и налег на весла. Но лодка и так летела стрелой. Поверхность воды опустела: ни скал, ни белых бурунов, ни даже волн — лишь стремительный темный поток. Щусь сидел спиной к порогу и не мог видеть, что самое страшное — впереди. Он почувствовал сладкий, гибельный озноб и услышал рокот падающей реки, который поглотил все звуки. А Нестор и Григорий в полном смятении затаили дыхание.
Лодка взлетела, некоторое время висела в воздухе и наконец со звоном ударилась, провалилась в ледяную клокочущую бездну Ненасытца. Сердце Федора зашлось. Он в ужасе закрыл глаза и заорал. Взвыли и Махно с Василевским. Когда они пришли в себя, лодка-дуб уже спокойно скользила по течению.
Вытерев пятерней лицо и перекрестившись, лоцман с удивлением заметил, что глаза Нестора Ивановича широко раскрыты, а рот улыбается. «Наш чоловик, — решил Пивторак, и это было высшей похвалой, на которую он был способен. — Та и ти двое молодци, хоть, можэ, и наклалы в штаны. Подывымось, чи побижать на острив».
На берег, однако, никто не попросился.
Пулеметы с трудом, правда, но были нащупаны и подняты якорями — восемь штук. Смазку с них смыло, да не беда. Их погрузили на подводы и увезли вместе с лодкой в Васильевку. Предварительно все, кто плавал, переоделись. Лютый даже по стопке им налил.
— Оцэ хозяин! — похвалил его Пивторак.
В селе оружие осмотрели, смазали, разделили.
— Трэба погриться, Нэсторэ Ивановычу, а то як бы лыхоманка нэ схопыла, — сказал Яков. — Прошу до хаты всих.
Выпили, завтракали, делились впечатлениями.
— Вы хоть слышали про лаву? — спросил Василевский, хитровато прищурившись.
— Когда сотня-другая на тебя с саблями полетит, Гриша, познакомишься, — отвечал Вакула, сладко опохмеляясь.
— То ерунда, Иван. В порогах лавы — чуть не обхезался, — с этими словами Василевский выскочил из-за стола.
— Дорогу герою! — хохотал Вакула.
— А откуда ваше село взялось? — поинтересовался Махно из уважения к хозяину.
Тот вытер усы, приосанился.
— Ци наши зэмли царыця отдала полковныку Синельникову. Можэ, чулы? А у його був сын — Васыль. Його имэнэм и названо.
— Так и станция, выходит, того полковника? — удивился Петр Лютый.
— Шо та станция? — небрежно махнул рукой Пивторак. — На тому боци Днипра, бачылы, палац стойить. Дворец, по-вашому. Там його родычка и зараз жывэ, Малама фамилия. У нэйи дви золоти булавы и сидло с самоцвитамы самого гэтьмана Украйины. Йим циньг нэма. А вы про якусь станцию балакаетэ…
Тут Якова позвали. Он вышел и возвратился озабоченный.
— Выбачайтэ, будь ласка. Хозяйин мэльныци у двори, — объяснил. — Ваши люды, Батько, на його контрыбуцию наложылы. Тры тыщи рублив.
— Кто? — рыкнул Махно.
— Тэмно було. Вин нэ знае.
— Что за дрянь? Не может того быть! — Нестор выскочил из хаты. Во дворе ждал дядя в добротном кожухе, без шапки.
— Это у вас взяли деньги?
— У меня.
Лицо Нестора передернулось. Этого еще не хватало. Затеяли революцию, чтобы грабить! Анархия называется. Высшее проявление Свободы. Не-е. Мы этого не потерпим!
— Дежурный!
— Я же здесь, — Алексей Чубенко стоял рядом. Что с Батькой? На нем же лица нет.
— Построить отряд. Немедленно!
Когда повстанцы собрались, Махно спросил:
— Все тут? Тогда слушайте. Кто-то из нас… ночью… самовольно… ограбил вот этого человека. Взяли три тысячи, якобы контрибуцию за мельницу. Я хочу знать: кто… посмел? Шаг вперед!
Никто не шелохнулся.
— Мы — армия освобождения Украины или шайка разбойников? — ярился Нестор. — Я вас спрашиваю!
На ближнюю хату села сорока и сухо, по-зимнему застрекотала.
— Та-ак. Мало того что напакостили — нет духу признаться. Куда же подевалась наша честь борцов за свободу?
Повстанцы смотрели на Батьку сурово. Они, добровольцы, не привыкли ни перед кем отчитываться. Кроме того, думали многие, велика ли беда: мельника пощипали. Так ему, кулаку, и надо! Говорят, Махно и сам когда-то начинал с грабежей. Видишь ли, ему можно было. А нам — нельзя! Ради чего ж воюем? Ермократьев при всех сказал: «Не только воля, но и доля, елки-палки». То-то же. А долю важно пощупать. Она вроде сороки в руках.
Вдалеке неумолчно гремел Ненасытец. «Неужели и мы ненасытны? — мрачно размышлял Нестор, покусывая губы и прохаживаясь перед строем. — Тогда и революция дрянь! Обречена. Грош ей цена. Не-ет, врешь!» Он не мог признать это. Надежды и старания, кровь и бессонные ночи, самоотверженность — всё летело бы кувырком коту под хвост. Порадовались бы генералы, помещики, банкиры. Вот оно, плебейское загребущее нутро! Точно такое, как у нас. Никакой разницы. За что бьетесь?
От этого позора, от страха, испытанного в пороге, и от самогона у Нестора заболело сердце. Что же предпринять? Если сейчас не найти негодяя, он и дальше будет бузить, других соблазнять. Они уже вон как вызверились. Авторитет Батьки повис на волоске. Он подозвал к себе членов штаба и велел ледяным тоном:
— Снять шапки!
Никто ничего не понял. Зачем это? Но повиновались. Нестор перещупал каждую.
— А теперь проверьте у всех! — чутье подсказывало ему: деньги спрятаны в одежде. Больше негде, скорее всего в шапках. У кого?
— Тут, кажись! — воскликнул Пантелей Каретник. Махно быстро обернулся. Шапка была… Ивана Вакулы. Этого еще не хватало! Сотский, отчаянный богатырь. Пантелей разорвал подкладку и вынул пачку' кредиток.
— Ты… Иван? — изумился Нестор. Вакула онемел. — Иди сюда, — Махно подозвал хозяина мельницы. — Твои деньги?
— Мои.
— Точно? Ану приглядись. Если врешь, сволочь…
— Чего смотреть, Нестор Иванович? Николаевские. Потрясите над ладонью. Видите, видите — мука!
Всякие сомнения отпали. Сорока все стрекотала.
— Кто был с тобой? — спросил Махно Вакулу беспощадным тоном. Он был настолько возмущен жадностью и скрытностью, казалось бы, верного соратника, что не пощадил бы и брата. О том, что повстанцы могут быть другого мнения, а то и защитят виновного, взбунтуются — не думалось. Нестор просто не принимал это в расчет. А если бы дрогнул — не быть ему Батькой.
— Дружок Федора Щуся! — с вызовом ответил Вакула, указывая на повстанца из Дибривок. То был тоже испытанный в боях, худой и озлобленный парень, у которого, помнится, сгорела хата. Смотрел он на Нестора волком.
— Ану рвите и его шапку! — приказал Батько.
В ней тоже оказались деньги. С мукой. Члены штаба молча наблюдали эту тягостную сцену.
— Сдайте оружие! — потребовал Махно.
Вакула и его приятель подчинились. Они еще надеялись, что пронесет.
— Предлагаю… расстрелять мерзавцев, — обратился Нестор к членам штаба. — Если этого не сделаем — грош цена революции.
— Да ты что?! — Щусь даже отшатнулся. Сорока примолкла.
— Семен, говори!
Каретник, оскалившись, тёр подбородок большим пальцем.
— Я — «за», — сказал сурово.
— Марченко!
Алексей покраснел, закурил, не мог вымолвить ни слова.
— Говори, люди ждут, — глаза Махно с расширенными зрачками не оставляли надежды.
— «За», — выдавил наконец Марченко.
— Лютый!
— Я воздержусь.
— Ах ты ж, виршеплёт. Калашников!
— «За».
— Чубенко!
— Тоже «за», — никто из них не хотел произносить страшного слова «расстрел». Они впервые должны были казнить своих, и это казалось чудовищным. Но что же делать? Спорить на глазах у взвинченного отряда? Митинговать? Да разорвут же на части или перестреляют друг друга.
— Значит, так. Кто «за», те и приведут приговор в исполнение, — жестко подвел итог Махно. Потом обратился к повстанцам: — Отряд, слушай! Вот эти двое опозорили наше святое дело. Вина их твердо установлена. Мало того, что занялись разбоем, — затаились, бросая грязную тень на каждого из вас. Мы этого ни сейчас, ни впредь не потерпим. Заразу выжигают каленым железом. Штаб принял решение… — Нестор осекся, дыхание у него перехватило. Все стояли без шороха. — Расстрелять перед строем! — крикнул Махно, и передние ряды повстанцев напряглись в изумлении. Люди явно не ожидали такого исхода. — Товарищ Каретник, приступайте!
Вакула и дибривчанин умерли молча.
А чуть позже крестьяне принесли три ящика патронов, которые прятали на черный день.
16 ноября
Опять дождь. Чтоб он!.. С утра началась частичная погрузка германских войск на пароходы… В ходу только русские деньги… В Симферополь прибыл с Кубани отряд Добровольческой Армии… Интересно отметить, как вошел сегодня в порт пароход «Алексей» из Севастополя. Еще в море у него развевался на корме огромный русский национальный флаг. Когда же он стал входить в гавань, то национальный флаг был спущен и поднят голубо-желтый Украинский.
«Дневник обывателя» из «Архива русской революции».В Екатеринославе бастуют все фабрики и заводы.
Толпа демонстрантов шла по улицам с криками «Долой гетмана», «Да здравствует власть Советов». Австрийский гарнизон поддерживал порядок в шествии. Вся буржуазия попряталась. Вечером прибыло много офицеров-добровольцев, и начались обыски и аресты.
Газета «Беднота». 22 ноября 1918 г.Дорогой Владимир Ильич!
…17 ноября оформился совет Украинского фронта, замаскированно названный совет группы Курского направления. Его состав: я, т. Сталин, т. Затонский… Сейчас можно голыми (да дерзкими) руками взять то, что потом придется брать лбом.
Антонов.Перевалило уже за полночь. Махно сидел в штабе один. Из открытой форточки тянуло сладковатым запахом снега. На стене, сбиваясь с ритма, словно через силу тикали ходики. Скрипнула дверь, вошел Петр Лютый.
— Теперь мы дома надо-олго, — сказал, позевывая в кулак. — Австриякам не до нас. Они на станциях… А эту кралечку ты разве не помнишь, Батько? Раньше встречались же на улице…
— Нет, — холодно отрезал Нестор. Ему не нравилось, когда лезли в его личные дела, пусть даже и такие близкие люди, как Петя. Тем более, что тут был особый случай.
— А почему? — занудно приставал адъютант. — Такую тру-удно забыть!
— Ты по документам разве Петр?
— Не-е. Исидор, — он нагнулся и с металлическим стрекотом подтянул гирю ходиков, что висела уже до пола.
— А почему так записали?
— Понятия не имею.
— Вот и я не имею, — внушительно заключил Махно. — Иди спать!
— Не позволю себе, — адъютант еще подкрутил язычок лампы «летучая мышь».
— Приказываю!
— Тогда бегу с удовольствием, — Лютый любил поспать, да и жена, мать дома заждались. Он спросил доверительно: — Хочешь стихи пописать?
— Не до них. Дневник. Дежурный далеко?
— Алексей Марченко во дворе.
Тикали ходики. За окном спало Гуляй-Поле, и наконец никто не мешал. Нестор достал из подсумка толстую тетрадь в кожаном переплете и написал: «29 ноября 1918. «Гибель» Батьки». Живо вспомнилось, как они возвращались домой по селам и люди шушукались: «Тю, дывысь, Махно! А казалы, шо вбылы!» Умеют же властители пустить пакостный слух. Да бес с ними. То, что его поистине волновало, было вот оно, рядом. Нестор взял «летучую мышь» и вышел в коридор. С улицы заглянул в дверь постовой.
— Можэ, шо хотилы, Батько?
— Нет. Смотри там в оба.
Махно направился в библиотеку. На стеллажиках вкривь и вкось стояли потрепанные учебники, а сбоку лежали книги для преподавателей. Одна мерцала золотым тиснением. Название было не совсем понятное: «Всеобщая психология с физиогномикой».
— Подайте мне ее, — попросил еще днем Нестор. Хотелось узнать, что за физиогномика. Да какая там книжка! Он во все глаза смотрел на учительницу: высокую, тоненькую и кареокую. Чудо, а не учительница. Молоденькая и дорогими духами пахнет. Он ее уже видел. Да раньше нечего было и думать о встрече с такой. Паршивая аристократка и не глянула бы на него. И сейчас нос воротит. Это тебе не Тина!
Девушка молча взяла книгу смуглой тонкой рукой, еле подняла и… уронила на пол. Петр Лютый, неотступно следовавший за Батькой, шустро наклонился и подал тяжелый том. Учительница все глядела в сторону. Ее пугали мрачно блестевшие глаза Нестора. Несколько дней назад коварный поездок покосил лучших разведчиков отрада. Помещик Ленц заманил его в колонию и ударил сзади. В Рождественке приговорили за доносы не кого-нибудь — священника. Глаза всё вбирали, таили. Увидев их, девушка ожглась и не смела больше встречаться с ними.
А Нестор воспринял это как презрение к нему, нищему коротышу, сыну господского кучера. Потому взял книгу из рук Лютого и в сердцах бросил на пол.
— Подними! — велел девушке. Она, казалось, еще более смутилась, покраснела и потупилась.
Во всей округе уже не было человека, который посмел бы безнаказанно ослушаться Махно. Разве что мать. Но она давно не та строгая наставница, стегавшая его скрученной веревкой, а жалкая измученная старушка. Ей и слово-то поперек неловко вымолвить, не то что приказывать.
Девушка не шелохнулась.
— Я говорю подними и дай мне в руки! — повторил Нестор строже.
Сейчас, стоя с лампой и живо представляя ту сцену, он до боли прикусил нижнюю губу: «Анархист, едреный хвост! Князь Кропоткин, если б увидел, умер бы со стыда. Нашел перед кем показывать характер, дурак!» Но сердце подсказывало, что верно поступил: на знакомство и сватовство нет времени, и нрав у него не тот.
Поскольку девушка не повиновалась, Нестор расстегнул кобуру. И тогда произошло то, чего ждало сердце. Учительница вдруг смело взглянула на Батьку, не выдержала его взор, опустила ресницы и, тем не менее, сказала с вызовом:
— Культурный чоловик так бы нэ зробыв. А я вас… нэ боюсь, — и она опять, явно через силу, посмотрела на него такими ясно-карими очами, что Нестор в смятении выскочил из библиотеки. Петр молча бежал за ним.
«Хам, хам!» — говорил себе Махно, и «летучая мышь» подрагивала в его руке. Сердце же радовалось. Такую писаную гордячку он искал всю жизнь и, похоже, нашел.
«Ишь ты, учительница! Галина Кузьменко. Видали мы и более гонористых лошадок. Объездим. Подумаешь, недотрога!»
Он присел к столу и записал в дневнике: «Вчера встретил Галину». Захотелось прибавить: «Свое счастье». Но кто знает, в чьи руки попадет завтра эта тетрадь из имения помещика Ленца, и где оно — верное счастье? Потому написал Нестор другое: «Новогупаловка. Поездок. Мы только учимся воевать».
После удачной атаки на австрийские эшелоны, после порогов, редкого отдыха в Васильевке повстанцы выпили рома, расслабились. А тут донесли: бегает подозрительный поездок. Может, тормознем? Батько подозвал младшего Каретника, что командовал разведчиками из старых солдат-пограничников.
— Осилишь, Пантюша? — спросил.
— Запросто.
— Ну, давайте.
Сомнение все-таки брало, и Махно послал в обход поездка пехотинцев. Не успели они выйти к линии, как послышались выстрелы. Это Пантелей с хлопцами выскочил наперерез поездку. Тот притормозил, вроде для остановки, а на самом деле для точности прицелов. Пятеро повстанцев сразу упали замертво, другие корчились от ран, командиру раздробило руку. Поездок укатил. Вот так. А ведь были заряды. Ну вздыбь колею, отрежь ему отступление. Эх, тетери защипанные.
— Больше никогда перед боем не пьем! Как запорожские казаки, — сказал Махно членам штаба. — Кто нарушит — шкуру спущу! И с себя тоже.
Он почесал затылок, записал дальше в дневнике: «Сельцо Алеево. Митинг. Директория». Там всю ночь оперировали раненых. Глядя на их страдания, Нестор каялся, нервничал. Руку Пантелею не отрезали, спасли. А утром собрали митинг. Махно говорил о «рабском положении крестьян под гнетом гетмана». Из толпы вышел дядя в сером пальто и перчатках, явно не землероб, и спросил:
— Вы що, нэ чулы? В Кыеви ж пэрэворот!
Нестор был удивлен. Не известием (что ему Киев?), а тем, что какой-то болван смеет перебивать его, да еще и принародно уличает в незнании.
— Гэтьман Скоропадський лопнув, як мыльный пузырь! — продолжал незнакомец с воодушевлением. — Организувалась Дырэктория…
— Что за хмырь? — шепнул Махно Василевскому.
Григорий узнал, доложил тоже тихо:
— Местный учитель.
А тот повернулся к сходу и говорил уже с восторгом:
— Цэ наша власть. Вынныченко социалист. Вин вэрнэ рэспублику. Вам дадуть всю зэмлю! — учитель вдруг поинтересовался: — А як вы, Батько, ставытэсь до всего цього?
Нестор растерялся. За последнее время привык, что его слушают без возражений и коварных реплик, которые были просто опасны, и воспринимал это как доказательство своего ораторского искусства. Потому и любил выступать. Взять хотя бы сегодня. Не спал, изнервничался, сельцо махонькое. Зачем этот митинг? Щусь посоветовал: «Брось, Батько. Лучше подави подушку пару часов. Ты же в Васильевке чесал? Чесал. В Новогупаловке тоже…» — «Что чесал?» — возмутился Махно. Учуяв запах жареного, Федор прикусил язык.
Кроме того, Нестор очень хотел, чтобы люди знали цели их борьбы. Что те листовки, которые они рассылали? Вот если бы газету иметь! Но ее нет. Значит, горячее слово подавай. А его-то в запасе и не оказалось.
— Украинским труженикам… гм, гм… мало чего… везла история, — начал Махно, заикаясь и слыша, что несет чепуху. Такое с ним случилось впервые. Он жарко витийствовал на многолюдных митингах в семнадцатом году в Александровске, Екатеринославе, Таганроге, Астрахани, побивал эсеров, большевиков. А сейчас позорно закашлялся и попросил кружку воды. Пока бегали за ней, он попытался нащупать слабинку в сообщении о Директории. — Кто там еще, кроме Винниченко?
— Петлюра, — простодушно ответил учитель.
Нестор загорелся:
— А не та ли это Петлюра, что шла впереди немцев сюда, прокладывая им путь к грабежу наших земляков?
Крестьяне зашевелились.
— Та то ж Сымон Пэтлюра. Вин, а нэ вона! — обескураженно воскликнул учитель.
— Вин, вин, авантюрист! — подхватил Махно. Дальше он говорил уже так, что оппонент лишь руками в перчатках разводил. — Да, Винниченко социалист, причем искренний, насколько я знаю. Но какую роль он играл при заключении Центральной Радой союза с немцами? Это же он пригласил их армию, которая порет и убивает крестьян Украины. Ничего себе социализм! Какой же дурак поверит вашей Директории?
Сход заволновался.
— А теперь самое важное! — шумнул Нестор. — Землю, всю без остатка, мы давно отдали. Пользуйтесь даром, люди добрые!
— Ну, если так, то я тоже против Директории, — смущенно согласился учитель.
— Как ваша фамилия?
— Чернокнижный.
— Ничего себе. Почти колдун! — сказал Александр Калашников. — Давай к нам. Еще одна светлая голова не помешает. Верно, Батько?
Махно кивнул и улыбнулся, довольный.
Когда поехали дальше, к Гуляй-Полю, их встречали с сомнением и страхом.
— Оцэ хиба вин? — шепотом спрашивали в селах, крестясь. — Батько ж погыб!
Оказалось, что поездок прикатил в Александровск! и оповестил: «Всем! Всем! Всем! Нами убит Махно!» К тому же крестьяне видели, как почетно хоронили разведчиков, и решили, что предавали земле больших людей. Молва быстро распространилась, и, когда встречали Батьку, это воспринималось как чудо. Живой водой он владеет, что ли? Разноликая слава его росла, летела все дальше от Гуляй-Поля: спаситель бедных, чародей, палач и громила, каких свет не видывал!
Тем временем гетманщина всеми силами старалась привлечь на свою сторону антантовские войска… Это нас удивляло и возмущало. Еще организуя восстание, мы вступили в неофициальные отношения с представителями Антанты в Румынии и последние горячо нас поддерживали…
С запада нам угрожали поляки…
В. Винниченко. «В1дродження наии».
Поезда, следовавшие на юг (из Киева), увозили цвет русской эмиграции и политических партий на новый, третий по счету, этап, предназначенный им судьбой…
Вся Украина была объята анархией.
А. Деникин. «Гетманство и Директория на Украине».
Кавалеристы рубили лозу. Алексей Марченко, большой любитель этой потехи, еще в старой армии отхвативший Георгия за удаль, покрикивал на неловких учеников:
— Василий, твою ж бабушку в печенку! — ругал Данилова, гуляйпольского сапожника и кузнеца. — Это не кувалда — лезвие. Наотмашь секи!
Толку было мало. Алексей не выдерживал, взлетал в седло и показывал «гыбэльный взмах и потяг». Махно наблюдал за ними, качая головой. Какая армия без кавалерии? Но как же трудно слепить ее: лошадку изыщи лихую, всадника — из десятка выбирай. Шашку где раздобыть булатную? Да не одну — сотни. А командира огневого? Лава на лаву — пострашнее штыковой схватки!
— Что ты шарахаешься, курица мокрая? Не бойся канавы! — возмущался Марченко. — Она же метр всего без четверти, а конь спиной чует труса. Эх, завалился, пехота. Ребра хоть целые?
Спустя несколько минут он опять шумел:
— У нас еропланов нет. Конница — глаза и уши армии.
— Та дэ ж вона? — спрашивали его.
— Будет! Завтра! Из вас, лопоухих, склеим, — и Нестору было приятно слышать это.
В последнем рейде он дал Алешке потешиться, послал вперед с такими же азартными хлопцами. Летите с сабельным свистом, ловите шальные пули — кому какая планида выпала. «Жив Махно! Жив!» — орали они, задыхаясь от встречного ветра и страха. Нестор опасался потерять верного помощника, но разве можно жалеть клинок, алчущий огня и закалки? Сам же Батько не лез в рубку: плечо всегда чувствовало застарелый бутырский туберкулез.
— Гляди в оба, — говорил Трояну, что тоже ловко рубил лозу, — и выискивай нам, Гаврюха, самых вертких угрей!
Адъютант потихоньку сколачивал преданный караул, чтобы стеречь Батьку. Мало ли. Вон мама с женой пропали без весточки. Поседел, пока разыскал их, запуганных и плачущих, в Пологах. Любой может исчезнуть в сегодняшней кровавой каше, как семя укропа. Сначала подобралось двое-трое, теперь уже до десятка молодцов сопровождают штабную тачанку на «фронты». А они зашевелились.
Петр Петренко сплотил более тысячи повстанцев со стороны Юзовки.
В Пологи был послан с тремя сотнями новенький — Василий Куриленко, мужик крутой и цепкий. А сколько «диких» атаманов бедокурит вокруг? Один безногий батько Правда чего стоит! Бочками самогон пьет, верблюд. Большевички с рабочими кучкуются. Снова объявились сечевики-петлюровцы. На них на всех пока слабо, но напирают казачки с Дона. Им готовы помочь немцы-колонисты, помещичьи карательные отряды. Кто во что горазд…
На заснеженном косогоре показалась группа верховых.
— Чьи это? — спросил Троян.
Хлопцы, что рубили лозу, тоже разглядывали незнакомцев. Впереди ехал свой, из разведки, похоже, Зиньковский. Он поднял руку. Те, что были за ним, приотстали. Левка доложил:
— Шпиона поймали, Батько. Люди Куриленко сняли ночью с поезда. К белым, курва, пробирался или к петлюровцам.
— Гаврюша, отряди его в штаб, — велел Махно. — Я скоро буду.
Из тюремного опыта он давно усвоил, что провокаторов, доносчиков, тем более шпионов ни в коем случае нельзя допрашивать прилюдно. А месяц тому схватили гетманского сыщика Прокофия Коростелева, заставили говорить прямо в штабе. Многим лучше бы и не слышать. В шпионской сети подвизались и евреи-торгаши, готовые служить любой власти. «Ты можешь после этого им доверять? — спрашивал Федор Щусь, напирая на слово «им». — Видишь, какие падлы?» — «Брось ерепениться! — возмутился Нестор. — А что, среди нас нет выродков?» Федор упорствовал: «Ты вообще рассуждаешь, а тут факты, фамилии. Не в бровь, а в глаз!» Коростелева отвели на скотомогильник и пристрелили. С упрямым же Щусем да и с другими пришлось долго повозиться, чтобы выбить гнусную дурь. А молва-то выпорхнула, ей рот не заткнешь. «Лучше б они не знали тех подлых фактов», — сделал вывод Махно.
Увидев шпиона при штабе, он сразу определил, что это ЧУЖОЙ, и к бабке не ходи. На его бледном лице лежал тот редкий отпечаток утонченности, что оставляют лишь многолетние усилия ума и, особенно, души. Худощавый и физически, наверно, слабый, он смотрел на Батьку светло-серыми глазами без всякого страха.
— Ты с Дона?
— Да.
— Казак, что ли?
Они стояли уже по разные стороны стола. Нестор не сомневался: это городской человек, уздечку не щупал, белая кость.
— Я из Ростова. Энтомолог, — незнакомец не терял чувства юмора и хотел выяснить степень любознательности и опасности атамана. Тем более, что не чувствовал за собой никакой вины: ехал в Екатеринослав к больной сестре. По случаю согласился передать какую-то бумагу какому-то генералу. Вот и всё. Его, правда, предупредили, что это опасно, да он по наивности не особо беспокоился.
Нестору же подобная инфантильность и чистота были неизвестны. Такого сорта людей он просто никогда не встречал и потому решил, что его разыгрывают. «Или он остолоп, если не боится? — усомнился Батько. — Да непохоже. Белая кость».
— Слушай, мы тебя… болвана… сейчас хлопнем. А?
Они смотрели друг другу в глаза. Нестор испытывающе: «Что за птица такая, непуганая? Словно и не слышала выстрелов никогда. Во-о, стрепет!» А энтомолог разглядывал шрамик под левым глазом атамана, расширенные зрачки («Как у настоящей веснянки? Нет. Терновая цикада? Похоже»), смуглую кожу, грубые лицевые кости — всё кочевое, ископаемо-живое. Оно дышало рядом и пугало, пока вроде, слава Богу, беззлобно.
— Эту бумагу где нашли? — нарушил молчание Махно, показывая улику.
— У меня.
— Знаешь, о чем она?
— Понятия не имею, — в серых мягких глазах, на розовых губах незнакомца появилось смущение. А бумага была вот какая.
Ноября месяца 20 дня, 1918 г.
Атаману Екатеринославского Коша войск украинских казаков Воробцу
Милостивый государь!
На всем огромном пространстве России, в этом мире анархии, слава Провидению, стали образовываться островки порядка у Вас и у нас. Они укрепляют надежду и могли бы превратиться в точки приложения созидательных сил. Нам, казакам, делить нечего. Испытав ужасы большевицкой волны, Дон уже опамятовался. Верим, что эти чувства близки и Вашим доблестным воинам. Наслышаны также, что у Вас формируется 8-ой офицерский корпус.
Исходя из всего этого, считали бы целесообразным установление более тесных контактов по всем вопросам предстоящей борьбы с красной чумой и анархией за честь и свободу родной земли.
Атаман Войска Донского генерал Краснов.Еще раз просмотрев письмо, Махно с недоумением уставился на шпиона. Дело в том, что накануне в Гуляй-Поле получили две телеграммы от этого самого Воробца. В одной он просил прислать делегацию махновцев для переговоров о совместной борьбе за украинскую Державу, и Чубенко уехал, надеясь раздобыть оружие. В другой же атаман Коша предлагал отпустить к нему посланца Дона, возможно, как раз вот этого. «Чья игра?» — размышлял Нестор. По сообщению Чубенко, Воробец категорически отрицал свою причастность к телеграммам. Может, и Краснов ничего не писал?
Между тем «шпион» спросил с искренним любопытством:
— Простите, а за что вы бьетесь?
«Белая кость» не сомневался, что перед ним обыкновенный бандит с большой дороги, обвешанный оружием. Смущал разве что китель с темными фигурными застежками, военный или цирковой, да длинные волосы с сединой. Для грабителя это вроде излишне.
— Что ты знаешь о свободе? — в свою очередь спросил Нестор, но грубо и высокомерно.
— Я немало размышлял об этом, — отвечал энтомолог очень серьезно. — Пожалуй, ближе всех к истине тут подошел мудрый Шопенгауэр. Он, и я тоже, различаем свободу физическую, то есть нашего тела. Она наиболее проста и понятна. Вы, очевидно, ее имеете в виду?
— Нет. Речь идет о социальной свободе. Она, и только она, для нас дороже всего.
— Позвольте, я еще не закончил, — настойчивее продолжал «Белая кость», присаживаясь к столу. Нестор тоже сел. Ему было интересно. — Есть и другие виды свободы: интеллектуальная, прежде всего вольный обмен информацией, и главное — моральная, нравственная. А уж изо всех трех и складывается то, что вы любите.
— Э-эх, свободу нельзя выследить и схватить словами! — веско изрек Махно, враз преобразившись. Он вскинул крупную свою, кудлатую голову и смотрел на «Белую кость» с таким мрачным торжеством, что тот невольно потупился. — Она вспыхивает в сердце, если оно пороховое, а не сырец. Ведомо ли тебе то сладкое и страшное горение?
— Нет, — честно признал гость, учуяв опасность. — Но где же ваш Бог — корень любой свободы?
— Я же сказал: то, что ярко горит в сердце, и есть святое. А наша опора — бдительность. Вот коцнем тебя — и делу конец.
То, как он легко это произнес, поразило «Белую кость». «Ведь и правда кокнут! Что им стоит? — подумал он, похолодев. — Публика тут поистине простая, словно жгутиконосцы» (Прим. ред. — Микроскопически малые существа).
— Вы можете, конечно, это сделать, — лепетал он вслух. — Но, во-первых, я не военный и никогда им не буду. А потом… порвите бумагу, и всё!
— Понимаешь, какая штука, — Махно почесал затылок. Слабость с утра еще прицепилась и не отпускала. Простыл, что ли? — Ты мне лично понравился. Грамотный, честный, мог бы агитатором у нас быть. Но тогда, дорогой, никуда больше не поедешь, чтобы не передал эти сведения. Согласен?
— Разумеется, — вздохнул «Белая кость».
— Но есть один крючок, и его надо разогнуть. Ты — шпион. Все в отряде это знают. Так оно или нет, уже не важно. Молва пошла. А она, стерва, живуча и ядовита. Значит, я должен крепко рискнуть, поручаясь за тебя. Так? Ты же, небось, тоже верующий?
Незнакомец охотно кивнул.
— Вот и хорошо. Тогда, будь любезен, и ты возьми грех на душу. Взаимно, честь по чести. Откажись от Бога публично. Иначе какой же из тебя анархический агитатор? Для нас превыше всего человек-труженик и ЕГО счастье!
Павел Бульба (так звали «шпиона») побелел. Жизнь представлялась ему скучной и мелкой без Бога и высшего мира. Но не того, о котором говорили, писали церковники. Все, что Павел видел вокруг, казалось лишь ничтожными задворками Великого, окутанного тайной. Он ловил пауков, мух, пчел, муравьев, изучал их, влюблялся в студенток, заботился о близких, вот о больной сестре, теперь попал к разбойникам. Но в глубине души, и сейчас тоже, чувствовал, что находится вне всего этого, как бы в другом мире. Независимый и посторонний. Восторгаясь красотой Печерской Лавры, других монастырей, церквей, он не любил затворников и древне-славянские письмена. Хотя в них явственно довлело прародное, но от них же веяло духовной ограниченностью, словно предки совсем уж были бездарными и не спромоглись сами услышать новое запредельное слово. Временами Павлу казалось, что он его улавливает: для Бога мы слишком ничтожны, чтобы он нами интересовался. Однако люди и не заброшены на произвол рока. Достаточно лишь не нарушать коренных законов Существа, в котором мы затеряны. И от всего отречься? Кто же он тогда будет? Жгутиконосец?!
Тонкими дрожащими пальцами Павел обхватил лоб и тер, сжимал его. Нестор молча ждал. Для него слова, сами по себе, ничего не стоили. Если бы предложили, к примеру, отречься от свободы, он прежде всего спросил бы: «В тюрьму сесть по собственному желанию, что ли?
На пасеке заснуть, сложа ручки?» Абстрактная воля для него не существовала, как и Бог, Держава, как коммунизм и справедливость. Потому отдавать за них жизнь, полагал он, — крайняя глупость. Всё должно быть ясным и конкретным, без обмана. И то, что «Белая кость» так долго колеблется, раздражало Махно: «Ну что ему тот Бог? Есть он или нет — неизвестно. А шкура одна и счастье одно на всех!» Смущало же то, что шпион давно бы согласился. А этот мучится. Особое нечто ведает, дороже жизни?
Тут вошел адъютант Григорий Василевский.
— Молния из Екатеринослава, Батько!
— Выдь вон! — крикнул Махно.
Он был взбешен. Какая-то редкая тайна шевелилась так близко. Э-эх, ты ж! Григорий отшатнулся, попятился и прикрыл дверь.
— Нет. Не могу, — тяжело вздохнул «Белая кость».
— Окончательно? — переспросил Нестор, поднимаясь из-за стола.
— Вы же местный, из казаков, видать. Вспомните Тараса Бульбу, — быстро, нервно заговорил незнакомец и вскочил. — За что он отправился на костер? Моя фамилия, кстати, тоже Бульба.
— Это уже не важно. Давай на выход. Григорий! — Дверь открылась. — Убери мерзавца. В расход.
Василевский передал Батьке телеграмму и увел «шпиона». Чубенко сообщал из Екатеринослава: «То, что нам край нужно, получено». Нестор обрадовался: «Есть оружие!» Далее посланцы (вместе с Чубенко их было четверо) просили не отзывать их домой еще несколько дней, «чтобы разведать контрреволюционные силы».
Где-то за штабом глухо стрельнули.
Галина тщательно собиралась на чужую свадьбу. «Колы ж будэ моя? — с грустью думала девушка, заглядывая в зеркало и прихорашиваясь. — Вжэ двадцать чотыры рокы жду. Дэ ж той сужэный заблудывся? Чи я вжэ така нэвродлыва и нэсчаслыва?»
Между тем то, что она видела в зеркале, нравилось ей. Узкое смуглое личико, нежная кожа. Галина пощупала щеки: «Так, свижи». Без всяких кремов и примочек из огуречного сока и ромашки. Светло-карие глаза блестели живо и загадочно. «Пидвэсты? — засомневалась девушка, повертела карандаш и положила на столик. — Нэ трэба. И так гарни». Очи были, конечно, уже не те, что в шестнадцать лет пленили барона Корфа: чистейшие роднички света, как у стрекозы, словно набранные из янтарных хрусталиков. Теперь лучики попрятались, затаились, и только опытный, не Юрин — мужской взор мог бы разглядеть их зрелую прелесть и снова озарить. Найдется ли такой в захолустном Гуляй-Поле?
Об этом она мечтала, еще когда закончила Добровеличковскую женскую семинарию с золотой медалью и ехала сюда по направлению в двухклассную школку. Эх, Юра Корф, сладкопевчий, милый, пугливый соловушко! Где ты? Размотаны судьбой, видимо, навсегда. Семь лет уже утекло безотрадных. Галина потеребила нос: «Цэ ты вынуватый!» Он был и правда несколько больше, чем хотелось. Не так, чтобы очень. Он ничего не портил, но выдавал натуру крепкую. Нос был отцовский. Поменьше и поизящнее, но все же не мамин золотничок. Нет.
Галина представила себе отца: статного лейб-гвардейца Измайловского полка, куда лишь быть отобранным считалось великой честью.
— Это вам не заштатный павлоградский пехотинец какой-нибудь. И не казачишка в мешковатых штанах. Тем более не жандарм из Могилев-Подольска! — говаривал Андрей Иванович Кузьменко, с гордостью показывая старую фотокарточку, где он был во весь рост, или опрокидывая в рот очередной стаканчик горилки.
— Нэ пый! — сердилась мама.
— Что же от меня осталось, милая, если даже из жандармов поперли? Ты бы еще запретила мне кушать!
Семья переехала в родной Песчаный Брод, где по обычаю предков занималась сельским хозяйством. Галина к тому времени закончила шесть классов женской гимназии в Могилев-Подольске. Какой ни мелкий городишко, а чистые, богатенькие мальчики бегали вокруг, вытанцовывали. Чем же занять себя в этом глухом Броде через речушку Черный Ташлык? Скука же смертная, рехнуться можно: ни надежды, ни счастья, ни веры. Жажда любви сводила с ума, и Галя решила уйти… в монахини, всей душой отдаться Богу.
— Та шо цэ ты надумала, доця? — изумилась мать. — Ты ж ще ничого на свити нэ бачыла!
Отец тоже категорически возражал:
— Послушница! Ты меня послухай. Монастырь хуже любой каторги!
Жандармский унтер-офицер доподлинно знал, что туда запирали некогда тяжких уголовников либо безнадежных политических и сумасшедших. А его сопливая дочь добровольно рвется под тот замок. Веру, видите ли, возлюбила. Где она в этом паскудном мире? Одни вериги. Не-ет, что-то тут нечистое!
Галя, однако, не отступала. Не зря у нее отцовский нос. Ох, не зря.
— Ну иди, иди, дуреха! Но запомни: туда легче попасть, чем вырваться. Монахи с виду овечки. Запоры у них похлеще тюремных! — заключил Андрей Иванович и лично повез дочку в Красногорскую женскую обитель, что на Полтавщине. Там их встретили не без сомнений. Уж больно молоденькая и смазливенькая девочка, так и стреляет стрекозиными глазками.
— Ты крепко подумала? — спросила мать-игуменья, строго разглядывая редких посетителей. — У нас ведь ни балов, ни кавалеров не встретишь.
— Я хочу отдаться вере, — как-то двусмысленно ответила новенькая, не замечая этого.
— Наш путь не для слабых духом, — предупредила игуменья. — Слышала, кто такая монахиня?
— Нет еще.
— Скромность украшает тебя. Буквально: одинокая. Мы же непогребенные мертвецы, чины ангельские на земле. Коль страшишься — есть время вникнуть и отказаться. Неволить не станем.
— Я твердо решила! — заявила Галина, не глядя на отца, и странно было слышать это от шестнадцатилетней девочки.
— Ну что же. Тогда пошли…
Ей дали новое имя — Анфиса. Оно понравилось, и вообще в монастыре было чудесно: тихо, уютно, лампадки горят, сестры поют, все такие вежливые. Поистине, как в раю! Молоденькую послушницу пока щадили, не поручали грязных работ, хотя и не баловали. Игуменья даже позволяла иногда выйти за пределы обители, полюбоваться Божьим миром. А на луговине перед праздниками маняще раскидывалась ярмарка с цветастыми платками, бусами, медом, алой морковью и цыганским звонким табором. Здесь однажды и встретил Анфису молодой барон Корф и был потрясен: «Такая жемчужина — и в черной оправе!»
После двух свиданий они надумали пожениться. «Будем любить друг друга до гроба!» — заверял Юрий. Но что же предпринять? Ясное дело — бежать!
Когда в монастыре обнаружили пропажу послушницы, возник переполох. А влюбленные были уже в имении Корфов, где их ждало, однако, страшное разочарование. Спесивые родители жениха не захотели даже слышать о крестьянской девушке, тем паче — беглянке из православного монастыря. Она впервые почувствовала с горечью и возмущением, что значит быть бедной и незнатной. «Ах так, — думала, — я же вам, поганым баронам, докажу!» Что нужно для этого сделать, она не имела представления, но обиду затаила.
Анфису насильно вернули и еще более разбередили рану. Теперь уж обитель показалась ей постылой клеткой.
— Я не хочу здесь! Отпустите меня! — вопила и плакала послушница.
Вроде бы после такого удара в самое сердце наступило время одуматься, поставить свечку Божьей матери, принести покаяние. Многие и попадали за эти глухие стены, стремясь укрыться от подлого, жестокого мира. Галина была не из них. В ней проснулся протест, он еще только-только проклюнулся. Она даже и не подозревала, насколько он может быть темен и неудержим.
О ее насильном заточении стало известно в округе, и, поупорствовав, игуменья отпустила глупую и вздорную девчонку домой. А потом была женская семинария и Гуляй-Поле…
Феня Гаенко, верная подруга, ждала Галину на улице. Их вместе пригласили на свадьбу. Они ласково обнялись и пошли через мост к Коростелевым. Не к тем, где жил Прокофий, расстрелянный на скотомогильнике, а к другим — бочанским. Они женили Макара на Забавиной Ивге. Ожидалось много всяких гостей, и девушкам было интересно.
— Хлопцев там — куры не клюют! — лепетала по дороге Феня. Беленькая и тоненькая, она никогда не падала духом. Эту легкость ее характера и при том умение хранить тайну Галина очень ценила. Они преподавали в одной школе и давно сдружились.
В просторном коростелевском дворе снег был тщательно подметен, стояли разодетые хлопцы, курили, задорно поглядывая на девчат и за ворота. Скоро должны привезти невесту, нужно встречать, а если удастся, то и своровать туфельку, получить веселый выкуп. Время было, конечно, не свадебное, не довоенная теплая осень. Сейчас всё дрогнуло, переворотилось, но только не любовь и обычаи.
Галина с Феней зашли в хату, разделись. Пока там вяло пиликал баянист и столы ломились от нетронутой еды, самогона. Кто-то громко спросил:
— А кого ждэм? Чого сваты нэ йидуть?
— Та Батько ж Махно обищав буты. Макар у його в отряди. От вси й ждуть.
Галина как услышала это — и обомлела. Вот влипла, дурочка! Можно же было догадаться. Махно любит свадьбы. «И Фэня нэ пидказала. Що ж робыть?»— в панике, бестолково соображала Галина, боясь встречи с Нестором. Однажды подраненное сердце вещало, что это к добру не приведет. Избегай его. И это же сердце сладко замирало. Что теперь? Уйти? Остаться?
Тем временем появилась невеста. Все в хате и во дворе засуетились. Погромче заиграл баян, но его заглушил невесть откуда взявшийся духовой оркестр, и Галине было уже не до сомнений.
Вскоре подкатил с охраной и Батько. Его посадили на почетное место — под иконы. Галина с Феней примостились поодаль. Начались тосты, закричали: «Горько!» Жених с невестой неумело целовались, и в этом шуме-гаме Галина почувствовала на себе взгляд Нестора. Вскинула ресницы — точно! Из красного угла он смотрел на нее, а не на молодоженов, как все. Смотрел неотрывно. Тяжело. Девушка вздрогнула, еще подумала: «Откуда у него, малыша, такой гипноз?» Поднялась из-за стола и пошла из душной хаты на улицу.
За сугробом гремела цепью собака. «Бедная, и покормить, наверно, забыли?»— пожалела ее девушка, приближаясь. Вскинув лапы на снег, пес насторожился и зарычал. Она остановилась, но лохмач почему-то рванул цепь и залаял, давясь ошейником. «Что с ним?» — удивилась Галина и увидела Махно, который направлялся к собаке.
— Остановиться, Нэсторэ Ивановычу! Вин вас розирвэ! — просила с порога хозяйка. Махно что-то сказал. Пес умолк и завилял хвостом. Батько приблизился к нему, нагнулся, расстегнул ошейник, взял собаку поперек и понес в хату.
Галина в изумлении посторонилась. Нестор ожег ее каким-то белым, хищным взглядом, и, не зная зачем, девушка пошла следом. В хате, завидев собаку, все расступились не без страха. Пес был посажен под стол, и свадьба продолжалась. Но веселье как-то сникло. Примолк оркестр, оторопел баянист. Гости, хозяева терялись в догадках: для чего Батько притащил сюда эту собаку? Галина тоже не могла ни есть, ни пить. Она, единственная, смекнула: «Это он мне доказывает. Эх, Юра Корф, слюнявый соловушко». А Феня рядом хохотала и закусывала как ни в чем не бывало.
— Отпустить його, будь ласка, — сжалилась хозяйка. Пес взвизгнул (видимо, Нестор ударил его ногой) и выметнулся на улицу.
Заиграл оркестр. Вскоре хата уже ходуном ходила от жаркой пляски. А Галина незаметно пробралась к выходу и поспешила домой. Одна. Вослед ей неслось залихватское:
Эх, яблочко, Та куда ж котишься? Попадет до Махна — Не воротишься!Я, гетман всея Украины, в течение 7 месяцев все свои силы клал для того, чтобы вывести страну из того тяжелого положения, в котором она находится. Бог не дал мне сил справитьсяс этой задачей. Ныне в силу сложившихся условий, руководствуясь исключительно благами Украины, от власти отказываюсь.
Павло Скоропадский. 14 декабря 1918 г.Рыбачьи байды потеряли к зиме свои черные истрепанные паруса и теперь покоились кверху днищами. «Вот так и я», — глядя на них, думал Виктор Билаш, здоровяк лет двадцати пяти. Он надолго застрял здесь, у Мариуполя, в белой мазанке старого рыбака Федора и уже места себе не находил. Редкие снежинки с шорохом падали на доски лодок, холодили руки, цеплялись за брови. День был угрюмый, и куда бы Виктор ни посмотрел: на примолкшее без чаек Азовское море, в солончаковую степь — всюду ему чудилась стена родной хаты в Ново-Спасовке и дед около нее, и отец. Они так же снились, чаще всего под утро, иногда сами или с детьми на руках, и прощально махали, звали к себе. Но не днем. На свету они обычно молчали. Да нет же, зовут! Виктор стал оглядываться в замешательстве. К нему шел старик-рыбак.
— Эй, там гости до тебя, — сказал он. — В хате ждут. Пошли.
— А что им нужно?
— Сам попытаешь. Каждый из нас кочевник, привыкший к свободе неограниченного пространства, — замысловато ответил Федор.
Билаш не узнал гостей и насторожился: «Что за типы?»
— Назар я, Зуйченко. Весной вместе в Таганрог отступали, — навязчиво говорил высокий и худой мужик с заячьей губой. — Ты еще на Кубань собирался, Виктор. Десант хотел сколотить. Меня приглашал. Ну, вспомнил? Зуйченко я!
— А-а, — как-то грустно отозвался Билаш и обнял земляка. Тот представил ему двух спутников. Сели к столу, выпили.
— Нас разослали во все концы! — оживился Назар.
— Кто? — осторожно поинтересовался Виктор.
— Та Батько ж Махно. Слыхал?
— Всякую чепуху болтают.
— Да ты что? Он же с нами в Таганроге был, мальчик с пальчик, по пояс мне. Ну, вспомнил?
— Обязательно, — подтвердил Билаш, глядя на собеседников широко поставленными черными глазами с подкупающей искренностью. Хотя как потомок азовских казаков, много раз обманутых царями, Виктор был недоверчив, и легкая ирония пряталась в его усмешке. Батьку он не заприметил. Долетали слухи, что объявился Махно. А кто он такой? Весной в Таганроге толклось столько беглого люда: красноармейцы и анархисты, офицеры, их семьи, попутчики, мешочники, что запомнить кого-либо, не встречаясь с ним лично, было невозможно.
— Я еще до той революции баловался в театральном кружке, — продолжал Назар, и самодовольство прорывалось в его голосе. — Махно к нам просился, готов был хоть женские роли играть. У него подходящий тенорок такой. Это сейчас погрубел. Нестор нам тайно, на заводе Кернера, отливал корпуса бомб. Ничем особым не выделялся. Шустрый парнишка, шмыглявый. Да и вы же заскакивали к нам из Ново-Спасовки, сопливые тогда анархисты — Вдовыченко, кажется, Вася Куриленко.
— Ездили хлопцы, и я бывал, — согласился Билаш. Ему не нравился тон Зуйченко, какой-то покровительственный.
— А теперь нас попросили сгребать огонь в кучу, — говорил Назар, почесывая заячью губу. — У тебя, Витя, есть отряд? Или сам ошиваешься? Чего ждешь? Где кубанцы?
Хозяин еще принес бочковых помидоров, вяленой осетрины, четверть самогона поставил.
— Долго рассказывать, — ответил наконец Билаш.
— Для того и собрались. Ану, дед, угощай!
За окном все шел снег, в печке потрескивали дрова, и, греясь около нее, сладко зевал пушистый котик.
— Я же весной задумал десант высадить в Ейске, чтоб одним махом турнуть немцев и радовцев, что их привели, — начал Виктор.
— Мы ждали, — сбрехал Зуйченко. Из Таганрога он сбежал в хутор и тихо сидел до осени, пока не объявился Махно.
— Небитому кажется: горы сворочу! — продолжал Билаш, закусывая понемножку. Ему неловко было объедать хозяина, и так засиделся на чужих харчах. — Я мотнулся в Екатеринослав, Александровск, Пологи, оповестил всех, кто желал драться, и подался в Ново-Спасовку. Там меня уже ждали, сели на подводы и в степь. Смотрим — австрийцы! До полуроты. Что делать? Залегли, ждем. Всё цветет вокруг, колышется. Когда они приблизились, командую: «Первая цепь — в атаку! Вторая — на месте!» А нас всего-то двадцать. Вскочили, стрельнули поверх голов. Австрийцы и сели. Мы их разоружили, отпустили, а сами на хуторе ждем десантников. В это время в селе нашелся провокатор… — Билаш обратил внимание, что Зуйченко покраснел, то ли от выпитого, то ли еще от чего. — Да. Начались аресты. Подъехали к нашей хате. А в саду прятался знакомый. Ранил австрийца и бежал. Тогда хату оцепили, выволокли моего деда. Ему семьдесят лет. Батю тоже и брата Петра. Поставили к стенке. Офицер командует: «Огонь!» А солдаты ни в какую…
Виктор не мог продолжать, плеснул самогона в кружку. Тут в комнату прибежала девчушка с бантиком, забралась деду Федору на колено и с интересом рассматривала гостей. Билаш выпил, сказал:
— Хай она погуляет, — хозяин отпустил кроху, и та пошла, недовольно оглядываясь. — А не стреляли потому, что на руках у деда был вот такой же внук, а у бати — мой брат младшенький.
— Та ну! — отшатнулся Зуйченко.
— Офицеры выхватили кольты и… всех… до единого… моих.
— Господи, та шо ж воны? — хозяин закурил.
Виктор с усилием, вытаращив черные глаза, досказал:
— Барахло потащили из хаты, солому из клуни… Подчистую все спалили. Дотла.
— Во-о Европа! — воскликнул Назар. — Теперь удивляются, что мы не признаем власти, ни Центральну Раду, ни Директорию, никого… Так, Виктор, нечего ждать у моря погоды. Батько им всем показывает, где раки зимуют.
— Поехали! — согласился Билаш. Он загорелся и тащиться на подводе не смог. — Доберусь до Гуляй-Поля поездом. Подбросьте к любой глухой станции.
— Учти, до самой Розовки каратели шастают, — предупредил Зуйченко. — Есть лукавый документ?
— Имеется.
— Ну, гляди в оба.
На том и расстались.
Война войной, а в поезде народу хватало. От духоты Виктор протиснулся в тамбур.
— Скоро Волноваха, — сказал сосед. — Держись. Возьмут за грудки!
Остановились в поле, у семафора. Билаш услышал залп, выглянул: на откосе лежали пять трупов в одном белье. «За что их? Почему не убрали?»
— Приготовить документы! — донесся приказ, и было уже не до чужих судеб. Самому бы не улечься на откосе. Они въехали в прифронтовую полосу.
— Кто проверяет? — спросил Виктор соседа.
— А х… его, знает. Сутки назад офицеры шмонали.
Еще в Екатеринославе анархисты смастерили Билашу три бумаги: для предъявления красным, для петлюровцев и для белых. На любой спрос. Важно лишь не ошибиться, показать то, что надо. Офицер повертел «документ» Виктора, уточнил:
— Почему не на фронте, прапорщик?
— Четыре года в окопной соломе вшей кормил. Маму, детей могу повидать?
— Ваше право, — согласился офицер и отдал честь. — Но и жену не забудьте, — он подмигнул. — Возвращайтесь поскорее. Тут горячо!
Следующей была Розовка. Вокруг поезда стояли, ходили вартовые, старые казаки с красными лампасами, немцы-колонисты в аккуратных полушубках, австрийцы.
— Что за часть? — набравшись наглости, поинтересовался Билаш у патруля.
Тот окинул его подозрительным взглядом, ответил:
— Смешанный отряд генерала Май-Маевского. Ждем подкрепление — чеченскую дивизию.
Наконец поехали. В полях было пустынно, бело, печально, и даже не верилось, что рядом кто-то воюет. Теперь поезд остановили уже махновцы. Опять щупали вещи, смотрели документы.
— Сюда, хлопцы! — позвал дюжий повстанец в серой папахе. — Тут колонисты из Розовки! Я их, тварей, сразу узнал.
Белолицые, носатые пассажиры в шубах упирались.
— Вы ошиблись! Ошиблись! — протестовал один из них, постарше, в очках.
— Я ошибся? — возмутился повстанец, подзывая товарищей с карабинами. — Дывиться, цэ ж Браун! Дэ твойи сыны? В карательном отряде? Забыл, как я служил у тебя?
А потом в красную гвардию записался. Забыл? Что вы сделали с нашей хатой? Спалили, гады!
Грубыми дрожащими пальцами земледельца немец снял очки. Слезы бежали по его багровым щекам.
— Скидай одежу! — командовал тот, в серой папахе. — Ану живее, живее! Видишь, люди голые. На выход марш! В штаб Духонина их!
Колонисты продолжали упираться. Их штыками погнали из вагона. Поезд тронулся, но Билаш и другие пассажиры выглядывали из окон, из открытого тамбура. Было жалко беззащитных людей, двое из которых ни в чем не виноваты, и любопытно, что же с ними сделают. Тот, в серой папахе, размахнулся и ткнул штыком в зад старшего из арестованных. Очки полетели в снег. Немец упал, его кололи, как и тех двоих…
Опять остановились. Надолго. Пути были забиты составами, пахло паровозной гарью. Виктор спрыгнул на насыпь и увидел собаку. Она что-то еле тащила через рельсы. Господи, да ногу же. В сапоге! Билаш судорожно глотнул и глянул вниз. Там, в глиняном карьере, навалом лежали припорошенные снегом трупы, не сочтешь даже сколько. А вокруг них поскуливали собаки. Одна, большая, вроде сторожила добычу и не пускала остальных. Билаш поёжился, схватил камень и бросил. Они не разбежались, а завыли по-волчьи. «Одичали! — смятенно думалось. — Псы и люди… Было ли такое когда?» Он не знал историю Украины. Он вообще почти не читал никакой истории, но ответил себе: «Было, конечно. Да спало до поры».
— Виктор? Откуда? — услышал и увидел земляков с винтовками. Новоспасовцы окружили его, не обращая никакого внимания на трупы. А он не мог прийти в себя.
— С того света, — отвечал, криво усмехаясь.
— Ну и шутки у тебя! А мы уже молебен заказали. Айда на станцию.
— Кто там у вас командует?
— Та твий же прыятэль, а наш сапожник — Васыль Куриленко.
Они вышли на дорогу.
— Голова у него не хуже генеральской, слушай, больша-ая! А вот и он!
Подкатила тачанка, застланная теплыми одеялами. С нее легко соскочил мужчина лет тридцати в черном кожухе. Пугвицы на груди не сходились. Он враз обнял Билаша и прижал к себе.
— Потише, медведь!
— Жив, барбос! Жив! — повторял Василий с радостью. — Я же им говорил: такие — не пропадают! Поехали, Витек, в штаб.
Все они — Махно, Каретники, Марченко и Лютый, и Билаш, и Василий — учились лишь в начальной школе. Затем, войдя в кружки анархистов, много читали, спорили. Куриленко в армии приглядывался к мозговитым мужикам, проявил отвагу, получил солдатского Георгия первой степени. В Ново-Спасовке организовал отряд. Австрийцы его турнули, пришлось уносить ноги аж к Азовскому лесничеству. Оттуда с боями прорвались, наконец, к махновцам в Цареконстантиновку, и все атаманчики быстро признали главенство Куриленко.
— Добровольцы нас диким быдлом зовут, — рассказывал Василий, когда сели за стол к горячему борщу, налили австрийского рома. — На днях они поперли буром. У моих землеробов что? Самодельные пики, вилы, дробовики. Были, правда, и пулеметы, винтовки. Но сколько? Слезы! Четыре часа бились. Пропали бы…
Билаш не узнавал своего приятеля: такая уверенность и сила чувствовались в его голосе, жестах. «Мне бы еще прийти в себя, — даже с завистью подумал Виктор. — А то совсем раскис».
— Спасло нас, земляк, что насильно мобилизованные переметнулись, — говорил Куриленко. — Офицеры как увидели — дрогнули, побежали. Мы вооружились и двести пленных взяли. Заметил в глиняном карьере? Там они все, — и Василий выразительно рубанул рукой.
Виктор вздрогнул и залпом выпил стакан рому.
— Я же к Батьке еду, — сказал. — Все силы хочу сжать в один кулак. Иначе — крышка!
— Смешной ты, земляк. Что же, по-твоему, в Гуляй-Поле мало вождей? А впрочем, — Куриленко искоса глянул в широко поставленные черные глаза Билаша. — Впрочем, у тебя, пожалуй, хватит духу. Дерзай, казак, атаманом будешь!
Похвала и поддержка столь крепкого мужика много стоила. Виктор это оценил, положил руку на плечо приятеля, сжал его и отпустил.
— Да, семья бедствует твоя, — прибавил Василий. — Хаты-то нет. Бабы одни, в слезах. Может, лучше махнешь к ним? Заодно и моих проведаешь.
— А сколько у вас народу?
— Где-то семьсот штыков.
— Э-э, брат, мало. Я в Розовке слышал: чеченская дивизия летит сюда. Надо дружнее раскачивать веревку колокола. Еду в Ново-Спасовку. Дай мне для острастки с десяток сабель.
— Прямо сейчас?
— А чего ждать? Как выражается дед Федор из-под Мариуполя: «Каждый из нас кочевник, привыкший к свободе неограниченного пространства».
— Верно, верно, — согласился Куриленко.
Виктор вытер тарелку корочкой хлеба и поднялся.
— Еду!
Звонили колокола, блестели ризы, маячили иконы и хоругви. Я действительно не принимал в этом участия, но что же из того? «Казаки», которые мерзли с самого утра, как на царских парадах, понуро глядели на это старое, знакомое им явление и знали, что это Директория так празднует свою победу, — «революционная», «де м ократичес кая»…
В. Винниченко. «В/'дродження наци».
Сожженную хату Евдокии Матвеевны, матери Махно, привели в порядок на реквизированные деньги: вставили новые окна, двери, наладили крышу из красной черепицы, завезли мебель. Нестор лежал на кровати, пахнущей лаком, и вытирал со лба испарину. Его прихватила испанка (Прим. ред. — Вид гриппа). Вчера мать даже плакала над ним: «Сыночек, сыночек, полюбил ты эту свободу, как черт сухую вербу. Мытарь мой несчастненький». Он весь горел, бредил, вскрикивал:
— На рубку их! На рубку!
«На яку таку рубку?» — недоумевала Евдокия Матвеевна в страхе. Ее сменял у постели больного брат Савва, недавно выпущенный из Александровской тюрьмы, того — Петр Лютый или Григорий Василевский. Поилй Нестора крутым настоем зверобоя, чаем с малиновым вареньем, подметали в хате только веником из полыни-чернобыля, и сегодня полегчало.
— Батько, наши пригнали вагоны с оружием! — радостно сообщил Лютый. — Теперь держись, вражина! Прибыли даже пироксилиновые бомбы!
— Где хапнули? — слабым гоЛосом спросил Махно. — Петлюровцы вроде не обещали.
— Да ты же знаешь Сеню Миргородского как облупленного. Он и у сатаны из зубов выхватит. Когда грузили винтовки, заметил в складе кучу взрывчатки. Но не подступишься, казаки зверем глядят. Занес две бутыли самогона. Пей, хлопцы! Вот так хабарь!
— Семен далеко?
— Дома. Всю семью испанка завалила.
— Зови. Хочу подробности услышать.
— Может, завтра? Поспи лучше.
— Не-ет. Зови.
Миргородский был памятен ему по событиям годичной давности. Им тогда поручили «разгрузить» Александровскую тюрьму, такую знакомую паршивку. Послушали арестантов и… разошлись ни с чем. Не явился, видите ли, член ревкома, будущий председатель местной чеки. Нестор возмутился: «Разве может быть что-то более важное, чем дать людям свободу?» Он уже тогда полагал, что тюрьмам не место на земле.
Потом прибыл с севера целый эшелон — первая красногвардейская группа «помощи украинским рабочим и крестьянам в борьбе против Центральной Рады». Это за четыре месяца до прихода немцев. В столыпинских вагонах, кроме того, привезли генералов, полковников царской армии, полицейских, прокуроров — более двухсот человек. Их судьбы вручили фронтовому суду. Председателем избрали Махно, секретарем — Сеню Миргородского. Дали дела: «Читайте и быстро решайте. Времени в обрез!» — «Как, не видя людей?» — гневно спросил Нестор и стал вызывать бедняг по одному.
«Зачем их припёрли? — пожимал плечами Сеня. — Хотят спрятать грехи? Чтоб родные не выли? Нашими руками жар загребают?» Махно смотрел на него с любопытством: слишком въедлив этот левый эсеришко, как тюремный клоп! «Обратите внимание, — продолжал Миргородский, стуча пальцем по протоколу, — человека схватили без оружия. И того тоже. Нашли контру! Они попались по доносам гадов, которые под шумок сводят личные счеты. Эх, большевички — железная метла. Исколбасят они публику ой-йо-йой. Попомните мое слово. Надо выпускать, Нестор Иванович!» Многих освободили. Но было и другое. Допрашивали полковника. Он ничего не скрывал, ни о чем не просил. Когда выводили, крикнул: «Да здравствует Государь император Николай Александрович!» — «Враг, а красив, — заметил Сеня. — Со смертью за ручку. Мне бы его мощь!»
Вот такого живчика ждал Нестор. Он уже вздремнул, попил крутого настоя зверобоя, заботливо поданного Евдокией Матвеевной, когда вошел Миргородский. Лет тридцати, молодцеватый, в дубленом полушубке, он так и стрелял по сторонам темными воловьими глазами. «Еврей или хохол — сама бабка-повитуха не разберет, — прикидывал Махно. — Скорее всего, гремучая смесь».
— За оружие спасибо, — сказал. — А руки не подаю, чтоб не заразить. Как там Екатеринослав?
— Слоеный пирог, Батько. Полмоста через Днепр держат петлюровцы, а с другой стороны торчат большевики. Намыкались с вагоном, — Семен присел. — В центре австрийцы, по бокам добровольческий корпус. Ни-ичего не поймешь!
— Слушай, по силам взять Екатеринослав?
Миргородский призадумался.
— Ежели с кем-нибудь снюхаемся, — ответил. — Пока там неразбериха. Ранняя пташка росу пьет.
— Говори яснее. С большевиками, что ли?
— Только с ними!
— Почему, Сеня?
— Железные пройдохи!
Когда Махно чуток поправился и, захваченный замыслом взять губернию, созвал в Гуляй-Поле большой митинг и начал там сначала тихо, потом все пуще распаляясь, говорить поверх тьмы голов, что качалась, любовно смотрела на него (а где-то по восставшим селам тоже ждали его появления и слова), когда он кидал ей призывы к борьбе за землю и свободное от любой власти житье, и масса открывала рты и вопила восторженно, уже не слушая его, — он чувствовал и знал наверняка, что это не ОДИН говорит, а поверившее в него, вот. оно, многоликое существо, плотью от плоти и душой от души которого он теперь стал. Батько лишь внятно выражал то, что ОНО давно жаждало и чего вместе с ним алкало. Что могут поделать с ЭТИМ все Ленины, директории, Красновы, Вильгельмы и прочая? Кто они такие? Хай ученые-переученые, генералы, министры, комиссары, пусть даже колдуны индийские прибегут — все они есть и будут чужаками для слитой в едином порыве массы гуляйпольцев, а скоро, глядишь, и екатеринославцев, и всех украинцев!
Вместе с тем Нестор с тревожной радостью ощущал, что ТЫСЯЧЕГОЛОВОЕ жаждет и его женитьбы. Ему уже не раз, настойчиво и в шутку, напоминали об этом. Он и сам давно искал ту, что нужна Батьке. Нашел, да не давалась, и это было странно, глупо, даже дико! Вроде она тоже чужая, как те фокусники. А может, и правда посторонняя? Почему бы и нет? Чьей саженью измеришь потаенное родство?
Галина Кузьменко между тем была на митинге и не устояла против общего порыва, кричала вместе со всеми, не разбирая слов, и ей было хорошо. Вначале она пыталась не поддаться зову толпы. Но нечто, давно дремавшее в ее душе, зашевелилось и словно шепнуло: «Вот миг. Хватай! Ты будешь, будешь!» И она вдруг почувствовала, что Нестор уже не просто народный герой, Батько суровый, которого боялись. Нет. Он — другой. Кто именно, Галина не смела назвать, но противиться этому не было никакой надобности и возможности. Потому что… «Потому, — шепнул голос, — что ты не с ними — с НИМ!»
Раньше она убеждала себя, что Нестор забыл ридну мову, не желает добра одним только украинцам. Вот и агронома Дмитренко недавно застрелили за то, что помогал когда-то немцам и Центральной Раде. Это же варварство! Нужно, наоборот, биться за нэньку Украину, за нашу дэржаву, а не за какую-то абстрактную свободу, анархические идеи.
Теперь же, испытав единый порыв со всеми гуляйпольцами, кто пришел на митинг, Галина заразилась их восторгом и потеряла себя. «Ты с ним, — радостно шептал голос. — Хватай миг и будешь!» — «Та що ж цэ такэ?» пыталась она вникнуть. «Будешь их Матерью!» — и голос умолк.
Нестор разглядел ее в толпе, протолкался, улыбнулся и взял за руку. Ощутив тепло, о котором давно мечтала, и ток большой, вроде бы даже не просто мужской силы, она, словно та коростелевская собака, покорно примолкла. Он сказал:
— Поедем кататься, а? Тачанка ждет!
Галина вспыхнула маковым цветом и легонько пожала его руку в знак согласия.
— Нашу станцию Гайчур захвачено. Ой, бида будэ, Батько! — в панике лепетал гонец в заплатанном кожухе, шапка набекрень, глаза дикие.
— Кто? — спросил Махно, еле сдерживая усмешку.
— Налэтилы, як коршуны. Бабахають!
— Да кто напал?
— Бабахають. Мэнэ до вас послалы.
— Фу т-ты, граммофон. Беги назад. Скажи: спасем!
Это было опасно. Гайчур недалеко от Гуляй-Поля и связан с Екатеринославом по «чугунке». Все надежды и планы захвата губернии могут рухнуть. А уж если добровольцы с казаками прорвались — хоть караул кричи.
— Ану запроси станцию, — велел Нестор Федору Щусю. — Да построже. Какая сука там шебуршит? Яйца оторвем и на забор повесим!
— Так у нее ж нету, — возразил помощник весело.
— Другое нащупаем.
Федор вскоре возвратился от аппарата.
— Большевики там. Какой-то штаб юго-восточной группы войск. Командует Колос. Предлагает встречу.
— Та-ак, штаб, значит? Брешут, сволочи! Шайкалейка налетела… Пусть приезжают.
— А здоровье?
— Ничего. Я их дома приму, в постели.
Коварная испанка все не отпускала Нестора. После прогулки с Галиной (эх, какой прогулки, слаще любого медового месяца!) он опять почувствовал слабость. В гостиницу, где теперь располагался штаб, наведывался, но больше лежал дома.
Евдокии Матвеевне понравилась невеста (эту женитьбу без венчания мать молча не признавала), да и как иначе, если столько ждала, уже и не надеялась скоро увидеть помощницу по хозяйству. Галина готовила еду, заваривала крутой зверобой и старалась во всем угодить свекровке, которая называла ее «дитка».
— Не горюй, — говорила Евдокия Матвеевна. — Я тебя в обиду не дам. Нестор бывает очень сердитым. А ты не поддавайся, дитка, и тоже грымни на його. Он отходчивый, и я тэбэ пиддэржу: Ладно?
— Ладно, — соглашалась Галина, поглядывая на мужа, который усмехался загадочно.
В порыве благодарности он подарил ей чудное колечко с бирюзой и впервые с удивлением обнаружил, что никогда не делал ничего приятного для матери. Даже пустяков не привозил, как другие, скажем, для кухни что-нибудь или платочек, или что там еще бабам хочется. Да он ее и за женщину-то не считал: мать и мать. Лупила. когда-то, от виселицы спасала, ждет всегда, беспокоится, плачет. «Эх ты, сынок называется, — сокрушался Нестор. — А потом… Что делать с Галиной, если придется отступать? В тачанке учительнице не место. Бросать же опасно: изнасилуют, украдут, а то и… Пчелы и те летят на красный цветок! Вон у Гаврюши жена и мать пропали. Хорошо еще, что живые нашлись. Позволь, но и у Марченко жена, и у Каретников молодухи, у Пети Лютого… Всех тащить с собой? — раньше об этом как-то не думалось. — Целый же семейный обоз. Обуза! Ян Жижка тоже возил? А Пугачев? О-о, елки-палки, как выражается Ермократьев. Этих забот нам только не хватало. Пока тихо и фронт надежен. А дальше? А Галина вдруг не захочет бросить школу, детей? Во влип. Не имел лиха да женился!»
Пока он так размышлял, лежа в постели и попивая зверобой, к Гуляй-Полю катили сани. В них, кроме кучера, сидели двое. Их охранял отрядец верховых, пятнадцать сабель.
— Не в ловушку ли сунемся, а? — спросил Колос. Бледное суровое л идо его выделялось на фоне черного воротника.
— Кому написано быть порубленным, командир, того уж не повесят, откликнулся его спутник и захохотал.
«Молодо-зелено», — думал не без зависти Колос.
Сидящий рядом с ним Максименко, краснощекий и широкоплечий, был отчаянным хлопцем, хотя судьба уже успела и попытать его и пощадить. Подручный коногона, он сколотил на шахте ватагу сорвиголов и напал на австрийцев. Легко добыли два пулемета и поперли на Гришино. А там как раз стоял петлюровский атаман Мелашко, который быстро Охладил пыл молодцов, разоружил их и сказал: «Или пойдете с нами, или — к стенке. Выбирайте, да поживее!» — «Мы же пленные», — попытался выкрутиться Максименко. «Забудь это слово, бандит! — оборвали его. — Гражданская война — не мать родная». Куда денешься? Отправились с петлюровцами на Синельниково, с ходу взяли бронепоезд и покатили к Екатеринославу. Ночью, однако, их забросали гранатами и захватили большевики во главе с Колосом, или Колосовым, или Снеговым — его по-разному окликали, подпольщика. Опять возник проклятущий вопрос: «Куда денешься?» Переметнулись, теперь уже вместе с Мелашко, к большевикам. Они шустрые ребята. Особо понравилось Максименко наставление Колоса: «Не давай врагу опомниться!»
Скрипел снег под полозьями, глухо постукивали копыта лошадей, и казалось, что в этом пустынном степном краю не то что нет войны — живым не пахнет. От станции Гайчур до Гуляй-Поля верст двадцать. Пока Колоса и его спутников никто не беспокоил. Но вот на взлете холма замелькали темные всадники, покрутились, исчезли. «Трусливый народишко, — определил Колос. — Или осторожничают? А вдруг не махновцы?»
— Глянь, с двух сторон прут! — вскрикнул кто-то из сопровождения. К ним летели гражданские на разномастных конях.
— Без моей команды — ни звука, — предупредил Колос.
— Что за шайка? — гаркнул воинственный хлопец в кожухе нараспашку и с наганом в руке.
— До батьки направляемся.
— Батек тут хоть ж… ешь. К какому?
— Махно.
— Так бы сразу… А откуда?
— Из Гайчура.
— Мы вас ждали, — хлопец махнул наганом и сунул его в карман. — Дуйте за нами!
«Ты гляди, у них как на параде. Почетный эскорт! — удивился Колос. — А говорят, дикая анархия». Железнодорожник, он не представлял себе жизни без расписания и твердой дисциплины. Потому диктатура пролетариата была ему близка, понятна и дорога.
В Гуляй-Поле никто не буянил на улицах, не стрелял, даже бабы торговали на базарчике. Подъехали к штабу. На двухэтажном каменном здании висели тяжелые черные знамена с лозунгами: «Мир хижинам — война дворцам», «С угнетенными против угнетателей всегда». Максименко пожал плечами: «Та наши ж слова!»
Гостей в штаб, однако, не пустили, велели подождать у входа. Вскоре на соловом жеребце прискакал бравый матрос в бушлате с копной курчавых волос.
— Я Федор Щусь. Будем знакомы!
Членам штаба, кто ездил в Екатеринослав на переговоры с петлюровцами, Махно категорически запретил показываться на глаза большевикам. Щусь извинился:
— Батько болен, но ждет вас. Без сопровождения. Вы, братцы, отдохните тут. А кто в санях, за мной!
Гости надеялись увидеть пусть не дворец, какой раньше занимали в Екатеринославе анархисты, но хотя бы кирпичный дом, где живет Махно. Подкатили же к обыкновенной глиняной хате, разве что наличники да двери были свежестругаными. На крыльце стояли Петр Лютый с Григорием Василевским. Строго оглядев прибывших, они пригласили их войти. «Осторожные, барбосы, — отметил Колос. — Таким можно доверять».
В комнате сидели Семен Каретник и Алексей Марченко. Махно лежал на кровати.
— Здравствуйте, товарищи! — бодро приветствовал их Колос. — Не господа и не паны. Это пока единственное, что нас уж точно объединяет.
— Пока да, — согласился Нестор, пожимая руки гостей. В постели не виден был его рост. А пронизывающий взгляд Батьки произвел должное впечатление. — Располагайтесь. Галя, неси зверобой! Может, чего покрепче?
— Нет, — отказался Колос. — Делу время, потехе час. А зверобой у вас на чем настоян?
— Кипяток.
— Ну, отлично!
Максименко, Каретник и Марченко молча разглядывали друг друга. «Чем же эти большевики отличаются от нас? — прикидывал Алексей. — Люди ка^люди. Просто кто под какой ветер попал — туда и несет. Или нет? Поглядим».
— Кого вы представляете? — спросил Махно.
— Штаб юго-восточной группы войск. Я вроде как начальник, — сообщил Колос, и неясно было: он сам придумал эту должность или другие.
Галина принесла два стакана червонного зверобоя, поставила перед гостями. Молодой Максименко даже затаил дыхание: «О-о, а что она здесь выгибается, в логове патлатых, такая лозиночка в голубом платьице?»
— Будь ласка, дороги гости, — Галина усмехнулась приветливо, и Максименко заулыбался: «Ах ты ж, зорька ясная!»
— Это моя жена, — не без гордости и предостережения сказал Нестор.
— Весьма рады, — Колос отпил глоток, крякнул и предложил: — Будем вместе брать губернию?
Установилось молчание.
— У меня два вопроса, — начал Марченко. — Какие силы в Екатеринославе? Не сломаем себе рога?
— Австрийцы уже ни во что не вмешиваются. Им бы домой удрать поскорее. А у петлюровцев тысячи три штыков и артиллерийские батареи, — отвечал Колос.
— Но там же и добровольческий корпус?
— На днях его поперли кошевые казаки.
— Теперь второй вопрос. Кто, по-вашему, должен командовать?
«Молодец, Алеша», — подумал Махно с благодарностью.
— Это решать губревкому, — честно признал Колос. — А мое личное мнение, и я буду его отстаивать: главнокомандующий — товарищ Махно.
«Вот оно!»— екнуло сердце Нестора, как у полковника, внезапно произведенного в генералы. Пусть тут никто не вручает золотых погон (будь они трижды прокляты!), но это тебе не батько какой-нибудь. Их вон сколько гуляет по селам. Не-ет! Сама советская власть прибыла с поклоном, и никто ее за язык не тянул, не выпрашивал подачек. Думая так, Махно ничем не выдал своего ликования.
— А что же взамен? — подал голос, наконец, и Семен Каретник.
Колос по достоинству оценил и его реплику.
— Мы ничего не требуем, — сказал он с простодушным видом.
— Ой ли! А власть? — тверже настаивал Семен.
— Так она же вас, анархистов, не волнует.
— Это когда ее нет! — уточнил Марченко.
— Не будем, как цыган, делить шкурку неубитого зайца, — примирительно подвел итог Махно. — Возьмем Екатеринослав — оно само покажет. Галя! — позвал он. — Накрывайте на стол. Як то кажуть: булы б у ковбасы крыла — кращойи птыци на свити нэ було б!
Все заулыбались. Напряжение спало. «Ты дывысь, — поразился Марченко. — Батько мову вспомнил. Вот что значит жена — щыра украйинка!»
— Не тому печено, кому речено, а кто кушать будет, — многозначительно изрек Максименко, потирая руки.
— Как, как, ану еще, — попросил Нестор. Гость повторил. — Занятно. Надо-олго запомню, — тоже многозначительно пообещал Махно.
Галя с Евдокией Матвеевной принесли тарелки с борщом, картошку, бутыль самогона, австрийский ром, маринованный перец…
— Там у штаба наши товарищи ждут, — забеспокоился Колос.
— Уже напоили, накормили до отвала! — доложил Федор Щусь. Он нюхом чуял угощенье и поспел как раз к столу.
После нескольких тостов Максименко вспомнил своих замурзанных коногонов, шахтерскую пивную, захотелось домой, и он запел грустно:
Получил получку я, веселись, душа моя. Веселись душа и тело, вся получка пролетела.Выросшему в селе Федору эта песня была чужда, и он спросил:
— А за что ты воюешь, браток?
— Диктатура пролетариата, видал? — Максименко показал здоровенный кулак. А слова эти он недавно услышал от Колоса. — Вот так весь буржуйский мир зажмем, и будет счастье. Понял?
Щусь некоторое время с иронией глядел на шахтера.
— В нашем Дибривском лесу, — сказал, — летом поймали оленя. Красивый, молодой. Огородили сеткой. Он взял и сдох. Не болел, никто его не пугал кулаком, ничего подобного не было. А он кончился. Знаешь почему, братишка? Нет? То-то же!
Федор с хрустом пожевал огурец, все так же иронично глядя на Максименко, потом продолжал:
— Или вот тебе другой пример. Хорек вонючий повадился в курятник. Мы, конечно, поставили капкан. И что думаешь? Попался! Но… отгрыз собственную лапу и ушел. Опять почему? Отвечаю: даже для вонючки нет ничего дороже свободы! Усвоил, диктатура?
Коногон поерзал и буркнул:
— Казала Настя, як удастся…
Спустя неделю, объединившись, они пошли на Екатеринослав.
К вечеру город наполнился отступающей петлюровской кавалерией. Когда ранним утром следующего дня мы с женой отправились на ближайший рынок, чтобы запастись припасами перед предстоящими событиями, солдаты настойчиво предлагали разойтись, предупреждая, что сейчас будет открыта пальба по железнодорожному мосту, уже занятому махновцами…
На четвертый день Махно занял всю нижнюю часть города и повел наступление на гору. Снаряды стали разрываться над нашими головами. Пули дождем сыпались на крышу. Все собрались в передней первого этажа. Думали о смерти и молчали. К 7 часам вечера стрельба внезапно затихла. Вдруг постучали в дверь.
Я открыл и невольно отшатнулся: на меня направлены были дула нескольких ружей. В квартиру ворвались гурьбой человек 10 с ног до головы вооруженных молодцов, обвешанных со всех сторон ручными гранатами. Одеты они были в самые разнообразные костюмы. Один — в обычной солдатской шинели, другие в роскошные енотовые шубы, очевидно, только что снятые с чужих плеч, третьи, наконец, в простые крестьянские зипуны. На испуганный вопрос: «Кто вы?» раздался ответ: «Петлюровцы!» и послышался дружный хохот. «Небось, обрадовались? А мы ваших любимчиков в порошок истерли и в Днепр сбросили. Поиграли и будет. Мы — махновцы и шуток не любим…»
Припасы все были съедены, и жена решилась, пользуясь затишьем, выйти на площадь. Махновцы узнали ее и пустили: «Ну иди, иди. Только скорей! А то стрелять надо». Однако палила тяжелая артиллерия подоспевших на помощь из Кременчуга петлюровских частей. Махновцы в беспорядке разбегались.
Г. Игренев. «Екатеринославские воспоминания».
Они удирали к мосту через Днепр, а им лупили в спины. Кто? В суматохе некогда и нельзя было разобрать. Петлюровцы еще не могли усесться на хвост. «Так кто же? — в растерянности мерекал Махно, скача во весь опор к реке. — Неужто большевики предали?»
Часа два назад к нему влетел разведчик:
— Гайдамаки прут, Батько! С ними «куринь смерти»!
Их ждали. Со стороны Кременчуга были выставлены заслоны из рабочих местных заводов. Не для того они брали город, чтобы отдать без боя. «Жаль бить, свои же. Но сейчас попрем панских олухов!»— хорохорился Нестор, приближаясь к окраине. Увиденное, однако, потрясло его.
До сих пор приходилось иметь дело с небольшими помещичьими, австрийскими отрядами, ну, сто, ну, двести, триста бойцов. Здесь же на них перла тьма! Впереди броневик, а за ним — сколько хватал глаз — чернели всадники, пехота. «Откуда они понабрались? — не хотел понять Махно. — Рабочие, вот они, с большевиками. Село — с нами. А эти откуда?»
Между тем в самом Екатеринославе было организовано два полка под желто-голубыми знаменами. Что, атаман Воробец, кстати, не бежавший — павший в бою, что, он силой тянул их к себе? «Цэ ж наша дэржава. Батькы булы козакамы, и мы тоже, — говорили пленные, вчерашние гимназисты, студенты, солдаты царской армии, а теперь петлюровцы. — Хто ж будэ наши симьи захыщать?» В Гуляй-Поле так почти не рассуждали, но рядом, в украинских селах… Десятки, сотни новобранцев шли к уездным комиссарам Директории — факт! Еще до захвата Екатеринослава Нестор с раздражением наблюдал за этой мобилизацией. Огорчало и беспокоило не только то, что оголяется фронт против белых. Было очевидно: не весь, ох, не весь народ Украины поддерживает анархические идеи свободы. Наоборот, ждет не дождется твердой власти, добровольно идет ее защищать.
Тогда они в штабе ночи напролет ломали головы: что же предпринять? Не пускать новобранцев по железной дороге? Но о какой воле тогда речь? Да и Директория могла зубы показать, ударить в спину. Решили поиграть с ней. Новобранцев агитировать и пропускать, а за проезд и другие услуги получить оружие, которое и привезли Сеня Миргородский с Чубенко.
Потом, испытав упорство петлюровцев при защите Екатеринослава и до конца не одолев их (они покинули город без паники), и теперь, увидев тьму наступающих стрельцов атамана Самокиша, Махно вынужден был признать, что Директория — не киевская выдумка, как он ранее полагал, а сила, с которой, хочешь не хочешь, придется считаться.
— Уходим! Быстро! — скомандовал он, не колеблясь.
— А что же с нами будет, с городом? — в растерянности спросил вожак рабочей дружины.
— Да х… с ним, с вашим городом. Потом все равно возьмем. Никуда он от нас не денется. Ты только глянь, что прёт!
Члены ревкома были возмущены таким предательством. Петлюровцы идут не для братанья, и нужно бежать, бросать семьи. Э-эх, связались на свою голову с этими бандюгами. Никто уже и не вспоминал, что желто-голубых с их национализмом собирались шапками закидать, а Махно долго колебался, словно предчувствовал, чем это кончится. Как главнокомандующий он ездил на Брянский, трубный заводы, в районы Кайдаков, Чечелевки, в железнодорожные мастерские, просил «ощетиниться штыками». Но губернский город не Гуляй-Поле, и тут Батьку особенно не праздновали. Рабочие слушали его речи довольно прохладно, и он это видел. Какая свобода? От кого? Если даже в бригаде слесарей нельзя без начальства. А в цехе, в городе?
— Берите себе завод, — взывал он. — Управляйте. Вы теперь хозяева!
— Куда его? В карман? — шумели металлурги. — Не влезет! Не унесешь!
А железнодорожники жаловались:
— Нет денег, Батько. Ни топлива, ни мазута. Где взять?
Нестор мог бы пошутить, отмахнуться. Это, дескать, парафия не главнокомандующего. Обращайтесь к советской власти. Она теперь царь и Бог. Но сказал другое:
— Вам не по нраву капиталист? Три шкуры дерет? Заправляйте вами! Считайте гроши, покупайте топливо. А как вы хотели 1? Свобода без забот не бывает!
Это у него вырвалось само собой. Раньше он так не рассуждал. Воля виделась легкокрылой и желанной. А тут деньги, мазут.
— Что ж, и базара не будет, товарищ Махно? — недовольно спрашивали рабочие.
Армию нужно кормить, и он распорядился взять продукты в Озерных рядах. Как уж там вышло: то ли крестьяне из околиц навалились, то ли его хлопцы распоясались? Но базар разграбили. Мало того — сожгли! Скорее всего отличились уголовники, которых вместе с политическими по его указанию выпустили из тюрьмы. Грабежи шли по всему городу. Рассвирепев, Нестор стрелял мародеров прямо на улице. Вот такая оказалась воля и доля. Пришлось выпустить воззвание:
Чтобы предотвратить разгул пошлости, совершаемый бесчестными людьми, позорящими революционеров, я именем партизан всех полков объявляю, что всякие грабежи, разбои и насилия ни в коем случае допущены не будут в данный момент моей ответственности перед революцией и будут мною пресекаться в корне. Каждый преступник вообще и в особенности под именем махновцев или других отрядов, творящих революцию под лозунгами восстановления советского строя, будут беспощадно расстреливаться, о чем объявлено всем гражданам, призывая их также бороться с этим злом…
Главнокомандующий Батько Махно.Написав это, он долго сидел сгорбившись. «Вот она, доля. Крепко, намертво схапал нас зверь. Где межа свободы и своеволия? Призывают соблюдать закон. Чей? Мой? Революции? Директории? А у бандита свой. Стрелять? Но даже всех мух не перебьешь. Ладно, посмотрим, — он тяжело вздохнул. — Хоть одна-то радость была!»
В штаб, что размещался в гостинице «Астория», зашел совершенно седой старик, даже опущенные казацкие усы были белые.
— Дворницкий Дмитрий Иванович — директор музея древностей, — представился он тихо, мягким голосом.
Это показалось Нестору странным. Другие шумели, плакали, нервничали. Он поднялся из-за стола и только тогда разглядел, что это вовсе не дед. Светлые глаза его смотрели живо-молодо, щеки розовые.
— Древностей, значит? — не без иронии спросил Махно. Забот о них-то, дескать, нам сейчас как раз и не хватает. Он не имел понятия ни об музее, ни об Дворницком. Между тем перед ним стоял один из выдающихся знатоков родной земли, автор трехтомной «Истории запорожских казаков», летописец вольностей и славных кошевых атаманов, гетманов Украины, бывший приват-доцент Московского университета.
— Что вас привело сюда?
— Извините, конечно, Нестор Иванович, но ваши хлопцы… собрались… грабить музей казачьей славы. Требуют ключи.
— Казачьей? Сейчас?
— Ну да, — неспешно подтвердил директор, и это его спокойствие, когда все вьются угрями, напомнило Нестору Панаса-ведуна, лоцмана Пивторака. Нельзя не помочь. Нашли, что грабить, поганцы! Хватит, что музей анархистов в Гуляй-Поле разнесли. Он сгреб с вешалки папаху, полушубок.
— Поехали!
Они сели на тачанку главнокомандующего.
— К нам жаловал со свитой сам император Николай II, — говорил на ходу Яворницкий. — Посетили музей и ничего не тронули.
Нестор молчал. Он плохо представлял себе, что там может быть такое, что заинтересовало даже царя. Ну желтые кости, кресты с могил, степные каменные бабы. Эка невидаль! Тут живые кости трещат каждый день.
Но то, что открылось в музее (грабители учуяли опасность и мигом смылись), тронуло Махно до глубины души. Здесь были пики, сабли запорожских казаков, одежда его далеких предков, сморщенные рукописи, бесценные золотые и всякие другие монеты, картины, хоругви, скифские закусанные удила… Нестор слушал Яворницкого, иногда щупал турецкий ятаган или заржавелый татарский якорь.
— Где вы всё это понабрали?
— Здесь семьдесят тысяч экспонатов, — с мягкой улыбкой отвечал хранитель древностей. — Роемся в матери-земле. Она отдает. Добрые люди несут. Я побывал с этой целью в Персии, Турции, Польше, Средней Азии, в Соловецком монастыре. Всё куплено в основном на мои кровные.
— Так вы миллионер?
Дмитрий Иванович горестно вздохнул.
— Нищий!
Махно недоверчиво взглянул на него. Зачем же так старается? Это казалось просто невероятным: положил свою жизнь, чтобы всего-навсего сохранить память о предках! «А мы, сукины дети, что делаем? Рубим, жгем. Эх ты ж, судьба-копейка».
Яворницкий коротко, емко рассказывал о вольностях запорожских казаков, об их удивительной, первой в Европе республике, о ее процветании, силе…
— Так говорят же, что они были разбойниками? — не утерпел и перебил его Нестор.
— Э-э, друг мой, а что о вас напишут? — отвечал историк. — Кому из властителей дорога народная свобода? Она же глаза колет! Тем более коварно разгромленная.
— Но мы же и хотим ее восстановить, — сказал Махно, пристально глядя на краеведа: что запоет? Легко восторгаться разбитым старым черепком. А ты оцени его, сидя внутри, когда горшок обжигают!
— Тяжкое бремя взяли на себя, — признал Дмитрий Иванович. — Одно желаю: не потеряйте душу в огне!
«Эх, старик, твоими бы устами да мед пить», — подумал Нестор и заметил бутылку, но несколько иной формы и черную, в смоле, что ли. Он взял ее.
— Что это?
Яворницкий полагал, что насквозь видит своего необычного посетителя, и решил: драгоценному экспонату, увы, приходит конец. Разговоры о свободе, вечной славе предков, о душе — это одно, а соблазн сильнее. Можно и нужно было бы соврать, чтобы спасти реликвию. Другой бы так и поступил, но не хранитель древностей.
— Горилка, Нестор Иванович. Знаменитая оковыта (Прим. ред. — От латинского аква вита — вода жизни). Лучшее казацкое угощение… Но эта… для покойников. В гроб ставили.
«Испугается или нет?» — с тревогой ждал археолог.
У Нестора перехватило дыхание. Попробовать такое — раз, может, дается смертному. А вдруг спасет от гибели, закрепит пророчество Панаса-ведуна? А если отрава? Мало ли что зарывали. Да и характерники ошибались!
— Сколько же ей лет?
— Трудно сказать. Больше ста. Возможно, ее пили, когда еще сочиняли письмо турецкому султану.
— Позвольте, — удивился Махно, — это не вы ли писарь на знаменитой картине? Да вот же она. Точно!
— Я. Отнекивался. Но Илья Ефимович (Прим. ред. — Репин) настоял.
— А у вас еще есть? — гость смотрел на бутылку.
Опять требовалось соврать. Яворницкий отвечал:
— Их было три. Одну распили землекопы.
— Давайте по чарке, а? Покойник не обидится, а мы с вами — тоже история.
— Воля ваша.
Какой-то тайный голос нашептывал Махно: «Не смей пить, не смей! Закаешься!»
— Тогда сначала ответьте, Дмитрий Иванович. Вы — свободный?
— Абсолютно. Заплатил, правда, дорого. Видите, какой белый.
Нестор хмыкнул. Ответ его поразил. Пока есть на свете такие люди — жива вольница!
— За это не грех и причаститься. Вы ж без меня не посмели бы?
— Ни, ни.
— Ну, пусть земля им будет пухом…
Над заснеженными берегами Днепра чернел двухпрогонный мост. К нему катили тачанки, вихляли подводы, летели всадники. Скорее! Скорей! Южный город, что раскинулся на высоком холме, харкал выстрелами вслед отступающим. Вот она, благодарность за свободу! Не надо было связываться с красной совдепией, не надо. Сидели тогда с губревкомовцами, Колос, другие убеждали: «Рабочий люд на страже! Это десятки тысяч штыков, присланных из Тулы год назад». Где они? А пулеметы, пушки, которые погрузили для отправки в Гуляй-Поле, — всё коту под хвост!
Махно оглянулся уже с моста. «Не внял, хлебнул могильного зелья, — злорадствовал тайный голос. — Теперь вон что!» Многие брички безнадежно отстали. Другие в толчее не могли проскочить на подвесную дорогу и крутились на месте. Ржали лошади, ругались повстанцы. Их косили из пулеметов. Потеряв голову, иные кидались прямо на лед, застревали в промоинах, проваливались. Жутко было видеть все это, и конница с уцелевшими повозками понеслась дальше, на левобережье, к песчаным барханам, в степь. Тут остановились. Двести штыков да сабель осталось из пятисот. Прочих словно корова языком слизала. Э-эх, Гуляй-Полюшко-поле, хоть ты приголубь!
КНИГА ВТОРАЯ
Велик был год и страшен год по рождестве Христовом 1918, но 1919 был его страшней.
М. Булгаков. «Белая гвардия»Голодные хохлатые жаворонки вспорхнули чуть ли не из-под лошадиных крпыт. Кроме них — ни единой живой души вокруг. А недалеко ведь села, хутора, и там Новый год только что встретили. Солнце буянит, снег скрипит, искрится, и степной воздух — хоть пей! Но кто там притаился за голыми деревьями? Немцы-колонисты? Может, грабители? Да это же корявятся старые сушины!
— Что ж он, чуешь, не дал нам сопровождения? — мягко спросил Иван Довженко, кубанский казак, одногодок и приятель Билаша. — Батько называется. Сам обкакался, а вы лепите в кучу атаманов и подставляйте бока под пулю.
Беззлобный тон никак не вязался с тем, что говорил Иван. Разве что прорывалась горечь.
— Проверяет, годимся ли в дело, выскочки, — отвечал Виктор, кривя в усмешке правый угол губ.
— Урожай будет отменный! Глянь, сколько снегу намело, — радовался Долженко.
Его спутник, однако, продолжал жестко:
— И правильно поступает. Многие рвутся верховодить. Вот Махно и швыряет нас лопатой в топку, а сам поглядывает: уголь или порода?
Билаш приехал из родного села в Гуляй-Поле два дня тому. На станции полупьяный комендант-грузин в черной шелковой рубахе спросил:
— Ты кто? Куда путь дэржишь?
Объяснились. В здании пахло махрой. Какие-то полураздетые люди курили, спали вповалку на каменном полу, другие перевязывали раны. Играла гармонь, пили самогон из чайника и тут же отбивали трепака.
— Он тачанка. Садысь и мчи, — предложил комендант.
Прикатили в штаб, где в большом гостиничном зале стояли, суетились караульные, вестовые. Женщина подскочила:
— Верните сына с позиций! Один он у меня!
В углу кричал в трубку телефонист. На дверях мелом: «члены штаба», «нач. снабжения», «начальник штаба». Им оказался Алексей Чубенко. Познакомились. Билашу приглянулся этот неторопливый, аккуратный (на столе все стопочками разложено) командир. Вошел Федор Щусь в бескозырке, сел, тоже без церемоний, стал расспрашивать, рассказывать о себе. Сразу видно: свои хлопцы.
— Хату мою сожгли, — проронил Виктор печально.
— А про нашу Дибривку слыхал? — повысил тон Федор. — Пятьсот дворов тю-тю. Мы все тут погорельцы. Нам все нипочем!
Чубенко позвали к телефону. Воротясь, он сообщил взволнованно:
— Батько едет! Из Екатеринослава.
— Ну что там? — Щусь вскочил, а начальник штаба только рукой махнул.
Билаш понял: не зря шептались встречные — разгром! И тоскливо стало. Хотелось же спокойно потолковать, присмотреться. Каков он — Махно? Еще выгонит взашей! Всякое болтают. Шутка ли, держит в узде войско белого генерала. Да и народец вокруг лихой, палец в рот не клади.
За окном послышался топот коней, звяканье сбруи, разноголосье. Виктор напряженно подтянулся. Враз стало тихо. Только резкий тенорок о чем-то спросил, ему ответили. Распахнулась дверь, и вошел широкоскулый, ниже среднего роста военный в желтых офицерских сапожках, галифе и драгунской куртке с петлицами. Быстрым колючим взглядом он окинул присутствующих и, нахмурив брови, уставился на незнакомого Билаша.
— Это тот, Батько, что обещал высадить десант из Кубани, — едко доложил Федор Щусь. Его словно подменили. «Был бы хвост, — подумал Виктор, — уже б завилял».
— А-а, сволочь, обманул! — сказал Нестор беззлобно и протянул руку. Она была жесткая, короткопалая. Глядя в черные, широко поставленные глаза Билаша, Махно определил: «Этот заискивать не мастак».
Виктор же прямо кожей почувствовал, что перед ним хожалый клинок, клятый и мятый — свой брат. Без всяких околичностей Батько принялся рассказывать о походе на Екатеринослав:
— Взяли его хитростью. Сашка Калашников, молодец, посадил людей на рабочий поезд, и отправились через мост. Петлюровцы не заметили подвоха. Когда опомнились, было поздно. Потом красные нас предали и расстреливали удирающих, словно уток на взлёте.
Махно сообщал подробности, а Билаша поразило, что говорилось все это безжалостно, без дрожи в голосе и растерянности. Ну было и было. Что теперь размазывать сопли? «Молодец, — решил он. — Такого лишь баба с косой остановит».
Между тем Нестор был потрясен случившимся. За короткое время второе тяжелое поражение, и, как каждому азартному бойцу, ему не терпелось снова броситься в атаку, доказывать и доказывать свою силу и ловкость. Но сначала пусть другие попробуют, чтоб не задирали носы.
— Поезжай в те края, возьми Павлоград, и только! — приказал он начальнику штаба.
— Прямо сейчас? — не возражая и не уточняя обстановки, спросил Чубенко. Чувствовалось, что его вес легковат для такой должности.
— А чего ждать? Слышал, с севера сунет Красная армия? Вроде Белгород уже заняла и прет по нашей земле. Может, соединимся?
Предложение было неожиданным. Все, кто был в штабе, молчали. Зачем же брататься с теми, которые предают?
— Нас обложили со всех сторон, — продолжал Махно, — С востока и юга белый генерал Май-Маевский. С запада немцы-колонисты и петлюровец Самокиш. А люди к нам вот-вот валом повалят. Где оружие взять?
Опять молчание.
— Только у красных. Согласны?
Тут уж Чубенко и Щусь, и Алексей Марченко, что зашел в штаб вместе с Семеном Каретником — все закивали.
— Тогда марш в столовую!
Выпилй спирта «за будущее повстанчества», и Билаш, собравшись с духом, предложил сжать в единый кулак окрестных атаманов.
— Сможешь сагитировать? — удивился Нестор, закусывая. — Мы пробовали. Не раз. Они же, как вьюны в тине. Хапаешь — пищат и ускользают.
Он понимал, что объединяться край нужно. Да куда ж самому ехать после разгрома? Начнутся расспросы, подковырки. Вера подорвана, и тех, кто был с ним в Екатеринославе, не пошлешь. А этот новенький, чистенький. Какой с него спрос? Как с гуся вода. Пусть попробует, мухомор.
— Выловим даже щук! — уверенно отвечал Виктор.
— Доглядите на выскочку. Мы, значит, мимо. А он… И где ты, благодетель, пропадал? Если бы раньше появился…
— Хай попробуе, Батько! Что тебе, жалко? — нехорошо, с вызовом перебил его Марченко.
— Не ищи моря — в луже утонешь, — предупредил Щусь, обращаясь к Билашу. — Один десант ты уже высадил.
Им не нравилась шустрость новенького. Своей норовистостью, правда, какой-то тихой, мягкой, но упорной, он напоминал матроса Красковского. Тому тоже дали возможность покуражиться, и что вышло? Хлопнули, как муху, в первом же бою.
— Пусть едет, — небрежно подвел итог Махно. — Кого возьмешь с собой, а?
— Ивана Долженко, кубанского казака.
— Этого вахмистра? Неплохой выбор. Ну, гоните…
Никакого сопровождения им не дали. Дескать, побарахтайтесь, хлопцы, чтоб спесь слетела. Они побывали уже в Пологах, где бедокурили три отряда с пиками, вилами, ружьями.
— Отобьем свои села, и всех мужиков соберем, — пообещал атаман. — Вот чем воевать, ответь?
— Оружие дадим, дадим, — заверил Билаш. — Значит, вы за объединение?
— С руками и ногами.
На разъезде Ново-Карловка стоял батько Коляда. За ним располагалась ватага прапорщика Зверева. Потом заехали в Токмачку к Иващенко — вчерашнему батраку. В селе Вербовом заправлял анархист Паталаха. Все они были в добротных шубах, каракулевых папахах, хромовых сапогах. За поясом два-три револьвера. Тачанки застелены коврами. Паталаха, единственный, сердито возразил:
— Ежели пойдем с вами, где селиться? У чужих дядек? А не пустят? Силу применять? А як же свобода? А самогон, чтоб рану залить?
Билаш отвечал, что все предусмотрено: снабжение, лазареты, обоз.
— Я тоже гарантирую, — подтвердил Долженко.
— А кто ты такой?
— Война у меня за плечами, чуешь? Блестящие и деревянные кресты.
— А на шо мне ваша кагала? — упорствовал Паталаха, смуглый, как цыган, и такой же горячий. — Счас мы сами с усами, решаем, куда двинуть. А вы же в хомут запряжете? Потащите вдаль от родных мест. Екатеринослав брать, потом драпать. На хрена оно нужно? Не-ет, мы против. Категорически!
— Ну, гляди. Завтра не просись, — сказал Виктор. — Будет поздно. Раздавят нас поодиночке, как клопов. Помозгуй. Я еще вестового пришлю.
Теперь они с Долженко подъезжали к Орехово. Не город и не село, вроде Гуляй-Поля. Глухо доносились выстрелы. Бой там, что ли? На перроне, однако, спокойно расхаживали повстанцы.
— Кто командует? — спросил у них Билаш.
— А он бачыш — танцюе!
Виктор всего насмотрелся, но чтобы во время боя выплясывать — это уж слишком. Наяривала гармонь. Кругом стояли хлопцы с винтовками, хлопали в ладони, а в центре, раскинув руки, подскакивал и приседал плотный малый в матросском бушлате. Длинные волосы его то взлетали, то опадали. Он припевал:
Рассыпалися лимоны по чистому полю. Убирайтеся, кадеты, дайте нам во-олю!Это был молдаванин Дерменжи, служивший раньше телеграфистом на мятежном броненосце «Князь Потемкин-Таврический». Провожая Билаша, Федор Щусь напутствовал:
— В Орехове встретишь братишку моего полосатого. Не пугайся. Передай привет. Он по убеждению, как и мы, анархист-коммунист, но больше, пожалуй, террорист-безмотивник.
— Уточни, — попросил Виктор.
— О Марусе Никифоровой слыхал, небось? Она тоже безмотивница. Толкует так: «Человек в лайковых перчатках достоин смерти». А сама, сучка, — капитанская дочь! — и Щусь захохотал.
«Вот он каков, полосатик», — усмехался Билаш, протискиваясь поближе, чтобы познакомиться. Но тут кто-то крикнул:
— Немцы валят!
Гармонь пискнула и смолкла. Дерменжи нацепил бескозырку на макушку и приказал весело:
— Ну, сынки, пошли.
Наскок быстро отбили.
— Это разведка. Шалости, — небрежно заметил атаман, знакомясь с Билашом и Долженко. — Скопилось их здесь до е… матери, и воевать они мастаки. Колонистам есть что защищать. Снюхаются с белыми — ох, дадут нам по ж… — закончил он уже серьезно.
Прибежал повстанец.
— Махно на проводе, — доложил, запыхавшись.
Батько сообщил, что собирается прибыть сюда и ударить по немцам «мощным кулаком». Виктор понял, что говорить с Дерменжи о соединении излишне. Его отряд уже задействован. А пока самое время смотаться к батьке Правде. По слухам, он где-то рядом толкется, в селе Жеребец.
Проехав версты четыре, они увидели церковь. Над ней металось воронье, и доносился набат.
— Денек выдался, — вздохнул Долженко. — Не заскучаешь. Что там, Витя? Тоже колонисты или пожар?
Оказалось, митинг собирают. Виктор с Иваном спешились, подошли к мужикам.
— Почему не начинаете?
— Атамана чогось нэма.
Не долго думая, Билаш вскочил на подводу и стал говорить о цели своего приезда. Новый человек в селе всегда любопытен, и слушали его внимательно. Пока из-за хат не выступили верховые, среди них — тачанка. На ней, утопая в перине и подняв костыли, сидел Правда. Он что-то кричал. Виктор уловил обрывки фраз:
— Кто приехал?… Я сам тут батько… Что мне Махно?
Билаш мгновенно оценил обстановку и тоже шумнул:
— Ура батьке Правде!
Мужики загудели одобрительно. Атаман оглядел гостей, не поздоровался, поднялся на колени (ступней у него не было).
— Слухайтэ, дядькы! Мы будэм сыдить на ваший шыйи, покы як слид нэ напойитэ… Ясно? Шыйу обйимо, спыну будэм грызты, а нэ выйдэмо з сэла. Варить дви бочкы самогону и скоришэ!
Билаш попал в глупое положение. Только что кричал «ура» — теперь хоть «караул» вопи. Вот она, изнанка вольницы. Мужики поглядывали на него кто с иронией, а кто и с надеждой. Все-таки посланец самого Махно — не хрен собачий. Но и Правда крутой, попробуй ему возразить. Вмиг заткнет пасть, и не пикнешь. Ану, ану, шо ж будэ?
Виктор внезапно выхватил маузер, вскочил на подножку атаманской тачанки и приказал кучеру:
— Гони на станцию! С Махно говорить буду!
С другой стороны прыгнул на подножку Долженко. Билаш не зря взял его с собой. Кучер опешил, глянул в дуло и погнал лошадей. Батько Правда присел, достал из-под перины четверть самогона и предложил:
— Слухай, не бесись. На, потяни с горлышка.
— Пошел ты! — зло отмахнулся Виктор.
Дозвониться до Батьки не удалось. Его не было ни в Гуляй-Поле, ни в Орехово. Видимо, находился в пути.
— Чого тоби трэба? — спросил Правда.
— Чтобы ты образумился и присоединился к нашей армии.
— Тю, сразу б сказал. Разве я против? — и Билашу стало жаль этого несчастного, одичавшего человека.
3 января 1919 г.
Москва, Кремль
После упорных боев… петлюровцы очистили Харьков… Наши потери до трехсот убитых и раненых.
Реввоенсовет Украинской Советской Армии.Последние новости: войска, действующие в Каменноугольном бассейне и в Крыму, предположено объединить в армию, поставив во главе ее генерала Боровского.
П. Врангель. «Записки».Нам не страшно сказать: «Делай что хочешь, делай как хочешь», потому что мы уверены, что громадная масса людей, по мере того как они будут развиваться и освобождаться от старых пут, станет поступать так, как лучше для общества; все равно как мы заранее уверены, что ребенок будет ходить на двух ногах, а не на четвереньках, потому что он принадлежит к породе, называемой человеком.
П. Кропоткин. «Нравственные начала анархизма».
Мокрый песок сбрасывали прямо на рельсы, на развороченное железнодорожное полотно. Он тут же застывал серыми кучами. Выгрузили уже три вагона. «Хай теперь прорываются своими бронепоездами!» — думал Алексей Марченко. С лопатой в руках он помогал пехоте, кавалеристам, пулеметчикам с тачанок.
Это был последний зыбкий заслон, какой они выставляли у Гуляй-Поля той белой силе, что вышибла их из Цареконстантиновки, Полог и неудержимо катилась с востока и юга: остатки Екатеринославского добровольческого корпуса, десантники из Мариуполя и Геническа, яростная чеченская дивизия, бригада немцев-колонистов. Шли не те мелкие помещичьи отрядики, с которыми махновцы легко расправлялись, даже не австрийцы или петлюровцы, с которыми можно потягаться. Пёр лишь разведывательный авангард армии, пока занятой добиванием красных на Кубани, Кавказе. Но и он оказался грозным и беспощадным.
— Им в лапы лучше не попадать! — говорил повстанец в разорванном на спине кожухе, что кидал песок рядом с Алексеем. — Лютуют — ужас! Моего свата Михаила связали, бросили на лист железа и зажарили, беднягу.
— Мели больше! — усомнился кузнец Василий Данилов. После кавалерийских уроков он старался держаться поближе к Марченко.
— Ага! — вскричал повстанец в разорванном кожухе, верткий, узколицый. — Не веришь? Помещик Цапко, знаешь такого? Имения его тут рассыпаны. В Темировке мы его отпустили. Батько приказал. Тот Цапко теперь вопит: «Наших взяли под Розовкой, порубали на лапшу, собак кормили. А этих щадить? В костер их, в огонь!»
Алексей задохнулся от усталости и гнева. Черную правду режет, подлец. Это тебе не мировая война. Братанием и не пахнет. После кровавого Екатеринослава так хотелось отыграться. А немцы вот они, скопились под Ореховом, в колонии Блюменталь — долине цветов. Махновцы рванули туда, и опять — по зубам. По загривку! Еле ноги унесли. «Ладно бы, на нас напали, — размышлял Марченко. — С кем не бывает. Но мы же сами напоролись! Батько как сдурел, полководец. Воистину, битому неймется».
На станции в Орехово лежали еще теплые павшие, раненые, стон стоял, вой, хватающий за сердце. Попик ходил в черном и сам черный от тоски, наверно, плакал, благая:
— Опомнитесь, христиане! Остановитесь же, братья, ради всего святого. Ну что вам немец? Лучше хозяина в мире нет. Культуру несет нам, порядок. В аду же гореть будем, неблагодарные. Умоляю вас!
Махно углядел его около раненых, послушал и рассвирепел:
— Адом пугаешь? В топку его, косматого!
Федор Щусь и Петр Лютый схватили смирного. Марченко стоял рядом, сцепив до боли пальцы, но не вмешался. Куда там? Получил бы пулю. Горе мытарное!
— Будем гореть на том свете? Полезай на этом! — утробно рычал Федор. Лишь гарь да бурый дым за трубой паровоза. Раненые, сплевывая, отходили прочь…
«Вот так же и нас, дождемся, — мерекал Алексей, кидая песок на рельсы. — Прёт орда. Но и мы не те. Не возьмешь!»
— Чеченцы баб е…, хаты палят. Мужики кто в лес, кто в балки, — продолжал повстанец возбужденно. — Лучше б и очи нэ бачылы, шоб воны повылазылы!
Марченко вспомнил, как Нестор, Федор и Петр потом глушили спирт в штабном вагоне. Совесть, видать, заела, не вся вышла с дымом. И Алексей, конечно, пил с ними.
Единственные во всей округе, кто не озлобился, — еще вспомнил он, — это священники. Слышали о дикой расправе над их братом, но, когда на площади в Гуляй-Поле хоронили хлопцев, порубленных в бою, пришли с крестами и рыдали Дмитрий Сахновский, Александр Лоскутов, Стефан Воскобойников и псаломщик храма Никодим Миткалев. Да, рыдали. Это тоже не забыть.
Новая куча песка все росла. Нужно было торопиться, и никто не поддержал мрачный разговор. Зато в работе хорошо думалось. Несколько дней назад, воротившись из Орехово, Алексей с Виктором Билашом поехали на совещание атаманов. Без Батьки. Объединяться. Собрались прямо на Пологовском вокзале, человек сорок. Марченко как первомахновца посадили в президиум. А инициативу захватил этот новенький, Виктор — неторопливый, мягкий вроде, но цепкий клещ. О Директории сказал, о красных, белых и даже о французах, греках, что высадились на побережье. Откуда прослышал? Шут его знает. Предложил создать из отрядов полки. Командирами назначить атаманов: Паталаху, Дерменжи, Онищенко, Зубкова и Вдовыченко из Ново-Спасовки. Да не просто полки. Каждый имени Батьки Махно с тремя батальонами, а в тех — по три роты.
— Время какое? Беспощадное! Пора кончать с разгильдяйством, — повторил Билаш настойчиво. — Не подчиняется нам отряд — разоружим. Командира — на общественный суд. Согласны?
— Годыться! — гудели атаманы, а сами, небось, думали: «Нэ кажы гоп, покы нэ пэрэскочыш. Воно покажэ!»
Начальником штаба выбрали Билаша. Ему в помощь — Марченко и еще четверых. Кажется, всё?
— Слушайте, а чья же власть? — спохватился Трофим Вдовыченко, крепыш с красным мореным затылком. — Война войной, а люди все равно женятся, торгуют, хаты строят, и от бандитов нужна защита. Кто будет управлять нашей анархической республикой? Мы или гражданские?
За окнами давно чернела январская ночь, и этот вопрос перенесли на завтра. Где же видано, чтоб не обмыть рождение армии, разъехаться без доброй чарки и застольного толковища?
Утром слово взял Марченко:
— Власть у нас одна, товарищи, одобренная народом — советская. Но не большевистская. Никаких руководящих партий. Свободные выборы.
Это приняли безоговорочно…
Повалил густой снег. Василий Данилов распрямился, воткнул лопату в песок.
— Эх, нам бы хоть одну пушечку-трехдюймовочку. Бабахнул бы по генералу!
— Пробовал? — спросил Марченко.
Василий улыбнулся снисходительно.
— Я фейерверкер.
— А я, между прочим, ихнего генерала вот так, рядом видел, — заметил повстанец в рваном кожухе.
— Май-Маевского, что ли? — не поверил Алексей.
— Ну да. Он меня лично допрашивал.
— Здоров был, а как же ты живой остался? — не понял кузнец. — Сам говорил: жарят!
Рваный не смутился.
— Генерал спросил меня по чести: где махновцы, сколько? Пообещал: отвечу правду — отпустит. На клоуна похож. Маленький, вроде Нестора Ивановича, но тучный, щеки висят, нос картошкой и сизый. Пьяница, видать, добрый.
— Ты давай по существу, — потребовал Василий. — Как вырвался из их лап? Предал, оборотень?
— А чего кривить душой? Сколько нас, и Батько не считал. Мы счас тут, через миг тю-тю. Какая тайна? Рассказал. Он и отпустил. Я побежал, да сука увязалась помещичья. Эта… как ее? Борзая. Ну и цапнула за спину. Еле придушил. Видишь, рука покусана?
— Сволочь ты! Уж извини за прямоту, — рассердился кузнец. — Жаль, нет у нас контрразведки. Хлопнули б.
Марченко покрутил тонкий ус. Когда ехали в штабном вагоне из Екатеринослава, под Батькиным сиденьем обнаружили бомбу. Без малого не взорвалась. «Кровь из носа, ох, нужна контрразведка!» — решил Алексей, слушая перебранку.
А снег все валил. Со стороны Гуляй-Поля донеслись выстрелы. Похоже, и бронепоезд подкрался, зычно рявкнул из белой круговерти. Марченко бросил лопату, вскочил на коня.
— Повод! — гаркнул кавалеристам, и они помчались на звуки боя.
К вечеру, теснимые чеченцами, махновцы впервые забрали с собой жен, а кто и детей, матерей, и отступили в степь, поближе к Дибривскому лесу.
В районе Харькова оперирует регулярная российская армия… При условии вывода ее Правительство Украинской Республики готово приступить к мирным переговорам и товарообмену… Всякое уклонение от прямого ответа или молчание на протяжении 48 часов, то есть до 24 часов 11 января, Директория будет считать официальным оповещением о войне со стороны Российского Правительства…
Председатель Директории В. Винниченко Члены Директории: С. Петлюра, П. Андриевский.
Вновь подтверждаем в самой категорической форме свое предыдущее заявление, что среди войск, что борются против Директории, нет никаких воинских частей Российской Советской Республики… Предлагаем вашим делегатам прибыть в Москву.
Чичерин.
Переговоры закончились ничем, когда большевики взяли Киев.
— Погодь, малый! Ты кто? — перед Чубенко стоял крупный мужик в замасленной фуфайке. Поверх нее, на груди, нелепо блестела цепочка, похоже, серебряная.
— Командира ищу.
— Какого? — мужик не торопясь вынул из внутреннего кармана часы, тоже серебряные, щелкнул крышкой. — Так. Даю тебе, шелудивая сука, минуту на честный ответ.
— А потом? — не без иронии спросил Алексей. Он был в пальто, смушковой шапке, хромовых сапогах. Чуть поодаль на путях пыхтело нечто странное: не то паровоз, не то железный сарай.
— В штаб Духонина пойдешь. Отвечай. Осталось двадцать секунд. Серафим! — позвал мужик парня с винтовкой, что сторожил пыхтящий сарай. — Сюда! Кадета поймал!
«Это же бронепоезд», — догадался, наконец, Алексей. Парень бежал к ним с винтовкой наперевес.
— Командир ваш сам звал меня в Синельниково, — сказал Чубенко. «Что за люди? Черт их разберет», — думалось. На околице говорили, что был большой бой и красные взяли станцию. А так оно или нет? Может, и брали да отдали. Поди различи в этой каше, где петлюровец, а где красный. По наречию вроде бы с севера, акают. Но и юзовские шахтеры подобно балакают, а служат и Директории.
— Кадет, твою мать! — парень совал штык чуть ли не в живот Алексею. — Кишки выпущу!
По всему видно было, что люди недавно дрались, еще не остыли и способны на любую пакость.
— Идиоты вы, что ли? Своего не признаете! — рассердился Чубенко и только теперь разглядел на шапке парня красную ленточку. — Махновец я. Ведите к Дыбенко.
Добрались к какому-то дому рядом с вокзалом, длинному, каменному. Часовой у крыльца, мордатый матрос, насторожился.
— Вот, Вася, махновца поймал. Слыхал про такую птицу? — весело спросил мужик с цепочкой.
— Брось п…! — прикрикнул на него Чубенко. — Давай командира!
— Машинист, пускай он войдет, — донесся бас из открытой форточки. Алексей отобрал назад свой наган, спрятал его в кобуру и впереди часового направился в здание. Дверь слева была распахнута. Гость вошел и увидел высокого, широкоплечего матроса лет тридцати. На голове кудри, белозубая улыбка. Прямо свой парень в доску.
— Здоров! — зычно сказал он и загреб ладонью руку гостя. — По моей телеграмме?
— Да, вот она.
Мореман глянул небрежно.
— Садись. Кто будешь?
— Алексей Чубенко — начальник оперативного штаба армии имени Батьки Махно.
— Приятно, — матрос помолчал, — вдруг обнаружить, как сухарь в голодуху, целую армию. Да еще и дружественную. А я — командир особого соединения Украинского фронта Павел Дыбенко. Будем знакомы, — он тоже сел, разглядывая гостя. — И сколько же вас?
Алексей плохо представлял себе, кто перед ним. Особое соединение могло быть и шайкой-лейкой, и дивизией. Но тельняшка… в степи? Одно ясно — красный, и чувствовалась хватка, палец в рот не клади. Все так, да не совсем.
У крестьянина Черниговской губернии было их шестеро. Павел — средний сын. Мыкался грузчиком, подручным электрика, матросом. Скорее всего, на том бы и успокоился. Но штормовая волна Февральской революции, ум, сила и редкая отвага подбросили его вверх, аж до председателя центрального комитета Балтийского флота. Не успел развернуться — был бит юнкерами и посажен в «Кресты». Кстати, вместе с Антоновым-Овсеенко, который сейчас командовал так называемым Украинским фронтом. Потом Керенский приказал «Авроре» выйти в море, но она подчинилась другой, шифрованной юзограмме: «Пробу произвести 25 октября. Дыбенко». Он же послал в Петроград и миноносцы с братвой и взлетел еще выше — стал народным комиссаром по морским делам! А тут паника: «Краснов идет!» Сам Ленин (шутка ли!) просил Павла: «Помогите! Можете ли обстрелять Царское Село?» Вождь измерил циркулем по карте расстояние, написал приказ, достал из пиджака кожаный мешочек, вынул печать «Председатель Совета Народных Комиссаров», приложил, аккуратно спрятал в мешочек и — в карман. Вот она, высшая власть копошится рядом. Дыбенко потом еще поехал в Гатчину. Дворец, разъяренные казаки. «Очаровал всех». Это не кто-нибудь сказал — генерал Краснов, которого он тогда арестовал. Сам Керенский величал Павла «моим врагом». Он еще успел передать приказ матросу Железняку разогнать Учредительное собрание, как судьба вновь отвернулась, словно ей кто-то шепнул: «Стоп, машина!» Дальше была Нарва, немцы и против них — сводный летучий краснофлотский отряд Дыбенко. Шли колоннами, море по колени. Их косили, как траву, и братишки во главе с наркомом позорно бежали. Началось следствие. Павла обвинили в трусости, предательстве и подводили под расстрел. Но как в свое время Нестора Махно спасла мать, так Дыбенко уберегла первая в республике гражданская жена, его Шурочка Коллонтай, поплакавшая в кабинете Якова Свердлова. Павла оправдали, но из партии большевиков поперли, увы, лишив всех чинов. Взвинченный, он бежал на Украину, в Крым, и там — из огня да в полымя — его схватили белые. Пытался улизнуть из тюрьмы — руки, ноги заковали. Каюк! Опять Шурочка вымолила: «Целую кучу немецких генералов и офицеров пленных за тебя отдали!» Приехал в Курск. Антонов-Овсеенко, не долго думая, вручил бывшему сокамернику русский полк, бронепоезд и велел: «Дерзай, братишка! Лови новый девятый вал. Даешь Харьков!» А там уже были Лозовая и Синельниково, где вчера парнишка заслонил Павла от лихой петлюровской сабли…
Вот кто сидел перед Чубенко.
В штаб то и дело заходили, что-то докладывали, просили, убегали. Дыбенко рычал, его явно торопили. Но беседа продолжалась.
— Нас около десяти тысяч, — говорил Алексей. Кто б он ни был, этот красный командир, неважно. Махновцам край требовалось оружие. Добыть его — и до свиданья.
— Поди ж ты, и правда армия! — вроде бы уважительно и одновременно с иронией, скривив крупные губы, удивился Дыбенко. — Кем же управляет ваш штаб?
— Полки, снабжение, госпиталь. Все честь по чести, — приврал Алексей.
— Ну-у, братцы, не ожидал. Даже нас переплюнули. Офицеров много? Махно, наверное, полковник? — ноздри тонкого носа Павла вздрагивали. Он вроде недоверчиво принюхивался к гостю.
— Я не уполномочен вести политические дебаты, — сказал Алексей, усмехаясь. — Нам нужен бронепоезд и патроны, а идеи вы обсудите с Махно, когда встретитесь.
— Губа не дура, — Дыбенко тоже не горел желанием спорить. Ему требовались тысячи штыков, чтобы оседлать новый девятый вал. «Они гуляют, дурью маются по степи. Бери их под свое крыло», — советовал Антонов-Овсеенко. Да и ехать пора. Павел сжал в кулаке короткую бородку, глянул исподлобья.
— Получите стальную крепость и пятьсот тысяч патронов. Хватит?
— И не мечтали! — обрадовался Чубенко. Он умел очаровать собеседника покладистостью и благодарностью. Батько давно это приметил, не зря именно его посылал во все концы.
— Что еще нужно? — спросил Павел, затаив лукавую усмешку, и поднялся. — Извини, отправляемся поближе к Екатеринославу. Поедешь с нами? По пути договорим…
За окнами убегали назад хаты, голые вишни, тополя. Над ними стояли белые облака.
— Догадываешься, почему морским душам любо так воевать? — спросил Дыбенко, поводя рукой. — Нет? Пол качается, как палуба, и сталь вокруг, и скорость, маневр, пушки. Бронепоезд не пехота и даже не кавалерия. Крепость! Эх, под Нарвой бы иметь ее. Да откуда? Их по всей империи бегало семь штук… Что еще вам дать? — опять лукавая усмешка пряталась в устах.
— Карабины бы, — робко попросил Чубенко, чувствуя какой-то подвох.
— Сколько?
— Тысяч пять.
— А пулеметы, обувку, шинели, деньги? — щедрость Дыбенко, казалось, не имела границ.
— Не помешают, — совсем опешил Алексей, насторожившись.
— Именем революции гарантирую! — голос Павла забасил. — Но-о, братишка, долг платежом красен. Вы со всей своей требухой подчиняетесь нам! Согласен?
«Вон куда он гнул!»— Чубенко судорожно глотнул чай.
— Молчишь? Дорого? Жаль анархическую свободу? Но это не всё-ё! Дисциплинка — два, и чтоб никаких мурмур. Врубился?
— А скоро… будет оружие?
— Денька через два-три, когда поспеет база из Харькова.
«Выходит, в ярмо лезьте сегодня, а то, что хотите, получите или нет, — соображал Алексей. — Ну, коварная комиссария!»
— Мне нужно посоветоваться с Махно.
— Прикатим на станцию — звони! — Дыбенко доверительно положил тяжелую руку на плечо гостя. — А сам как считаешь?
— Я не против, — уклончиво ответил Чубенко.
Когда он доложил Батьке результаты переговоров, тот согласился не раздумывая. В это самое время (его позвали к телефону) он выступал на собрании командиров полков. Они требовали не ждать Алексея, а послать еще гонца в Харьков, к командующему фронтом, чтобы получить оружие быстрее и больше. Туда отправился Виктор Билаш.
На следующий день Дыбенко с ходу взял Екатеринослав, обойдя его по льду Днепра, и на белом жеребце принимал парад своего воинства.
У городов, как и у людей, своя судьба.
27 января 1919 г.
Киев, Главная ставка, атаману Петлюре
Развалившийся пятитысячный полк атамана Самокиша направился эшелонами во все стороны… Небольшие группы с оружием ходят по деревням и занимаются реквизицией.
Атаман Григорьев.5 февраля 1919 г.
На фронте советских войск Дыбенко ведет ожесточенные бои с казаками и чеченцами. Захвачено много пленных, оружия. Отличился бывший вождь повстанческих отрядов, теперь командир бригады Махно.
Бюро печати Украины.Стальной, с полированными колесиками сейф щелкнул и не открывался.
— Паша, ты как ребенок. Решил позабавиться блестящими игрушками, комдив, — с укором сказала жена Дыбенко — Александра Коллонтай. — Но там же, милый, вся моя одежда. Что теперь делать?
Они на днях встретились в Харькове, в штабе Укрфронта. Командующий Антонов-Овсеенко дал указание создать в Екатеринославе дивизию из трех бригад и предложил с улыбкой: «Принимай нового, испытанного начальника политотдела!» «Любовь зла на расстоянии», — в сердцах подумал Павел. Два бывших наркома (она заведовала социальным обеспечением) почти не жили вместе, виделись от случая к случаю. В развороченной империи, которую они, не сознавая того, стремились восстановить на новый лад, тогда многие, особенно военные, комиссары и комиссарши, смотрели на любовь, свою семью, детей как на нечто второстепенное. И тем не менее… «Наши встречи, — признавалась Александра Михайловна, — были радостью через коай, наши расставания полны были мук, разрывающих сердце».
В Екатеринославе они поселились в бывшем коммерческом банке. Вместо шкафов в большом светлом зале использовали сейфы. Коллонтай при этом не испытывала угрызений совести. Дочь генерала, родившаяся и выросшая в белокаменном имении (оно иногда снилось ей с клумбами, пчелами, с желтой канарейкой), вышедшая замуж за обеспеченного тоже Коллонтая и бросившая затем все ради социальной справедливости, она считала, что богатства должны принадлежать исключительно трудовому народу, которым руководила и который воспитывала. Тем более этот провинциальный банк. Подумаешь, храм корысти!
А сейф не открывался, словно мстил за вторжение. Дыбенко и так и сяк пытался сладить с ним.
— Я же не хотел, Шурочка, — оправдывался комдив. Жена была с него ростом, статная, обворожительная.
— Ищи мастеров! — потребовала.
«Вот он быт, разъедающий душу, будь он проклят! Пустяк же. Но для бабы — событие. Все идеи напрочь забыла. Хорошо-то врозь!» — рассердился Павел Ефимович и отправился к адъютанту.
— Ану попробуй открыть сейф. Что-то заупрямился, буржуйское отродье!
— Я же, простите, спец по саблям, — развел руками адъютант.
— Тогда найди «медвежатника»! — приказал Дыбенко.
— Слушаюсь. Однако…
— Что? Позвони Махно. В его банде только белоручек нет.
— Они же далеко, Павел Ефимович, в Гуляй-Поле. О-о, тут его посланец. Сейчас попробую.
Через некоторое время в зал вошли двое, представились:
— Мы от Батьки. Он нас освободил из тюрьмы. Теперь наша очередь помочь. Какой сейф?
Дыбенко указал. Гость, что постарше, попросил:
— Извините, но придется отвернуться.
— Зачем это? — насупилась Коллонтай: «Платье, что ли, хотят потянуть?»— Там нет дорогих вещей.
— Секреты ремесла, — спокойно, даже с улыбкой ответил тот, что постарше, в синем коверкотовом костюме и при галстуке. Только сейчас Александра Михайловна заметила и оценила его наряд. «Вот тебе и махновцы, — подумала, отворачиваясь. — Профессионалы, черт вас побери!»
Они с мужем молча пошли к дверям. Было тихо и как-то неуютно. Взломщики, видимо, впервые так спокойно работали в банке, добывали не деньги, драгоценности, а платья для какой-то дамочки, которую знать не знали. Невольно выходило, что самозваный атаман Махно, гуляя в степях, имеет влияние и силу большие, чем два бывших наркома. «Кто кого поставил к стенке? Взглянуть бы на него. Что за птица?» — заинтересовалась Коллонтай. Она к тому же любила риск и путешествия. Сзади мелодично звякнуло.
— Да тут одни тряпки! — послышался разочарованный голос «медвежатника».
— Так быстро? Благодарю, — сказал Дыбенко довольно сухо, не подавая руки ворам. Те направились к выходу.
— Мальчики, а кто вас прислал? — спросила Александра Михайловна мягко, игриво. Одежда для нее была так же важна, как для мужа оружие.
— Чудесный парень. Калашников Сашка.
— Кто он?
— Тюрьму нам раскрыл. При Батькином штабе околачивается. Душа-корешок.
— Передайте, пусть зайдет.
— Если не уехал. Он собирался. Будем нужны — зовите, — и с этими словами «медвежатники» удалились.
— Зачем он тебе? — не понял Дыбенко.
— Их отряд — наша боевая единица, бригада. Они, наверное, и не подозревают об этом. Позволь мне туда съездить. И тебе не мешало бы.
— Погоди. Они получили оружие, бронепоезд, полк в придачу. Там сейчас бойня, Шурочка. Не время. Ох, опасно!
— Ну, Паша, — жена склонила голову ему на плечо и прижалась нежно. — Я буду архиосторожна!
— Начальника политотдела мне подберут. Это пара пустяков. А любимую? — он заранее знал, что уступит. У них было правило: никто никого и никогда не неволит. Впрочем, если бы им сказали, что это и есть анархизм, они бы рассмеялись.
— Разрешите? — вошел молодой человек, который мог бы считаться его сыном (Александре Михайловне исполнилось сорок шесть лет) — легкий, подтянутый, весь в тугих ремнях. Он ей сразу понравился.
— Калашников. Из штаба Махно.
— Здоров был, Калашников. Ты когда уезжаешь? — спросил Дыбенко.
— Тачанка ждет у крыльца.
— Отпусти ее. Пусть катит в Гуляй-Поле. А вы с товарищем начальником политотдела садитесь на бронепоезд, тот, что отбили у петлюровцев. Он уже на ходу. Поняли задачу?
Жена улыбнулась и кивнула.
— Смотри, Калашников, головой отвечаешь за нее.
— Обижаете, Павел Ефимович. Я первым брал этот город месяц назад. Забойный отряд вел. Серебряного Георгия имею за лихость.
— Ишь ты, — Дыбенко с уважением глядел на махновца. И где Батько подбирает их? — Из каких будешь?
— Рабочий, сын рабочего.
— Ну, действуй, кавалер. Знаешь, где стоит бронепоезд? Нет? Зови адъютанта…
На станции у Гуляй-Поля их уже ждали. Дыбенко звонил, просил встретить. Но Махно тем не менее не появился.
— Начальник оперативного штаба Алексей Чубенко, — представился старшой. — Прошу на нашу родную землю, освобожденную от казаков и чеченцев.
Рядом стояли еще двое, но Александра Михайловна смотрела на женщину, что тоже была среди встречающих: волоокая, статная, в элегантной дубленке.
— Галина Кузьменко, — назвала та себя, сосредоточенно-настороженно глядя на начальника политотдела. «Кто же она? — гадала Коллонтай. — Молодцы махновцы, что не забывают о нас».
Тут к ним протиснулся какой-то дядька в замусоленной фуфайке и стал тыкать бумажку.
— Что такое? — возмутился Калашников.
— Та коняка прыблудылась. А шо з нэю тэпэр робыть? — объяснял дядька, пугливо поглядывая на пыхтящий паром бронепоезд.
— Дай сюда, — Кузьменко взяла бумажку и читала вслух: — «1919 года февраля седьмого дня явилась на наши пойменные хутора неизвестная лошадь. На передних ногах наливы. Лета средние. Но лысая, и вся морда седая. Думаем, от военного страху. А задние ноги белые. Прошу разыскать хозяина. Григорий Фещенко».
Все заулыбались.
— Во какой у нас народ! — воскликнула Галина, обращаясь к начальнику политотдела. — Вокруг бои, а честность не теряем. Пришлем к вам человека, дядя Гриша, и заберем коня. Взамен получите здорового.
— Ну спасибо, спасибо, — кланялся Фещенко.
Коллонтай опять подумала: «Да кто же она такая, что распоряжается? И речь идет не о честности, а о собственности. Они все тут, наверное, частники?»
Ее посадили в добротную немецкую бричку, застланную дорогими коврами. Рядом оказались Галина и Калашников, а Чубенко — напротив. Ноги накрыли кожухами. Под ними лежали два ручных пулемета. Кроме того, впереди и сзади ехала охрана. «Серьезная публика», — решила Коллонтай.
— Вы б видели, что тут было два дня назад, — сказала Кузьменко. — Женщины с вилами, топорами гонялись за чеченцами.
— И что, рубили?! — изумилась Александра Михайловна. Гримаса отвращения или страдания исказила ее лицо, по-северному белое.
— Вон копна стоит на поле. Точно в такой спрятались два джигита. Бабы их вытащили… Я сама видела, хотела остановить… Куда там! Искромсали на куски!
— За что же? — не могла понять Коллонтай.
— А мужики где? У Махно, — продолжала Галина. — Мать троих детей на их глазах эти чеченцы насиловали. А что с девушками делали? Взвод или эскадрон пропускали! Это, по-вашему, прощать?
— Какой ужас! — не могла поверить гостья. Она многое повидала. Была под пулями на Дворцовой площади 9 января 1905 года, в разъяренной толпе в Берлине в начале войны (узнали бы, что русская — растерзали). В семнадцатом владельцы бань едва не обварили кипятком, когда она организовала стачку прачек. То всё страшно. А тут же дикость! В двадцатом веке!
— Чего добиваются здесь кавказцы? — спросила Александра Михайловна.
Тачанка летела по голым полям, заснеженным до самого горизонта.
— Каждый делает то, что хочет, — отвечала Кузьменко.
— А вы? — холодный ветер срывал и уносил слова.
— Свободы Украины!
— Но большевики дают ее!
Галина лишь улыбнулась крупными, горделивыми губами. Показались белые хаты, странные для северянки, да еще наполовину финки, привыкшей к серым избам. У штаба она обратила внимание на черные знамена.
— Почему не красные?
Все в тачанке переглянулись. Ответил Калашников — бывший секретарь анархической секции:
— Мы за советы и не против древнерусского стяга победы. Но нам ближе флаг Французской революции — символ Свободы.
У крыльца толклись зеваки. Кто-то позвал:
— Попов!
Гостья невольно оглянулась. В толпе выделялось несколько матросов. «Неужто он? Здесь?» — удивилась Коллонтай. Эсер Дмитрий Попов командовал особым отрядом ЧК, во время летнего мятежа арестовал Дзержинского, вел себя крайне агрессивно и был приговорен к расстрелу. Но бежал. Куда? Никто не знал. Неужто он? Выяснять было некогда: шли к Махно.
Увидев его, Александра Михайловна была разочарована. Мужчин ниже себя ростом, она старалась не замечать. Исключение составлял Ленин. Однако Ильич есть Ильич. А этот безбородый и безусый коротыш… Еще Батько называется!
Он встретил гостью в своем кабинете, подошел мягко в маленьких желтых сапожках, подал руку:
— Рад познакомиться!
Коллонтай уже привыкла, что товарищи первыми суют руки дамам, но все равно какой-то миг колебалась, прежде “чем пожать ее. Нестор заметил это: «Брезгует, что ли, комиссарша?» Смотрел колко. Доложил о победах. Взяли ближайшие городки, села. Какие — она не запомнила. Тысячи мобилизованных белыми переходят на сторону повстанцев… Махно хотел добавить: «С оружием», да вовремя спохватился. Винтовки надо еще просить у красных. Гостья в свою очередь, кажется, уловила это, длинная стерва. Она ему тоже не понравилась с первого взгляда.
Начальник политотдела сказала многозначительно:
— Поздравляю вас, работников штаба и всех бойцов! Я приехала сообщить, что отряды местных повстанцев преобразованы в бригаду новой дивизии Дыбенко. Вы, товарищ Махно, отныне комбриг Красной Армии!
Он усмехнулся, довольный. Еще бы. Официально не будучи даже рядовым, и вдруг — комбриг. Генерал! Не каждый день такое случается.
— А приказ есть? — уточнил, сверля гостью тяжелым взглядом.
— Пока нет. Будет.
«Какой самоуверенный тип. И не поблагодарил. Словно положенное взял», — поморщилась Коллонтай и сменила тему:
— Вы уже слышали, очевидно, что на нашу сторону перешел и петлюровский атаман Григорьев с двадцатью полками? Это большая подмога!
— Имя незнакомое. А где он располагается?
— На запад от Екатеринослава. Его люди тоже войдут в дивизию. Так что работы у политотдела хватает. Кстати, Нестор Иванович, сколько у вас безграмотных?
— Практически нет. Это же Украина. По два, по три класса все закончили. Верно? — попросил он подтвердить членов штаба. Те кивали. А Федор Щусь не утерпел и ляпнул:
— По три класса и по пять коридоров!
Не обратив внимания на эту пошлость, Коллонтай обнаружила, что Галины среди них нет. Кто же она тогда?
— А газеты получаете? «Правду», например, или «Бедноту».
— Присылайте, и только, — сказал Батько. Большевистская пресса его не интересовала. Вчера Билаш привез из Харькова полвагона анархической литературы и четырех хлопцев прихватил из конфедерации «Набат». Они собираются выпускать свою газету. Но начальнику политотдела незачем знать об этом. Честь и слава, что еще один бронепоезд привела.
— Мы к вам направим агитаторов и артистов, и зубастых политкомов. Обязательно! — обещала Александра Михайловна увлеченно, хотя и чувствовала, что ее слова не находят отклика. Члены штаба все так же уныло кивали. Да, не зря, не зря у них висят черные флаги.
— А где же Галина, моя симпатичная собеседница? — как бы спохватившись, спросила гостья.
— Жена, что ли? — не понял Махно. «Вот оно что! У него губа не дура, чует золото за версту!» — удивилась Коллонтай и попросила игриво:
— Вы разрешите с ней посекретничать? О быте солдат, о нуждах женщин, детей.
— Обедать пора. Поехали ко мне домой, и только! — улыбнулся наконец Нестор. Ему с этим начальником политотдела было ох как неуютно. Пускай Галина отдувается, учится дипломатии у заковыристой большевички.
5 февраля 1919 г.
После упорных боев на подступах к Киеву доблестные советские украинские войска… вступили в столицу Украины. Преследование противника продолжается.
Антонов-Овсеенко, Щаденко.
Вагонов было так много, что Семен Миргородский, торопясь, сбился со счета. Пришлось начинать сначала. Они захватили их в Цареконстантиновке, выбив оттуда кадетов. Помогли, правда, и морячки, присланные Дыбенко с бронепоездом. Незадолго перед тем вместе с махновцами они прищучили белогвардейскую крепость на колесах. Назвали «Грозный» и тоже кинули в бой. Так что отступление было паническим.
«Девяносто шесть вагонов. Фу-у! — остановился, наконец, Сеня. — В каждом ме шки с мукой. Швейцарию можно накормить. Ай-я-яй! И зачем им столько? Дон разорен, Кавказ. Туда гнали».
Он был послан Батькой присмотреть и оприходовать военную добычу, но не предполагал, что такое обнаружится. «А они брешут: деньги украл! Как не стыдно? — Семен сжал и без того узкие свои плечи. — Позорище! Для чего бы я это делал? Вот вагон. Отцепи, толкни — сразу миллион, а то и больше. Украл! Чтоб вам тошно стало, пустомелям!»
Выполнив поручение, Семен быстро возвратился в Гуляй-Поле, в гостиницу, но зайти туда не смог. У дверей, под окнами стояли, сидели вооруженные повстанцы.
— Покажи мандат, — потребовал кузнец Данилов, старший в карауле.
— Да ты что, Вася! Не узнаешь члена штаба? — возмутился Миргородский. Мелькнула дальняя мыслишка: «Считают вором? Отстранили?»
— Съезд кипит, чуешь? — хитровато (или это показалось?) повел рукой Данилов.
У коновязей, просто под деревьями торчали десятки подвод.
«Господи, что же с людьми делает власть! — поразился Миргородский. — Поистине, она порочна, хотя мы, эсеры, и за нее».
Делегаты повалили на улицу. Семен протиснулся к Махно, доложил.
— Девяносто шесть вагонов? Муки? Сам считал?
— Лично. Два раза, Батько.
— Дадут слово — расскажешь. Будем решать.
Сеня примостился на подоконнике, ждал. К столу, где выступали делегаты, высоко подняв голову, шла среднего роста брюнетка. «Кто же это? Неужели Маруся Никифорова?» — засомневался Миргородский. Она начала говорить низким грудным голосом, и зал притих. Выступающая резко нападала на большевиков, на их рабские Советы. Голос ее играл, обретал страстность. «Да Маруська! — убедился Семен. — Яростная. Кто ж еще? Из тины вынырнула, выдра».
Он приметил ее еще в семнадцатом, на митинге: блестящие, таинственные глаза, дикция, пышная грудь — всё высший аллюр! Говорили, что дочь капитана, кого-то хлопнула, сидела в Петропавловской крепости, через Сибирь бежала в Японию, Америку, в Париж, где закончила офицерские курсы, потом заправляла матросней в Петрограде. Легенда! Сеня видел, как она разъезжала верхом на жеребце по Александровску, создавала «черную гвардию». По слухам, Маруся застрелила красного военкома, который обижал солдат в Елисаветграде. Ее судили, оправдали не без помощи Махно. Укатила в Воронеж. Там тоже бедокурила с мореманами. Опять судили, вроде в Москве. И след затерялся… Глянь — вынырнула, клятая баба. Ее даже Нестор Иванович побаивается.
Выступали все желающие: беспартийные, анархисты, большевики, эсеры. Но напали только на Карпенко, комиссара полка:
— Кто избирал правительство Украины? Из Москвы привезли!
— Зачем вас присьшают сюда? Шпионить!
Комиссар, как мог, отбивался. Особенно поразили Миргородского слова анархиста Черняка:
— Мы знаем, что и многие большевики честно сражаются и гибнут во имя революции. Но уверены, что эти люди не отдавали бы свои жизни, если бы знали, что известная кучка людей захватит в свои руки власть и будет угнетать целый народ.
«Ну это уж слишком, — махнул рукой Сеня, усмехаясь. — Куда там, могучая кучка! Сметём!»
Поднялся Махно. Казалось бы, он попытается примирить повстанцев с комиссарами. Ведь воюют-то вместе и оружие нужно. Ничуть не бывало.
— Если товарищи большевики идут из Великороссии на Украину помочь нам в тяжкой борьбе с контрреволюцией, мы должны сказать им: «Добро пожаловать, дорогие братья!» Но если они идут сюда с целью монополизировать Украину, мы скажем им: «Руки прочь!» Мы сами сумеем поднять на высоту освобождение трудового крестьянства, сами сумеем устроить новую жизнь, где не будет панов, рабов.
Чтоб такое говорить, нужно было чувствовать за собой большую силу.
Потом Миргородский сообщил о военной добыче.
— Куда ее девать? — спросил Батько. — Давайте так. Тут делегат из погорелых Дибривок, другие просили о помощи. Вот им-то и отдадим шесть вагонов муки. Остальные отправим голодающим братьям севера. В благодарность за оружие — раз. Чтобы о нас узнали, не считали бандитами — два.
В Россию полетела телеграмма:
«Гуляйпольское революционное крестьянство, а также крестьянство всех прилегающих областей, командный состав и повстанческие отряды имени Махно, Гуляйпольский Совдеп… постановили имеющиеся у нас девяносто вагонов муки, добытой в бою с добровольческими бандами, поднести в подарок московским, петроградским революционным крестьянам и рабочим. Просим оповестить население».
— Миргородский, набери команду и с вагонами дуйте в Москву, — приказал Батько. — Отвечаешь головой! Это политический факт.
— Исполним в лучшем виде. Но есть просьба, Нестор Иванович.
— Какая?
— Бабушка умерла в Александровске. Душа разрывается, требует похоронить.
Махно насупился. Тысячи гибнут в боях, столицы пухнут от голода. А у него бабушка…
— Ох, брешешь, Сенька! По глазам вижу. Дамочку завел? Проверить? Послать Леву Зиньковского?
Миргородский замер.
— Ладно, ветеран. Отправят без тебя до Александровска. Но если отстанешь, повторяю — башка с плеч!
— Туда ей и дорога, — облегченно вздохнул Семен.
Было уже темно, и он пошел в кинематограф. А там оказался вечер, посвященный Тарасу Шевченко. В зал — не протиснуться. Хор пел «Рэвэ та стогнэ Днипр шырокый». Слушали почему-то стоя. Потом рассказывали о мытарствах поэта, читали его стихи. Сеня позаглядывал и с удивлением заметил, что все вокруг плачут. Слезы блестели на глазах даже Федора Щуся и Пети Лютого. «Чего они расквасились? Ай-я-яй», — подумал Миргородский и отправился домой, чтобы хорошенько выспаться и встать пораньше…
Уездный Александровск, притихший в излучине Днепра, — малый городишко, может, чуть больше Гуляй-Поля. Такой же православный храм в центре. Недалеко от него, правда, возвышается тюрьма с причудливым каменным орнаментом, а по улице слева — купол трехэтажной земской управы.
— Где заседает съезд? — спросил Семен прохожего.
— Какой?
— Уездный же, крестьянский.
— А-а, слышал. Землю делят. Но где — хер его…
Никто не мог подсказать. Собрания, митинги были обычным делом. Их проводили петлюровцы, недавно выбитые отсюда, эсеры, коммунисты. Миргородский направился к бывшей земской управе и еще на подходе, увидев скопление подвод, обрадовался, что угадал. Но у входа его остановили мужики с красными повязками. Он уже был готов к этому.
— Я из штаба Махно. Привез срочное заявление. Вот справка, — и показал писульку с печатью.
Смуглый усатый хлопец с печальными глазами повертел ее, сказал:
— У нас, брат, строго. Один делегат от трех тысяч. Секёшь? Немцы-колонисты прислали Вальтера. Знаком?
— Нет, конечно, — ответил Сеня, сдержав улыбку. Простодушие хлопца вызывало умиление.
— Так вот. Раз в колонии обходятся без пролетариата, Вальтера из зала вытурили. Секёшь?
— На все сто, — вежливо согласился Миргородский.
— А Батьке Махно мы послали приветствие. Потому проходи, — разрешил дежурный.
По широкой гранитной лестнице Семен поднялся на второй этаж. Навстречу, споря, шли делегаты.
— Перерыв? — обрадовался гость.
— Мы в знак протеста, — мрачно озвался один из них. — Не признают, видите ли, диктатуры. Анархия им слаще. Советское правительство Украины для них незаконное, видите ли, не избрано народом.
Миргородский догадался, что это большевики. В зале было поменьше делегатов, чем в Гуляй-Поле, но прения шли тоже жаркие.
— Бытьё давит на шкуру, — говорили с трибуны. — Нет ни живого, ни мертвого инвентаря. Хоть плачь, а нужна коммуна!
— А мы категорически против золотопогонников, как в красной России. Хохлов не пускали в генералы.
— Никаких коммун, и землю давай по числу едоков. На одного — две с половиной десятины. Корова или три овцы — на пять ртов. Даром!
— Долой всесильную чеку!
«Туго придется большевичкам, — решил Сеня. — Не достанут нас. Будут воевать со всей Украиной». В конце заседания по записочке ему дали слово.
— Здесь меня обвинили в воровстве. Считаю это оскорбительным и для себя лично, и для повстанческой армии. Не сплю уже третьи сутки! — соврал Сеня. Голос его дрожал. Темные воловьи глаза блестели.
— Та цэ ж нэ вин! — крикнули из зала.
— Простите, я не просто вор, как тут подло объявили, но теперь уже и не я. Вы что, в самом деле? Цирк устроили!
— Не он украл. Другой! — шумели. — То наш Миргородский, из села Веселое!
— А-а, садитесь, — сказал председательствующий. — Это не вы. Ошибочка!
Делегаты хохотали.
Вечером Семен нашел эшелоны с мукой и укатил в Россию.
Приказ № 18
по войскам группы Харьковского направления
21 февраля 1919 года
— Из частей, находящихся под командованием т. Дыбенко, Григорьева и Махно, образовать одну стрелковую дивизию, которой впредь именоваться 1-й Заднепровской Украинской советской. Начальником назначается т. Дыбенко П. Е.
— Из отрядов атамана Григорьева образовать 1-ю бригаду.
— Из отрядов Северной Таврии 2-ю бригаду.
— Из отрядов Махно 3-ю бригаду.
Вр. командующий группой Скачко.Вне очереди
…Сообщают подробности о зверствах петлюровских войск в Василькове. Обнаружено 103 трупа: 47 евреев, остальные рабочие и крестьяне.
Бюро украинской печати.— Чэпэ, товарищ комдив! — доложил помощник, войдя к Дыбенко. — Отряд, что мы послали на усмирение батьки Правды, переметнулся на его сторону!
Штаб Заднепровской дивизии располагался уже в Александровске, в здании банка. Отсюда ближе к Крыму, прямая железнодорожная ветка, и к Донбассу.
— Кто у нас под рукой? — Дыбенко в ярости вскочил из-за стола: приходилось командовать еще и самой надежной второй бригадой, которая пробивалась к Перекопу. А тут эти дурацкие батьки!
— Сейчас неделя военного обучения, — отвечал помощник, — и рубаки на полевых занятиях.
— Поднимай в ружье инженерный батальон, — приказал начдив.
Помощник, звали его Андрей Кармазь, тот самый, что прятался с гайдамаками на острове Голодай, хорунжий, остро споривший с Махно, — поскакал выполнять.
Вскоре они отправились в сторону Орехова. Начальство впереди на броневике. Нагнув голову, Павел Ефимович сурово смотрел через лобовое стекло на заснеженные поля, что однообразно поднимались, так же полого опускались, и ему, северянину, было скучно. Не за что зацепиться взгляду. Пустынная земля: ни темной елочки тебе, ни белой березы, ни крутой горки. Такие же тут и люди.
Вроде сог лашаются со всем, что им говоришь, мягко стелют, степняки, а сами норовят исподтишка грызонуть побольнее!
— Будем косить? — лукаво поинтересовался Андрей. На самом деле ему было жаль глупых и наглых земляков-соратников.
— Не в рот же им заглядывать, — басил Дыбенко возмущенно. — Это разве свобода? Грабеж среди бела дня! Ух, красноносые батьки! Мы, правда, обещали им жалование, а не дали. Харьков, Москва задерживают. Сулили обмундирование — нет. Лошадей — нет. Так что же, разбоем заниматься?
— А где им взять? — смело налег помощник.
Он нисколько не опасался начдива. Вместе шли из Курска. Перед тем Кармазь послужил в державной варте небольшого местечка, пока комендант не издал распоряжение: «Запрещается больше трех человек стоять на улице и производить разговоры, гулять по Днестру, ловить рыбу и стирать белье». Андрей ринулся в Киев, приветствовал Директорию, мерз на парадах Петлюры и подрался с бунчужным, который призывал «быть жыдив и кацапив». Кармазя арестовали. Он бежал, попал в Харьков к полковнику Болбочану. Как раз прибыли на съезд крестьяне, их приказали разогнать. Андрей заерепенился (сколько били — всё не впрок). Пришлось снова удирать. А там уже был Курск, Дыбенко подбирал отчаянную команду. Они и спутались.
— Где взять, где взять? — недовольно ворчал начдив. Он ценил помощника за прямоту, неудержимость в бою и кавалерийское искусство. Таких рубак мало было в матросском отряде. Павел Ефимович продолжал: — Хай добывают у Ерага, из дому несут. Нет, им подавай на блюдечке. Я сам, небось, хохол, знаю.
— Цэ нэ зовсим так, — возразил Кармазь. — В отличие от русака, хохол свое не отдаст, но и чужое никогда не возьмет.
— Хай будэ по-твоему. Но чекистов они прищучили, продотрядовцев порешили. Среди тех, согласен, тоже есть негодяи, но это уж не батькам решать.
Андрей хотел брякнуть, что, может, грабительская политика виновата, но сдержался. Да и большак, по которому ехали, раздвоился.
— Куда теперь? — спросил Дыбенко.
— Прямо. В Жеребец и прикатим, — помощник не раз убеждался, что командир любит прямоту. А она часто — родная сестра жестокости.
Село Жеребец далеко раскинулось по дороге, и, пока искали военкома, батько Правда с хлопцами смотался. Дыбенко кинулся вдогонку. Снег мешал броневику развить скорость, но все-таки задних настигли и покосили. Те ли это, что расправлялись с чекистами, или посторонние — некогда было разбираться.
Стотысячный Мариуполь — второй после Одессы южный порт — тревожно спал в легком предутреннем мареве, что поднималось от Азовского моря, от сырых мартовских полей. Уже неделю вокруг шастали многочисленные банды. Говорили, что это голь перекатная: какие-то махновцы задрипанные или красные казачишки с Дона, может, и алчные крестьяне из близлежащих сел. Одна сатана — грабить жаждут!
Но защита от них была, слава Богу, крепкая. На окраинах окопался полк добровольцев. Им помогали французы со своей эскадрой и батальон чехословаков. Кроме того, на станции Сартана, что в семнадцати верстах от города, закрепился драгунский полк с бронепоездом. Этих сил, казалось, вполне достаточно, и два наскока уже отбили.
Впрочем, на базаре, весьма жалком, но шумевшем даже в столь смутное время, случилось мелкое происшествие. Продавец мыла сказал:
— И когда эти сволочи сгинут?
Стоявшая рядом жена каталя металлургического завода «Русский провиданс» попросила уточнить:
— Какие именно? — ее милый за недавнюю забастовку и попытку восстания был посажен в тюрьму вместе с товарищами.
— Да как их… махновцы, что ли.
— А может, они освободить нас хотят? — простодушно вскрикнула жена каталя.
— Ах ты ж сука! — возмутился продавец мыла. — Держите ее! Это красная шпионка!
Стоявшие тут же и слышавшие перепалку портовые грузчики набросились на него с кулаками. В суматохе жена каталя убежала…
Ни о чем подобном не подозревая (он вообще неважно знал жизнь города), Василий Куриленко в предрассветной серости вел свой полк на захват железнодорожной станции Сартана. Шли в полный рост. Под ногами чмокала раскисшая от дождей и снега земля. Кадеты пока молчали. Василий вспомнил совещание, на которое накануне приехал сам Батько Махно.
— Мы должны были ухватить этот клятый Мариуполь трое суток тому, — с укором сказал он, шевеля плечами длинные волосы. — Возимся, как жуки под навозным шариком. Но возьмем, и только! Война, по моему разумению, не просто бах-бах. Жестокая игра. Кто кого перехитрит, тоньше рассчитает все ходы и выходы. Есть у тебя коварный план, Куриленко?
Сидели в просторной светлице. Рядом с Батькой — новый начальник полевого штаба Яков Озеров, вроде присланный Дыбенко. Есаул царской армии с покалеченной правой рукой. Он сменил Алексея Чубенко, занятого «дипломатическими» разъездами. Озеров, говорили, назубок знал военное дело и был строг до жестокости, не боясь получить пулю в спину. Справа от Василия склонился над картою Тахтамышев, возглавлявший повстанцев из окрестных сел, в основном греческую братву. Около него примостился Лев Шнейдер — командир батареи, тот самый, как слышал Куриленко, что год назад поснимал с пушек панорамы и был приговорен махновцами к расстрелу, но сумевший оправдаться и кровью доказавший преданность анархизму и лично Батьке.
— Обижаешь, Нестор Иванович, — отвечал Василий. — Заковыристый план у нас давно готов, да силенок не хватало и разведки. Теперь подвалила помощь и мобилизованные кадетами бегут, несут нам оружие, сведения. Всё сейчас как на ладони, — они стали разглядывать карту-десятиверстку. — Мы же раньше захватили станцию Сартана. Видите? Потом отдали, чтобы заманить туда побольше белых. Они клюнули…
— Короче, — потребовал Махно.
Гонористому Василию это не понравилось: «Кто он такой здесь, в наших краях, чтобы понукать, жуками навозными обзывать? Видали мы всяких батек». Тем не менее он продолжал четко:
— Отрезаем станцию от города. Вот здесь. Тихо, скрытно. Громим их гарнизон и наваливаемся на Мариуполь. Всё!
— Грамотно, — одобрил Нестор Иванович. — Давайте по косточкам. Хочу предупредить и повстанцам вбейте в башку: город — не село, где взял главную улицу, и точка. Тут каждый дом — крепость, если у них на то ума хватит. Напролом один бык прет, потому и кольцо в носу. Яков Васильевич, — обратился он к Озерову, — втолковывай им тактику. Сколько стволов на французском крейсере? Далеко ли бьют?…
На рассвете загулял легкий ветерок. «Шальным пулям помеха! — приободрился Куриленко. — Хотя они всегда липнут к трусам». Он шел в первой шеренге и чувствовал, что этот их порыв не остановить никаким огнем. Настроение подчиненных он безошибочно угадывал еще на том фронте, дореволюционном. Где-то впереди рявкнуло. «Наш бронепоезд с той стороны ползет», — понял Василий, и без команды, чмокая, все побежали к заводу. Его трубы уже маячили на фоне мутной зари. Тогда белые начали стрелять. Кто-то упал, застонал. Но отпор явно запоздал.
Повстанцы без особых потерь взяли завод и продвигались к станции. Навстречу выскочили всадники, похоже, драгуны, сотни две. Их встретили плотным огнем. Они заметались и были перебиты, даже те, кто поднимал руки. По путям летел бронепоезд. «Удирает кадет. Эх, не остановить!» — сожалел Василий. Но стальная махина вдруг притормозила.
— Ложись! — заорал Куриленко, сообразив, что собираются бить в упор. Однако, дав несколько пулеметных очередей, поезд запыхтел и пополз назад, к станции. Комполка заметил, что стрёлки-то разобраны, и перебежками кинулся к грозному пленнику. То же делали повстанцы. Они со всех сторон облепили добычу, и гранаты полетели в амбразуры, люки пульмана, в теплушку. Стальная обшивка стонала от взрывов и осколков. Потом выяснилось, что стрелки ночью разобрали рабочие.
На станции Сартана сложили головы четыреста добровольцев, в том числе командиры драгунского полка и бронепоезда. Как сообщил корреспондент александровских «Известий», «пленных не оказалось».
Куриленко собрал своих помощников.
— Поздравляю с победой! Лихо управились. Но это — поддела. Нас ждет Мариуполь. Бегом туда!
— Пощелкают, как орешки, — возразил Лев Шнейдер. — Местность-то открытая. Светло. Вам что, разбежитесь и от аэроплана. А у меня пушки. Отличная мишень для крейсера.
— Грузи на платформы, — приказал комполка. — Ану поможем, хлопцы!
На улице похолодало. Падали редкие снежинки. Дул северок. Василию подвели поджарую кобылу, он вскочил в седло и поехал проверить, как выполняется приказ. Его люди в шинелях, свитках, элегантных пальто фирмы «Берберри», полушубках залазили на платформы, в вагоны. Иные на лошадях, а большинство пешком, хлюпая мокрыми полами по сапогам, устремились к Мариуполю. Ветер усиливался. Пуще повалил сырой снег. «Лучшая маскировка!» — радовался Куриленко, продвигаясь вместе с полком по раскисшей дороге. Невольно пришли на ум рассказы деда Игната, как добирались сюда, на полупустынные земли, их предки-козаки. Может, вот в такую же распутицу…
После разорения Сечи Екатериной II в 1775 году часть уцелевших запорожцев со слезами подалась за Дунай, к туркам, своим извечным супостатам. Но те их, на удивление, не обижали, даже церкви разрешили поставить. Вот тебе и нехристи! А потом пронесся слух: Россия объявила войну Турции. Тысяча отборных казаков должна была выступить против братьев-славян. Поистине, что тебе на роду написано — и конем не объедешь!
«Шо ж було робить? — спрашивал дедушка Игнат Василька. — Нас клялы за измену. Того ж Мазэпу чи мого батька. А ты ж дывысь. Богдан Хмэль вступыв в союз с царём, щоб жыть по-братски. Хто ж то порушыв? Пэтро свобод нэ дав. Гэтмана Полуботка в Сыбир загнав. То як же дружыть? А визьмы Катэрыну. Славно воювалы наши козакы разом з Потёмкиным. А прыйшла победа — гэть вас! Ночью, як бандиты, побылы Сич!»
Речь деда не отличалась строгой логикой, и Васильку трудно было улавливать ход событий. Но он усвоил твердо: его предков подло обижали, еще и предателями нарекли. Все же в последний раз царь Николай (не этот, а тот) сдержал слово. Когда тысяча отборных задунайских казаков присягнула-таки не султану, а ему «по велению Бога и билась с турком, не щадя живота» — дарована была им земля у Азовского моря и войско назвали тоже Азовским. Вывезли даже церковь из-за Дуная вместе со священником. Заложили станицы, в том числе Ново-Спасовскую.
Однако не успел Василек еще и родиться, как Александр II, не тем будь помянут, упразднил Азовское войско и «став насильно повэртать нас в мужыкы» — возмущался дедушка Игнат. «Отака благодарность. Хто побиг на Кубань, а мы зосталысь. Так шо ты, Васыль, помны царську мылисть! Помны». Он и не забывал. Потому добровольцы и примкнувшие к ним белоказаки, кавказцы, отстаивавшие монархию, не могли ждать от него и его товарищей никакой пощады. Тут были не только сегодняшние обиды и слезы — вековые счеты.
А снег валил все гуще и гуще. Впереди послышались звуки боя. Тахтамышев, видимо, ворвался в Мариуполь и ждал подмоги. Куриленко пришпорил кобылу. Из белой пелены проступила пушка, дернулась.
— Батько стреляет! — слышались восторженные крики. — Сам Батько лупит!
Василию говорили, что штатский Махно владеет пулеметом, наганом и шашкой, но чтобы из пушки палить… Да не видно же ни зги! Куда пуляет, дуролом! И он ли? У лафета, однако, распоряжался Нестор Иванович. Он пожал руку комполка и спросил:
— Взяли станцию?
— Наша! — прохрипел Куриленко.
— Молодцы, и только! А я им страх нагоняю. Бью подальше, чтоб своих не зацепить. По белым нервам грохаю. Врывайтесь сходу на помощь Тахтамышеву. Да по улицам не шныряйте!
В снежной круговерти полк уже занимал окраину. Василий побежал помогать. Знал, что его воинство, когда загорится, не остановить никакой силой. А если хлопцы не в духе — будут удирать, сверкая пятками. Строгой дисциплины, боевой выучки у них еще нет. Хотя и созданы полки, батальоны, эскадроны, но каждый держится соседа из родного села, кума, брата или отца, и заправляют те же атаманы, что выбраны. Рушить этот порядок, заведенный предками, не было у Василия ни времени, ни желания. Ради чего нужны комиссары, трибуналы? Победа и так шла за победой. Скоро, глядишь, и Таганрог падет — ставка Деникина!
Окраины проскочили быстро. А дальше пришлось прятаться, хитрить, зайцами прыгать по тротуарам, переулкам.
— Помогите! — просили раненые, но было не до них.
Впереди горели дома. Сторожко обойдя их, группа во главе с Куриленко заметила троих повстанцев, что перебегали широкую улицу. Чиркнула короткая очередь. Трое завалились. Комполка чутьем определил, что стреляли с крыши углового особняка. Только сунулись туда, как сверкнуло из подвала. Сосед охнул и присел, ругаясь. А тут еще собака, где ни возьмись, кинулась под ноги с рыком. Размахнувшись, Василий забросил в подвал гранату. Посылались стекла, куски кирпича. Пес лег и заскулил. Группа ворвалась в особняк.
В нижней угловой комнате, наклонясь, возилась женщина. Она подняла голову, распрямилась и смотрела на незваных гостей широко открытыми, потеряными глазами.
— Где ход на чердак? — рыкнул комполка и вдруг заметил на развороченном полу ребенка. Белая ручка его была без ладошки. Горячий шум ударил в виски Василию: у него дома точно такая же кроха. Он стиснул зубы, еще глянул. Без ладони, и кровь. Его граната. Женщина не отвечала, все смотрела потерянно.
Куриленко схватил плачущего ребенка, сунул ей в руки. Краем глаза уловил, что хлопцы скрылись за дверью, и дернул шкаф. Оттуда посыпалось белье. На потолке топали.
— Завяжи! — прохрипел женщине, и тут ввели пленного без шапки, во френче.
— С чердака, бил, гад! — доложил один из хлопцев.
— Это мой муж! — взвизгнула женщина. Комполка размахнулся и ударил пленного в лицо.
— Пошли. Ему хватит, — сказал.
Они выскочили во двор, нырнули под навес какого-то сарая. Василий кинул взгляд вверх, где должно было быть солнце, но увидел лишь черные ветки, что падали. Их косила шрапнель. «Кто стреляет? — еще успел подумать он. — Батько, кадеты или французский крейсер?» И невольно зажал лицо ладонью. Из-под пальцев сочилась и капала кровь. Горячо зазвенело в ушах. Куриленко зашатался, его подхватили…
№ 0803 Харьков
25 марта 1919 г.
Главком настаивает на дальнейшем движении частей Махно от Мариуполя на Таганрог. Прошу указаний для отдачи соответствующих распоряжений.
Нач. штаба Глаголев.Поезд остановили, считай, под Александровском. Пассажиров выгнали в поле. Было темно, промозгло. Запахло примятыми, только выткнувшимися первоцветами.
— Что случилось? Кто такие?
— Не видишь, что ли? Махновцы!
— Бандюги! — негромко переговаривались испуганные, возмущенные дамы, мелкие спекулянты, крестьяне с мешками, военные без погон. Когда их стали шмонать, отбирать вещи, худенькая девушка с пустыми руками смело спросила:
— Що ж вы робытэ, хлопци? А як батько узнае?
Рядом с ней сутулился вроде пожилой еврей. Он осклабился, схватил девушку за руку и качнул головой с длинными волосами.
— Тише, милая!
— А ты хто такая, пуповка, шо хвист пиднимаеш? — посвечивая фонариком, нагло осведомился детина с побитым оспой лицом. — Буржуйка, небось? Мы быстро заткнем пасть. Ни батько, ни маты нэ узнають. Ану пиднимай юбку!
— Попробуй тронуть, остолоп, — с вызовом ответила девушка и даже подступила к конопатому. — Завтра кишки из тебя вымотаю!
— Хто-о?
— А от побачыш!
Пораженный всей этой сценой и особенно тем, что грабят махновцы, сутулый неожиданно вступился:
— Как вам не стыдно? Беззащитных детей пугаете.
— Я тэбэ счас, жыдяра, в гимно втопчу! — кинулся к нему конопатый и приставил штык к животу. — Ану вперед, с нашим батькой побалакаешь!
— Пошли, пошли, — охотно согласилась девушка. Их, а также некоторых других погнали к хатам, что чуть светились невдалеке.
— Ну, вы и молодец. Чем бы ни кончилось — молодец! — восхищался на ходу пожилой. — Как вас величать?
— Феня.
— Приятное имя. А я Петр Андреевич. Вы куда ехали?
— В Гуляй-Поле.
— О-о, нам же по пути. Далеко еще?
— Верст шестьдесят, если эти уркаганы не укоротят. А что это у вас?
— Так, всякие бумаги в портфеле…
— Кончай базлать! — прикрикнул конопатый и выстрелил для острастки.
Петр Андреевич вздрогнул. Попался, как кур в ощип. Сидел в Москве, читал лекции по истории анархизма, распространял литературу, и на тебе — гонят вроде скотину на бойню. Живот даже поцарапали штыком. «Что происходит? — недоумевал он. — Это и есть народоправство? Ради него, рискуя головой (Прим. ред. — В 1907 году его присудили к повешению), я взрывал полицейский участок в Екатеринославе, стрелял в подлеца? Для этого Каракозов палил в Александра II, анархисты погубили императрицу Австрии Елизавету, короля Италии Умберто, президента США Мак-Кинли, премьер-министра Испании дель Кастильо? Опять же, отец наш духовный Бакунин стоял два раза на краю могилы? И всё — ради этого? Фантасмагория какая-то!»
Изумляло не то, что его ночью, в степи, ни за понюшку табаку схватили бандиты, выдающие себя за анархистов. Свою жизнь Петр Андреевич давно уже не очень ценил. Его потрясли жалкие, позорные плоды героических усилий. Конечно же, это маскарад. Но кому от этого легче? Вот и рассказывай потом о прогрессе человечества!
— Не волнуйтесь, — попросила его Феня, чувствуя, что он приуныл. — Они нас не тронут. Увидите!
Ее оптимизм казался просто невероятным. Дура, что ли?
— Надеюсь, — вяло согласился Петр Андреевич.
В огородах призывно стонали мартовские коты. Сквозь тьму можно было различить, что хаты стоят далеко друг от дружки. Пленников провели по колючему бурьяну к забору. Конопатый со скрипом открыл ворота, скомандовал:
— Ждать тут! Яшка, слиды, шоб нэ потикалы оци тараканы, — а сам пошел в хату.
— Зачем ты их, елки-палки, притащил? — послышался грубый голос.
— Так заразы ж, Паш. Золото поховалы, огрызаються. А кокнуть ты нэ даеш.
Старый конспиратор Петр Андреевич обратил внимание на это «Паш». Кличка, что ли?
— Эй, там! Ану сюда, по одному! — позвал грубый голос.
Спутник уже было шагнул за ворота, нр его опередила Феня.
— Первая пойду, — заявила твердо, и он нехотя уступил. Таких отчаянных дам давно не встречал. Разве что Маша Спиридонова — вождь эсеров, да близко, в подобных ситуациях он ее не видел. На задворках пропел петух. «Голгофа», — подумал Петр Андреевич.
— Ты кто? — громко спросил, наверно, атаман.
Феня что-то ответила, нельзя было разобрать.
— Ишь ты, гусыня! — опять тот же голос. — А я, может, плевать на твоего Махно хотел!
— Та у вас же е жинка, диты, — послышался и Фенин голосок.
— Ну и что?
— Подумайте.
— Иди отсюда, сучка! Пока не поздно.
Девушка прибежала к воротам.
— Пошли, Петр Андреевич, — сказала, запыхавшись.
— Ку-да? — Яшка-охранник подставил штык под зад конспиратору.
Тот поспешно:
— Иду, иду! — и замотал портфельчиком к хате.
— Проверь, что у него там, — приказал главарь.
Конопатый вырвал портфель и унес в хату.
— Что за птица? — спросил атаман. Он был плотен и как будто трезв.
— Я еду к Нестору по его приглашению.
— К Махно, что ли?
— Да, к нему. Лично.
— Ну, брехуны, и где вас рожают? Все летят, как мухи на мед, в Гуляй-Поле. Да мне-то какое дело? Тут хутор Матвеевский, елки-палки! Он, может, поважнее. Ну, что там в его портфеле?
— Книжечки та газэты, — доложил конопатый.
— А про что?
— Ось. Кро-пот-кин. «Хлеб и воля».
— Так ты что, и правда анархист? — не поверил атаман.
— Моя фамилия Аршинов! — с вызовом сказал Петр Андреевич. — Вы еще под стол пешком ходили, когда я за свои убеждения сидел в Бутырках, в гибельной московской тюрьме.
— Ты не очень, елки-палки. Мы тоже волка за ухо держали.
— Простите, я не закончил. Маялись вместе с Махно. В одной камере клопов кормили.
— Если не врешь, баламут. Отдай ему портфель, — велел атаман, видимо, смутившись. — Следующий… Стоп! Гони всех в шею!
Петр Андреевич с Феней пошли к железной дороге, подальше от этого кубла. Переночевали на полустанке и на следующий день, голодные и холодные, прибыли в Гуляй-Поле.
Махно обнял своего учителя и долго не отпускал.
— Заждался, — сказал наконец. — Ты для меня, Андреич, может, самый дорогой мужик на свете… У них Володька Ленин. А у нас?
Аршинов понял намек, но не смутился. Столько сил и здоровья загублено в борьбе за анархические идеалы, что тут не до сентиментальности. Да и кто такой, собственно, Ленин? Умный жестокий авантюрист! Не более. Гораздо важнее сейчас, что они с Нестором встретились, и Скромный (Прим. ред. — Тюремная кличка Махно) заметно изменился. Одет в военную форму с чужого плеча, посуровел, улыбается, а в глазах отчуждение. Шутка ли, полгода в боях, брал Екатеринослав и, по слухам, что доходили до Москвы, был главнокомандующим. Управляет бригадой — генеральская должность! За ней сила. Но какая? Темная, атаманская? На Скромного не похоже.
— Чудесную девушку встретил по дороге, — подняв рыжие брови, мягко, осторожно заговорил Петр Андреевич. Хотя сравнение с вождем (чего уж там скрывать?) ему польстило, но не хотелось сразу переходить к делам.
— Что, вам еще юбка интересна? — усмехнулся Махно. — А кто такая? Из местных?
— Феня. Фамилию не знаю.
— Беленькая, тоненькая?
— Верно.
— Это же подруга моей жены, Гаенко. Чистейшая душа. У меня нет и не может быть от вас тайн, учитель. Она — разведчица. У нас этим в основном бабы занимаются. Ездила по моему заданию.
— Надо же! — удивился Аршинов. — Никогда бы не подумал. Значит, талант. Актриса прирожденная.
— Чем она вас подкупила?
Гость потеребил бородку. Гадко было даже вспоминать кошмарное происшествие. Но что скрывать?
— Спасла меня, считай, Нестор.
— Кто-то угрожал? — насторожился тот.
Аршинов коротко рассказал, не забыв упомянуть какого-то Пашу. Лицо Батьки похолодело. Шрам под левым глазом тронул нервный тик.
— И что, выдают себя за махновцев? — спросил сурово.
— Конечно, — подтвердил гость. — Я не мог поверить. Это же стыд и срам для всего нашего движения.
— Гаврюша! — крикнул Махно. Вошел носатый, угрюмый Троян. Он даже за дверью чувствовал настроение Батьки. — Готовь сотню. Едем!
— Куда? — смутился Аршинов. Он вовсе не желал мести.
— Я им не Дыбенко, что впустую гонялся за безногим батькой Правдой. Я им покажу, этим Пашам, как пакостить идею свободы!
Нестор накинул бурку, гостю дал кожух, плащ, и вскоре они уже ехали на тачанке в сторону Александровска. Впереди и сзади на темных лошадях скакали хлопцы из особой, охранной сотни.
Петра Андреевича поразила эта знакомая, взрывная резкость Скромного. К ней нельзя было привыкнуть. Кроме того, фронт вокруг. Что, нет других забот? Мелочь же нападала. Вшивота.
Но для Махно это было делом чести. Более того. Прибыл наконец учитель, на которого возлагалось столько надежд. Идейный вождь! И что же он тут увидел? Разбой да грабеж. Хорошего ученичка воспитал!
— Я их в порошок сотру, подонков, — сказал Нестор дрожащим голосом. — Махновцы! Сукино отродье!
— Не опасно ли? — засомневался Аршинов. — Их там много.
— Мои отборные хлопцы любой строевой полк сомнут, — отвечал Батько поспокойнее.
Ехали быстро. Апрель был дождливый, и плащи пригодились.
— На днях мы взяли Мариуполь, — продолжал он. — Там были чехи, французы, эскадра пуляла фугасы. А мы выиграли международное сражение.
Петр Андреевич покачал головой.
— Куда сиганули, а? В Бутырках об этом и не мечталось!
— Да. Достались нам миллионы пудов угля. Подкосили снабжение всего черноморского флота Антанты. Семь тысяч только снарядов. Умеем же воевать? И прем дальше. Вася Куриленко со дня на день возьмет Таганрог — ставку Деникина!
Прикрываясь плащом от холодных капель дождя, Аршинов поглядывал на бывшего ученика и не узнавал его. Откуда в этой холмистой, Богом забытой степи берутся молодцы? На вид неказист, а замах-то богатырский! Ленина упомянул. Знать, не об учителе лишь беспокоится. Сам равняется. На генерала Деникина замахнулся. Чудеса да и только. Петр Андреевич даже за ухом почесал, слушая Нестора.
— К готовенькому прискакал туда Дыбенко — наш липовый начальник дивизии. С женой — атаманом политотдела. Вы ее знаете. Тоже в наркомах ходила. Коллонтай.
— Встречал в Москве, — подтвердил Аршинов. — Калек, сирот призирала.
— Нам с Васей ордена пообещали, митинг в Мариуполе устроили. А народ шумит: «Махно давай! Хай Батько скаже!» Я им и врезал, пролетариям, даже прошлую измену вспомнил, когда немцы наступали. Не понравилось, воротили носы. Потом банкет. Дыбенко говорит: «Весь уголь — холодной России!» — «Э-э, нет. А как же наш народ? — спрашиваю. — Уголек-то украинский. Хаты греть чем? Еще и оружие на него выменяем. Вы же его не даете». Начдив зарычал. У-ух, не понравилось. Но кто он такой для нас? Временный попутчик!
Гость слушал внимательно, не перебивал. За слегка хвастливыми фразами Нестора стояли действительно большие победы.
— Да это же… готовая республика свободы! — Петр Андреевич от волнения даже привстал.
— Махновия, как выражаются хлопцы. Будем созывать съезд вольных Советов без большевистского ярма. Одобряете?
Бывший учитель кивнул, улыбнулся, обнял Нестора левой рукой. Ах, молодец! И степи, какие просторы вокруг, милые. Аршинов бежал по ним из камеры смертников, вырвался во время пасхальной заутрени. Уже цвели дикие гвоздички, желтенькие ирисы, незабываемые. Кинулся в Россию, в холод. Оттуда в пустыни Средней Азии, потом Европа, Париж, Берлин. Опять Украина. Схвачен был в Тернополе, отвезли в Москву. Эх, степи, степи, сколько лет мечтал вдохнуть ваш аромат, потоптаться по непролазным черноземам. Из-за вас-то и раздирали на части Украину во все века. Тут и спрятаться негде. Спасают лишь резвые ноги или коварство.
Тачанка все летела по холмам. Дождь прекратился. В стороне остался Александровск, подъехали к хутору Матвеевскому.
— Где та хата? — спросил Махно.
Петр Андреевич пожал плечами. Ему эта затея не нравилась с самого начала. От нее веяло чем-то недобрым, скользким. Ну найдут атамана. Тот, конечно, станет все отрицать. Попробуй разберись, докажи.
— Гаврюша! — подозвал Батько сотенного. — Кликни людей на митинг. А этого Павла, их атамана — из-под земли найти. Тоже сюда. И живо!
Сам спрыгнул на землю у длинной хаты под красной черепицей и, насупившись, ходил туда-сюда. Аршинов стоял рядом, ждал. Появились хуторяне, поглядывали с опаской. Что за чужак прибыл? Махно? Ой, невзрачный! Оцэ и е гризный Батько? Не похо-оже. Куда ему? Шпэндрык якыйсь. Вокруг вон кряжистые мужики с дебелыми затылками. Щелчком его перешибут. Один Павел чего стоит!
Словно почувствовав их настроение, Нестор сел на коня и уже верхом поджидал, пока все соберутся. Появился и Павел — плечистый дядя. Он хмуро поглядывал по сторонам, явно чуял опасность и пятерней поправил наган, что висел на поясе.
— Ермократьев! — узнал его Махно. — Ану подойди сюда!
Это был тот самый Павел, елки-палки, с которым они начинали восстание, что прицепил тогда гранату к животу капитана Мазухина и выдернул чеку. Это он говаривал: «Не только воля нужна, Батько, но и доля!» Намекал на грабеж, сукин сын. Вот как встретились. Ну, боров, отъелся на чужих харчах.
— Ты ночью заправлял? — грозно спросил Махно. Он видел, что Гаврюша и еще трое из охраны плотно придвинулись к атаману, готовые схватить его. Но тот был крепок, опасен.
— Я. А что?
— Слухайте, люди добрые, — начал Нестор хрипловато. — В Москве и Киеве, на Дону объявились разные власти: Ленин, Петлюра, Деникин. У всех своя музыка играет. Почуешь — не разберешь, кто прав, кто виноват. Вы у самой железной дороги бедуете и лучше меня бачите весь этот бардак. Верно?
Женщины, старики заулыбались. Уж бардак так бардак. Это точно. Хуже некуда. Молодец Махно, остро чешет. Всю правду, как она есть. Мужики, однако, стояли хмуро. Почти каждому доставалось барахлишко от грабежей поездов, деньги перепадали, золотишко, и ныло под ложечкой: не зря он припёрся, этот батько, не для сладких речей. А голос Нестора креп. Он говорил не только для селян — учитель слушал.
— Еще при немце мы продолжили социальную революцию, чтоб вам жилось вольно от любых властей и партийных брехунов. Теперь в наших руках большая земля от Александровска до Бердянска и от Гуляй-Поля до Мариуполя. Слышите? Наша свободная республика! Живи, трудись на радость детям. У нас крепкая армия, вольные Советы. Для кого же это всё? Я спрашиваю. Для вас — селян, женщин, стариков, кто пашет землю. И вот эта сабля, — Нестор со звоном выхватил шашку из ножен, — порука вашей воли. Но не грабежа, не бандитизма.
Он тронул коня, проехал близко перед хуторянами, повернул назад и стал справа от Ермократьева. Продолжал:..
— Находятся жадные негодяи. Для них наше святое, черное знамя анархизма — прикрышка. С такими у нас разговор короткий…
Толпа оторопела и отшатнулась. Люди заметили только резкий взмах шашки. Павел стоял… Не падал, а голова его… легла на плечо.
— Вот так! — сказал Махно. — Бывайте здоровы!
Пришпорив коня, он поскакал прочь. Сотня отправилась за ним. Аршинов еле вскочил на тачанку и никак не мог прийти в себя. Столь зверское убийство на глазах у публики он видел впервые. И это XX век! Анархист снес голову человека, словно кочан капусты. Господи, мыслимо ли это? Скромный, ты ли? О-о, какая дикость! И это — после пыльных складов московской ассоциации, где лежали милые, тихие анархические сочинения. О-о! Какая же свобода на свежей кровищи?!
Петр Андреевич сжимал, тер онемевшие пальцы рук. Они мелко дрожали. Вот она, подлая, подлинная реальность. «Все революции таковы? — в смятении мерекал он. — Начиная с Чернышевского, вольно или нет направившего на царя двуствольный пистолет Каракозова… Да что Николай Гаврилович? Еще мудрый Маркс говаривал: «Идеи становятся материальной силой, когда овладевают массами». Так, кажется? Вот оно — это овладение! А Прудон, наш предтеча: «Собственность есть кража». Атаман Павел слышал подобное? Ночной грабеж поездов лучше законной эксплуатации? Все ниспровергатели жаждут чистоты души. И я тоже, и я, — в отчаянии думал Аршинов. — А выходит шиворот-навыворот. Отчего? Ну отчего же? Кант и Спиноза, Шопенгауэр и князь Кропоткин сушили мозги: откуда взялось нравственное чувство? От Бога или врожденное? А гораздо важнее другое: почему ЗЛО столь могуче! И что же мне делать в этой мясорубке?»
Махно остановил коня, пересел в тачанку, посмотрел на учителя пристально.
— Ну что, закоренелый террорист, дрогнули? — спросил с какоц-то странной, как показалось Аршинову, чуть ли не дьявольской усмешкой.
— Да уж… не до покоя, — сипло отвечал Петр Андреевич.
— В белых перчатках тут нечего гулять. Не ты — так тебя. Проверено. Ваша голова, учитель, стоит тьмы таких. А Павел мог ее ночью запросто сшибить.
Эта арифметика покоробила Аршинова. Он все тер дрожавшие пальцы. Когда большевики захватили власть не без помощи анархистов, а потом принялись беспощадно уничтожать их, Петр Андреевич видел только подлость и коварство Ленина и иже с ним. Теперь же похолодевшей кожей почувствовал, что тех качеств, пусть и низменных, от Великого Инквизитора ой, как мало для вождя. Требуются еще дубовые нервы и безграничное ожесточение. Одно дело — пальнуть в жандарма, и совсем другое — беспощадно распоряжаться толпой, изо дня в день карать без устали. Тут мало желать и сметь. Такие всегда найдутся. Попробуй-ка вынести! Единственную голову снесли — ты задрожал. А тысячи, миллионы? Почетно и приятно стоять на трибуне, когда букеты бросают. Но и цена же, цена прегромадная. Душу заложить надобно с потрохами, собственное сердце кинуть собакам. Лишь так идеи становятся материальной силой? Так? Не-ет уж, извините.
— Нам позарез нужна газета. Будете редактором, — говорил между тем Нестор.
Понять, почему учитель побледнел и так печально глядит, едва ли не плачет, проникнуть в его сомнения он не мог. Но практическим чутьем определил: Аршинов — не вождь. И ладно. Так, может, и лучше.
— Возглавите культурно-просветительный отдел, — продолжал Махно. — Работы — непочатый край. Как раз для вашего размаха. Идет?
Петр Андреевич кивнул в знак согласия.
Председателю Совнаркома Украины Раковскому
Насчет планов Дыбенко (взять Крым) предостерегаю от авантюры — боюсь, что кончится крахом и он будет отрезан. Не разумнее ли его силами заменить Махно и ударить на Таганрог и Ростов. Советую трижды обдумать, решайте это, конечно, сами.
ЛенинРешать было поздно: Крым уже взяли. Правда, не весь.
Захарий Клешня из села Рождественки, в хате которого, на чердаке, прятался Нестор Иванович по возвращении из России, лежал теперь на краю выбалка. Трава под щекой была серая, прошлогодняя, жесткая. Пырей, что ли? Прищуренным глазом Захарий углядел и зеленые побеги. Апрель гуляет, сеять давно пора. Но рядом рвануло. Полетели ошметки земли, свистнул осколок. Клешня еще плотнее прильнул к траве. Шелковисто прошуршала шрапнель и лопнула где-то сзади, над отступающим полком. Захария с его ротой оставили прикрывать тыл.
Трое суток тому они занимали позиции на самом удаленном фланге бригады Махно. Даже и мысли не было об отступлении. За ними, до Луганска, окопались красные и общими усилиями сдерживали добровольцев и казачков всю зиму. Больших боев не было, так, стычки, перестрелки. Захарий даже подумывал, как бы при случае улизнуть, вспахать свой надел и быстренько вернуться. Отвезти, кстати, барахлишко, что прихватил по пути.
Он не считал себя вором. Все махновцы баловались этим. Тянули бы и красные, да избы далеко. Иначе зачем же воевать? То была вроде плата за вынужденные мытарства. Кроме того, Захарий всегда трудился не меньше других. Руки вон все в мозолях. А что нажил? Может, городские больше пахали? Черта с два! Так почему же не поделиться по-доброму?
Инженер, или кто он там, в квартире которого ночевали, горлопанил: «Куда шубу тащите? Я сын известного в Гуляй-Поле Михаила Кернера. Его знает ваш Махно!» Клешня подумал и ответил, покрепче сжимая мех: «Я тоже Батьку оберегал. Ну и что?» Потом уточнил: «А где моя шуба?» Тихо так поинтересовался. Жена инженера завизжала, вцепилась в мягкую, искристую полу: «Не дам! Вы погромщики. Она мне от мамы досталась!» — «Почему же моей маме и жене Оле отказано? — крикнул и Захарий. — Чем они хуже вас? День и ночь не разгибаются!» — «Так устроена жизнь, — отвечал инженер. — У Бога спросите и сохраняйте достоинство». Клешня не понял, о чем речь, дернул. Шуба треснула. Ему досталась меховая пола. Он бросил ее и выскочил на улицу.
Там стоял их ротный — Сашка Самышкин по прозвищу Семинарист: высокий, жилистый, с усами, лихо закрученными колечками.
— Фраер вы, Клешня, — сказал он, усмехаясь. — Зачем вам, хуторскому дуплу, выездная котиковая шуба?
Захарий не без испуга (если донесут Батьке под горячую руку — порешит!) подбирал слова о справедливости. Их не находилось, и он показал заскорузлые ладони:
— Глянь, не заслужил?
— Эвона, я не о том, — скривился Сашка брезгливо, прохаживаясь с развальцем.
Он был не просто смелый — безоглядно отважный, и его не брали ни пуля, ни сабля. Тем и выделялся, за то и ценили в полку, и побаивались: ротному сам черт брат! Семинарист достал из кармана серебряные часы, щелкнул крышкой. — Вот что следует брать: ценно и незаметно!
Ему еще хотелось покуражиться, и он спросил:
— А за кого ты, Захар? За большевиков или за коммунистов?
— Ясное дело, за последних.
— Эвона, почему?
— Они всё дали: землю, зерно и мир. А большевики, падлы, забрали, чеку привезли, какие-то комбеды, продотряды…
— Простофиля ты, братец. Это же одно и то же. Мечтали о власти — обещали. Добились своего — стоп! Да разве только они? Все политики дерьмо! Жизнь, Захар, черепаха. Медленно ползет. А им не терпится других обскакать. Вот и врут почем зря, пока вы свои запыленные уши развешиваете.
Ни Клешня, ни командир полка Петр Петренко, никто другой и не догадывались, с кем имеют дело. Шесть лет тому москвичи были потрясены злодейскими грабежами и убийствами: влюбленной парочки, богатого коммерсанта, двух старух. Всё проделала шайка Семинариста. Причем у бабушек были переломаны кости, вырезаны груди, обуглены пятки. Сашку долго не могли поймать. В конце концов изловили и приговорили к повешению. Но тут подоспела амнистия к Романовскому юбилею — оставили двадцать лет каторги. Освободила бандита Февральская революция. Попросившись на фронт, он сразу же нашел в городе тех, кто его выдал, и убил. После этого бежал на юг, пристал к повстанцам. «Я тоже, эвона, каторжанин, как и Батько Махно», — не без гордости говаривал Сашка.
В апреле на их участке лихо вынырнула конница генерала Шкуро. При поддержке бронепоездов она опрокинула красную дивизию и навалилась на полк Петренко. У него было до трех тысяч бойцов, но не хватало патронов, и приходилось откатываться к Гуляй-Полю. Дороги запрудили раненые, беженцы. Они распространяли слухи, что сзади, помимо лохматых терцев, катятся еще какие-то невиданные железные черепахи по имени Танки…
Захарий приподнял голову. Рядом никого не было, и снаряды больше не рвались. Не долго думая, повстанец сполз в балку и кинулся прочь. Может, не заметят, не достанут. Винтовка мешала. Зачем ее тащить, если нет патронов? А бросить жалко. Он и так уже все потерял: конька родного, белопузого, барахлишко. Эх ты ж, война-дура!
Отбежав подальше, Клешня увидел тачанку с ранеными. Те ушивались в тыл. Он уцепился за гнутое крыло и как ни в чем не бывало зашагал с каким-то матросом. Навстречу вихляла телега. С нее спрыгнул вездесущий Семинарист.
— Вы куда это удираете, курвы? Кому же я патроны везу?
— Сопровождаю раненых. Шкуровцы… иначе… порубят, як дрова, — оправдывался Захарий. Он чувствовал в командире бешеную силу и боялся ее.
— Держите патроны на всяк случай! — Сашка кинул подсумок в тачанку. — А вы, симулянты, дуйте за мной!
— Там же… амба! — запротестовал матрос.
Глаза Семинариста блеснули гневно.
— Шалишь, браток. Устоим!
Вскоре они подъехали к роте. Увидев патроны, повстанцы повеселели. Их реденькая цепочка тянулась от рощицы почти до села.
— Где они? — спросил Сашка.
— А ты глянь!
Захарий похолодел. Напротив, метрах в трехстах, гарцевали белоказаки.
— За мной! — рявкнул Семинарист и, стреляя, бросился на врагов.
Те явно не ожидалй такой прыти, покрутились и начали пятиться. Под одним из них пала лошадь. Сашка устремился к нему. Тот прицелился. Бах. Сашка бежал. У видевшего это Клешни пересохли губы. Бах снова. Сашка увернулся и зарубил казака. Махновцы резвее побежали за своим ротным. Справа, откуда ни возьмись, наступала еще какая-то группа. Когда сблизились, Семинарист спросил:
— Что за орава?
— Полк из дивизии Дыбенко, — доложил старший.
— Да она же в Крыму!
— Не вся. Нас кинули из Мелитополя. Комполка убит. Я комиссар Михаил Ступаков.
— И сколь же вас?
— До ста штыков осталось.
— Где они? — презрительно усмехнулся Сашка, подкручивая усы. — Вижу одни берданки. На охоту, что ли, собрались, фраера? Да вы еще и босиком!
— Эх, и пулемет есть, но поломан, — смутился Ступаков. — Невезуха.
— Аники-воины. Присоединяйтесь, выберем вам командира, — весело решил Семинарист. — Ану дай бинокль.
Он стал осматривать горизонт. После недавних дождей небо было чистое, холодно-голубое. Сиротливая весна.
— Что, невезуха? — поинтересовался Михаил.
— Всюду, как мухи, нас облепили эскадроны Шкуро, — говорил Сашка, поворачиваясь то вправо, то влево. — Мы в мертвом кольце, братва.
— Э-э-эх! — вздохнул комиссар. Он знал: кому-кому, а ему — крышка.
Захарий поглядывал на него без сочувствия. Махно дал всем в Рождественке добрые наделы, заверив: «Что посеете — ваше. Разве только фуражу немного возьмем. Зато уголь для топки дадим из Мариуполя». А тут налетели эти большевики. На помещичьей, самой лучшей земле объявили совхоз. Что оно такое? На хрена? Мужики зашумели. Прикатила чрезвычайка, стала угрожать, как недавно австрийцы, и тоже была закопана в лесочке. Тогда-то Клешня и подался в полк Петренко и никаких братских чувств к красным не имел. Хай их беляки секут. Туда им и дорога. Особенно комиссарам.
— Где нас не ждут? — отчаянный Сашка потеребил ус. — Впереди! Пошли на прорыв. Авось в рубашке родились!
«Та ни-и, — решил Захарий. — Лучше голому и живому». Он сел, снял сапог, развернул портянку, не торопясь обулся и кинулся назад. Дальше по знакомой балочке где ползком, а где перебежками выбрался к неубранному кукурузному полю и затаился. Ночью прибился к своим. Его привели к командиру полка Петренко.
— А Семинарист, ваш ротный, где? — первым делом строго спросил тот. После дибривского пожара, когда сгорела и его хата, Петр почти не изменился: такой же смурной, подтянутый, немногословный. Война была для него привычным ремеслом, и он исполнял его, как и положено, круто и толково.
— Нас окружили. Я чудом спасся, а он убит, — соврал Клешня, пряча глаза.
— Жаль. Редкой удали был мужик, — вздохнул Петренко и снял фуражку. — Редкой. За такого десять небитых дают.
Как потом, однако, выяснилось, окруженные сдались без боя, иначе бы их порубили. Но перед этим Семинарист шустро зарыл в землю документы и серебряные часы. Бойцы его не выдали, как и комиссара Ступакова. Они прикинулись местными крестьянами и вместе с другими были отпущены на все четыре стороны. Шкуровцы пока что легко побеждали, потому не лютовали. Судьба опять щадила Самышкина.
Махновцы ведут переговоры с Григорьевым об одновременном выступлении против Советов. Мы задержали сегодня делегата… Просим принять неотложные меры к ликвидации махновцев, так как теперь в районе нет никакой возможности работать коммунистам, которых подпольно убивают.
Из телефонограммы Екатеринославского комитета партии большевиков в ЦК.
10 апреля 1919 г.
Пять дней спустя, под вечер, на рейде Мариуполя появился верткий катер и обстрелял город. На горизонте маячили то ли баржи, то ли корабли. Вскоре они исчезли. Но на берегу, где слышали о прорыве конницы Шкуро, поднялась паника. Первым бежал комендант-большевик Таранов. Как дезертир он был арестован заградотрядом Василия Куриленко. Всю ночь, однако, шла эвакуация военного имущества, и город бь!л сдан без малейшего сопротивления.
К свежевыкрашенному штабному вагону на станции Пологи поспешно подошли двое в потрепанных шинелях без погон и в фуражках со звездочками.
— Тут командующий Украинским фронтом? — нервно спросил один из них дежурного.
— А вы кто?
— Комиссары из бригады Махно. Срочно нам! Катите в Гуляй-Поле?
— Это не ваша компетенция. Сейчас доложу, — дежурный поднялся в вагон, снова появился. — Заходите.
Они увидели невысокого худощавого человека в тонких очках и с длинной, почти до плеч шевелюрой.
— Я командующий Антонов-Овсеенко. Слушаю, — сказал он густым басом.
Глядел как-то уж очень пристально. Молодые комиссары смутились. Прибыли жаловаться на анархистов, а тут точно такого же патлатого встретили.
— Говорите! — протрубил Владимир Александрович и улыбнулся. Он знал, что голосом своим кого хочешь собьет с панталыку.
— Мы… еле ноги… унесли, — заикаясь, доложил тот, что был повыше ростом, белёсый или бледный.
— И кто же вас напугал?
— Это банда. Не бригада! — вступил в разговор второй комиссар, черненький и лупоглазый. Губы его дрожали. — Махно приказал арестовать всех политкомов и оптом расстрелять!
— Он порвал напрочь с Советской властью! — добавил белесый.
— А вы порох, товарищи, нюхали? — командующий фронтом глядел так же строго, не мигая. — Или только языками чесали? Комиссар тот, кто первый в атаке. Лично у вас есть ранения?
Жалобщики окончательно потерялись, ответить «нет» не решались.
— Мы хотели предупредить: не ездите туда, в это кубло. Там гибель!
— Эх, милые, — вздохнул Овсеенко. То, что услышал, встревожило его, но никак не испугало. — Зимний кто брал? Временное правительство кто арестовывал?
Политкомы с недоумением уставились на него.
— Тогда мне тоже говорили: «Не рыпайся, опасно!» Потому приказываю: отправляйтесь в свои полки и бейтесь до крови. Народ сам оценит. Всё!
Поезд ушел, а горе-комиссары стояли на перроне огорошенные и пожимали плечами. Никак не верилось, что патлатые способны… Зимний взять! И выправка у него царского офицера. Предатель, что ли? Наших колотят, а он и усом не повел!
Владимир Александрович возвращался от Григорьева. Перед тем побывал в Симферополе. Надеялся встретиться с братом Ленина, Дмитрием Ильичом — председателем Крымского правительства. Жаль, не удалось: тот был в отъезде. Зато Дыбенко порадовал, вот уж поистине оптимист, не то что нытик Григорьев. Тысячи штыков и сабель навострил Павел Ефимович. Мастерские открыл. Тридцать пар сапог шьют в день. Заверил, что в ближайшие дни его армия ударит через Керченский пролив в тыл Деникину и разнесет того в пух и прах. Как не поддержать? Могучий хохол с кудрявой бородкой никогда не подводил. Вместе в «Крестах» сидели — вышли. В Севастополе обоих приговорили к повешению — бежали. Кто корабли и матросов прислал к Зимнему? Кто разогнал Учредительное собрание? Дыбенко! Кремень-мужик. Однако горяч, самому Ильичу перечил. Так и ты же, Овсеенко, партийная кличка «Штык» — не на первых ролях оказался!
Поезд шел по ровной, уже зазеленевшей таврической степи. Крестьяне таки засеяли ее. Война войной, а они не дремлют. «Мои землячки», — с теплотой подумал Овсеенко. Он родился в Чернигове, в семье поручика, дворянина, и сам офицер, а видишь, как колыхнулся. Уже пятнадцать лет профессиональный революционер. Сколько сажали, бежал — и со счета сбился. Даже тюремные стены рушил. «Но что любопытно, — пришло ему в голову, — все мы — висельники: я, Махно, Дыбенко. Найдем общий язык! Не анархисты ли первыми ворвались в Зимний? А Григорьев вон юлит. Кто же будет держать фронт от Донбасса до морей?»
Подъехали к станции. На перроне уже стояла лихая тройка. «Ай да резвый Батько! — усмехнулся Владимир Александрович. — А они предлагают его убрать. Дескать, сдал Мариуполь. На переправе, милые, коней не меняют. Но лично не встретил, сукин сын. Боится или нос дерет?»
В Гуляй-Поле ждал строй загорелых хлопцев. Оркестр играл «Интернационал». Овсеенко, не подозревавший, что музыканты всё утро специально разучивали эту пьесу, а обычно давали «Марсельезу», сошел с тачанки и увидел: к нему направлялся «малорослый, моложавый, темноглазый, в папахе набекрень человек».
— Комбриг Батько Махно. На фронте держимся успешно. Идет бой за Мариуполь. От имени революционных повстанцев Екатеринославья приветствую вождя украинских советских войск!
Пожали друг другу руки. «Шустёр, однако, шустёр», — определил комфронта. Григорьев встречал более сдержанно. Махно представил своих заместителей, приближенных, в том числе и старую знакомую Овсеенко еще по диспутам на Балтике Марусю Никифорову. Она улыбнулась приветливо, и аскетическое лицо Владимира Александровича посветлело. «Тоже висельница, каторжанка и беглянка, — вспомнил он не без иронии. — Огонь-баба! Умудрилась, как и Дыбенко, попасть даже под советский суд. Но перещеголяла Павла. Ее дважды наши судили, и оба раза я ее спас. Красива, стерва. Грубовата».
Махно вел его вдоль строя повстанцев. Они «ели» их глазами.
— Наш резерв. Новобранцы, — тихо доложил Батько.
Молодцы, — похвалил комфронта. Он давненько не видел столь преданных взглядов. «Вот тебе и банда, — думалось. — А какие же орлы на передовой! Эх, горе-комиссары». На самом же деле ему показывали отборную черную сотню, что охраняла Батьку и штаб. Он всерьез опасался, как бы комфронта не приехал схватить его за сдачу Мариуполя, связи с Григорьевым и наглый арест комиссаров. Конфликт с ними назревал давно, собственно, с самого их появлении в бригаде. Но нужен был повод, и он возник.
Дмитрий Попов — бывший командир особого отряда ЧК, арестовавший Дзержинского, бежавший из Москвы после июльского мятежа левых эсеров и объявленный вне закона — отирался теперь при штабе. Как-то зашел к Махно и предложил:
— Григорьев набирает силу. Херсон взял, Николаев, Одессу. Но мы же с ним в одной партии. Не послать ли туда хлопцев-эсеров: Горева, например, или Сеню Миргородского? Пусть понюхают.
— Зачем? — не понял Нестор.
— А мало ли. Вдруг понадобится, — Дмитрий смотрел круглыми холодными глазами наивно, бестия. Батько его сразу раскусил: если не подлец, то будет очень ценен.
— Ладно. Посоветуйся с нашим главным контрразведчиком Левой Голиком, и посылайте. Только не этих заметных, что ты назвал, а мелочевку подберите.
Так, исподволь, потянулась ниточка. Григорьев клюнул. Потом стал искать более тесных связей. Договорились о встрече в Екатеринославе. Но там посланца схватили большевики. Кто-то донес. Нет спасу от проклятой диктатуры. Какая же с ней свободная Украина? Комиссаров зато шлют!
В таком настроении Махно встретился с группой анархистов, приехавших из Харькова, Иваново-Вознесенска для совместной борьбы. Один из них, Черняк, рассказывал:
— Наши товарищи сидят по тюрьмам, расстреливаются чекистами всего лишь за то, что выступают на митингах и разоблачают большевиков. Пора проснуться, Батько! — и бросил на стол пачку харьковских «Известий». — Про вас пишут. Вот передовица «Долой махновщину».
Нестор прочитал, побледнел.
— Сейчас же арестовать полковых комиссаров! — приказал Льву Голику. — Хай посидят, как наши в казематах ЧК!
Виктор Билаш пытался протестовать:
— У меня они от станка, от сохи. За что должны страдать?
— Не слиняют, — ответил Махно и сел писать приказ: «Секретно, вне очереди. Всем начбоеучастков, командирам частей… До особого распоряжения всех политических комиссаров арестовать, все бумаги политотдела конфисковать, просмотрев, наложить печати».
Это был бунт. Не зря же нагрянул сам Антонов-Овсеенко! «Что у него на уме? — прикидывал Батько. — Может, пока тут играет оркестр, к Гуляй-Полю стягиваются дивизии красных? Да где они их возьмут? Фронт бы удержать. Нет, для кары — диктаторы найдут!»
Но страхи были напрасны. Махно с высоким гостем держали речь. «Новобранцы» дружно гаркнули «Ура!» Это понравилось комфронта. Ознакомившись с делами в штабе, он еще более утвердился во мнении: тут работают профессионалы. Яков Озеров четко вел документацию, доподлинно знал боевую обстановку, но вдруг брякнул:
— Соседняя с нами девятая дивизия Южного фронта настроена панически, а ее командный состав — белогвардейцы!
Овсеенко не ожидал такого заявления и развел руками:
— Я получил донесение члена их реввоенсовета, что ваша бригада разлагает стоящие рядом части. Кто же прав?
Он умолчал о предложении, которое было там: «В связи со сдачей Мариуполя не сочтете ли подходящим моментом убрать Махно, авторитет которого пошатнулся?» Копия этого донесения ушла к Ленину.
— Вот же документы! — горячо возразил Озеров, пряча покалеченную правую руку.
— Убедили, — согласился комфронта. — В чем нужда?
Сидевший рядом с Батькой Федор Щусь отчеканил:
— Да ничего же нет: ни денег, ни обувки. Дыбенко дал. итальянские винтовки. А чем заряжать? Это просто дрючки!
— Как же вы держитесь? — пробасил Овсеенко. Сам украинец, он знал, насколько тонко тут умеют прибедняться. Ответил сумрачный Каретник:
— Ха, добываем в бою. Взяли пушки — своя батарея. Отбили недавно четыреста коней — вот и кавалерийский полк. Но беда — ни телефонов, ни лопат, ни даже марли, чтоб рану перевязать.
— Зато ероплан есть. Правда, не летает. Волы тянут его, — вставил ехидное слово и Алексей Марченко.
— Кто из вас подсёк конницу Шкуро? — сменил тему разговора комфронта. Хотелось поглядеть на ловкача.
Шутка ли, разломал «доблестных» терцев. Сам Батько? Тот загадочно помалкивал. Не указывали на него и другие. Странно. Это редкий случай польстить. Озеров? Нет, он толковый штабист, а такие не водят полки. Может, тонконосый, что словно с византийской иконы? Как его? Каретник. Вряд ли. Тугодум. Кто же? Высоколобый? Марченко, кажется. Или красавчик Щусь? Кто?
— Отличился Виктор Билаш. Он сейчас под Мариуполем, — сказал наконец Махно. — Вместе с комполка Петренко действовали.
— Доложите конкретнее.
— Потрепав нас крепенько, Шкуро стал на отдых в немецких колониях. Удара не ожидал. А наши сгребли все наличные силы и рубанули ночью с двух флангов. Взяли четыреста пленных и обоз. Генерал засверкал пятками на Дон. Там же крупное восстание против Советской власти в районе Казанская-Вешенская…
Батько явно лез на рожон, и эти, сказанные как бы между прочим, слова задели Овсеенко. Но тут дверь растворилась и, переваливаясь на обрубках ног, вошел незнакомец. Широкое, по-монгольски плоское лицо его улыбалось.
— Наш главный бандит, — осклабившись, не без иронии представил его Нестор.
Гость, казалось, не обратил на это внимания и подал жесткую руку командующему фронтом:
— Я батько Правда.
— Так это о вас ходят слухи, что коммунистов режете и свергаете Советскую власть? — спросил Овсеенко.
«Сейчас начнет о комиссарах», — решил Махно и весь подобрался.
— Ну, якшо вона бойиться калик, ваша власть, — ответил Правда, — то чым же я йий допоможу?
За столом оживились. Он шебутной, бесцеремонный и ноги-то потерял не в бою, а еще когда работал сцепщиком вагонов. То ли зазевался, то ли по пьянке.
— Пора и перекусить, — напомнил Махно. — Прошу ко мне домой.
В светлице на большом столе уже дымилась картошка с куриным мясом, стояли миски с мочеными яблоками, огурцами, помидорами. Налили по рюмке красного вина. Появилась Галина в белом платье и голубом фартуке. Владимир Александрович посмотрел на нее с интересом. Кто такая? На служанку не похожа. Этакая волоокая гречанка.
— Моя жена. Знакомьтесь, — с облегчением представил ее Нестор: объяснение ареста комиссаров откладывалось. — У нас с ней спор нескончаемый.
— О чем же?
— А я вот интернационалист. Галина же Андреевна обожает лишь наш украинский народ. Говорит, егЪ всегда топтали цари. Теперь нужно дать ему все льготы, и мова шоб була тилькы наша, а нэ росийска.
«Импровизация или тоже заготовлено? — прикинул комфронта, чувствуя себя неуютно. — Принимают с честью, но подспудно все время настороже, как струны. Или это мое предубеждение? Или за арест комиссаров опасаются? Поди разберись».
Он резко отбросил волосы на затылок. Понимал, сколь щекотливая тема задета. Сам задумывался иногда: позорно не знать, не ценить родной язык, культуру дедов и бабок. А как это исправить в кровавой буче, в российской стихии, что бурлит вокруг и несет прогресс, однако же, и подавляет исконное, как? Не ущемляя ни то ни другое.
— Ваша жинка дужэ мыла, и вона, звычайно, права, — сказал Владимир Александрович. Его слова понравились. Все заулыбались, закивали. Ледок вроде начал таять.
— Ага, Нестор Ивановыч, отак! — воскликнул батько Правда и первым, без тоста, опрокинул рюмку в рот.
— Но как и свое возродить, приумножить, и соседское не обхаять? — продолжал Овсеенко. — Если по методу Петлюры лишь поменять вывески на магазинах — пшик будет и злобный смех.
— Не стану вам мешать, — Галина тактично ушла.
— Ну что, не грех и по чарке? — предложил комфронта. — Давайте за боевое братство. Сегодня без него нам всем — каюк.
— За свободное братство, — задиристо уточнил Щусь. Выпили, закусывали. Налили еще по одной.
— Мне хватит, — заметил Нестор.
— Что так? — удивился Овсеенко. — Первоклассная же настоечка!
— Я не любитель этого, — соврал Махно.
Услышав его слова, Правда поперхнулся, но тут же прикрыл рот рукой: сидевший рядом с ним Марченко предупреждающе толкнул под бок локтем.
— Чувство меры — первый признак культуры, — одобрил комфронта. — Согласны со мной, батько Правда?
Тот похрустел огурцом, торопливо проглотил и, польщенный вниманием, ляпнул:
— По-нашому, так нэ пье тикы той, хто больный або падлюка!
Озеров, Каретник, Аршинов поморщились: ну Правда, ну остолоп!
— Вот за ваше здоровье и пригубим, — усмехнулся Овсеенко. Вся эта игра забавляла его. О главном никто и не заикался.
Торопливо зашел носатый адъютант, наклонился к Махно, подал лоскуток и удалился.
— Добрая весть! — сообщил Нестор Иванович. — Мы забрали назад Мариуполь!
Выпили и за это.
— В такое лихое время может показаться странным, — заговорил Чернокнижный. Учитель, он любил и умел выступать. Даже Батьку когда-то на митинге в маленьком сельце поставил в тупик, — но наш исполком думает о будущем. В Гуляй-Поле шумят три школы, образцово поставленные, есть детсады, коммуны для сирот. О них заботятся жена Нестора Ивановича — Галина и Маруся Никифорова. Ей суд запретил брать в руки оружие — вот и учится милосердию. Открыла десять госпиталей…
— Сколько? — не поверил комфронта.
— Десять. В них более тысячи раненых. Но… — Чернокнижный умолк.
— Вас что-то смущает? — спросил Владимир Александрович.
— Да ни одного ж врача нет! — вставил слово Щусь.
— Нет, нет, — подтвердил и политком Петров. Бывший председатель Совета в городе Бахмуте, он теперь как-то сник. «Опасается получить пулю в спину, или они перетянули его на свою сторону? Почему об арестах комиссаров молчит?»— терялся в догадках Овсеенко. Он достал блокнот, стал записывать. Каретник поднялся.
— Спасибо хозяюшке. Но пора и честь знать, — и пошел на улицу. За ним потянулись остальные. Чувствовалось, что хотя Семен и не занимает в штабе главного положения, с ним все считаются. Гость остался один на один с Махно. Галина принесла узвар.
— Что нас беспокоит? — доверительно продолжал комфронта. — В Венгрии победила революция. Слышали, конечно? И Ленин просит, требует бросить туда войска. Будем прорываться в Европу, а там, смотришь, и весь мир запалим. Согласны?
Нестор Иванович охотно кивнул.
— С другой стороны у нас Деникин. Без единого, железного фронта не устоим. А вы, говорят, с Григорьевым шуры-муры затеваете.
Не выдержав паузы, почти перебивая командующего, Махно заверил:
— Я полностью согласен с вашими указаниями! Да, мы послали своего человека к Григорьеву («Делегацию», — хотел уточнить комфронта, ему донесли подробности), но не для сговора, нет. Выведать, что он замышляет, чем дышит. Разве это плохо?
Поспешность, с которой говорил Батько, насторожила Владимира Александровича. Он привык к основательности главкома Вацетиса, Дыбенко. Шустро соглашаются лишь неверные. Но страстность Махно, порывистость как будто убеждали в искренности.
— Нет, не плохо, — протрубил Овсеенко. — А вот что комиссаров арестовали — никуда не годится!
Он говорил ровно, без угроз, но Батько сразу, весь подался назад. Давно ждал этих слов. Молчал. Лебезить не хотелось, а возражать не стоило.
— Что же вы? — тихо спросил комфронта. — Если не можете их выпустить, то и меня посадите. Иначе я от вас не уеду.
Нестор Иванович был готов к любому обороту дела, даже самому пакостному, но чтобы так, почти просительно мог выразиться «Штык» — невероятно! Какой умный, порядочный. Махно тряхнул головой. Деликатность, от которой он давно отвык в мужских отношениях, сразила его.
— И наших же арестовали, — отвечал он тоже тихо. — В Екатеринославе, Харькове…
— Не будем торговаться, — строго перебил комфронта. — Всех надо выпустить, и точка. Не тот момент!
Он что-то записал в блокнот, попил узвару.
— Вы, говорят, тут республику задумали, Махновию?
— Если она объявлена в Крыму, чем мы хуже?
Ледок опять стал наползать, твердеть.
— Я не анархист в чистом виде, — продолжал Батько сиплым тенорком. — Я вольный коммунист, революционер, и только. У нас с вами даже волосы одинаковые!
Овсеенко засмеялся, встал, посмотрел пристально в глаза Махно. Комфронта знал, что его взгляд редко кто выдерживает. Может, потому и поперли подальше от столицы. Но Батько не дрогнул, уперся темно-карими зеницами в очки гостя, и так они некоторое время «ели», испытывали друг друга и остались довольны. Око, полагали, не обманешь.
Владимир Александрович еще посетил госпитали, поговорил с ранеными, а вечером в Харьков, красную столицу Украины, и в Москву полетела телеграмма: «Пробыл у Махно весь день. Его бригада и весь район — большая боевая сила. Никакого заговора нет. Сам Махно не допустил бы. Район вполне можно организовать, прекрасный материал… Карательные меры — безумие. Надо немедленно прекратить начавшуюся травлю махновцев».
Бригаде выделили два миллиона рублей и сто тысяч патронов, которые и получили помощник Батьки по «дипломатии» Алексей Чубенко и политком Михаил Петров.
В Киев, предсовнаркома Раковскому для Каменева.
Мы, несомненно, погибнем, если не очистим полностью Донбасс в короткое время. С войсками Махно временно, пока не взят Ростов, надо быть дипломатичным.
Ленин.
В раскрытое окно гостиницы врывалось яркое солнце, под ним искрилось Азовское море, и белым-бело вокруг: цветут каштаны, яблони, груши, пахнет майским медовым духом.
— Слышь, а в еврейской колонии Горькой — погром! Этого нам еще не хватало, — сквозь зубы процедил Батько, бросив трубку телефона.
Виктор Билаш покачал головой. В коридоре шумели командиры. Они собрались в Мариуполе, чтобы решить, как быть дальше. Против большевиков восстал атаман Григорьев и прислал секретную депешу:
«Мои войска не выдержали и сами начали бить чрезвычайки и гнать комиссаров… Меня объявили вне закона.
Пока на всех фронтах мой верх. Не пора ли вам, Батько Махно, сказать веское слово тем, которые вместо власти народа проводят диктатуру отдельной партии?»
Никто из собравшихся пока не видел этого атамана, хотя до последнего времени все числились в одной упряжке с Дыбенко. Чем дышит Григорьев и чего добивается? По убеждениям, если они у него есть, эсер. Воевать умеет, лихо взял Херсон, Николаев, Одессу. Получил орден Красного Знамени и звание начдива. Значит, большевики ему доверяли? Умеет запудрить мозги! А вот махновцам не позволяли переименоваться в дивизию, пока не приехал на днях в Гуляй-Поле личный посланец Ленина — Лев Каменев с Ворошиловым. Батьке тоже вручили орден' и торжественно обмыли его.
Да всё это — чепуха на постном масле. Когда собрались здесь в гостинице, Билаш видел, как побагровел и дергался шрам под левым глазом Махно. Его тревога понятна: Григорьев тоже лезет в тузы на Украине. В случае победы признает ли анархистов? Или обманет подобно большевикам в семнадцатом? Грех же не использовать такую редкую возможность объединения сил для святого дела. Ведь атаман не мыльный пузырь. Уже взял Екатеринослав, Кременчуг, идет на Киев!
— Но вы не скучайте, хлопцы. Тут и Каменев подкинул письмецо, — говорил Нестор Иванович. Шрам под левым глазом все дергался. — Отпечатано, видите, как листовка. Слушайте: «В лице Махно я встретил честного и отважного борца… Также открыто должен указать и на то злое и вредное, что мною замечено…»
— Ха-ха, Батько! Это же издевательство над собравшимися! — воскликнул член штаба, молодой и горячий Михалев-Павленко. Приехавшие вместе с ним с севера анархисты тоже зашумели. — Наш общий недруг нацепил тебе орден и уже учит. Разделяешь его мысли? Скажи открыто, честно!
«Как бы ты поступил на месте Махно? — прикидывал Билаш. — В чем его секрет?
Военными операциями против Шкуро он не руководил. Моя заслуга. А смог бы я стать вождем? Что в том хитрого?» Он видел не только достоинства — и выверты Нестора, например, попойки. Но каждый раз, когда возникал конфликт, подобный этому, Виктор чувствовал, что вряд ли управился бы так ловко, тонко, а где и грубо, цинично. Григорьев предлагает союз. Каменев льстит, наверно, с согласия Ленина и требует своего. А тут еще чужаки путаются под ногами.
Этот клубок противоречий Билашу не дано было размотать. К тому же недавно встретил Махно с литератором Гроссман-Рощиным и анархо-чернорабочими из Москвы Соболевым, Глазгоном, другими. «Прибыли на подмогу Левке Зиньковскому в мариупольскую контрразведку, — весело сообщил Батько. — По секрету тебе скажу: Рощин — авторитет и вроде… агент ЧК». — «Даешь!» — смутился Виктор. «Ничего, хай и в Кремле знают истину!» Вспомнив об этом, Билаш покачал головой и усмехнулся с горечью.
— Что слюни распустил, сволочь? Исповедовать задумал! — зло резанул Нестор Иванович, исподлобья глядя на Михалева-Павленко. — Мой орден тебе не нравится? А я еще одну телеграмму получил: «Гуляй-Поле — Махно по нахождению… Немедленно выпустите воззвание против Григорьева, сообщив мне копии в Харьков. Неполучение ответа буду считать объявлением войны… Каменев».
Все примолкли. «Не хотел бы я быть на его месте, — подумал Билаш. — Отказать Григорьеву легко. С кем брататься? Поодиночке всех передушат. Вишь какой тон!»
— Вот в какой я с ним дружбе, — помягче обратился Батько к Михалеву-Павленко. — Войной грозит, барин. Давайте вместе обмозгуем.
Этот внезапный переход от резкости к согласию, готовность все решать сообща разрядили обстановку.
— Мое мнение такое, — закончил Махно. — Послать к Григорьеву наших доверенных. Бумажки бумажками, а глаз да ухо вернее. Как говорится, не тому печено, кому речено, а кто пирожки кушать будет.
Он явно хотел выиграть время. Но поднялся начальник штаба, левый эсер Озеров.
— Мы должны поддержать Николая Григорьева! Словом и делом. Мы же, эсеры, с вами в союзе, — он достал бумагу. — Это «Универсал» партизан Херсонщины и Таврии. Послушайте:
НАРОД УКРАИНСКИЙ, НАРОД ИЗМУЧЕННЫЙ
… Ты оставил соху и станок, выкопал из земли ржавую винтовку и пошел защишать право свое на волю и землю, но и здесь политические спекулянты обманули тебя: насильно навязывают коммуну, чрезвычайку и комиссаров с московской обжорки. У этой земли, где распяли Христа…
— Запахло антисемитизмом. Не находишь? — тихо спросил Лев Зиньковский Билаша.
Тот шепнул в ответ:
— Похоже.
А Яков Озеров продолжал чтение «Универсала»:
— «Вот мой приказ: в три дня мобилизуйте всех, кто способен владеть оружием, и немедленно займите все станции. Лучших бойцов пошлите на Киев… Все остальное сделаю сам».
— Выход один: помирить Григорьева с большевиками, — предложил Алексей Чубенко. — Зачем проливать братскую кровь?
Его поддержали другие. Тогда Махно сказал:
— Вот ты, Алексей-дипломат, и возглавишь делегацию.
Слово взял Билаш:
— Григорьевщина вонзила нож в спину большевикам, и не сегодня-завтра он коснется и нас. Это не иначе как контрреволюция! Нужно оружием протестовать!
Послушав всех, долго ломали головы: что же ответить Каменеву? Остановились на таком (понятно, от имени Батьки):
…«Я и мой фронт остаемся неизменно верными рабоче-крестьянской революции, но не институтам насилия в лице ваших комиссаров и чрезвычаек… Сейчас у меня нет точных данных о Григорьеве, поэтому выпускать против него воззвание воздержусь».
Как раз когда передавали текст, Махно и сообщили о еврейском погроме в колонии Горькой. Тут же назначили комиссию для расследования. В нее вошли экспедитор газет Петр Могила и помощник Билаша Иван Долженко.
— Возьмите эскадрон и остерегайтесь. Дело пакостное, — напутствовал их Виктор.
А Батько добавил:
— Самым жестким образом, показательно накажите виновных! А мы в Бердянске поглядим на новые полки.
«Железный он, или бешеная кровь угомонилась? — удивился Билаш. — Сколько нервотрепки, а ему хоть бы хрен по селу!»
В Бердянске смотрели парад пехотного и конного полков. Порадовались — добрая подмога. Но по отдельным репликам в адрес евреев, ехидному смешку чувствовалось, что и тут веет антисемитизмом. Не от григорьевского ли «Универсала» ветерок?
Когда вечером члены штаба шли в гостиницу, встретили двух подозрительных типов с винтовками и узлами.
— Стой! — крикнул Махно. Те бежать. Не долго думая, он выхватил наган и застрелил неизвестных.
— Ану, что там? Развяжи, — велел Максу Чередняку, парикмахеру из Гродно, а ныне начальнику местной контрразведки. В узлах оказались платья, женские панталоны, детское белье.
— Мародеры. Туда им и дорога, — заключил Чередняк. Махно зыркнул на него искоса. Макс вежливо осведомился:
— Что-то не так?
Нестор Иванович не ответил, и они вошли в гостиницу. В ресторане был накрыт банкетный стол. Постарался начальник гарнизона Семен Каретник, даже красоток пригласил. Все много пили, кричали тосты, пошло танцевали. Смуглая полуголая девочка вспрыгнула на стол, запела:
Эх, махнов-чики Славнi хлоп-чики, Потопилися у морi Як гороб-чики.Батько смотрел на нее хмуро. Девица постучала каблучками по блестящей полировке банкетного стола и затянула новый куплет:
Ты бесстыдник, ты срамник, Всё целуешь в личико, Мой любезный большевик. А я — меньшевичка!Болезненно нахмурясь, Нестор достал из кобуры наган и бабахнул в потолок. Девчонку словно ветром сдуло. Все замерли. Еще несколько раз грохнуло. Звенел хрусталь люстры, сыпалась штукатурка. К Батьке подошел здоровяк Василий Куриленко с забинтованной шеей, кстати, тоже награжденный орденом Красного Знамени за первое взятие Мариуполя. Он легко поднял Нестора и унес в номер. Там отобрал оружие и уложил в постель.
Видя такое, Билаш попрощался и уехал в свой штаб в Волноваху. Теперь, поскольку они назывались уже дивизией, он командовал одной из трех бригад. В пути думал с сожалением: «Да-а, и Махно сорвался, не железный. Все мы держимся на пределе». Из темноты полей несло свежестью молодых хлебов, росы. Стоял благодатный, с дождиками май, и казалось нелепостью, что люди воюют, режут друг друга, как в той колонии Горькой.
Виктор как-то был там проездом. Балка припомнилась, вроде Соленая, и вдоль нее два ряда мазанок, кирпичная синагога, баня под соломой. Он еще спросил тогда: «А кто в этой хате живет, что окно заткнуто тряпками?» Ответили: «Сапожник». — «А в той, рядом?» — «Тоже». — «Сколько же их тут?» — «Пятеро. Есть также двое портных, три торговца и стекольщик на сорок четыре хозяина. И конокрады водятся».
Подобных еврейских поселений на восток от Гуляй-Поля было с десяток. Издавна руководили ими немцы-мустервиты, то есть показательные хозяева. Но их роль повсюду, кроме цветущего Златополя, всё слабела, наделы обрабатывались через пень-колоду, и в соседних украинских, греческих селах, хоть и пользовались услугами сапожников, портных, а все равно косо поглядывали на заросшую бурьянами землю.
В Пологах Билаш со спутниками только собрались пообедать, как вошли Долженко с Могилой.
— Мы прямо из Горькой, — доложили. — Там был страшный суд!
Ночью из села Успеновки прискакал в колонию отряд, двадцать два пьяных хлопца. Окружили дома, схватили самоохрану, всех, кто попал под руку, и потащили в Совет. По дороге кричали: «Пахать не хотите, курвы!», «Зерно, мясо, кожи за бесценок скупаете! Барыш гребете!», «В чека хто? Москали та жиды! В продотрядах хто?» Сначала били, потом, распалясь, рубили, стреляли, насиловали девчат, женщин.
— Когда уцелевшие заметили нас, — дрожащим голосом рассказывал Петр Могила, — выбежали за околицу. Старики, дети падали на колени, умоляли: «Спасите или всех добейте! Нет терпения! Нет сил!»
Петр всхлипнул. Комок подступил к горлу Билаша, он крякнул. Тогда заговорил Иван Долженко:
— В центре колонии мы насчитали двадцать четыре трупа. Другие валялись по огородам, во дворах. Не просто убитые — изуродованные. Страшно смотреть. Стон, плач…
— Где головорезы? — спросил Виктор.
— Мы всех взяли, — продолжал Петр Могила, икая. — Они протрезвели, не сопротивлялись… Сидят под охраной вон на подводах… Тоже плачут и ждут возмездия… Еле довезли. Хотели порубить на куски.
— Зачем опять произвол? — сказал Билаш. — Тут члены пологовского Совета, мы с вами. Кто за смертную казнь? — и первым поднял руку.
Погромщиков с приговором и охраной отправили в штаб дивизии, в Гуляй-Поле, а Виктор, Иван и Петр поехали дальше — в Волноваху. Пригревало майское солнце, всюду зеленели хлеба. Навстречу то и дело попадались усталые, оборванные красноармейцы. Многие босиком.
— Чьи вы? — спрашивал Билаш.
— Южный фронт. Девятая дивизия.
— Откуда бежите?
— Из Юзово. От Рутченково. Деникин прёт! А у нас ни жратвы, ни патронов, — отвечали отступающие. От их вида, от этих слов с северным аканьем веяло полной безотрадностью. Ну что они здесь ищут, что потеряли? Встревоженный прорывом белых, Виктор был уверен, что его полки выстоят. Им пятиться некуда: в тылу родные хаты, жены, дети.
Проехали немецкую колонию с добротными домами из красного кирпича, с железными крышами.
— Хозяева, — похвалил Долженко, — не то что мы — под соломой да камышом ютимся.
— А махновия, когда беснуется, ничего не разбирает! — выпалил Могила.
— Мели, да не забывайся, — предостерег его Билаш.
— А вы послушайте. Недавно Федя Щусь собирал контрибуцию. Может, и в этой колонии. Нет, в Яблуковой.
Немцы говорят: «Найн денег. Уже все забрали». Он арестовал восемь зажиточных заложников и… в штаб Духонина отправил.
— Сами виноваты. Брехали ж, наверно? Германец без копейки не живет, — заметил Иван и чихнул. Автомобиль притормозил на ухабе — пыль накрыла пассажиров.
— Хай и так, — согласился Могила. Он худенький, верткий. — Но зачем же самосуд устраивать? Чтобы нас всех бандитами называли? Уже квакают. Правда, за глаза. Но на том дело не кончилось. Немцы возмутились и решили убить Махно. Раз он вождь — за все грехи отвечает. Потянули жребий, выпало двум ехать в Гуляй-Поле. Сели на добрячую бричку и вперед!
— Сочиняешь, корреспондент? — не поверил Долженко. — Я не слышал.
— Могила не врет, — мрачно сострил Петр. — Катят они по Махнограду, а бричка-то заметная. Не учли. Ага. Мой тезка Петя Лютый как раз дежурил по штабу. Кивает часовому: «Ану, задержи». Тот побежал: «Стой! Стой!» Немцы-мстители наутек. А у штаба пулемет же всегда наготове. Чесанул по ним. Колонисты спрыгнули с брички, залегли за деревом, отстреливаются. Тут хлопчик шел по улице. Ни сном ни духом ничего не ведал. Ваня Деревянко. Наш сосед. Его и ухлопали.
— У-ух и глупость! — Билаш даже привстал на сиденье.
— Этим же не кончилось, — продолжал Могила. — Федя Щусь по собственной инициативе берет отряд и в Яблуковую. Проводит следствие. Кто тянул жребий, чтобы убить Батьку? Ага, почти тридцать человек. Идите сюда, голубчики. Арестовал, посадил в сарай… и запалили.
— Ну-у, произвол, — скрипнул зубами Долженко.
— А вы, Виктор Федорович, говорите, какая махновия, — Могила повернулся туда-сюда, ущипнул себя за ус. — И что же было за это Феде? Да ничего!
— Нет, я видел, как Батько его лупасил. По морде, по ребрам! — сказал Билаш.
— А люди-то тю-тю! — не мог успокоиться Петр.
Показалась Волноваха. В редкой посадке акации, на молодой траве, ютились какие-то бездомные с узлами, детьми. Много их было и у насыпи железной дороги, на перроне.
— Беженцы со всего свету, — вздохнул Иван Долженко. — У наших кухонь кормятся.
Он повернулся, ткнул пальцем в грудь Могилы.
— Колонисты их тоже снабжают. Ты пописываешь в газетку. Черкни.
Приехали в штаб бригады. От крыльца бежал часовой.
— Вас Махно на проводе ждет!
Виктор Федорович записал сводку, из которой узнал, что против Григорьева большевики бросили крупные силы, снятые с фронта, и уже освобождены Екатеринослав и Кременчуг.
— Успеновские погромщики расстреляны, — продолжал комдив. — Но это не все. Когда мы возвращались из Бердянска, на станции Верхний Токмак лозунг: «Бей жидов, спасай революцию! Да здравствует Батько Махно!» Спрашиваю: «Кто вывесил?» Оказалось, комендант. Сволочь такая, парень был хороший. Давно его знаю. Да и ты помнишь. А пришлось коцнуть.
«Да-а, — подумал Билаш, — жизнь-копейка».
Беленький с черными ушками поросенок, повизгивая, удирал со всех ног. За ним гнался шебутной и необидчивый Василий Данилов. С кавалерийской наукой он не поладил: никак не мог отличить подпругу от тренчика и прибился к своим артиллеристам. То снаряды им доставал, то панорамы. Где украдет, где выпросит. Однажды даже у кадетов «одолжил».
Ехал себе и заблудился. Какая-то мечта взяла. Вроде бы все вокруг нездешнее. И конь — не конь, а жар-птица. Вот что-то такое смутное, приятное наплывало. Глянул Вася… Мать твою! Куда попал? Белые спрашивают: «Из обоза, крыса?» — «Оттель. На позицию снаряды требуют». — «Ну бери». Он и привез гостинец прямо в руки командиру дивизиона, тоже Василию, Шаровскому. Тот, паршивец, и не удивился.
Поросенок устал. Вася протянул мешок, чтоб схватить его, перецепился и растянулся в дворовой пыли. Все, кто наблюдал эту сцену: раненые из госпиталя, Маруся Никифорова, хлопцы из новоприбывшего отряда Шубы и Чередняка — хохотали. А Данилов, как ни в чем не бывало, устремился опять за детенышем хрюшки.
— Саблей его, кузнец! Из гаубицы пальни, Вася! — шумели зеваки.
Маруся не выдержала, кинулась помогать, но поросенок шустро протиснулся в щель и скрылся за забором.
— На что он тебе? — спросила Никифорова. Голос у нее грубоватый, контральтовый и губы не цветочек, хотя и подкрашены.
— А батьке Правде на свадьбу, — бойко отвечал Василий. Их обступали. — Не слыхала разве? Он женится. Притом срочно!
Многие ждали, что еще отчебучит кузнец.
— На ком женится? Поди, бабку приворожил?
Маруся подбоченилась, подчеркивая свою гибкую, кошачью стать и налитые груди. Тут краем темного глаза она заметила, что мимо семенит Галина Кузьменко: вся подобранная, строгая, в белой кофточке с украинским орнаментом и плисовой юбке. Учительша, видите ли, жена Батьки. Недоступная, в пенсне — куда там! Маруся даже не повернула головы и не поздоровалась.
— Э-э, нет. Какая бабка? Он же втюрился в Мотрю — дочь Воздвиженского кулака Хохотвы, — увлеченно плел дальше Василий. — Ух и девка! Кровь со сметаной и с малиной вдобавок. Взял батько Правда сватов, Омэльку да Чалого, и подались. Невеста, и козе понятно, спряталась. Сидит в кладовке ни жива ни мертва. Шутка ли, безногий жених! Но хлопцы у батьки быстрокрылые, почти жар-птицы, нашли Мотрю, одели в белое…
— Сами? — не поверила Маруся.
— А кто же? Кинули ее на тачанку и бегом в хутор. Гулять так гулять! Кучер у Правды, вы же видели, сокол. Глоба фамилия. Глазом мало-мало косит и ухо разрублено. Неважно. Понравилась ему Мотря. Он ей и шепчет: «Я батьку накачаю. А ты лезь под стол и тикай!» Ну, врезали крепенько. Правда, всем известно, не любит самогона. Заснул. Просыпается… А горлиночка тю-тю. Испарилась. С испугу залезла в соломотряс молотилки.
— Ты что, рядом был? — подзадорила Никифорова. Зеваки улыбались.
— Всё обшарили хлопцы — словно в воду канула, — продолжал Василий. — Погоревали и подались похмеляться. Для них же я и ловил порося!
— Куда они подались? — еще спросила Маруся.
— В Святодуховку вроде.
— Брось трепаться! — раздался окрик. Увлекшись, они не заметили, как подошел Петр Лютый. — Там, под Святодуховкой, сейчас Шкуро дорубает наш сводный полк, а вы ха-ха-ха.
Теперь только Никифорова увидала, что всю площадь запрудили тачанки с пулеметами. С другого конца наезжала охранная сотня.
— Что это значит? — встревожилась Маруся. Лютый не отвечал. Будучи адъютантом, он также командовал гуляйпольской контрразведкой, и его побаивались. Никифорова, однако, никого не праздновала.
— Почему молчишь? Аль каверзу готовите?
Верхом подъехали Батько, Билаш и какой-то неизвестный.
— Слушай сюда! — крикнул Махно. — Повстанцы Шубы и середняка! Ваши атаманы отказались идти на фронт. Поэтому немедленно сложите оружие. Иначе открываем огонь. Даю пять минут!
Маруся подбежала к нему, дернула за стремя.
— Вы с ума сошли! Это же наши братья-анархисты. Они подчиняются не вам — секретариату «Набата».
Среди новоприбывших повстанцев поднялся шум, мелькали винтовки. Раненые, что сидели на лавочке у госпиталя, попрятались. Видя, что Нестор и не собирается отвечать ей, Маруся кинулась в гущу мужиков, хватала оружие, кидала на землю, приказывала:
— Выполняй! Выполняй!
Кто-то ударил ее по голове, другие толкали, ругались, хохотали. Батько смело въехал в толпу, за ним Билаш и неизвестный.
— Кавалерия Шкуро разорвала красный фронт и прет к нам, — заговорил Махно негромко. — Ее встретил доблестный греческий полк. Защищая свои хаты, он уничтожил не меньше тысячи белоказаков, но и сам полег. Мы спешно кинули туда сборный полк заслуженного анархиста Бориса Веретельникова. Он окружен и бьется до последнего патрона. Больше! — голос Нестора Ивановича окреп. — Больше у нас никого нет! Только вы. Гуляй-Поле открыто врагу. Хотите, чтоб всех порубили?
Повстанцы угрюмо притихли.
– Язнаю: вы под крылом конфедерации «Набат». Приехал ее представитель из Харькова. Вот он, среди вас — Марк Мрачный.
Тот поднял руку.
— Прошу внимания! Приказ Батьки нужно выполнить. Иначе всем крышка!
— А где Шуба? Живой?
— Дэ Чэрэдняк? Вы йих тоже заарэштувалы? — кричали повстанцы.
— Они свободны! Даю слово! — ответил Махно и уехал в штаб.
Никифорова поспешила туда же. Она не могла быть в стороне. Московским судом ей запрещалось в течение полугода занимать командные должности. Но во время визита Каменева в Гуляй-Поле Мария упросила особо уполномоченного смягчить приговор, и во ВЦИК полетела телеграмма: «Предлагаю за боевые заслуги сократить наполовину приговор Маруси Никифоровой… Решение сообщите ей и мне. Каменев». Ответ пришел положительный, но Батько был неумолим: «Занимаешься милосердием в госпиталях и детсадах? Там и сиди. И только!»
Он помнил ее еще по диспутам в Александровске в семнадцатом году: сильный, страстный голос, горящие глаза, убежденность, логика. В этих краях не было равного ей оратора. Помнил, как эсеры и меньшевики, правившие в Совете, посадили Никифорову в тюрьму и толпы рабочих пришли со знаменами, освободили ее и на руках, передавая друг другу, триумфально несли по улице! Кого так величали? Кто создал первые отряды «черной гвардии»? Маруся!
Но Махно не забыл и другое. Ее гонористость, похвальбу тем, что сагитировала братишек в Кронштадте идти против Керенского, что видела Японию, училась в Париже у какого-то скульптора Родэна. Ее жестокость даже там, где могло быть прощение. Она с легкостью, без всякого суда или хотя бы разбирательства, пускала пулю в лоб пленного офицера. Более того, заправляя отрядом матросов-террористов-безмотивников, лично пытала кадетов. А это, полагал Нестор Иванович, совсем уж не бабье дело.
В гостиницу, где располагался штаб, Маруся вошла вслед за Петром Лютым. В просторном холле со скрипучим полом стояли атаманы разоруженных повстанцев — Шуба и Чередняк. Махно тряс перед их носами какой-то бумагой.
— Бачытэ чи ни? — спрашивал со злой иронией. — Это мне вчера передал не кто-нибудь, а белый генерал Шкуро! Секретное послание. Называет меня тут, и себя тоже, «простым русским человеком, быстро выдвинувшимся из неизвестности, незаурядным самородком». Вы тоже такие? Верно или нет? А-а? — атаманы стояли, потупившись. — На днях он с радостью узнал, пишет, что я одумался и с доблестным Григорьевым объявили лозунг: «Бей жидов, коммунистов, комиссаров, чрезвычайки!» Мы, кубанцы, утверждает Шкуро, тоже за это. Давайте дружить. А-а? Вы не прочь с ним обняться, поцеловаться?
— Что ты кипятишься, Батько? — миролюбиво сказал Чередняк. Он среднего роста, плотен, по-крестьянски нетороплив. — Мы же все анархисты. Чи хто?
— Сволочь ты! Видишь, что гибнем, и не хочешь помочь, — отрезал Махно. — Ваши отряды сдали оружие. Идите к ним и катитесь отсюда в конфедерацию «Набат» или к е… матери!
— Как… сдали? — не понял другой атаман, Шуба. Настоящая фамилия его была Приходько. На взгляд Марии, он более интересен: высок, в офицерском кителе и галифе, грудь атлета.
— А так. Нет больше ваших сил, — Батько повернулся и зашагал к себе в кабинет. На ходу добавил: — Гони их, Петя, д-дураков!
Никифорова протиснулась к огорошенным атаманам.
— Эх вы, безрогие волы! — пристыдила. — Ждете кадетов, чтоб шею в ярмо сунуть. Бегом к людям!
Шуба сверху вниз уставился на нее, и Маруся почувствовала мужской интерес. Ее давно уже по-настоящему это не волновало. Вокруг вертелись сотни крепких, оторванных от семьи, жадных до ласки самцов. Были красавцы и уроды, великаны и наглые коротышки, лукавые и деликатные — какие хочешь. И она с некоторыми спала. Но все это — мелочь, летело мимо тополиным пухом, не трогая сердца. А оно ныло, жаждало. Потому в пьяном угаре и пытала молоденьких кадетов, потому бабы и считали ее ненормальной.
В камере московской Новинской женской тюрьмы их сидело тринадцать. Заводила, тоже прощенная висельница, организовавшая их побег, эсерка Наташка Климова с темной прической и голубыми глазами (Родэн говаривал, что древние римляне ценили, наоборот, светлые волосы и темную радужку, а если у собак встречался такой окрас, как у Климовой, то их убивали, считая неверными) кричала Марусе, рассердясь: «Ты гермафродитка!»
Что было, то было. Да сплыло. Для нее даже Батько не существовал как мужчина: малый, гонористый, чужой. И лишь минувшей зимой в Москве, после советского суда, на конспиративной квартире анархистов, которую купили на имя Никифоровой в Глинишевском переулке, она встретила наконец желанного, долго-долго жданного. Его звали необычно — Витольд Бржостэк. Редкий, крупный человек. Поляк, анархист-террорист, забубенная голова. Перед ним и только перед ним она почувствовала себя беззащитной девчонкой. Где он теперь, милый, скитается?
Марк Мрачный тоже не пошел с атаманами, о чем-то тихо переговаривался с Петром Лютым. Никифорова собралась уже в госпиталь, когда Марк окликнул ее:
— Пляшите, Маруся!
Она с недоумением уставилась на него. Что за шутки? К чему такая фамильярность? Они едва ли знакомы, где-то встречались случайно. Мрачный, однако, продолжал, загадочно усмехаясь:
— Со мной приехал… Никогда не угадаете… Ну, ну! Он ждет вас…
— Поди, Витольд?! — воскликнула Маруся.
— Точно. Пляшите, а то не покажу!
В это время в холл скорым шагом вошли атаманы и, скрипя половицами, направились в кабинет Махно. Лютый, Никифорова и Мрачный поспешили за ними. Не терпелось узнать, что же решили повстанцы. Ведь Шкуро, может, за околицей уже!
— Извини нас, Батько, — попросил Чередняк. — Черт попутал. Едем на фронт! Давай диспозицию!
Махно сидел за столом, что-то писал, наконец поднял усталые, в тоске, глаза.
— Вот что, Наполеоны. Слыхали: двадцатитысячное войско Николая Григорьева большевики распушили за Две недели. Почему? Ану раскиньте свои полководческие мозги. Взял Херсон, Николаев, Одессу, французов, греков разогнал с их миноносцами. Сила! Почему же теперь рассыпался, как карточный домик?
Все молчали. Ответить было непросто.
— Потому что у нас, хохлов, особенно у тех, кто хоть сотней командует, — полная ж… гонора, — сказал Батько. — Из-за таких, хлопцы, не видеть нам свободной Украины, як своих ушей. Ух, боюсь — не увидеть!
Атакой новоприбывших повстанцев, бронепоезда «Спартак» и отступившего с севера махновского полка Шкуро опять был отброшен.
А красный Южный фронт между тем под мощными ударами деникинцев разваливался на куски.
Войдя в салон-вагон, Коллонтай не узнала Троцкого. Впервые она увидела Леву еще в пятом году, когда тот звездочкой засветился в петербургском Совете: молодой, напористый, в сером костюмчике, свой человек среди простого люда. Затем они не раз встречались в эмиграции, спорили в Совнаркоме после переворота. Их сближало, как наивно надеялась Александра Михайловна, что бросили имущий класс (отец Левы тоже владел имением на юге Украины), что были меньшевиками и по-настоящему образованными среди напористых выскочек, что хватило здравого смысла уйти к большевикам, к Ленину и что стали наркомами. А потом их пути разошлись. Она уехала с Дыбенко, а Лев Давидович как председатель Реввоенсовета укатил на Волгу. Кажется, что там год? А сколько великих событий!
Теперь поезд Троцкого стоял в Харькове. Сюда же после ужасной командировки в Донбасс возвратилась Александра Михайловна. Ее, однако, не пускали в салонвагон председателя. Какие-то молодчики в черной коже с ног до головы (Боже, как им не жарко!) охраняли состав с двумя паровозами.
— Я Коллонтай! — рассерженно говорила она.
— Ну и что? — нагло удивился один из них и позвал горласто: — Эй, Леймонский, бегом доложи дежурному. Некто Коллонтай прибыла.
Месяц тому ее вызвали из Крыма на профсоюзный съезд. К этим делам она в сущности не имела никакого отношения. Но осточертела война, рычащий Дыбенко, захотелось новых встреч, впечатлений. А в Харькове на стенах висели расклеенные агитаторами портреты Ленина, Свердлова и… надо же, ее тоже! Александра Михайловна стояла на первомайской трибуне, печатала статьи в местных «Известиях», ее узнавали на улице. А эти кожаные дебилы словно с луны свалились!
Убранство салон-вагона, куда ее, наконец, пропустили, еще более поразило. Вокруг голод, мешочники, разруха. Тут же… бархатные кресла и диваны, в резных рамах зеркала, ковровые дорожки, инкрустированные телефоны. И среди всего этого — народный трибун Троцкий!
— Рад видеть, дорогая Александра Михайловна, — вежливо сказал он, пожимая ее руку и холодно поблескивая стеклами пенсне.
— Чем-то старым запахло, — не осталась и она в долгу.
— Вагон какого-то царского министра, — небрежно отвечал председатель Реввоенсовета РСФСР, избегая называть гостью на «Вы» или «ты». — Прошу! — и указал на кресло. — Сейчас принесут чай. Может, и пообедаем вместе?
«Гнилой барин, — вертелось на уме у Коллонтай. — Стражу завел, челядь. Где же пролетарские идеалы?» Сказала она другое:
— Благодарю. Сначала дело. Где-то в вашей походной канцелярии затерялось мое письмо. Крик души, а ответа, увы, нет. Видимо, к вам оно не попало?
Как бы не так! Лев Давидович прочитал его в день получения и поморщился. Дамочка настырно лезет не в свое корыто. Он невзлюбил ее еще с тех пор, как вместе оказались в Америке. Умница возомнила, что может позволить себе писать о нем всякую дрянь, и не кому-нибудь — Ильичу! Не угомонилась и потом. Когда они взяли власть, некий «Комитет спасения родины и революции», созданный эсерами и меньшевиками, потребовал у Ленина ни много ни мало — разделить кресла! Дескать, гуртом брали бразды — разом давайте и править. Многие народные комиссары согласились уступить свое место, в их числе Коллонтай. А услышав, что Ильич и Троцкий — только двое! — наотрез отказались, эти «демократы» объявили о выходе в отставку. Луначарский даже нагло назвал Ленина диктатором. И ЭТА подпевала. Лев Давидович на всю жизнь запомнил сказанное первым вождем: «Объединение невозможно. Троцкий это понял, и с тех пор не было лучшего большевика». Вот так. А смутьяны поджали хвоеты и прибежали с покаянием. Уж больно им хотелось и родить, и девственницами быть. А теперь эта вертихвостка собралась еще и учить его воевать!
— Вы же здесь, милая Александра Михайловна. Давайте по-товарищески обсудим, что вас волнует.
— Я прямо с фронта. Была там по заданию ЦК Украины. Вот успела лишь платье переодеть. На разъездах гигантские заторы. Донецкий бассейн, считайте, мы уже потеряли. Там творится что-то ужасное! Хотите свежий пример? Наш дощатый вагон прицепили к какому-то составу. Катим. Стой! Казаки перехватили чугунку. Выбираемся кружным путем. Бьют пушки. Рядом рвутся снаряды. Откуда? Горят тормоза. Вносят раненых. Я пытаюсь их успокоить. А впереди все забито эшелонами. Жалко людей. Невообразимая паника. Единственные, кто еще держался, простите, это колючая правда — махновцы. Я и у них побывала. Банда, конечно. Свои хаты им дороже всего. Потому и дерутся. А уголь, хлеб мы у них…
Взвизгнула на роликах зеркальная дверь. Вошел помощник с блестящим знаком на рукаве. «Циркачи», — усмехнулась Коллонтай.
— Извините, Лев Давидович, там Бубнов. Пусть подождет?
— Зачем же? Зовите.
В наглухо застегнутой гимнастерке и галифе, аккуратно подстриженный, худенький Андрей Сергеевич увидел Коллонтай, улыбнулся и сдержанно поклонился. Они были тоже давно знакомы.
— Садись. Слушай, — сказал Троцкий гостю. Тот, как и председатель Совнаркома Украины Раковский, не имел к ней никакого отношения. Разве что отбывал ссылку в Харькове. Бубнов входил в первое политбюро ЦК России. Это вам не какой-то там генерал. Вместе с Овсеенко Андрей Сергеевич руководил взятием Зимнего и арестом Временного правительства. Но подобно Овсеенко же, после захвата власти не уловил, что правила игры быстро изменились, продолжал настаивать на собственном мнении, резко выступил против предложенного Лениным мира с германцами и… никакой высокой должности не получил. Добывать ее (по тогдашнему выражению «укреплять советскую власть») Бубнову предложили в провинции. Теперь он состоял членом реввоенсовета Украинского фронта.
Троцкий, коренастый, плечистый, гривастый, ходил по ковровой дорожке салон-вагона. Оборванная на полуслове Коллонтай тоже молчала. Подали чай на расписном подносе, но никто к стаканам не притронулся.
— Александра Михайловна только что с Южного фронта, — сказал наконец Троцкий. — По ее глазомеру, там полный бедлам. Все бегут, и спасения уже нет.
— Простите! — воскликнула гостья. — Мы же с вами в «Крестах» сидели. Как можно! О поражении я ни слова…
— Согласен. Раздул кадило, — усмехаясь, примирительно заметил Лев Давидович и добавил другим тоном: — Но что Харьков не сегодня-завтра возьмут — вы не отрицаете? И что Махно молодец, а-а? Ну, каково, Андрей Сергеевич, это слышать?
Троцкий высоко ценил свою способность к провидению и всегда считал Коллонтай недалекой, а ее теоретические воззрения смутными. Но, помилуйте, не до такой же степени!
— Я тоже был у батьки. Он ненадежен, лишь требует патроны. А положение тяжелое, — вздохнул Бубнов. За окнами заунывно кричал паровоз, несло клубы пара. О Махно они уже сообщили в Москву, что только по его вине разваливается фронт, но Александра Михайловна об этом не знала.
— Трудное. Не более, — уточнил Троцкий. — Мой поезд стоял у Волги. Со всех сторон ружейная трескотня. В небе кружит белый аэроплан. А рядом — пароход для штаба. Мне говорят с тревогой: «Уходите на воду!» — «А как же армия? — спрашиваю. — Ей-то куда, если мы удираем?» И не поддались, выстояли. Слышите?
Он не убеждал — страстно колдовал, и Коллонтай почувствовала, что к ней возвращается уверенность. Но это же обман! Фронт развалился! Сама еле ноги унесла. Все равно хотелось верить в лучшее. Так велики были обаяние и сила Троцкого. Он продолжал, поблескивая пенсне:
— Ничего страшного. Украина почти освобождена. Остались донецкое и польско-румынское направления. Их мы быстро ликвидируем. Но здесь правит бал анархия, атаманщина. Мобилизуем сто человек — девяносто дезертиры. С этим надо кончать. Не мои слова — Ильича. ВЦИК создает единую армию всех республик, транспорт. Фактически союз народов. А вы церемонитесь с каким-то Махно. Они выбирают командиров. Темной массе нравится. Мы даем начальнику тысячу рублей, рядовому — триста. Махновцы же вопят «о равной плате за кровь». Так они всех перетянут к себе!
Лев Давидович не хотел и не мог сказать партийным пропагандистам то главное, в чем глубоко убедился на фронтах. Нельзя вести массы вперед без репрессий. До тех пор, пока гордые своей техникой, злые бесхвостые обезьяны, именуемые людьми, будут воевать, командование должно ставить солдат между возможной смертью впереди и неизбежной — позади. Цементом, конечно же, являются идеи. У махновцев их нет, а если и есть, то ложные. Это одно. Но не все, о чем мог бы поведать Троцкий.
На его отношение к Махно очень повлиял… Ворошилов. Они не ладили еще со времен защиты Царицына. Луганский слесарь, заправляя армией, с анархической ненавистью говорил о царских офицерах, высоких московских штабах. Его поддерживал Сталин, и они вместе обманывали Ленина. Дело дошло до того, что Владимир Ильич предложил Троцкому: «А не прогнать ли нам всех спецов поголовно?» — «Знаете, сколько их теперь у нас?»— спросил Лев Давидович. «Не знаю». — «Примерно?» — «Не знаю». — «Не менее тридцати тысяч!» — «Ка-а-ак?» — изумился вождь, не имевший об этом понятия. Его неосведомленностью и пользовались Сталин с Ворошиловым. Обнаглели до того, что не давали председателю Реввоенсовета даже оперативных сводок, и он тогда сказал Ленину по прямому проводу: «Категорически настаиваю на отозвании Сталина. Если сводки не пришлют, я отдам под суд Ворошилова!» Смутьянов приструнили. А кто такой Махно? Гадкое ничтожество!
— Отчего погибла Парижская коммуна? Разве не от своеволия дураков? — продолжал Лев Давидович. — С Григорьевым расправились, Андрей Сергеевич?
— Я с этим и пришел, — Бубнов поднялся и одернул гимнастерку. — Мятеж ликвидирован. Взято пять бронепоездов, тридцать орудий, эшелоны снарядов…
— Вот-вот, — Троцкий ускорил шаг и вдруг остановился, выкинул вперед указательный палец. — С Махно тоже должно быть покончено раз и навсегда. Каленым железом выжечь!
— Но Антонов-Овсеенко возражает, — напомнил Бубнов.
— Ах так! Значит, этому командующему фронтом здесь не место!
Коллонтай уходила из салон-вагона с тяжелым сердцем. Ей не жаль было Батьку. Туда ему и дорога, разбойнику. Удручало шапкозакидательство Троцкого. Сколько же красных жизней оно будет стоить?
Вечером на квартире Христиана Раковского собрались Бубнов, Овсеенко и другие. Присутствовал также Дыбенко, чтобы доложить «о борьбе с григорьевскими бандами». Без его голоса было принято решение: Ликвидировать махновщину в кратчайший срок.
Когда это принималось, Дыбенко, стараясь не подавать виду, сидел как на иголках. «Какой бы он ни был, Махно, — думалось, — но играть надо по правилам. Он лично со мной, а в моем лице с советской властью заключил договор. Его никто не расторгал, и третья бригада (это же не шутка — двадцать тысяч штыков и сабель!) входит в Красную армию. Братцы, кто же так поступает? Нестор держит оборону, а вы ему — нож в спину!».
Заявить об этом, однако, Павел Ефимович не решился. Какой смысл? Директива Троцкого согласована с Лениным, конечно. Тут Дыбенко вспомнил и даже заерзал на стуле: «Я ж ему слово дал при жене! Тогда Нестор сказал: «Вы и меня можете приговорить. Что вам стоит?» Как в воду глядел. А я ответил: «Сообщу первым». Куда? Поезд до Екатеринослава тащится пятеро суток. О телеграфе нечего и помышлять».
Галина лежала в постели, ждала мужа. За окном, где-то в ветвях акации, монотонно рассыпалась цикада. Духота июньской ночи, тревога последних дней; когда генерал Шкуро вот-вот мог ворваться сюда, в Гуляй-Поле и нужно было бы бежать (Куда? Домой, в Песчаный Брод? А как же школы, дети?) — всё это не давало заснуть. И за стеной тяжело вздыхала, ворочалась Евдокия Матвеевна. Ей тоже что делать? Старая, больная. Ехать уже не сможет. А остаться — на муки? Белые зверствуют. Пленных, говорят, не берут, как и наши. Женщин насилуют. А старая мечтает о внуках. Их у нее много. Но она все ждет от Нестора и поглядывает на Галину с надеждой. Не хватает еще завести малого, потом хватать сосунка, лететь в степь с пеленками. А если молоко пропадет? Придется заморить кроху в утробе. Даст Бог, новое зародится. Господи, зачем все это? Разве о таком грезилось? Мужики сцепились клубками по всей Украине. А нам что остается?
Смахнув слезу, Галина села, заметила, как чиркнул спичкой, прикуривая, часовой во дворе (их уже давно охраняли). За что бьются? Лишь злобу плодят. Ее ж потом не усмиришь. Дураки несчастные, и Нестор тоже. Свобода! Где она потерялась? Вот завтра победят. А умеют только стрелять да командовать. Какая ж воля? Коровка на хуторе, плуг, пчелы гудут, о чем мечтает Нестор? Она горько усмехнулась. Тревога не утихала.
Муж уехал на передовую вчера утром, в Волноваху. Ее брали, сдавали уже раз пять. Узловая станция, дальше Дон. Обещал быть сегодня. Ночь давно. Что же случилось? Нестор говорил, как неделю тому на них полез железный танк. Что оно такое? Над головой аэроплан гремел. Они с Билашом и шофером вскочили на автомобиль и тикать. А наперерез казачья сотня летит. Отбивались двумя пулеметами. Почти вырвались, и на ж тебе — пуля пробила колесо! Казаки окружают, орут: «Сдавайся!» Всюду степь, хоть пропади. Шофер-молодец сменил колесо, да двадцать лент было в запасе. Нестор говорил об этом, смеясь. Как они, мужики, любят смертельные игры. Фу-у!
Незаметно Галина забылась в полусне. Привиделись ей какие-то зеленые немые дали, а над ними холодно засветились лазоревые глаза без зрачков и зениц. Она вроде одиноко лежит в Песчаном Броде, в родительской белой хатке. Нет, Господи, в монастыре, и глаза — под сводами кельи. «Кто это?» — спрашивает Галина и слышит вопль. На поляне, за монастырской стеной, где устраивали ярмарки, крутился, подпрыгивал… Борис Веретельников и звал ее к себе. «Да его же вот недавно порубили шкуровцы вместе с полком!» — удивилась Галина. Он продолжал звать, настойчиво и ласково. Ах, Борис, высокий та стрункый, прямо желанный. Она подалась было к нему, но глаза вдруг кинулись на нее, сверху, колючим огненным кобчиком и стали клевать, больно рвать одежду. Она изо всех сил отбивалась, звала на помощь. А никого нигде не было…
— Я здесь. С тобой! — услышала Галина и проснулась. Над ней стоял Нестор, и от него пахло вином.
— Кошмар, наверно? — спросил.
А она не могла прийти в себя. «Это же домовой, домовой!»— догадывалась растерянно. Муж присел на кровать, нежно гладил ее руки.
— Я тут, тут, — повторял ласково. — Мы их всех, гадов…
Появилась Евдокия Матвеевна с лампой.
— Дитка ты моя дорога. Успокойся. Господь с тобой, — и перекрестила невестку. Та приподнялась.
— Хочешь поесть? — спросила Нестора.
— А борщ сладкий, горяченький. Тэбэ ждэ пид рушныком, — сказала мать.
— Не суетитесь, бабы, — остановил их Махно. — Я такой же как и вы, рядовой — не командующий больше.
— Як цэ? — не поверила Галина.
— Теперь у меня для борща — сутки напролет. Ешь, хоть лопни!
— Вас разбили? — жена чуяла беду. Не зря этот сон. В руку. Какое там? В самое сердце! И вместе с тем она враз почувствовала облегчение. Наконец-то они спокойно уедут из этого Богом проклятого Гуляй-Поля, купят хатку, появятся детки, загудят пчелы…
— Фронт никуда не делся. Он на месте. Но… без меня, — Нестор расстегнул кожаный планшет, достал листок, подал жене. — Читай. Вслух, чтоб и мама слышала.
Там было:
Я никогда не стремился к высшему званию революционера, как это себе представляет командование, и, оставаясь честнымпо отношению к народу, заявляю, что с 2-х часов дня сего 28 мая не считаю себя начальником дивизии… Прошу прислать человека, который бы принял отчетность… Я больше сделаю в низах народа для революции — я ухожу.
Батько Махно.— Но что же случилось? — не могла понять Галина.
— Денег нам больше не дают, патронов, снарядов тоже. Бросили на произвол судьбы. Хотят, чтоб искромсали беляки. Я в этом не участвую.
— Та й ранишэ ж нэ давалы! — воскликнула жена, уже приладившаяся к почету, с каким ее встречали на улице, в школе, театре. И жаль стало Нестора. Всю жизнь, считай, положил на пестование повстанческой армии, а вышел пшик! — Хай воны таки-сяки, ти вожди билыповыкив. А на що ты свойих людэй кынув? Заманув и бросыв!
— Я тоже мучился, поверь, — отвечал муж. — Клевещут, готовят растерзание повстанчества. Лучше пожертвовать моим именем. А они обрадовались, сволочи. Вот что сразу телеграфировали.
Он достал еще одну бумагу, и Галина прочитала:
Начдиву 7-й Чикваная.
С получением сего выехать в Гуляй-Поле в штаб бригады Махно для приема бригады и назначения в ней нового командования ввиду сложения Махно своих полномочий.
Командарм 2-й Скачко.— Та воны ладно. А ты на що людей кынув? — стояла на своем жена.
— Ходят слухи, что большевики после Григорьева целятся в нас. Я кинул им кость. Они, псы, зарычали. Все, значит, и подтвердилось.
— Ты мечешь перуны! — возмутилась Галина, накинула халат и заходила по комнате. — Слухи! Что ты, баба? Они тебя спровоцировали!
— А это что? — Нестор в сердцах бросил на пол еще одну бумагу. — Можешь не читать. Долго. Наши собрались и сообщили Ленину, всем красным шишкам, что никому не будут подчиняться, кроме меня. И ты думаешь что? Вожди извинились? Черта с два! Назвали это преступлением, а меня поставили вне закона!
Мать всплеснула руками.
— А-а, вот тебе и мечешь перуны! — со злой иронией вел дальше Махно. — Я им поперек горла стою. Давно. Всегда! Но мы и тут не бросили фронт. Тогда вызывает меня к аппарату Троцкий. Появился такой щелкунчик, правая рука Ленина. Требует закрыть дыру. Красные бегут, Шкуро угрожает их власти в Харькове. Приказывает мне: растянитесь, безоружные, на север. Я отвечаю: нет никаких сил и возможностей. Вы же ничего нам не даете. Он настаивает. Я, говорит, председатель наиглавнейшего Реввоенсовета. Стал угрожать и окончательно вывел меня из терпения. Каюсь, ляпнул напоследок: «Пошел ты, мухомор, к е… матери!»
— Да ну! — Галина потерянно качала головой и неожиданно взорвалась: — Молодэць! Хай йдуть свыни пид хвист, бандиты! Щэ йим кланяться, крэмливськым божкам! — она подбежала к мужу, обняла его и поцеловала. — Правильно, Нэстор. За тэ й люблю. Захопылы Украйину, щэ й командують. Той царь був поганый, а Лэнин — цяця. Вы, анархисты, хоть бы с Пэтлюрой обнялысь, як браты ридни!
Мать определила на стол лампу, вздыхала. Ей было жаль сына. В политике она не разбиралась.
— Я же беспокоюсь о вас, — сказал Нестор. — Тут оставаться нельзя. Что если ты, Галя, вместе с Феней Гаенко отправитесь к Петлюре, а?
Предложение было столь неожиданным, что жена растерялась. Она привыкла к резким словам, поступкам мужа, к его непредсказуемости. Ее также угнетало, что две армии, Петлюры и Махно, освобождающие Украину, не могут объединиться. Вот была бы сила! И где у мужиков мудрость? Сядьте, потолкуйте, найдите общий язык. Что вам мешает? Мелочи! Но ни один не хочет уступать. Зато ей, бабе, предлагают стать послом-примирителем. Во комедия! Что же она скажет тому Симону Петлюре? Большевики объявили Нестора вне закона, и он, обманутый, жалкий, просит помощи?
— Ты не кто-нибудь. Моя жена! Так и представишься. Но только лично ему. Поняла?
Галина кивнула. Лишь сейчас догадалась, что во сне напал не домовой. Звал к себе покойник. На тот свет! А огненный кобчик не пускал, спас, и вместо благодарности она отбивалась, кричала. Не так ли поступаем все мы, хохлы несчастные? Даже в церкви не повенчались!
— Ничего конкретного не предлагай, — наставлял-Нестор. — Твоя миссия проста: прозондировать обстановку, разнюхать. А главное — скроешься отсюда.
— А мама? Куда вас? — она впервые назвала Евдокию Матвеевну мамой.
— Ты про мэнэ, дитка, нэ хвылюйся. Я не пропаду, — сказала старая, с благодарностью глядя на невестку. — Бывало и хуже. Кому я нужна? Останусь, беззубая карга. Мне и так уже на кладбище пора. Тут хоть рядом с мужем успокоюсь.
— Борщ, говорите, сладкий? — усмехнулся Нестор. — Наливайте мисяру, хозяюшки мои дорогие!
Л. Троцкий
МАХНОВЩИНА
Есть советская Великороссия, есть сов-кая Украина. А рядом с ними существует одно малоизвестное государство: это — Гуляй-Поле. Там правит штаб некоего Махно. Сперва у него был партизанский отряд, потом бригада, затем, кажется, дивизия, а теперь все это перекрашивается чуть ли не в особую «армию». Против кого же восстают махновские повстанцы?
Махно и его ближайшие единомышленники почитают себя анархистами и на этом основании «отрицают» государственную власть. Стало быть, они являются врагами Советской власти? Очевидно, ибо Советская власть есть государственная власть рабочих и трудовых крестьян… Что же они признают? Власть Гуляй-Польских махновских советов, т. е. власть анархического кружка на том месте, где ему удалось временно укрепиться.
Однако же махновской «армии» нужны патроны, винтовки, пулеметы, орудия, вагоны, паровозы и… деньги. Все это сосредоточено в руках Советской власти, вырабатывается и распределяется под ее руководством. Стало быть, махновцам приходится обращаться к той самой власти, которой они не признают…
В Мариупольском уезде много угля и хлеба. А так как махновцы висят на мариупольской железной ветке, то они отказываются отпускать уголь и хлеб иначе, как в обмен на разные припасы. Выходит так, что махновские верхи организовали свою собственную мелкую, полуразбойничью власть, которая осмеливается стать поперек дороги Советской власти Украины и всей России. Это не продуктообмен, а товарограбеж.
Махновцы кричат: «Долой партийность, долой коммунистов, да здравствуют беспартийные советы!» Но ведь это же жалкая ложь! Махно и его соратники вовсе не беспартийные. Они все принадлежат к анархическому толку и рассылают циркуляры и письма, скликая анархистов в Г.-П. для организации там своей анархической власти.
Контрреволюционеры всех мастей ненавидят коммунистическую партию. Такое же чувство питают к коммунистам и махновцы. Отсюда глубочайшие симпатии всех погромщиков и черносотенных прохвостов к «беспартийному» знамени махновцев… Поскобли махновца — найдешь григорьевца. А чаще всего и скоблить-то не нужно: оголтелый, лающий на коммунистов кулак или мелкий спекулянт откровенно торчат наружу.
Газета «В пути». 2 июня 1919 г.Доблестные конные части генерала Шкуро вновь перешли в решительное наступление вдоль желдороги на Екатеринослав и в направлении на Пологи и Цареконстантиновку… Красные, понеся потери, в беспорядке бегут.
«Вольная Кубань». 3 июня 1919 г.— О свадьбе слыхал, Харлампий Общий? — озорно спросил артснабженец Данилов своего нового приятеля, татарина из Крыма. Редкая роскошь: у того было еще и другое прозвище — Красная Шапочка. Он командовал эскадроном.
— Нэт, — сквасил рожу Харлампий, ожидая подвох. Это его простодушие и привлекало Василия. Они толклись у штаба. Патронов, снарядов остались крохи. У всех наблюдалось смурное настроение. Вот-вот дадут приказ покинуть Гуляй-Поле. Но не падать же духом окончательно? Уходили и раньше, зато всегда возвращались!
— Маруся женится, — на ухо приятелю, но громко, чтобы другие слышали, сообщил Данилов. — Я приглашен на торжество!
— Какой такой жених? Это же баба!
— Чу-дак! — Вася даже языком прищелкнул. — Не просто баба — гром! Лишь в одной вашей деревне еще не познакомились с ней.
— У нас сёла.
— Да Крымом же называется. Там она пока не гастролировала.
— Э-э-э, — пропел Харлампий Общий. — А кто нэвэста?
На улице появилась немецкая красная бричка, запряженная цугом. Среди жалких повозок беженцев она казалась царской каретой. В ней сидела Маруся в белом платье и с белым же кружевным венчиком на темной прическе. Рядом возвышался незнакомец, тоже лет тридцати, в синем костюме с бабочкой. За ними прыгали, галдели вездесущие мальчишки. Вася вскочил на подножку кареты, вскинул руку и радостно гаркнул:
— Поляк женится! Бржостэк!
Тот достал из кармана пригоршню золотой, серебряной мелочи и, сохраняя величественную позу, швырнул пацанам. Они рассыпались, подбирали монеты в пыли.
У ресторана играл духовой оркестр, торчали зеваки. А мимо устало плелись раненые красноармейцы, женщины с детьми. По слухам, где-то в степи снова шалили шкуровцы: черкесы с кривыми саблями и кубанские казачки. Маруся с Витольдом знали об этом, но приглашенные на свадьбу атаманы Шуба и Чередняк заверили, что порубят как капусту даже Деникина с Троцким, если те сунутся и помешают опрокинуть чарку-другую!
На торжество также прибыли: редактор газеты «Путь к Свободе» Петр Аршинов, помощники Батьки Семен Каретник, Алексей Марченко, Федор Щусь, полный Георгиевский кавалер, комполка Трофим Вдовыченко, не менее доблестный Петр Петренко и артснабженец Василий Данилов. А также начальник всей контрразведки неприметный Лев Голик, приятели жениха — отчаянные боевики из Москвы, начальник штаба израненный Яков Озеров и его заместитель, молодой горячий Михалев-Павленко, другие.
На эстраде тихо сидел цыганский ансамбль.
Ждали Махно, который предупредил:
— Фронт в огне. Гуляйте на здоровье. Я потом загляну.
Без него, однако, не начинали, поглядывали на два пустующих почетных места, для Батьки и Галины Андреевны. Все понимали: другой такой возможности встретиться в своем кругу да еще и по столь приятному поводу вряд ли представится. Ох, вряд ли.
Распоряжался в зале Семен Миргородский, раскрасневшийся, озабоченный. Это он всё организовал, обеспечил. Подойдя к «молодым», спросил:
— Ждать или хватит?
— Давайте начнем! — нетерпеливо решила Маруся. Голос ее взлетел, как обычно, и опять контральто: — Он, поди, явится. Верно, Витольд?
Теперь, когда ей дозволили занимать командные должности, она не больно-то церемонилась с Батькой и уже подумывала о своем новом отряде.
— Неудобно, — пробасил Бржостэк, высокий, по-военному подтянутый, замкнутый. В нем чувствовалась сдержанная, жаждущая схватки сила. Увидев утром Махно, Витольд не мог взять в толк: как этот маленький, сипловатый, скорее всего необразованный мужичок правит такой разношерстной публикой, где и неукротимая, чудесная Маруся, и многознающий Аршинов, мрачный опричник Лев Голик и лихой эсер Митя Попов? Их тут сотни: офицеров, атлетов, сорвиголов, а верховодит коротышка! Чем же он берет, этот Батько?
И тем не менее, сам не зная почему, Бржостэк повторил:
— Неудобно!
— Тогда я попрошу Петра Андреевича. Пускай еще раз пригласит, — сказал Сеня. — Мэтра он послушается.
— Валяй, — согласилась Маруся.
Аршинов ушел и вскоре возвратился с Махно, без Галины. Где она — никто, кроме Льва Голика, не ведал. Батько сел на почетное место рядом с «молодыми», поднял рюмку, смотрел сурово.
— В недоброе время мы собрались, друзья. Вольная земля, уж прости, — начал он в полной тишине. — Попали между жерновов. На знамени нашем написано: «Власть рождает паразитов!» Они и бесятся. Троцкие объявили меня и вас вне закона, скрипят зубами, но силенок у них мало. Белые мнут им бока так, что ребра трещат. Мы же ни на какие провокации не поддадимся. Пусть залогом тому будет сегодняшний праздник — всем чертям назло! Хай же эта новая семья, Витольда и Маруси, живет счастливо и долго, как и та свобода, что мы всё равно завоюем!
Оркестр заиграл «Марсельезу». Все встали, чокались, поздравляли молодоженов. Хотелось хоть напоследок отвести душу. Печально и страстно запели цыгане. Кто-то кричал:
— Го-о-орько!
Закусывая, московские боевики, особенно рыжий напористый Петр Соболев, убеждали Батьку, что выход — только в динамитной схватке со всякими властями. Он больше отмалчивался, и Маруся заметила, как ему тяжко. Допрыгался, вождь! Рухнул водночасье весь задум. А синицей в руках ведь была Махновия — вольная страна. Теперь тысячи повстанцев бросают хаты, жен на произвол кадетов. Галину свою, небось, упрятал подальше. А почему опозорился? Поди, хотел усидеть на двух стульях: исповедовал анархизм и был Батькой. Как бы оно ни называлось, что он создал, но это — власть. Позор! «Но ведь и ты, поди, с наганом? — возражала себе Маруся. — Я другое. Мы с мужем лично для себя ничего не желаем. Лишь избавляем мир от оглоедов».
— Витольд, нам нужен дворец и караул? — спрашивала она между легкими поцелуями.
— Что ты, милая, зачем?
— А я бы не отказался! — встрял в их воркование Василий Данилов.
Маруся улыбнулась ему и погрозила пальцем с крупным бриллиантом. Пьянея, она стала совершенно неуместно вспоминать, что пишет Кропоткин о преступлениях. Они зависят от социальных, антропологических и — надо же! — космических причин. Ну право, забавный старикашка. Снова орали:
— Горько!
«Молодые» поцеловались. Это сбило Марусю с панталыку, и она с трудом вспомнила: дед рисовал даже кривые покушений и… температуры воздуха. Поражался, что они совпадают. Во всем мире летом — пик насилий и убийств. «Может, он и прав? Сейчас теплынь… А я уже не Никифорова — мадам Бржостэк. Ку-ку!»
На следующий день, опохмелившись, поехали провожать Батьку. Он отправлялся в штаб Ворошилова, которому поручили новоиспеченную 14-ю армию, куда вошла и бригада Махно. Она по-прежнему действовала, хотя Троцкий писал грозные приказы и требовал «употребить каленое железо».
— Лезешь прямо в медвежью пасть, Нестор! Любишь смертельный трепет? Ох, как мне это знакомо. Сладко! — говорила Маруся. Они сидели в одной тачанке. Ветер прохлаждал лица.
— Кто меня съест?
— Да Ворошилов же. Он хоть и бездарь, а опасен, вроде косолапого, что из дружеских чувств тяпнул мужика по лбу, где сидела муха. Ха-ха!
— У него, Маруся, и войск нет, кроме нашей бригады. Моя сотня разгонит весь его штаб!
— Ой ли, Батько, поберегись. На расправу комиссары щедрые.
— Им не до нас. Юденич сунет на Петроград. Колчак на Волге. А Деникин прет с юга. Поплачут еще Ленин со своими остолопами Троцкими. Видишь хлеба?
Вдоль дороги колосились пшеница, ячмень, овес. Пахло васильками.
— Знатный урожай зреет, — продолжал Махно, — и мужику сейчас не до войны, пропади она пропадом. Он знает: уберет зерно — будет сало и к салу. Кто бы ни властвовал. А просыплется хлеб — верный конец. Потому и мы подождем. Он помолотит снопы и с новой силой ухватится за ружье. Меня не проведешь. Я всю душу крестьянина вижу насквозь!
На станции Гуляй-Поле пыхтел красный бронепоезд имени какого-то Руднева.
— Кто командует? — спросил Махно у бойцов на перроне.
— Илья Ротштейн.
— Где он?
— Далеко. Снаряды добывает.
— А кто замещает?
К ним подошел крепыш в кожаной куртке, измазанной машинным маслом. Поинтересовался устало:
— Ищете?
— Я Батько Махно. А ты?
— Семенов. Слушайте, еле отбились от кадетского бронепоезда «Иван Калита».
— Та-ак, Семенов. Деникинцы наседают, и сдерживаем их только мы. Поэтому поступаешь в мое распоряжение. Других войск тут нет, — сказал Нестор и прибавил почти просительно: — Все ресурсы иссякли. Дай хоть ящик патронов.
— Вчера до ночи, слушайте, отмахивались от этого проклятущего «Калиты» и теперь тоже на мели, — уклончиво ответил Семенов, и видно было, что врет, боится нарушить приказ Троцкого: «За любую помощь Махно — расстрел!» — Уж извините, товарищи, могу отпустить лишь коробку. Эй, Петрушин, неси цинк!
Маруся стояла рядом и слышала весь разговор. «Господи, до чего же докатился грозный Батько! — думала злорадно. — Неужели возьмет? Какой позор!»
Петрушин принес цинковую коробку и держал ее, не зная, кому передать. На рельсах тяжело отдувался паровоз. Никифорова-Бржостэк даже отвернулась, чтоб не видеть крушения легенды о вожде: «Это же конец! Он ни на что… не годен. Клянчит, словно последний нищий. Да лети в бой, вырви из глотки, герой!»
— Оставьте себе цинк, — сказал Нестор. — Поехали на Гайчур. Там Ворошилов?
— Вроде бы.
— Тогда вперед, и только!
Бронепоезд ушел на северо-восток, где глухо ворчала канонада.
Станция Гайчур, 8-го июня, 15 час. 40 мин.
Штаб 14-й армии — Ворошилову.
Харьков, Предреввоенсовета — Троцкому.
Москва — Ленину, Каменеву
…Мною была послана телеграмма, в которой я заявлял о сложении с себя полномочий Начдива, просил прислать специальное лицо для приема от меня дел. Сейчас я вторично заявляю об этом и считаю обязанным себя дать нижеследующее объяснение.
Несмотря на то, что я неизменно вел ожесточенную борьбу с белогвардейскими бандами Деникина, проповедуя народу лишь любовь к свободе и самодеятельности, несмотря на глубокотоварищеские встречи и прощания со мной ответственных представителей Советской республики, сначала тов. Антонова, а затем тов. Каменева и Ворошилова, — в последнее время официальная Советская газета, а также партийная пресса коммунистов-большевиков распространяет обо мне ложные сведения. Меня называют и бандитом, и сообщником Григорьева, и заговорщиком… Враждебное поведение Центральной власти по отношению повстанчества с роковой неизбежностью ведет к кровавым событиям внутри трудового народа. Считаю это величайшим, никогда не прощаемым преступлением.
Начальник дивизии Махно.
Никто на эту телеграмму, как и прежде, не ответил. Ленин прочитал ее и черкнул: «В архив». Повстанцы же, сдав Гуляй-Поле, отчаянно отбивались винтовками-дубинами. Белые не вступали с ними в рукопашные схватки — расстреливали с дистанции. Зато по ночам махновцы брали свое. Их внезапные налеты на тачанках трудно было остановить, и села, участки железной дороги то и дело переходили из рук в руки. Тая и медленно откатываясь на запад, полки Батьки все-таки держали фронт около магистрали Мелитополь — Синельниково.
Кое-какую помощь им оказывали части Ворошилова. Для координации действий при его штабе работали махновские оперативники: Озеров (ему, израненному, не позволили уйти в отставку по рапорту), горячий и скорый на язык Михалев-Павленко, другие. Их всех внезапно арестовали.
Троцкий по-прежнему бесился, угрожал «выжечь партизанщину каленым железом». Но те, кто воевал, в том числе и Ворошилов, видели — сил для этого нет. Если слушать Льва Давидовича, с кем останешься? Тогда он спешно сколотил чрезвычайный трибунал и сцапал штабников. Весть об этом долетела и до станции Верхний Токмак, где собрались на последнее совещание соратники Махно.
— Окруженные заградотрядами, чекистами, мы не поддались на провокации, — говорил он уверенно. — Вопреки желанию Троцкого — толкнуть нас в объятия Деникина — стоим на своем. Пусть посмеет арестовать еще кого из нас — закатим ему такой скандал, что задрожит и Киев!
«Пустомеля, — раздраженно думала Мария Бржостэк. — Где же силы? Вон штаб заграбастали. Ану лети, спасай его, герой! Что ж ты сидишь в этой дыре и тявкаешь?» Нестор между тем продолжал:
— Наша дивизия должна повернуть штыки против… («Неужто скажет «комиссаров»? — не поверила Маруся), против своего тыла, где засели карательные отряды. Мы им предложим: идите на помощь против белогвардейцев или дайте дорогу на Херсонщину…
— Так они тебя и послушают! — не выдержала Маруся.
Махно даже не взглянул на нее, нервно потер нос пальцем и закончил:
— Надо выйти из перекрестного огня, отдохнуть, пополниться. Что скажете?
Не торопясь поднялся Василий Куриленко, тоже награжденный советским орденом.
— Моя разведка донесла, что белые выбили зарвавшуюся армию Дыбенко из Крыма. Она в панике бежит за Днепр и, потеряв голову, может треснуть по нашему тылу. Против красных я воевать не буду! — твердо заявил он. С открытым лицом, широкогрудый, отчаянно смелый Василий всегда говорил, что думал, и слово держал. С ним считались, к нему прислушивались. Он представлял приазовскую треть махновцев. «Значит, ее нет», — загнул Батько большой палец.
Встал Виктор Билаш.
— Нельзя бросать родных людей на растерзание. Потому пойдем под красный флаг.
«Еще треть долой!» — загнул Махно указательный палец. Это были его лучшие из лучших командиры, и хотелось заплакать от досады: «Вот она, преданность идее. Вот благодарность за все! Припекло — и разбегаются, как крысы».
— А мы остаемся. Сами по себе. Никакой Херсонщины, ни красных, ни белых! — угрюмо брякнул Петр Петренко — третий кремень из Батькиного войска. Нестор загнул безымянный палец.
Тогда поднялся Федор Щусь — последняя надежда:
— Мои хлопцы, вы знаете, из Дибривского лесу. Туда и подадимся.
«Это… крах! Вся борьба — коту под хвост. С кем же я остался? — приложив кулак ко лбу и покачиваясь, думал Махно. — Ничего-о, ничего-о, еще прибегут. Куда денутся, жеребчики? Если мы и правда представляем народ. А нет — туда нам и дорога!»
— Что ж вы-ы молчите, идейные братья? — спросил он с иронией, глядя на Петра Аршинова, Марка Мрачного. — Жива наша анархическая теория или сдохла благополучно? Захлебнулась свежим ветром революции! С кем вы? Когда побеждали, все с шумом летели в Гуляй-Поле. А сейчас — прочь? Поджав хвосты?
— Негоже так, Нестор Иванович, — попросил Аршинов, не поднимаясь. — Нам всем тяжело. Поступим разумно, как того требует момент и будущее.
— Чего же оно хочет? — ледяным тоном уточнил Батько.
— Вы отправили много телеграмм, писем Ленину, Троцкому. Всю суть изложили. А где они? Их опубликовали в «Правде», «Бедноте», «Известиях»? Нет. Атам миллионные тиражи, — отвечал Марк Мрачный. — Поэтому мы должны ехать в центры и нести о движении истину. Пусть и заграница узнает. В этом наша задача. Или вам нужен мой штык? Я его, извините, и в руках никогда не держал.
Командиры оживились. Что верно, то верно.
— Согласен, — кивнул Махно. — Только Гутмана-Эмигранта оставьте при мне с типографией. А ты, Маруся, куда?
Она игриво посмотрела по сторонам.
— Мы решили так…
— Кто это вы?
— Боевики. Разлетимся в три конца. Шуба с Чередняком отправляются в Сибирь, находят Колчака и кончают на месте.
— Крепко замахнулись! — поддел Петр Лютый. Он сидел не в первом ряду, но не спускал глаз с Батьки: жаль его было и хотелось хоть чем-то помочь, поддержать.
Маруся не обратила внимания на реплику, продолжала:
— Те, кто работал в мариупольской контрразведке у Левы Зиньковского: Петр Соболев, Яков Глазгон и Казимир Ковалевич, едут в Харьков и взрывают чеку, которая арестовала наш штаб. Затем в Москве поднимают на воздух Кремль.
Тут не выдержал Федор Щусь, хлопнул бескозыркой по колену.
— Постой, Мария. Тебе ж ничего не достанется!
Командиры захохотали, надрывно, нервно. Ее это не смутило.
— Мы с Витольдом и товарищами пробираемся в ставку Деникина через Крым. Напрямую не проскочить. И кончаем Верховного главнокомандующего. Вот так.
— Дай Бог нашему тэляти та вовка зйисты, — подвел итог Махно.
— А куда ты, Батько? — спросил Алексей Чубенко. Он пока не проронил ни слова. Нестор молчал, и «дипломат» добавил: — Я в любом случае с тобой. До гробовой доски!
— Коль с нами министр иностранных дел, то не пропадем, — усмехнулся Махно. — Еще не вечер, атаманы, и я всех стойких приглашаю в Большой Токмак. Там решим и двинем дальше. Авось не ударим лицом в грязь.
На том распрощались и разъехались кто куда.
В захолустном Большом Токмаке после митинга, где Батько призывал к себе в отряд новых добровольцев, к нему подошла Маруся.
— Забыла одну мелочь, — она поправила прическу. На пальце блеснул бриллиант.
— Какую же?
— Деньги, Нестор. Дорога предстоит дальняя, голодная, опасная.
— Добывайте. На то у вас и наганы. Да и опыта экспроприации хватает.
— Но «Набату» и Аршинову ты все-таки отвалил миллион рублей. И на заграничную пропаганду золота не пожалел.
Они шли к тачанкам, что стояли наготове под пирамидальными тополями.
— Теоретики, Маруся. У них должны быть чистые руки.
— А мы? Едем тоже конспиративно. Нельзя светиться. Ну-ка, раскошелься!
Так нагло с Батькой уже давно никто не смел говорить. Он увидал, что их со всех сторон обступают боевики, соратники, и взорвался:
— Не дам я вам денег. Нет у меня!
— Да ты жмо-от! — не осталась в долгу и Маруся. — Тридцать миллионов получил у советской власти для повстанцев и зажилил.
— Продай бриллиант, дура! — Нестор схватился за кобуру.
Бржостэк тоже. Его жена еще выпалила:
— Ты уже никто!
Между ними протиснулся Алексей Чубенко.
, — Дай ей, Нестор Иванович, что просит. Мы найдем. Завтра!
— Сколько тебе? — переведя дух, уточнил Махно.
— Миллион.
— Обед в крымском ресторане стоит пять рублей, — вставил слово и бывший начальник всей контрразведки Лев Голик.
— Мне новую армию собирать. На что? На копейки? — спокойнее спросил Нестор.
— А генерал Деникин меньше стоит? Он за твою башку, поди, назначил полмиллиона! — кинула и свой козырь Мария. — Но сегодня это же несравнимые ценности.
Махно мрачно, в упор смотрел на нее. Мужики не выдерживали, отводили взгляд, а ей хоть бы что. «Поистине гермафродитка!»— решил Нестор и подозвал Петра Лютого, шепнул:
— Достань там, знаешь где, полмиллиона и сунь ей, чтоб отцепилась, курва.
Батько пошел к тачанке, отдавая последние распоряжения перед дорогой. Взглянул на свое жалкое воинство. Человек сто, не больше. «Ах ты ж, судьба-индейка. Ничего-о. Зато какие люди! Один Семен Каретник чего стоит. С нами Алеша Марченко, Гаврюша Троян, Гриша Василевский. Вон и кузнец-чудак Вася Данилов, мой укрыватель Захарий Клешня… Орлы! Эти никогда не предадут. Кость цела — мясо нарастет. Уж и красная рота военкома просится в отряд… С Марусей гадко вышло. Ох, гадко. Годы вместе, и едет не пироги печь».
Нестор вдруг направился к боевикам, тяжело ступая. Они зашушукались, ожидали нового скандала. Что ему еще нужно? Однако Махно усмехнулся через силу и… протянул руку Никифоровой-Бржостэк. Она некоторое время вроде сомневалась, потом шагнула навстречу, обняла соратника, прижалась к нему.
Витольд замер, похоже, в недоумении.
— Эх ты, вождь всей Украины, — сказала Маруся, отстраняясь и глядя на Нестора влажными глазами. — Спасибо. Может, в последний раз-то и видимся на этом холодном свете. Прощай!
Предреввоенсовета Троцкому
Махновия разбита Шкуро вдребезги. Отдельные махнята вопят о защите и покорности соввласти. Момент ликвидации этого гнойника самый удобный. Наша беда — отсутствие регулярных частей, снаряжения, вооружения и даже продовольствия.
Командарм 14-й Ворошилов.Правда о гуляйпольских событиях
При наступлении Деникина и Шкуро большевики широко открыли им ворота в Гуляйпольский район. Повстанцы были голы и босы, имея на руках по 5–7 патронов. Их армия, расположенная на берегу Азовского моря и до Кутейниково, оказалась обойденной…
Газета «Набат». 20 июня 1919 г.Виктор Билаш ехал в салон-вагоне комбрига в Александровск. Теперь он был никем. Еще утром мог отдавать приказы, даже объявить войну красным, и повстанцы, наверно, пошли бы за ним, новым батькой. А как только подписал в Орехово акт о сдаче всех девяти полков (шутка ли: 55 ООО бойцов, правда, 30 ООО без винтовок!), трех бронепоездов, ста пулеметов на тачанках и 500 ООО рублей — сразу превратился… в кого? Бес его знает! Нет, знает Ворошилов, в штаб которого вызвали.
За окнами желтели поля, местами уже скошенные. На них возились бабы, редко — мужики, ползали арбы со снопами. Билаш позавидовал им. Вот кому хоть в одном хорошо: делай заведенное от веку и не суши мозги.
В вагоне душно, пахнет яблоками. Верный помощник Иван Долженко пьет узвар на обшарпанном диване, лениво отгоняет мух, молчит, не хочет мешать Виктору писать рапорт. Наконец не выдерживает:
— Был бы пруд, а жабы найдутся. Вручишь акт, чуешь, и я уверен: всё заскользит как по маслу. Мы же честно перешли к красным.
Слова Ивана — прямо бальзам на душу. Мало того, что их могут арестовать и в два счета расстрелять, как хлопцев из оперативного штаба: Озерова, Михалева-Павленко, других. Еще и в газетах расписали, что те предатели, изверги, трусы! Долго ли большевикам? Сердце болело и оттого, что бросили повстанцев на произвол судьбы. Те, было, поверили, попались на удочку сладких слов о свободе — тысячи отчаянных земляков. А что вышло? Где Батько? Где вольная страна Махновия? Всё полетело кувырком!
Билаш опустил руки, сжал их коленями. Твою ж маму и тещу! Верно, другого выхода и не было. Но как же это объяснить несчастным беженцам, тем, кого хватают чрезвычайки, трибуналы, кому в спину стреляют заградотряды? У кого занять совесть нам, слепым поводырям? Ух, новую Запорожскую Сечь основали, на всю Украину замахнулись! Чем мы хуже Богдана Хмельницкого, Мазепы? Но и те не устояли против грозных северных соседей. Или мы прокляты от веку?
«В чем я лично виноват? — в который раз спрашивал себя Виктор и не находил ответа. — Может, не надо было браться за гуж? Вытурили австрияков. Честно? Да. Помогали нам Дыбенки. Тоже кричали: «Мы за народ». Свои же, братья. А сунули штык к горлу. Кто это мог предвидеть? Кто?»
От таких мыслей гудела голова. Билаш тер лоб, давил глазные яблоки. Никаких оправданий не находилось. Потому и не объявил себя батькой. А мыслишка мельтешила: «Хватай момент! Махно умыл руки. Ты воевать умеешь не хуже. Даже лучше, и люди ждут приказа. Но нет патронов, и у вождя — лёд в сердце. Хочешь, чтоб оно лопнуло?»
— Брось мучиться, — посоветовал Долженко. — Скоро Александровск, чуешь? Там погуляем, проветримся.
Виктор все же пытался прийти к какому-то выводу, извлечь пусть и жестокий, но верный урок.
— Почему большевики отцепились от Финляндии, Польши, а за нас зубами держатся? — спросил. — Ты думал об этом, Ваня?
— Хре-ен его знает. Можэ, шо тут хлиб, силь та уголь?
— Так и в Польше уголь!
Долженко сквасил недоуменную рожу, еще и плечи поднял. Билаш усмехнулся.
— То-то и оно, браток, — продолжал. — Мы, украинцы, уступчивые. Кроме того, родные корни, Киевская Русь, православие, считай, один язык. А те уперлись рогами, финны, поляки — пошли вон отсюда с вашей властью!
— А шо ж мы таки? — Иван протянул руку ладонью вверх, словно показывал всю открытость и простодушие свое. — Махно удрав. Нет, чтобы побрататься с Григорьевым, Петлюрой, тоже надутыми пузырями, и вжарить белым и красным по ж…!
— У нас каждый мнит себя гетманом испокон веков. А великого собирателя земель Бог не дает.
— Ну тоди й сыдить в говни, нэ пикайтэ! — отрезал Долженко. — Глянь! Екатерининский вокзал. Приехали.
— Я же рапорт не завершил.
— Кончай, Витя. На всякий случай выставлю часовых и пошлю агента в штаб Ворошилова. Хай пронюхает.
Когда Билаш подписал документ, Иван доложил:
— В аккурат попали. У них совещание, и опасность не замечена. Идем!
Они спустились по улице ближе к Днепру, нашли здание Азовского банка, где помещался штаб армии.
— Мы к товарищу Ворошилову, — сказал Билаш дежурному, из предосторожности не называя себя.
— Он занят. Присаживайтесь.
Никаких знаков отличия, кроме звездочки, ленточки на фуражке, тогда еще не носили. Дежурный и не подозревал, что это махновцы. Жарко, и они были без головных уборов. Дверь в кабинет командующего приоткрылась, донесся чей-то баритон:
— Нет, это не григорьевщина! Батько ушел. Махновцев следует вооружить, и будут драться. Оставить им старых командиров.
— Как? Это невозможно! Есть директива Троцкого: всех атаманов до единого — в чека!
Виктор с Иваном переглянулись. Хоть и опасались ареста, но все-таки надеялись, что пронесет. Вот так влипли! Бежать или ждать? Чего? Пули в затылок?
Тут задвигались стулья. Совещание, похоже, закончилось. Не раздумывая, Билаш вошел. Он уже видел Ворошилова, когда тот приезжал в Гуляй-Поле, но никак не мог равнодушно смотреть на задранный носик и ершистые усики командарма. Что-то в них таилось несерьезное, даже предательское.
— Кого я вижу! — навстречу Виктору поднялся Михаил Желтов — бывший комиссар из Туапсе, где они вместе готовили восстание, делили власть в семнадцатом. Но поговорить не удалось.
— Ты где обитаешь? — успел лишь спросить Билаш.
— Здесь же. Комната тринадцать. Заходи.
— Слушаю вас, товарищ, — Ворошилов нетерпеливо глядел на Виктора. Тот молча подал рапорт, акт о передаче махновских войск. Командарм взял, пробежал глазами, предложил:
— Садись. Что там на фронте? Как противник?
Билаш доложил. Поговорили о репрессиях против махновцев. Ворошилов заверил:
— Никто из вас не будет арестован. Спокойно отправляйтесь в Большой Токмак, в распоряжение начальника боеучастка Кочергина и воюйте.
Но на вокзале Долженко дернул Виктора за рукав.
— Глянь! — их вагон был оцеплен красноармейцами. Анархисты уже стояли в кругу конвоя.
— Обманул, подлец! — выругался Билаш, скривив правый угол губ. — Уходим скорее! Что за сволочная порода? Ну к чему комедия? Взяли бы на месте…
Ночью Билаш и Долженко на подводе поехали в сторону Орехово, где оставили своих повстанцев. Но у речки Конки (здесь, говорят, в древности разыгралась «сечь на Калке» татар с русичами) повстречали сводный отряд Шубы.
— Вчера краснюки переарестовали наших командиров, — возмущался атаман. — Идем на выручку.
— Каких? — спросил Билаш.
— Чередняка, других.
— Вы же в Сибирь собрались?
Шуба промолчал. Какая Сибирь? Ноги бы унести. Виктор не стал уточнять, почему же не защитили своих командиров. Встал бы вопрос: а отчего Махно не выручил арестованный штаб? А ты, Билаш, своих спас? Нет? Тоже бежишь? Эх, мышеловка… В тягостном молчании разъехались в разные стороны.
— Харьков уже белый! — крикнул вслед Иван. Шуба лишь рукой махнул.
Дальше, на станции Камышеваха, копились эшелоны с безоружными повстанцами. Они бежали от кадетов, что рыскали уже рядом с Орехово. Те, кто не влез в вагоны, пешком удирали на запад.
— Куда сунете? — вопили они Виктору с Иваном. — Там Шкуро зверствует!
И в самом деле, куда? На всей родной земле для них не было теперь даже угла, чтобы приткнуться. К родственникам можно, конечно, где и жены как раз. А если увидят обиженные, выдадут? Нет, и пытаться не стоит. Так куда же? Стремились к войскам, и вот они: жалкие, потерявшие цель, хаты, семьи — всё на свете. Ни махновцы больше, ни красные, ни голота, ни кулаки, ни бандиты — НИКТО. И среди них Билаш и Долженко, точно такие же…
КНИГА ТРЕТЬЯ
Во дворе сладко пахло печеным хлебом и хмелем, что вился по забору. Из любопытства и прячась от июльского зноя, они зашли в комору, заставленную снопами.
— Бачытэ? — спросил крестьянин. — Скилькы жыву — такого урожаю нэ помню. У всих достаток. От шо значыть моя зэмля и наша воля!
— Почему же не молотишь? — поинтересовался Махно, хотя прекрасно знал ответ.
— Х-ха, чудак ты. Били прыйдуть — грабонуть. Або красни мстители, чи Григорьев, чи ще хто, — хозяин лукаво смотрел на непрошеных гостей, словно хотел добавить: «Ось и вы тоже заглядаетэ».
— На кого у тебя надежда?
— На вас, тилькы на вас. Дайтэ ружо! — попросил крестьянин, усатый, загорелый, себе на уме. Махно обернулся, взял карабин у Григория Василевского и вручил.
— Бери. Но учти: обмолотишь — придешь. Кроме того, нам овес нужен для лошадей.
— Свойим нэ жалко. Всэ отдам! — сказал хозяин, довольный подарком.
— Ты же не бедный? — спросил Нестор. — Коня держишь?
— Есть и кобыла.
— А как относишься к кулакам?
— Якый черт цэ прыдумав? — хлебороб перекрестился. Щедрый подарок располагал к откровенности. — Чоловик дэнь и ничь пропадае на поли. От у його всэ и е. А як нэ можэ — бэрэ помощь. Мы тут вси родычи. Хто ж кулак?
— И не выдадите его?
— Боронь Божэ! Свойи ж!
— Видел арестованных? Пошли, судить будем.
По чисто выметенному двору они направились на улицу. Справа и слева росли вишни. Их ветки гнулись под тяжестью ягод, налитых красным соком. Повстанцы на ходу срывали их пригоршнями. Сок тек по пальцам, по губам. У крытой соломой хаты сельсовета стояли смурные бойцы продотряда, арестованные накануне. Вокруг толпились крестьяне. Углядев Махно с охраной, они расступились.
— Вот те, кто вас грабит, — сказал он, остановившись. — Что будем с ними делать?
Все молча ждали. Отряды приходят и уходят. Кто нагрянет завтра? Батько видел, что тут ему не Гуляй-Поле. Чужая сторона, и лица у селян недоверчивые.
— Дозволь мне, — выступил вперед, наверно, командир «продачей» — худой, долговязый, лет сорока, в вылинялой косоворотке и мятых штанах. — Я, товарищи, столяр из Смоленска. Слыхали, небось? У нас там дети мрут от голода, как мухи. То же в Москве, Питере, на севере. Без вашего хлеба нам хана! — он рубанул широкой ладонью по воздуху. — За что же арестовали?
— А кто это у вас еще? — указал пальцем Гавриил Троян. — Тоже русаки?
— Нет, латыши, китаец, мадьяры.
— У них тоже голод?
— Чого ж мы повынни давать даром? — встрял в разговор дед из толпы.
— Где же взять, как не у братьев-славян? — повернулся к нему столяр. Глядя на него, Махно подумал: «Не отличит же озимые от яровых. А лезет управлять, вошь!»
— От и прывиз бы братам гвоздь чи доску, — напирал дед. — У мэнэ он сарай бэз двэрэй!
— У нас тоже нет, — отвечал командир продотряда.
— Так хай власть дае, та, шо Грыгорьева каленым железом выжигала.
— Грабил и царь. Чем вы лучше? — раздались голоса. — Чулы мы ци песни!
— Тихо! Они угрожали оружием? — спросил Петр Лютый.
— Ого, еще как! Якбы попросылы, а то штык в пузо!
Столяр побледнел, потерял голову:
— Ах вы ж, кулачье! Жмоты несчастные! Подавитесь своей пшеницей!
Толпа взвыла:
— Та яки ж мы куркули? Падло ты кацапськэ!
— Дывысь на мойи рукы, — женщина тянула черные ладони прямо в лицо смолянину. — От сэрпа, бачыш, полопалысь?
— Бандиты вы, а не браты!
Махно не вмешивался. Вначале он еще сомневался: может, отпустить, выгнать в шею непрошеных гостей? Все-таки рабочие. Но зачем латышей, мадьяр прислали? Чтоб не жалели братьев-славян? Необходимость? А у нас что? И когда загорелись страсти, понял: продотрядовцы обречены. Они глупо пытались что-то кричать в ответ, их хватали за грудки. В драку полезли уже хлопцы из охраны. Если их сейчас остановить — завтра где опору искать?
Недавно они решили взять Елисаветград (Прим. ред. — Ныне Кировоград). Сил было, конечно, маловато. А хотелось заявить о себе на новом месте, заодно добыть оружие, припасы. Расчет строился на внезапности. Перед рассветом въехали в город на возах, как будто собрались на базар. Их пустили без тревоги. Добрались до Петропавловской церкви и разделились. Одна группа отправилась к военному комиссариату, другая — к вокзалу, где имелось оружие, собранное красными, и третья — к тюрьме, чтобы освободить анархистов «Набата».
Поднялась стрельба, и бились до обеда. Махновцев здесь еще не знали, приняли за григорьевцев. А тех боялись и ненавидели за погромы, потому оказали упорное сопротивление. Город не взяли, отошли, потеряв десяток повстанцев и прихватив освобожденных из тюрьмы, а также патроны, фураж и еду…
Между тем продотрядовцев уже били. Григорий Василевский пальнул в воздух и глянул на Батьку. Дескать, что делать? Это же самосуд! Нестор повернулся и пошел к повстанцам, которые разместились по хатам и на берегу речушки — более пятисот штыков и сабель. Вскоре послышался залп. Продотрядовцев не стало.
Самые преданные Батьке хлопцы уходили с ним от Днепра на запад. По пути присоединился Федор Щусь, помыкавшийся по тылам красных, а также Фома Кожин с отличными пулеметчиками, мелкие отрядики, одиночки. По слухам, Деникин могуче лез к Москве. А здесь, от Екатеринослава до Черного моря, красных тоже теснили хоть и немногочисленные, но вышколенные добровольцы.
Солнце все припекало, и в палисадниках приуныли алые маки. Махно шел по улице и думал о Григорьеве: «Видишь, как судьба-сука раскорячилась. Контрреволюционная сволочь, а ты ищешь союза с ним! Большевички — мастера пускать пыль в глаза. Шумели: «Заговор Григорьева уничтожен!» Ха-ха, жив-здоров штабс-капитан и силу имеет. Что ж ты, анархист, липнешь к нему? Вчера грязью обливал атамана, сегодня целоваться готов!»
Только подслеповатый не заметил бы, что в здешних селах чтут Григорьева. Зимой мужики повалили с ним в Красную Армию. А по их хатам, сараям зашмонали продотрядовцы, чекисты. Терпение лопнуло, вспыхнуло восстание. Кто его, опять же, возглавил? То-то и оно. А кто больше всех пострадал вчера от карателей со звездочкой на лбу?
Придя сюда, Махно сразу почувствовал эти настроения, чужое холодное влияние, с которым анархистам, хочешь не хочешь, а нужно считаться.
Пообедав на поляне с повстанцами, он подозвал Лютого.
— Выступаем через час. Вернулись разведчики?
Петр пожал плечами.
— Никаких войск вокруг нет.
— Значит, будем искать, и только, — решил Батько.
Потом, уже на марше, он нет-нет и подумывал об атамане. Рассказывали, что тот кадровый офицер. Еще когда Нестор заглядывал в рот «бедным хлеборобам», Заратустре-Антони, атаман получил Георгиевский крест на русско-японской войне и золотое именное оружие, дарованную землю. Шутка ли? Кое-что прибрехали, наверно. Все равно — исконный вражина. Оборотень! Отбухал мировую войну, пристал к Петлюре, переметнулся к Советам, взял кучу крупных городов. Это же факты! Он не выскочка, не ровня Дыбенко.
Клятый матрос, как взвыл в последний раз. Белые турнули его армию из Крыма, и, вместо того чтобы идти под Мелитополь, помогать махновцам защищать родные хаты, Дыбенко позорно бежал за Днепр и при встрече имел наглость просить: «Подсоби, товарищ Махно! Иди в тыл к добровольцам». Нашел дурака. Сам же хотел арестовать Фому Кожина, перешедшего от красных к повстанцам, и оставил для этого комиссаров. Пулеметчики Фомы их и порешили. Как взвыл матрос! Листовку расклеил по столбам: «Махно вместо защиты интересов крестьянства и рабочих занимался грабежом, пьянством, погромами». До чего же обозлился, клятый. «Махно и его штабная банда получила 35 млн. рублей для удовлетворения нужд красноармейцев, а таковые были розданы и расхищены его приближенными». Ах ты, брехун! На какие шиши мы теперь возрождаемся? А ты, Дыбенко, со страху взорвал бронепоезд, сам толчешься на берегу Днепра, бойцы возмущаются. Кто их поведет? На Украине ты теперь ноль!
Нестор оглянулся. По желтым, скошенным полям его отряд змеился почти на версту. Показалось село, кладбище на сухом взгорке. Запахло разогретой полынью, чабрецом. В белёсом небе заливался жаворонок, и захотелось остановиться, прилечь, раскинув руки, забыть походную кутерьму, клятого матроса, оборотня Григорьева — всё на свете.
Треснул залп. Палили из-за кладбищенских крестов. Махно со штабниками, кавалерией и обозом свернул в небольшую балку. Пехота залегла. Кто там огрызнулся? Красные или атаманишко? Их тут, этой мелочевки, как поросят нерезаных развелось. Жаль губить дураков, но и свои лбы не дубовые. Надо бы разведать. Тут в степи перехватили повозку.
— Куда катишь? — спросил Махно мужика.
— Та додому ж, в Компанийивку.
— А хто там у вас?
— Бис его зна.
— Возьми записку. Отдай атаману. Хай ответит.
Часа через два прискакал посланец. В селе были григорьевцы. Сам вроде бы скрывался где-то рядом. Отряд вошел в Компанеевку и, выставив караулы, заночевал. Днем к хате, где остановился Батько, подкатил автомобиль. Гости были незнакомые. Адъютант Григорий Василевский и первый охранник Гавриил Троян разглядывали их настороженно.
— Я Григорьев, — представился один из прибывших, ростом с Батьку, лишь коренастее и подстрижен ежиком. Руку держал за бортом тужурки военного покроя, смотрел властно. «Точно ёрш!» — определил Троян. Это впечатление дополняли редкие, видимо, колючие усики гостя.
— Где Махно? — спросил он.
— Здесь. Доложим, — Василевский пошел в хату.
Нестор увидел в окно приезжих, достал из полевой сумки «Универсал», велел:
— Зови!
Пожав руки, атаманы некоторое время приглядывались друг к другу. Симпатии не было. Уж больно разные дороги пройдены, цели намечены, и не ради братания они встретились — нужда свела, Махно сразу не понравилась эта манера штабс-капитана прикрывать веки, а потом стрелять взглядом в собеседника. «Обманет, сволочь», — решил он.
А Григорьев не забыл, как Батько всенародно обзывал его в своем воззвании «предателем и провокатором». Теперь приполз, битый пёс!
Скрывая истинные чувства, поговорили о красных и белых, осторожно выяснили, что силы имеются крохотные и надо объединяться. Нестор послал за членами штаба, и, пока те подходили, атаман рассказывал весьма самоуверенно:
— Я как раз занял Одессу, откуда и ревком жидовский появился. Пришли в мой штаб, потребовали, чтобы хлопцы перестали евреев колошматить. А люди, сами знаете, в походе изорвались, изголодались. А в городе жидов-спекулянтов много. Я и сказал, чтобы их подчистить маленько. За что воюем? Когда наступал, подо мной убили коня и пуля прошла между ног! Тогда рядом ни одного ревкомовца не было. А теперь, ишь… — Григорьев хохотнул, усики топорщились.
Махно все крепче сжимал пальцы в кулак. «Держись и только! — думал, смотрел с иронией. — Где брать силы? Этот мухомор хоть не враг, и тут его территория».
— А у вас их нет? — поинтересовался Григорьев. Он знал настроения крестьян, истерзанных чекистами, которыми нередко заправляли евреи. А Махно ведь тоже деревня. От него за версту навозом несет. Ни дня в армии не служил, стратег!
— Кого нет? — не понял Батько.
— Да нехристей.
— Есть! — вставил слово Троян.
— Так будем бить! — атаман опять хохотнул.
«Громила! И чего Нестор Иванович молчит?» — еле сдерживал себя Василевский. Отец у него еврей.
— Это ваш «Универсал»? — спросил Махно и показал листок.
— Мой. А чей же еще? Вы хоть знаете, откуда это название?
Махновцы переглянулись с недоумением.
— Исторические места здесь, не то что иные, — с намеком на Гуляй-Поле продолжал Григорьев. — Перед Французской революцией войско народного мстителя Максима Железняка кочевало. Это он выпускал первые универсалы крестьянской власти. А матрос Железняк, что разогнал Учредительное собрание — говно, хотя тоже, кажись, отсюда.
Атаман выгибался фертом, держал руку за лацканом тужурки. «Где же я видел такого? — пытался вспомнить Махно, и вдруг его осенило: — Ленин! Копия! Значит, и этот диктатор».
— Я немного не согласен с вашим «Универсалом», — заметил Нестор весьма дипломатично. — Давайте поступим так. Скоро обед. Там и посоветуемся.
— Годится, — кивнул Григорьев, прикрывая веки.
Под старой грушей сдвинули столы, настелили скамейки из досок, стали усаживаться: Федор Щусь в бескозырке, брат Нестора Григорий, повоевавший у красных, Семен Каретник и два Алексея — Марченко и Чубенко, Лев Голик и лихой пулеметчик Фома Кожин. Места напротив заняли григорьевские командиры. Махно начал:
— Повестка дня одна: объединение. Против кого будем воевать? — он прогнал с носа муху и добавил: — Предлагаю бить Петлюру!
«Если гости или хозяева (как их называть, хрен знает) с этим не согласятся — дальше говорить не о чем, — полагал он. — Оборотни они и есть оборотни».
— Коммунистов будем бить! — заявил атаман, помня, что Махно, несмотря на ярлык врага народа, на большевиков пока руку не поднимал. Ану, что он запоет?
В ответ Батько кинул козырного туза, ради которого, собственно, ему и нужно было соглашение:
— Деникина будем бить!
Тогда Григорьев принялся искать в колоде несокрушимого джокера:
— Коммунистов и петлюровцев мы уже видали, кто они такие. А деникинцы, коль бьют евреев-комиссаров — это очень хорошо. Что они за Учредительное собрание — еще лучше. Только оно имеет право на Украину. Пока будем драться с Петлюрой и Деникиным, жиды нас победят!
Стали слушать командиров. Начальник григорьевского штаба Степан Бондарь горячился:
— У Петлюры братья же наши, украинцы? С ними воевать? Вы что хлопцы, подурели?
Алексей Марченко защищал коммунистов:
— Они любую нацию уважают и равенство тоже. Мало ли какой слюной брызжет Троцкий!
Помаленьку пили, закусывали и дальше спорили уже так, что с груши сыпались прошлогодние сухие дички. Никто не хотел уступать. Тогда Алексей Чубенко предложил отложить решение на завтра. Собрались и опять не нашли общего языка. Лишь на третьи сутки союз был все-таки заключен.
Реввоенсовет повстанческой армии возглавил Махно. Командующим избрали Григорьева, который подчинялся совету. Начальником штаба стал Григорий Махно. Категорически были запрещены преследования евреев.
И сразу же Нестор собрался в разведку с отрядом в сто пятьдесят сабель. Так было сказано. На самом же деле ему не терпелось увидеть Галину, которая вроде бы находилась недалеко, в селе Песчаный Брод, у родных.
— Ты что, Батько, бросаешь нас одних в лапах Григорьева? — почти растерянно спросил Захарий Клешня. Их окружали повстанцы. Лица у всех озабоченные. Вон красавец-матрос Александр Лащенко глядит с осуждением, и Петр Гавриленко — Георгиевский кавалер, штабс-капитан. «Надо бы его поднять», — мелькнула мысль. А вон татарин, как же его? А-а, Харлампий Общий — Красная Шапочка. Ну и прозвище прилепили!
— Соску вам дать? — усмехнулся Махно. — Ану попробуйте без меня, может, я и не нужен. Брата оставляю. Крепитесь!
Попридержав коня, Петр Лютый спросил у тетки, что несла воду на коромысле:
— Это же Песчаный Брод? Где Кузьменки живут?
— Йих тут багато. Яки? — женщина качнула ведрами, смотрела подозрительно.
— Андрей Иванович.
— А-а, вон абрикосы видите? Там его хата.
Лютый с еще тремя всадниками ускакал, а хозяйка ускорила шаг, гадала: «И кого принесла нечистая сила?» Вода плескалась из ведер. Тут уже побывали григорьевцы, петлюровцы и красные. Снова послышался топот. По мосту через речку Черный Ташлык, мимо плакучих ив неслись верховые, за ними карета. Женщина поставила ведра на землю и глядела из-под руки с удивлением и страхом. «Неужели все в гости к Кузьменкам? Чем же их кормить, поить? Замается Жандарка!» (Прим. ред. — Так в селе прозвали мать Галины, жену бывшего жандарма). Впереди отряда тетка заметила черное знамя. «Антихристы, что ли? — она перекрестилась, ибо была из старообрядцев, которые более века тому основали эту слободу. — Спаси, Господи, и помилуй нас!»
Лютый подъехал к ограде. Увидев его, Галина открыла ворота.
— А дэ Батько, Пэтя? — спросила с тревогой.
— Здравствуй, мать. Вон летит твой сокол!
Вскоре вся сотня уже располагалась у белой хаты с красной черепицей. Нестор обнял, поцеловал жену и только тогда приметил двух стариков, что стояли рядом и с любопытством разглядывали его.
— Ой… познайомся, — Галина покраснела, поправила прическу. — Мойи тато та мама… А цэ… Нэстор.
Родители подступили чуть ближе. В глазах их не было радости, скорее плохо скрываемое смущение. Андрей Иванович, высокий, суховатый, волоокий, пожал руку гостя, сказал:
— Прошу до хаты.
Махно не обратил внимания, что его никак не называли: ни зятем, ни сыном, ни по имени. Они вчетвером вошли в сени, потом в светлицу. Всё здесь было по-крестьянски простое и знакомое Нестору. Даже запах, мирный, застойный. Небольшие оконца, дубовый стол посредине. Герань цветет. В углу икона, без лампадки. Стулья, правда, городские, тонкие, с гнутыми спинками.
— Принимайте, какой я есть, отец, — сказал Нестор с уважением. Это был первый человек, которому он так говорил. Своего отца не помнил.
— Быстро же ты женился, скакун! — грубо ляпнул Андрей Иванович. Ему не нравились россказни Галины о повстанцах, презирающих власть. Не для того он растил и учил любимую дочь, точную капельку свою, чтобы отдать какому-то анархисту да еще и коротышке. «Ишь ты, у него войско! Видали мы эти шайки», — раздраженно думал старый жандарм.
— Скакун, значит? — Махно ударил кулаком по столу. — Я не навязываюсь! Если не хотите…
Галина обняла его, шепнула на ухо:
— Пошли, милый, умоешься с дороги. Пошли! — и увела во двор, к колодцу. По пути говорила: — До Петлюры мы с Феней не добрались. По пояс раздевайся. Вода у нас ледяная. Давай. От и ладненько. Облейте Батьку, хлопцы! Ему жарко.
Махно кусал губы. Вся его маята, раны здесь гроша ломаного не стоят. Ты хоть лоб себе расшиби ради крестьян и всей Украины, а каждому кулику дороже его выводка и болота все равно ничего нет! Эту преувеличенную, как полагал Нестор, жалкую заботу о своей хате, детях, скотине он постоянно замечал в повстанцах, и его коробило, что для них идея, свобода — дело четвертое. Нет, он понимал, что люди в большинстве темны и корыстны, да сердце бунтовало, не хотело смириться, и лично его это раньше почти не касалось. А тут нагло ткнули носом в свое обывательское корыто, чуть ли не цыкнули: «Не сметь!» И кто? Человек, которого он впервые назвал отцом!
— Наклоняйся, наклоняйся, — просила Галина, легонько касаясь его шеи. — Лейте, хлопцы. Смелее!
Ему плеснули на спину из ведра. Нестор крякнул от холода. «Как говорит Петя? — вспомнилось вдруг. — Лучше десять раз дать, чем один раз просить. Выходит, все твои жертвы… блажь! Кто о них просит?»
— Хватит, хватит. Заморозите Батьку! — Галина принесла полотенце, шепнула: — Не кусай губы. Батькы просять, шоб мы повинчалысь.
Нестор распрямился, остолбенел.
— Что, что?
Краем глаза он заметил, что на заборе висели, разглядывая их, мальчишки. Они болтали голыми, черными от пыли и загара ногами, смеялись.
— Любишь меня? — жена растирала ему грудь, спину. — Любишь или нет? Отвечай скорее!
У Махно перехватило дыхание. Его волнует даже росянистый запах ее рук, щек, блеск ее темно-карих глаз. Но идти в церковь? К попу! Ему, анархисту? Что за блажь?
— У тебя армия, — тихо убеждала Галина. — Они все верят в Бога. Худо ли бедно, а скажут: «Батько с нами». Это же твой авторитет, балда. Мама очень просит, и церковь у нас красивая. Бери сорочку.
— Ну черт с вами, — согласился Махно.
Они вошли в хату.
— А ты ёж, ёж. И колючий! — Андрей Иванович присел, жестом приглашая Нестора. — Без сватов прискакал, без креста, и «отец, отец». Вот свадьбу сыграем, под венцом постоите — тогда пожалуйста. Каким временем располагаешь?
— На станции Помошная красные. Что у них на уме? — отвечал Нестор.
— А вы с ними как? По ручкам или на ножах?
— Я у них вне закона.
— Ишь ты-ы. Сурово. Хотя, по-моему, закон должен быть один для всех. Ладно. К свадьбе надо подготовиться. С бухты-барахты нельзя.
— Предлагаю завтра.
— А ты скорый, — покачал головой Андрей Иванович. — Это же не пожар… Ну что ж, завтра так завтра. Мать, ану иди сюда! Домна Михайловна, успеете картошку сварить?
— Чи цэ довго? — отвечала та. — Люды ж голодни, с дорогы. Счас накормим. А вы батюшку найдить.
— Где он? — не понял Нестор.
— Як прыйшлы красни — утик, — сказала Домна Михайловна, толстенькая, круглолицая, степенная.
— Позови Петю сюда, — попросил Нестор Галину. Вошел Лютый. Он и здесь караулил у порога. — Понимаешь, друг, свадьбу готовим. Твоя задача, Петя: первое — до завтра найти попа. Где он — неизвестно. Достань из-под земли. Второе — завалите кабана. Не хватит, еще одного купи у соседей. Третье. Тут оркестр есть?
— А як же. Сотни хат все-таки, — отвечал Андрей Иванович. Ему нравилось, как четко распоряжается будущий зять.
— Да, выпивка, — вспомнил тот.
— Аж два ведра вина ждут в погребе, — доложил тесть.
— Ма-ало, — не согласился Нестор. — Позовем же весь Песчаный Брод. Мотни, Петя, по хуторам и прикатите бочку самогона. Понял? А для женщин еще ведер пять вина…
— Подуреете! — возмутилась Галина. — Красни рядом. А у нас якый народ? В Бердянске, чтоб не перепились, мы сливали вино в море. Так мужики плавали в канаве и хлебали. Потопились же!
— Не путай коня с мерином. То ж был бальзам! Выполняй, — приказал Махно Лютому, — и побыстрее. Это раз в жизни случается. Васю Данилова прихвати с собой. На нем шкура ходором ходит. Да, с этой минуты — строжайший караул! Сам проверю…
На следующий день сыграли свадьбу такую, что даже пятьдесят лет спустя вспоминали ее с восхищением. Дорогу от хаты Андрея Ивановича до самой церкви выстелили дорогими, точнее, персидскими коврами. Правда, где их взяли — неизвестно. Играло десять (деды-балагуры предпочитали именно это число) цыганских оркестров. Заполняя паузы, «скрыпилы» махновские баянисты. А уж о выпитом и съеденном не стоит и заикаться.
Как бы там ни было, достоверно известно другое.
Еще когда Батько с хлопцами ехал в Песчаный Брод, с холма им открылось полотно железной дороги. Под солнцем блестела стальная колея.
— Давай поднимем ее в воздух, — предложил Алексей Чубенко. В свободное от «дипломатии» время он командовал подрывниками.
— Зачем? — нахмурился Махно.
— Это же единственная ветка, соединяющая красный Киев с Одессой, и вон же за курганами станция Помошная. Рукой подать до Галины. А вдруг комиссары захотят напасть. Поэтому взорвем и будем спать спокойно, пока они ремонтируют.
— Ну, трахните, — неохотно согласился Нестор. Обычная осторожность изменила ему.
Разъяренные красные узнали от путевого обходчика, что диверсию сотворила кучка бандитов, вроде каких-то махновцев. Куда пошли? Да в Песчаный Брод. Туда и отправился отряд члена реввоенсовета 12-й армии Владимира Затонского. Это он год назад по указанию Ленина выдал Махно поддельный паспорт на имя учителя Шепеля. Теперь их пути снова пересеклись, и, чувствуя вину, Затонский ехал покарать подлого «крестника», объявленного вне закона.
Разведчики Батьки, хоть и с похмелья, но заметили опасность.
— Сколько их? — спросил он Пантелея Каретника.
— До черта!
— В таком разе, чтоб не омрачать веселье, уходим в Добровеличковку. Там, кажись, живет Феня Гаенко?
Бегство махновцев взбесило Затонского. Были арестованы и расстреляны члены ревкома и все мужики, сидевшие за свадебным столом, в их числе Андрей Иванович Кузьменко. Теперь никто не посмеет обвинить старого партийца в потакании бандитам! Утомленный расправой отряд заночевал в Песчаном Броде. Затонский же, видимо, опасаясь мести, уехал по своим делам.
В ту же ночь к Батьке в Добровеличковку прискакал гонец со страшной вестью. Сотня мигом поднялась, тихо сняла часовых и перебила весь отряд красных, кроме тех, кто сразу поднял руки. Днем пленных вывели на церковную площадь. Мимо в тачанке ехал Махно. Рядом с ним — убитая горем Галина в черном платке и беленькая Феня Гаенко.
— Останови, — попросила она кучера, выхватила его револьвер и со словами: — А-а, подлецы, расстреляли Андрея Ивановича! Получай счет! — стала палить в голых пленных.
«Махно мрачно смотрел на эту картину, — писал очевидец, — не участвуя, но и не вмешиваясь».
Сотня тут же пошла к станции Помошная, где толпились беженцы, стояли составы с мешками, ящиками, пушками. Между вагонами ходили красноармейцы, явно не ожидая нападения. С бронепоезда, правда, озвался пулемет, но был подавлен.
Данилов запрыгнул на платформу с бронеавтомобилем, открыл дверку, заглянул… Сундуки! Василий решил, что они с патронами, кликнул помощников. Два сундука вытащили и увезли. Увидев их, Нестор рассвирепел:
— Барахольщики! Кто взял?
— Я, — сказал Данилов. — Там, кажись, патроны или бомбы. Тяже-елые!
Заглянуть некогда было — уносили ноги. Батько еле сдержался. Уже в степи к нему подъехал Петр Лютый.
— Вирш не идет из сердца. Послухаешь?
Нестор кусал губы: «Эх, Андрей Иванович, дорогой отец. Не успели даже толком познакомиться. И куда теперь? Григорьев ждет в Плетеном Ташлыке. Туда, наверно. Или покрутить, повертеть?»
— Читай, — разрешил. Петр начал прерывающимся голосом:
Гэй ти, батьку мій, степ широкий, поговоримо ще з тобою. Молоді мої буйні роки та пішли за водою.— Ты что это, вроде прощаешься? — зыркнул исподлобья Махно.
— Вечное учуял.
— Не нравится оно мне, Петя. Берегись. Едем в Черные леса. Они ведьмовские, говорят.
В затишном заливчике плескались дикие утки. Около них, на прибрежной скале, примостился дед с удочкой. Взмахнул ею — рыба засверкала на леске. Он так увлекся, что и не заметил сотню, которая ехала рядом. Глядя на него, Нестор позавидовал. Приютиться бы на камешке, опустить ноги в прохладные струи — и катись оно всё мимо! А Галину куда, Феню? Они тут вот. А войско? А Гуляй-Поле ждет!
Дорога свернула в степь. Солнце жгло немилосердно. Слепни какие-то или оводы появились, гудели, как аэропланы. Лошади вздрагивали от их укусов. Уныло вокруг. Лишь на телеграфном столбе чистил перья линялый коршун да вековечная каменная баба безглазо сторожила курган. До горизонта — одна желтая стерня. «Ага, мужик освободился от жнивных забот, — размышлял Нестор. — Теперь ухватится за ружье. Что это впереди плывет, вроде пруд? Мираж! Сколько же мы будем за ними гоняться? Где Григорьев? Дал шкуровцам по загривку или нет?»
В селе Плетеный Ташлык атамана не застали. Прошел мимо. Бабы подсказали: «Мабуть, подався в Черный лис». Только сели обедать, в хату влетел Михаил Колесник, молодой, грудь распирает сорочку. Он при Махно вроде телохранителя.
— Хлопцы с заставы прискакали! — выпалил. — Шпионов словили!
— Веди сюда, — разрешил Батько, поднимаясь из-за стола.
Вошли два мужика в потных косоворотках, мятых штанах. А лица белые, тонкие, не сельские.
— Атаман Григорьев? — осведомился тот, что гладко выбрит, и каблук к каблуку приставил. Махно сжал зубы, несколько мгновений разглядывал гостей. За столом все оторопело примолкли.
— Я атаман.
— У нас конфиденциальный разговор, если позволите.
— Выйдите все! — приказал Батько и прибавил: — Прошу простить, господа, но у нас такой порядок. Лютый и Колесник, обыщите новоприбывших.
Оружия у них не оказалось. Остались втроем.
— Господин атаман, мы офицеры ставки Добрармии, — тихо представился тот, что гладко выбрит. — Прибыли для связи. С нами письмо. Неделю назад, как и договорено, вам посланы деньги в сумме полтора миллиона николаевских рублей. Извольте получить в елисаветградском кооперативе.
Слушая его, Махно покусывал губы: «Ах сволочь, Григорьев! Вдруг пронюхает об этой комедии. Что с моей сотней сделаешь? Убрать?» Он выхватил револьвер и несколько раз пальнул в офицеров. Колесник, Лютый, Троян мигом влетели в комнату.
— Обыщите. У них письмо, — велел Батько холодно. Казалось, ему неведомы ни страх, ни боль. В штанине одного из связников была зашита бумага. Трупы вынесли, сразу закопали. А Махно читал вслух:
Начальник штаба Главнокомандующего
Вооруженными силами Юга России
5июля 1919 г.
Многоуважаемый Николай Александрович!
В настоящую грозную минуту, когда боевое счастье, слава Богу, стало поворачиваться к нам лицом, предлагаем вам более энергичные совместные действия. Надлежит поспешить с повторным восстанием против войск Троцкого. Для этого вам следует соединиться с частями генерала Шкуро и действовать по внутренним операционным линиям, железнодорожным магистралям, закрывая красным пути отступления из Николаева и Одессы.
Желаю всего наилучшего!
И. Романовский.На выстрелы уже собрались все командиры.
— Что будем робыть? — спросил Махно.
— Арестовать гада Григорьева и зашморгнуть! — потребовал Федор Щусь.
— Они давно снюхались и ждут момент, чтоб нас угробить, — поддержал его Алексей Марченко. Каретник, как всегда, отмалчивался.
— Ты что, Семен?
— Может, их чека подсунула? — засомневался тот. — Она мастерица на подобные штучки. Чтоб мы переколошматили друг друга.
— Думка серьезная, — согласился Махно. — Да кто бы поперся на пулю? Ты бы пошел?
— Я? Не-е.
— Вот видишь. Это отпадает. Лев, что скажешь?
Начальник контрразведки Голик, плотный, лысоватый токарь из Гуляй-Поля, никогда не лез вперед. Слушал, тихо добывал ценные сведения. Организовал вокруг себя в основном женщин, так или иначе пострадавших от австрийцев, вартовых, белых и красных, и посылал их на самые рискованные задания. Кто заподозрит глупую, заеложенную бабу? Правой рукой у него была Феня Гаенко.
— Я кумекаю вот о чем, — начал он осторожно. — Копнуть всегда успеем. Нам не Григорьев — оружие и люди его нужны. А им подай жареные факты. Что это письмо? Скажут, сами вы и состряпали. Потому кончать атамана рано.
— Верно, — подвел итог Махно. — Нас лишь сотня. Если Григорьеву донесут о расстреле лазутчиков — капец! С этой минуты запрещаю какие-либо отлучки.
На том и порешили. Обедать уже никто не стал. Вышли на улицу.
— Батько, Батько! — к ним, спотыкаясь, бежал Василий Данилов. За ним никто не гнался. Что еще стряслось? Он подлетел к Махно и шепнул на ухо:
— В сундуке… Помните? Золото! Мы ж думали… патроны, открыли ломиком… и ахнули!
— Оглоблей надо было, костоправы! Пойдем, поглядим.
В сундуке навалом лежали кольца, серьги, слитки, ожерелья — ведра три.
— Откуда всё это? — не мог понять Нестор Иванович, небрежно перебирая драгоценности. Он был к ним равнодушен.
— Ог-го! Из Одессы-мамы! — с восторгом предположил Лев Зиньковский. — Туда вся знать слетелась, как моль на свечу.
Он взял сверкающее колье. Темные глаза его тоже заблестели.
— Положь на место, тезка! — предупредил Голик. — Это, наверно, Дыбенко из Крыма вывез, где во дворцах великие князья обитали, генералы, банкиры.
— Ему ж цены не соберешь, братцы! — Зиньковский не смел оторвать взгляд от колье. — Тут не просто миллионы. Это же искусство. Мировое! Раритет!
— Во-о, эшелон снарядов купим, — простодушно обрадовался артснабженец Данилов.
— У кого? — мрачно осведомился Щусь. Чужое богатство угнетало его.
— Да сам Деникин продаст! — ерепенился Василий. Он чувствовал себя именинником. Это же надо: такой клад унюхать и утянуть из-под носа комиссаров.
— Даст, а потом догонит и еще поддаст! — съязвил Алексей Марченко.
— Всё до единого положить в сундук, — велел Махно. — Ставь его на тачанку, Петя, и отвечаешь головой. А куда деть — решим. Василию же объявляю революционную благодарность!
— На станции чуть нагайкой не огрел, — напомнил Данилов. Все как-то странно заулыбались. У них были деньги: неразрезанные простыни керенок, засаленные николаевские, хрустящие советские, петлюровские, донские, даже какие-то пшеничные, и все они «ходили». Публика это ценила. Кто ни нагрянет, требует свои знаки, а махновцы признавали любые. Водились и золотые червонцы, взятые в банках или у толстосумов. Но такого богатства еще никто из повстанцев не только не держал в руках — не видел, и оно поразило их, некоторых — пришибло.
Махно сразу смекнул: если стоустая молва об этом кладе (кладбище, ох, похожее слово!) разнесется по округе, за ними, как волки, начнут охотиться все, кому не лень. Армию могут кинуть в погоню! А уж если, паче чаяния, Григорьев прознает… Батько усмехнулся горько. Чего он ждет, штабс-капитан? Давно бы мог подкараулить и стереть сотню в порошок. Блюдет честь, золотопогонник? Вряд ли. Уверен, что перетянет на свою сторону!
«Да что Григорьев? — призадумался Нестор Иванович. — У Левы Зиньковского вон как глазищи заблестели! Другие… Словно их подменили. Недалеко и до беды. Запросто могут озвереть. Не зря говорится: золото желтое, а сердце от него чернеет. И лес уже где-то рядом, тоже Черный. Надо же, какое совпадение. Или дьявольский намек? Ясно одно: возить с собой этот сундук — накликать лихо. Спрятать, и только! Но где?»
Батько не забыл свой принцип: тайна — верная собака авторитета. Но этот же баламут Васька прибежал, расшумелся. Попробуй теперь скрыть клад — пойдет молва: «Присвоил!» От красивых побрякушек вроде исходили злодейские токи, убивающие все святое, саму суть их борьбы. Нет, надо избавиться от проклятого соблазна. Бросить в омут, в говно, куда угодно! Миллионы? Сумасшедшим же сочтут!
С такими тяжелыми мыслями Махно ходил весь день, прикидывал и то, и это. Богатство всегда пригодится: оружие купить, коней, бумагу для газет, помочь нищим, наконец. Пригласил Семена Каретника.
— Куда затюрим сундук?
Тугодум покурил, покачался на стуле, уперев руки в колени.
— Налей чарку.
Выпил, понюхал огурчик.
— Оставим в Черном лесу, — сказал. — А где? Оно покажет.
— Как потом найдем? Там же сам черт ногу сломит.
— Выберем что-то приметное: курган-могилу или озеро по казацкому обычаю.
— Угу, — хмыкнул Махно.
Лес, как и всюду на юге, возник неожиданно. Лежала бескрайняя степь — и нет ее. Темные заросли подступали к дороге со всех сторон. Приветливые клены, ясени, ребристые грабы, великаны-дубы хранили приятную после солнцепека прохладу. В их сумеречной тени таилась, однако, совсем другая жизнь — подозрительная для степняков. Сотня ехала тихо, настороженно. Даже кони не пофыркивали. Махно подумал с тоской: «Вот тут нас и порешат. Лучшего случая для Григорьева не будет». Впереди заголубело.
— Что за вода? — поинтересовался Нестор у проводника, сивоусого и загорелого как головешка.
— Э-э, то знамэныта Вэлыка Высь. Нэ чулы?
— Нет.
— Жалко. Татарин гнався з арканом за жинкой чи чоловиком по Дыкому полю. Ось-ось догонэ. А як ты пэрэплыв Высь — считай свободный!
— Значит, и мы теперь вольные? — усмехнулся Махно.
— А як же.
— Ну, спасибо. Слухай, а дэ тут озэро?
— Якэ? Бэрэстуватэ?
— Оно самое.
— Далэченько. Зато яка красота!
— Проводишь туда нашего хлопца? За это я тебе дам доброго коня.
— Шо, даром? — не поверил усач.
— Нет, конечно. Поможешь отвезти сундук бабушке. Она там в селе…
— В Водяном?
— Ага.
— Добрэ. Одвэзэм. Кинь мэни край нужен!
Следуя за Григорьевым, что шел с большей частью их отряда, махновцы прибыли в Оситняжку. Там всё белело от тополиного пуха. Он лез в волосы, в рот, глаза. Отмахиваясь от него, расспросили об атамане. Оказалось, всего два часа назад он отправился в соседнее большое село Сентово. Теперь проводник уже не требовался, и Махно отпустил его вместе с Лютым на озеро Берестоватое.
— Место должен знать ты, и только, — тихо напутствовал он Петра.
— Понял, Батько.
— А як же кинь? — забеспокоился усач.
— Он тебе отдаст, — Махно указал на Лютого.
Тот возвратился на третий день, доложил:
— Озеро большое, почти болото. Вода, как лед, и по ней плавают зыбкие острова. Чудно? И я б не поверил, но сам по ним ходил. Жутко. Там и сундук оставил в густом кусте вербы. Никто, кроме нас двоих, не ведает и никогда не найдет.
— А проводник?
— Так вы же сказали, чтоб я один знал, и только.
Нестор некоторое время загадочно смотрел на поэта.
— Рыба там есть? — зачем-то спросил.
— Какая?
— Ну, серебристая, прыгучая, как звезды при галопе, — то ли с иронией, то ли с тоской уточнил Махно.
— Не, Батько, такой рыбы я там не заметил. А караси, возможно, жируют.
Вот что представляет собой Украина в большей своей части. Передвижение воинских частей по территории с реквизициями, лошадиной повинностью — все это раздражает селянина, и он часто-густо восстает против всех, создавая волостные республики, они сепарируют комитеты, советы, вождей-атаманов… Вместе с тем все крестьяне хотят ладу-порядку, хотят власти, а больше всего соли, мануфактуры, железа и кожи. Кто им эти вещи даст, тот и будет ими заправлять, того они и слушать будут.
С. Петлюра. Письмо Д. Антоновичу.Махно с Григорьевым сидели под старинными, червлеными, возможно, еще казацких времен образами. Тихонько мерцала лампадка, пахло ладаном. Они остановились в селе Сентове в доме священника и теперь, после ужина, мирно беседовали.
— Хочу знать доподлинно, — говорил Николай Александрович, — чего вы, Батько, добиваетесь? Анархия — мать порядка. Это, знаете ли, брехня дворняжек. А как на самом деле? Независимости Украины жаждете? — он отпил церковного вина из махонькой рюмочки, не отрывая взгляд от собеседника.
— Да. Я сначала революционер, а потом анархист, — подтвердил Махно.
— Тэ-э-кс, есть одна точка опоры. Уже легче. Но этого и Петлюра желает! Он мне лично сказал: «Только единство и стремление к полной самостийности и свободе может быть нашим побратимом». Ловко, а? Я ведь давно с ним знаком. Еще с империалистической. Он, правда, пороху и не нюхал. Земгусар. Слыхали?
— Нет. Я в то время в Бутырках сидел.
— В Москве? Эко вас занесло! Из Гуляй-Поля потащили в белокаменную? За что же? Крепенько набедокурили?
— За этот же самый анархизм, — Нестору Ивановичу не хотелось распространяться о проделках «бедных хлеборобов».
— И много вам влепили?
— Двадцать лет каторги, — о виселице он тоже не стал упоминать. Зачем настораживать атамана, коль завтра решено его убрать?
— Выходит, вы совсем не служили? — с явным сожалением воскликнул Григорьев.
Ему стукнуло сорок годков, и лучшие из них пролетети в армии. Если характер Махно мяли, калили, ломали ^юрьма и революция, то его собеседник вырос и жил в казарме. Он не то что мог с закрытыми глазами разобрать и собрать пулемет. Эка невидаль! Штабс-капитан изобрел усовершенствование автоматического оружия, за что и получил тысячу золотых рублей. Он любовался военным строем, парадами, четким докладом адъютанта и был бы рад с самыми благими намерениями установить точно такой же строгий и ясный порядок во всей Украине. На худой конец стремился остаться старшим офицером при любой власти. А потому в глубине души Николай Александрович презирал гражданских лиц, и ему были забавны их игры в идеи, революции, демократии. «Всё это — обозная блажь!» — полагал он.
— Нет, не служил, — усмехаясь, Махно пригубил рюмочку. Он с иронией наблюдал, как прямо, даже гордо сидит этот офицеришка, какие у него аккуратные, ершистые усики, надменный взгляд в упор. Привык, небось, выхаживать по плацу, пугать солдат и «есть» глазами генералов. «Но мы не из таких, — упорно не отводил свой взгляд Нестор Иванович. — Мы и похлеще видывали в Кремле. Они тоже не служили, а всем заправляют».
— Да-а, жаль, — вздохнул Григорьев. — Вот Петлюра. Он обозник. Земгусары обслуживают хозчасть. Хвосты лошадям заносят, — он хохотнул. — А видишь, выбился во фронтовой комитет Центральной Рады, стал председателем, министром по военным делам, главным атаманом! Волна вынесла. Нас же… пока… притопила. В Черный лес загнала. Верно? И никуда нам друг от друга не деться.
— Что правда, то правда, — согласился Махно. Ему хотелось вступиться за Петлюру. Земгусар или кто он там, а выбрали же его, не другого, и, надо полагать, не за красивые глазки. Кроме того, он не изменял пока ни себе, ни другим. Так ведь? Нестор Иванович еще прикинул: «Зачем дразнить атамана?» и сказал иное: — Будем отдыхать. Уже и лампадка устала. Завтра решим всё!
— Ну, спокойной ночи.
— Взаимно, взаимно…
А еще по дороге в Сентово Батьку встретили Григорий Василевский, Захарий Клешня со своим командиром роты, отчаянным Сашкой Семинаристом, другие повстанцы и наперебой жаловались на Григорьева:
— Он жох, золотопогонник!
— В Плетеном Ташлыке, ей-богу, стояли шкуровцы. Атаман увидел их, засмеялся и… не напал!
— Помещику пулемет оставил.
— Та шо там, вин нашых розстрыляв!
— За что? — не поверил Махно.
— В поповском огороде вырвали две цыбулины.
— Ладно, хлопцы, ладно, — покусывал губы Нестор Иванович. — Мы ему припомним. Дайте только повод.
— Будет! — охотно пообещал Сашка Семинарист.
Утром разнесся слух: кто-то ограбил кооперативную лавку в Сентово. Махновцы утверждали, что это дело рук григорьевцев, а те напирали на гуляйпольцев. Возмущенные крестьяне собрались у сельсовета на сход. Потребовали обоих атаманов. Первым, однако, выступил Алексей Чубенко:
— Мы с вами вместе боремся за социальную революцию и свободу? Никто не имеет права командовать теми, кого избрал народ.
Махно слушал его, стоя с Григорьевым в первом ряду. Алексей говорил:
— Ни большевики-комиссары, ни петлюровцы, ни анархисты. Никто! Тем более атаманы. А вот Григорьев много себе позволяет. Кто ограбил кооператив? Я даже подозреваю, что он — бывший царский слуга — теперь деникинский наймит. У него в глазах блестят золотые погоны!
Николай Александрович взял Махно за локоть.
— Батько, что мелет этот Губенко? Его дурацкое мнение, или как понять? — голос атамана дрожал.
— Пусть закончит. Его и спросим, — пожал плечами Нестор Иванович. Расстегнув ворот красной рубахи, Алексей, как и было условлено, направился в сельсовет. За ним устремился Григорьев со своим телохранителем-грузином. Туда же поспешили Батько, его телохранитель Колесник, а также Троян, Каретник, Василевский.
В канцелярии Чубенко быстро достал револьвер «Библей», поставил на боевой взвод и опустил руку за стол.
— Ну, сударь, извольте объяснить, на основании чего говорили эту галиматью крестьянам! — еще с порога потребовал Николай Александрович. Чубенко смотрел на его «парабеллумы»: один на поясе, другой на веревочке за голенищем.
— Хотите доказательств, атаман? Пожалуйста! Брали сено у кулаков — платили деньги. А бедноту грабите и гоните в шею. Неправда? А кто оставил помещику пулемет? И два ящика патронов и шестьдесят пар суконных брюк! Зачем? Вы не ударили по шкуровцам…
— Это клевета! — взорвался Григорьев. — Белыми там и не пахло!
— А кто послал делегацию к Деникину? — тихо напомнил Чубенко. — К кому приезжали офицеры, которых на днях коцнул Махно?
Атаман предал многих и был всегда настороже. Но тут всё так развернулось вдруг. Он понял, что это — заговор и потянул за веревочку револьвер. Алексей снизу вверх выстрелил, ранил Григорьева. Тот крикнул с тоской: «Ой, Батько, Батько!» и побежал на улицу. Ему палили в спину. Грузин попытался убить Махно. Колесник схватил соперника. Нестор кинулся к ним и стал стрелять, раня того и другого. Они упали. Молодой, грудастый Колесник процедил сквозь зубы:
— Дурак ты, Батько.
Услышав пальбу, люди в панике побежали со двора сельсовета. Григорьев лежал на земле без движения. Рядом кинули его телохранителя.
— Скачи к нашим! — велел Махно Щусю, который только появился. — Пусть оцепят село.
Но пулеметчики Фомы Кожина и без того уже заняли всю околицу. Созвали митинг, и часть рядового воинства атамана перешла на сторону Батьки. Тех же, кто не захотел, с миром отпустили по домам. Потрясенные и униженные, они забили камнями своего казначея и штабиста.
С ближайшей станции была срочно передана телеграмма:
Всем, всем, всем! Копия — Москва, Кремль.
Нами убит известный атаман Григорьев.
Махно. Начальник оперативной части Чучко.Поскольку время шебутное и могли запросто перепутать, кто же с кем расправился, то была отправлена и более пространная депеша:
Считаю убийство атамана Григорьева 27 июля 1919 г. в селе Сентово Александрийского уезда Херсонской губернии… необходимым фактом истории, ибо политика, действия и намерения его были контрреволюционными. Что доказывают еврейские погромы и вооружение кулаков.
Подлинный подписали: председатель Батько Махно. Секретарь Шевченко.Через широкий Днепр, у Малой Лепетихи, ползал паромчик. Его осаждали остатки бежавшей из Крыма армии Дыбенко, повстанцы Приазовья, бывшие махновцы. Здесь скопились тысячи тачанок, подвод с домашним скарбом, оружием, женщинами, детьми, какие-то матросы, волы, даже верблюды, кавалеристы, пушки, броневики. Настоящее столпотворение, невиданное тут, наверно, со времен татарских набегов, и всё это стремилось поскорее перебраться на спасительный правый берег. Из-за холмов вот-вот могли нагрянуть белые с шашками наголо. Где они — никто не ведал: ни разведки, ни боевого охранения не было и в помине.
Виктор Билаш с Иваном Долженко присели на горячий песочек и смотрели, как другие яро толклись у переправы, размахивая кулаками. Доносился мат-перемат, рев скота и плач детей. Если бы не Иван, хоть бросайся вплавь, лишь бы не слышать уже и не видеть ничего. А тот всё тормошил друга, усмехаясь:
— Скажи, кто к нам бегом бежит, а от нас на четвереньках уползает?
Отстань, — просил Виктор, кривя правый угол губ. На душе и так кошки скребли. После командования штабом повстанцев, бригадой он стал рядовым артиллеристом у красных, и то спасибо, что свои пока не выдали да чужие не пустили в расход.
— Беда уползает, чуешь, по-нашему лыхо! — засмеялся Иван. Его оптимизму можно позавидовать. Между тем тихой сапой подчалил паром.
— Надо протолкаться, — предложил Билаш.
— Зачем? Тут такой шелковый песочек. Может, лучше искупаемся?
— Нет, пошли.
Они затиснулись в толпу и услышали:
— Дыбенко! Дыбенко!
С парома спрыгнул высокий человек в черной бурке. Шум поубавился. Послышался басовитый голос, хлопнул выстрел, и наступила полная тишина. Лишь чайки жалобно вскрикивали над рекой. Что произошло, нельзя было рассмотреть. Вдруг заиграли трубы, и кавалеристы, колыхнувшись, рядами подались к холмам.
— Застрелил командира полка! Стрелил! Стрелил! — эхом шло по толпе. Взревели автоброневики и тоже отправились за всадниками. Потихоньку наладился порядок. Сев на паром, Дыбенко уехал. Настала очередь плыть и Билашу с Долженко.
— Оцэ вождь! — говорили вокруг. — Сокол!
— Э-э, стервятник. Ухлопал такого рубаку!
— Зато порядок. С нами иначе нельзя.
— А те, видал, броневички, побежали бить кадетов.
— Дура! Махновцев!
«Что творится? Жив ли Батько? Где он?» — мучил себя вопросами Билаш. Он похудел, сутулится.
Ткнулись в берег, сошли. Рядом громыхал передок трехдюймовой пушки. Солдаты плелись оборванные, многие босиком.
Уже когда ели суп на высоком правом берегу, Виктор услышал рассказ матроса, что ходил к махновцам:
— У них там Зубков такой заправляет, грузный дядя.
Билаш насторожился. Еще бы он не знал Зубкова!
Сколько раз встречались. Не захотел ни к красным идти, ни отступать. «Пепелища дедов кому отдаете?» — вопрошал.
— На мотоциклете прикатил к нам, — продолжал матрос. — А мы, едрена кость, собрались свой бронепоезд «Роза Люксембург» отправить в небо. Зубков подскочил: «Что же вы творите, хлопцы? Нам уступите. Или сами бейте по кадетам!» Куда там. Ну мы, правда, пожалели пушку, вон ту, трехдюймовку, пулеметы, муку, сало. Он телеги дал, погрузили. Молча сняли бескозырки, а тол уже под колесами. Ухнуло с громом. Плакали, гадство.
— Дёрнешь самогонки? — спросил матроса оборванец, которому он рассказывал.
— А есть?
— Мы же раньше сюда нырнули. Бабенка подала. Горит!
Матрос выпил, крякнул.
— Ага, подались мы с этим Зубковым в степь. Он, свинья, потребовал, чтоб оружие сдали ему или заняли фронт. «Кто селян будет защищать?» — рычит. А наши-то, едрена кость, уходят за Днепр. Приказ есть. Ладненько. Пили вместе с ним до двух часов ночи. Зубков в свое пузо как в бочку заливает, и хоть бы что. Согласились мы ощетиниться. А сами маракуем: где бы улизнуть? Изловчились-таки. Они вдогонку бросились, гадство. Мы по ним из «максимки». Наседают, разъяренные. Но тут, спасибо, броневички прислал Дыбенко.
— Ну а те, Саня? — оборванец налил еще по одной.
— Зубков, что ли? Туда ему и дорога, землеробу! — хохотнул матрос.
Билаш глянул на него, сжав зубы. Чай не лез в глотку. Хотелось взять карабин и пристрелить подонка. Но сколько их тут? Глупо же. Приказ получили. И дорога ли им, северянам, эта чужая степь с глиняными хатами?
Под вербой, в тени, стонали раненые. Пришел комиссар, сообщил, что сданы Царицын, Харьков и Екатеринослав. Тихонько послышалось:
— Предательство.
Спустя некоторое время (а бригада Кочергина, в которой служили рядовыми Билаш с Долженко, всё толклась на правом берегу Днепра) появилась листовка. Виктор увидел ее на столбе. Там гуртовались красноармейцы. Бросилось в глаза: «Всех лиц, именующих себя махновцами, арестовать и препроводить ко мне в штаб». Внизу подпись: «Нач. Крымской дивизии Дыбенко».
— Слышь, браток, — кто-то взял Билаша за плечо и дышал табаком. — Сиднем сидит, дундук, в Никополе, а обвиняет Махно, что тот не воюет.
Это говорил бородатый солдат с карабином.
— Они с Ворошиловым — два сапога пара, — поддержал его раненый на костыле. — Дыбенко мастер на ура брать да палить в своих.
— Они там, в Москве, специально запустили сюда Деникина! — шумели в толпе. — Чтоб его руками задушить супротивников Троцкого.
— Ворошилов — его холуй!
— Зажаждали отхватить назад Екатеринослав. А фигу не хочешь? Сколько там на днях положили нашего брата?
В таком говоре, слухах, митингах стаял июль. Билаш с раздражением' спрашивал себя, куда смотрят красные стратеги, зачем держат Дыбенко и командующего этой бестолковой армией Ворошилова? Их бездарность била в глаза. Рядом же, вот они, ходят прирожденные вожаки, не раз гнавшие белых: Василий Куриленко и Трофим Вдовыченко — земляки Виктора, тоже из Ново-Спасовки. Да и Сашка Калашников кое-что стоит. Билаш не без ревности наблюдал, как всем им дали полки. Собственно, они командовали теми же людьми, что и у Махно, а развернуться пошире не позволяли. Более того, чтоб притопить, унизить, с Куриленко поступили по-свински.
— У тебя тут полный бардак! — обвинил его Дыбенко. Лихой, он не терпел, чтобы рядом выкаблучивались еще более шустрые, к тому же бывшие махновцы.
— В чем непорядок? Укажите!
— А ты и раньше не выполнил мой приказ: ударить по белым, когда те пёрли на Токмак.
— Я же вам доносил, что нет патронов! — с вызовом ответил Василий. Он такого же роста, как и Дыбенко, но пошире в плечах, белокурый, открытый. Начдив начал «пушить» его перед строем. Виктор Билаш состоял в другом полку, но слышал, что горячий Куриленко дерзко возражал, был снят с должности и затребован в Никополь. Что его там ждало — нетрудно догадаться. Командир бригады Кочергин с комиссаром Дыбецом не хотели терять доблестного воина, перевели его к себе в штаб, «спрятали». От безделья и неопределенности Василий, попросил… расстрелять его. Дошел до ручки. Масла в огонь подливала и сестра-красавица, что крутила здесь любовь с кем попало и где попало. Из-за нее он поссорился с Махно, а теперь и тут покоя не имел.
— На тот свет успеешь, — сказали Куриленко. — Желаешь быть снова в строю? Формируй кавалерийский полк. Но… лошадей нет. Сёдел тоже. Сабель тоже. Ничего нет! А пограбишь кого — вот тогда уж точно пойдешь в расход!
Через неделю новый полк стоял у штаба бригады.
Трофим Вдовыченко и Сашка Калашников, наоборот, вели себя тихо, с начальством не задирались. Их тоже не дергали, хотя и не доверяли как бывшим махновцам.
Наконец Ворошилова с Дыбенко убрали, а всё их воинство обреченно повалило на запад. Виктор Билаш чувствовал себя жалким перекати-полем. «Ты ли это? — мучительно думалось у костра, на привалах. — Куда тебя несет и каким ветром? Где жена, мать, мечты о свободе? Чего ждешь?» Ни на один вопрос ответа не было. Оставалось лишь ловить шальную пулю. Правда, теплилась надежда, что хоть теперь-то во главе дивизии поставят кого-нибудь из его земляков, испытанных в боях, а может, вспомнят и о нем. Нет. Большевички нашли своего, хлопчика Федько. Смех да и только. Бойцы уже открыто, в строю возмущались:
— Сколько же будем удирать?
— Продали Украйину!
— Шо цэ за командиры?
Под этот шум в полках стали появляться махновские агитаторы. Они-то и сообщили о расстреле Григорьева, о том, что Батько находится недалеко и собирает новое войско. По рукам гуляли отпечатанные Гутманом листовки: «Ни шагу с родной земли!», «Коммунисты предали вас, а Махно поведет на врага».
«Уже водил, хватит», — считал Билаш. Уязвленная гордость не позволяла признаться, что предал Батьку, а тот, единственный из них, никому не подчинился и не пал духом.
Тут прилетела весть, что в Николаеве по приказу нового начдива, двадцатидвухлетнего паренька Федько взорваны бронепоезда «Спартак», «Грозный», «Память Урицкого», «Освободитель». Виктор возмутился: «Эх, бездари! Да бейтесь же!» Измученные отступлением красноармейцы шумели:
— Предатели!
— Какую силищу сгубили. Ай-я-яй!
— Зрада!
Они отступали по селам и хуторам, где недавно бесчинствовали красные каратели, «каленым железом выжигали банды Григорьева». Во многих семьях были убиты отцы, сыновья, и крестьяне (Виктор Билаш не раз убеждался) люто ненавидели комиссаров, чекистов, саму звездочку на фуражке, нападали на разъезды, обозы «кацапов», жгли сено в полях. Женщины «угощали» красноармейцев отравленным молоком. А с востока, юга и севера напирали кадеты. На западе стояли петлюровцы. Куда податься? Напрашивался один выход — к Махно. Он, говорят, рядом и снова на коне!
В полк, где обитали Билаш с Долженко, тайком пробрался Гавриил Троян. Его приняли как родного. Он не напоминал, что все предали Батьку. Вещал бодро:
— Мы теперь — сила! Ждем вас. Федя Щусь, Петя Лютый, Фома Кожин — все тут, агитируют.
Чувствуя недоброе, начальник боевого участка Кочергин отдал приказ арестовать бывших махновских командиров полков. Об этом сразу же узнали, и Калашников со строевой частью, артиллерией и обозом… пропал! Немедленно во все концы выслали конную разведку. Нет, белые не нападали, никого не рубили. А полк… словно сквозь землю провалился. Виктор Билаш живо смекнул: «К Батьке переметнулись! А чего я жду? Гордость не позволяет? Совесть предателя? Что я скажу Нестору Ивановичу?» Такого же мнения придерживался и Долженко.
Но они ошиблись. Ночью Калашников налетел на штаб и арестовал Кочергина, комиссара Дыбеца, его жену Розу, что командовала разведкой — всё руководство боевым участком красных. Шесть полков тут же присоединились к восставшим. Возглавил их, понятно, Александр Калашников. А вот начальником штаба выбрали (не забыли прежние заслуги!) Виктора Билаша. «Теперь другое дело, — решил он. — Не стыдно явиться к Батьке с такой подмогой!»
Лишь Василий Куриленко, затаив обиду на Махно и ценя свой орден Красного Знамени, увел кавалеристов к окруженным со всех сторон остаткам Южного фронта.
Душистые яблоки так облепили ветку, что она гнулась почти до земли. Махно пощупал самое большое. Вроде мягкое. Сорвал, надкусил. Кисло-сладкое. Постоял еще, прислушиваясь. Помочился. Запахло и мятой. Она густо росла под ногами. Лучи жаркого солнца играли меж листьев. Где-то в высоких тополях задумчиво озвалась иволга. Какая благодать! Надолго ли?
После устранения Григорьева они возвратились назад, к станции Помошная. С ходу напали на нее, взяли у комиссаров богатую добычу. А главное — перерезали единственную для отступления красных железную дорогу. Пусть попляшут в осажденной Одессе, когда изорваны пути и стрелки.
Не успели отойти на отдых в это имение, как прибыл Всеволод Волин (Эйхенбаум) со своей свитой. Долго он ждал, конспиратор. Всё вынюхивал обстановку, надежна ли, перспективна ли. Расспрашивал, кто такой Батько да чем он дышит. «Поду-умаешь, птица! Член секретариата анархической конфедерации «Набат». Видали мы эту братию», — считал Нестор Иванович. Но Волин оказался орехом покрепче даже Аршинова-учителя и Марка Мрачного.
Наборщик и гравер Иосиф Гутман, с весны заведовавший махновскими типографиями, рассказывал Батьке, что Всеволод, о-о, тертый калач! Ходит в революционерах с начала века. Был выслан, бежал во Францию, перебрался в Америку. Оттуда в семнадцатом — в Петроград. Когда немцы заняли Украину, Эйхенбаум ринулся сюда, дрался с ними в анархических отрядах, создавал «Набат».
— Это вам, Нестор Иванович, не лекторишка вшивый, а воин с широчайшим кругозором! — восторженно пел Иосиф. — Такие на улице не валяются и в зубы кому попало не заглядывают.
Когда Волин, наконец, появился и произнес пару слов, Махно определил, что с этим «калачом» придется ладить. Он не только знает себе цену, но вроде и стоит ее. Они потолковали, после чего Батько еще более убедился в достоинствах нового знакомого. Тот тоже остался доволен. Они славно дополняли друг друга: основательный теоретик анархизма и битый, но не сломленный практик. Об этом можно было лишь мечтать. «Теперь-то развернемся!» — тешил себя надеждой Нестор Иванович, доедая яблоко. У крыльца помещичьего дома послышался какой-то шум. Подбежал красавец-матрос Александр Лащенко:
— Книжного жука хапнули, Батько! Я его обыскал. Пустой.
— Шпион, что ли?
— Та не-е. Вот он. Какой-то археолог. Из Киева, сам напросился. Желает потолковать, сухопутный.
— На хрена он мне нужен? И так хватает забот. Что ты хочешь? — Махно зыркнул на гостя в упор. Тот вежливо поклонился. Был среднего роста, сутулый. Смотрел довольно смело через толстые линзы очков.
— Скажи быстрей! — потребовал Нестор Иванович.
— Н-не получится, — заикнувшись, ответил ученый. — Прошу аудиенцию.
— Ишь ты, буквоед. Ну, заходи. Вот прицепился. И правда жук. Навозный! — ворчал Батько. В комнате ждал Волин. Они уже начали писать приказ по армии. Впрочем, какая армия? Чуть более тысячи штыков и сабель. Важно было шумнуть, заявить о себе.
— Перекур, Всеволод. Видишь, археолог приперся, туда его мать. Послухаем?
Волин взял в кулак узкую свою бороденку и сжал ее. Когда же заниматься делом?
— Простите, у меня всего один вопросик, — тенорком попросил гость. — Это чрезвычайно важно!
— Валяй, валяй, — поторопил его Махно.
— Предмет моих занятий весьма далек от суеты, но я наслышан о вас, Батько, еще в Киеве. Боретесь за свободу. Славное лыцарство наше запорожское возрождаете. Мечтал спросить. А тут случай. Сняли ваши хлопцы с поезда. Ответьте: вы серьезный анархист или балуетесь?
Махно усмехнулся. Ему приятно было, что молва об их борьбе уже докатилась до Киева, и не только до властей.
— Серьезный, — признал он.
— То есть отрицаете начисто государственную власть?
— Верно.
— А как же держать людей собираетесь?
— От безделья маешься? — рассердился Батько.
Волин же поднялся с кресла, прошелся по комнате.
Ни ростом, ни крепостью он не отличался.
— Можно, я ему отвечу, — не попросил, а словно потребовал. Археолог заинтересовал его. Надоели тщеславные партийные споры и пропаганда азов дилетантам. Кроме того, нужно же расширять круг единомышленников. Ученые пока — целина.
— Тебе и карты в руки, — согласился Махно.
— Мы с вами, как ни странно, заняты одним и тем же, — начал Волин.
— Не улавливаю, — сознался ученый, снял очки и глядел беспомощно распахнутыми глазами.
— Копаем могилы! — с едва заметной иронией продолжал Всеволод. — Вы, археологи, ищете прошлое, а мы, революционеры, — будущее.
— Занятно, занятно, — ожил очкарик. Он никак не ожидал услышать столь изящно выраженную мысль от разбойников, что грабят поезда, и, осмелев, сел в кресло Волина.
— Как держать людей, спрашиваете? А зачем это? Мы впервые в мировой истории предоставляем им полную возможность самим, свободно выковать формы хозяйственной и общественной жизни, — чеканил слова Всеволод. Он любил и умел говорить. Махно смотрел на него и радовался: «Вот такой соловей мне давно нужен был. Как чешет, сволочь!» — Мы находим, что эти формы выгранят сами трудящиеся массы, при условии, конечно, независимости творчества. Ее-то, независимость, мы и обеспечим. А вести людей за собой при помощи управления сверху — гибельно. Потому отрицаем вожжи партий, диктаторов и любой власти, — Волин умолк и, довольный стилем своей речи, смотрел на ученого с благодарностью и превосходством. Зеленые глаза теоретика анархизма блестели.
— Чудесный задум, — сказал гость, надевая очки, и подчеркнул весьма двусмысленно: — Чудесный! Вы обеспечите это с помощью войска?
— Другого не дано.
— Забавно. У меня появилось возражение, если позволите, — ученый помял пальцами свой курносый нос.
— Валяй, — разрешил Махно.
— Некий чиновник фараона еще шестой династии, около 2375 года до нашей эры написал на пирамиде: «Его величество послал меня во главе армии, в то время как начальники округов, хранители печатей, прорицатели, Главные Бюрократы стояли во главе своих отрядов». Слышите, сколько лет власти? Она существует всегда. Разве это не доказывает, что люди без нее не могут?
— Нет! — отрезал Волин и сел на стул рядом.
— За вами идут не потому, что вы против власти…
— А почему же? Ну, ну? — заинтересовался и Нестор Иванович.
— Потому идут, что вы против плохой власти, подлой и грабительской.
— Истинно так, — подтвердил Волин.
— Но если никакой не будет — вас бросят, — предрек ученый, глядя на собеседников светлыми глазами, увеличенными линзами очков. — Найдутся более ловкие, лукавые, и они станут править. Не правда ли?
Как только он это сказал, Махно ярко вспомнил Ленина, его кремлевский кабинет, кожаное кресло. Вождь вскакивает, смеется: «Мы знаем анархистов. Они сильны мыслями о будущем, а в настоящем беспочвенны, жалки». Нестор тогда горячо возражал, что он с товарищами весь в боевой буче. Ленин развел руками: «Возможно, я ошибаюсь». Лишь сейчас Махно ясно понял, что для самой большой кремлевской шишки «настоящее» означало только борьбу за власть. Как просто! Видение мелькнуло и исчезло.
— Мы не допустим тиранов. Зачем падать духом? — говорил между тем Волин.
— А я и не падаю. Куда уж? Глубже могилы не зароешься, — археолог поднялся и церемонно поклонился. — Благодарю вас покорно. Велите отправить меня на станцию и посадить в поезд. Все-таки сняли.
— Гаврюша! — позвал Махно. Вошел Троян. — Киньте очкаря на моей тачанке до Помошной, и проследи, чтоб не остался. А то… — он хотел добавить «заумный», но решил, что могут неправильно истолковать и по дороге коцнуть.
Ученый, фамилию которого они так и не спросили, уехал, а с вершины старого тополя все плыла переливчатая, грустная песня иволги.
На даче в Краснове, под Москвой, лежал у окна больной сыпняком Сашка Барановский, он же Попов, он же Хохол, он же Шурка-боевик. С трудом приподняв бритую голову, увидел бело-голубые стволы берез, темную лапу ели с шишками. Все это было в диковинку ему, степняку, слесарю из Александровска, промышлявшему также в Бердянске, Мариуполе. «Где я и как сюда попал?» — пытался вспомнить Попов.
Сегодня вроде отпустило, полегчало чуток. За стеной слышны голоса, шумит печатный станок. «А-а, это Мина, Таня, Кривой и Хиля, — догадался Сашка. — Тискают газетку «Анархия» или «Правду о махновщине».
Дача конспиративная. Чья — неизвестно, снята на деньги экс. Экспроприированные из рабочкопа в Туле три миллиона рублей. «Странно, бьемся за народное благо, а рванули у работяг… Пусть потерпят до Свободы, если не хотят, шавки, ее взять, — мерекал Шурка-боевик. — Белая и красная власти звереют от одного вида нашего черного знамени. Не допустят его, как говорит Казимир Ковалевич, даже над простоквашиыми лавочками».
Барановский со стоном поворочался в постели, стал отрывочно вспоминать, как потрошили еще в Москве пару народных (опять!) банков и в Иваново-Вознесенске взяли более миллиона. Пришлось кое-кому и пятки поджарить, чтоб открыл секреты сейфов. А что же прикажете делать со слугами диктатуры — нянчиться? Они, шавки, не больно-то щепетильны. Штаб Махно и Ворошилова был в одном бронепоезде… Ох, и жарко все-таки… Схватили, зверски расстреляли наших! Где совесть? Какая? Только порох и динамит — для сокращения энергии в борьбе. Нас же мало. Как там пишет Казимир в «Декларации анархистов подполья»?
Сашка нащупал листок на тумбочке, поднес к глазам. Рябило, пахло типографской краской. Ага, «кому претит издевательство человека над человеком и реки крови, и стоны насилия, производимые современным государством и капиталом, — всем вам шлет свой братский привет и призыв…» Рябит, твою ж маму. Ага, «Всероссийская организация анархистов подполья».
Хохол устал, откинулся на подушку, закрыл глаза и долго лежал в полузабытьи.
— Скучаешь, болезный? — услышал издалека. Это Таня или Мина принесла лекарство и еду. Близко не подходит. Правильно.
— Хлебни, милок. Авось отпустит.
Он нехотя проглотил горечь, заметил на стене игру светотени… Вся дача закачалась… Надо же было дураку зайти в лазарет к тифозному… Как жарко. Прямо Мариуполь…
Шурка работал в махновской контрразведке у Левы Зиньковского. Пили ведрами божественную мадеру, ловили кадетов, что прятались по чердакам, выколачивали золотишко… Таня и Мина заразятся, а ходят, ангелочки… Сюда Яша Глазгон доставил, длинный, светлый, вроде березы за окном, вместе орудовали в Мариуполе, да Петр Соболев, Казимир Ковалевич — чернорабочие анархии. А с ними генерал Гроссман-Рощин. Он и беседовал с Махно. Остальные слушали. Потом… или раньше? Какой-то еще полячок лез в полковники… Ага, Бржостэк… И не выговоришь. Бр-р… Как холодно! Окрутил саму Марусю Никифорову. Денег Батько дал боевикам. Смех! Полмиллиона! В Синельниково опоздали: чекисты уже пустили в расход махновский штаб. Теперь Кремль. Какой?
Сашка опять забылся. Плыл и плыл куда-то в тягучем лиловом мареве, еле загребая руками, ногами. Тонул, задыхался, пытался звать на помощь, а духу не хватало, хотя, казалось, орал изо всех сил: «Спа… спа… сите!» Рядом замедленно качалась голова лошади, пуча глаза. Какой-то махонький, с наперсток, кучерок стегал ее по гриве. Волосы тихо и мягко струились назад, далеко-далеко, шелковистыми прядями. Шурка барахтался в них, как тифозная вошь. Мизерный кучерок, ни дать ни взять Нестор Иванович, нащупал его ногтями, поднес поближе к себе и стал стрелять прямо в лоб тоненьким синим лучиком, приговаривая: «Бо-ишь-ся?’ Бо-ишь-ся?» Всё вдруг — и выпученные глаза лошади, бесконечные пряди, кучерок в них — обрушилось немо и в гигантском вихре закрутилось, полетело вниз. Хохол пытался зацепиться за что-нибудь, удержаться, но его несло и несло…
В этой тягостной, то ледяной, то невыносимо горячей круговерти он пребывал без времени, пока не посветлело чуток и послышались нездешние голоса. Ближе, ближе, яснее. В комнате они балабонили, на улице?
— Кремль проверен… Канализационные трубы… Щели. Забьем толом, пироксилином… И в небо!
«Яне хочу! — пытался крикнуть Сашка. — Я здесь, здесь и больше никуда не хочу!» Но голоса жили отдельно, как будто в другом, чужом и непроницаемом мире.
— А охрана?
— Может, сначала чека или Дзержинского?.
— Нет, это пешки. Надо всю камарилью тряхонуть, чтоб пыль посыпалась.
— Тогда уж лучше Красную площадь взорвем на праздник!
Кто это говорил? Казимир Ковалевич? Нет, он писака. То Петр Соболев! Боевик, чистейшая душа. Хранит три миллиона и ходит в заплатанных штанах. Барановский как-то поразился: «Купи новые! Тысячу жалко, что ли?» Петр ответил:: «Нельзя. Народные».
Еще слышалось:
— На юге Деникина караулят Бржостэк и Маруся Никифорова. Поди, скоро квакнут?
— Вот и ладненько. Повременим и одним махом свалим всех тиранов!
Шурка-боевик наконец определил, что говорят за тонкой стеной.
— А власть кому?
— Зачем она?
— Попридержи вожжи. Порядок-то нужен.
— Профсоюзы будут заправлять, — загудел чей-то баритон.
— Но там же черносотенцы и государственного опыта нет. Осилят?
— Будьте уверены. Они мудрее царя и партий. Вековая спайка трудящихся!
— Ну, добро. Значит, динамит привезут из Брянска.
— А хватит?
— Ог-го! Пять пудов!
— Не мечите икру. Осторожнее! — опять загудел баритон, и Сашка догадался, что это же Черепок (Прим. ред. — Настоящая фамилия Черепанов), левый эсер. Верный туз. Неустрашимый.
— А я с вами к-кат-тегори-ически не согласен! — воскликнул тенорок. Барановский узнал его сразу: Лева Черный, тонкая кишка — ученый. Тот продолжал: — На крови, родные, ничего доброго не построишь. Вы все заблуждаетесь. Все! И большевики, Махно ваш, и Деникин тоже. К свободе надо души править. Души!
— Ах, Лева, — сокрушался, похоже, Соболев. — С нами вон коммунист даже, Домбровский.
— Липа! — кипятился Черный.
— Позволь, у него настоящий партбилет. Я сам держал в руках. Номер 161, выдан мелитопольским комитетом.
— Ну вас, разбойников, — не соглашался Лев Черный.
— Споры спорами, а тайна тайной. Учтите, каждый… головой своей отвечает! — сурово предупредил Черепок. Голоса стихли.
По-прежнему было солнечно. Из форточки шла осенняя прохлада, пахло опятами и жареной картошкой. Впервые за много дней Барановскому захотелось поесть. «Прощай, сыпняк», — подумалось с облегчением.
Станция Помошная под завязку была забита паровозами, обшарпанными вагонами с ящиками, пушками, мешками, а пути отрезаны. Всюду — стоп! На север, в сторону Елисаветград — Киев не пускают беляки. Весь юг — в огне восстаний. А на перроне — море беженцев.
— Вчера тормознули наш поезд, — махал руками дядя в помятой шляпе. — Глядим, на рельсах — телега торчит! Полезли в вагон, ну, бля, черти: кожухи повывернуты, рожи в саже, в руках вилы, грабли. Слышь, начальник, это ж ад! — кричал он, обращаясь к Филиппу Анулову. Молодой, с бородкой клинышком командир красноармейского отряда шел мимо, глянул с тоской на серую толпу, промолчал.
Утром Филипп запросил по телеграфу Новый Буг. Ответили: «Вашей бригады Кочергина уже нет. Она в полном составе перешла в распоряжение главнокомандующего революции батько Махно. Скоро доберемся до вас».
Под рукой Анулова, художника по профессии, было тысячу штыков, посланных Якиром из Одессы. Турнув отсюда махновцев, станцию взяли. Но что можно сделать против разъяренной бригады, если правда то, что передали? Да ничего. Это конец. Жди расправы. А нужно ведь встретить здесь состав с боеприпасами из Киева и отправить товарищам.
Войдя в телеграфную, тесную комнатенку, Филипп срочно запросил реввоенсовет Южной группы войск. Озвался Затонский, тот самый, что недавно напал на Песчаный Брод и погубил сначала гостей, что пировали на свадьбе Батьки, а затем и свой отряд. На панический запрос Анулова комиссар стучал: «Глаголом жги сердца махновцев. Растолкуй им гибельность авантюры».
Филипп не успел выругаться, как прибежал растерянный вестовой.
— Вас ждут в штабе.
— Кто?
— Делегация.
— Чья? Говори толком?
— Махновская!
Час от часу не легче. По ней, что ли, палить? Около штабного вагона стояли трое. Один в штатском, высокий, крупный еврей. Представились, показали партийные билеты.
— Мы тоже коммунисты, но настоящие. Не бежим с Украины, и вас не тронем. Айда вместе бить Деникина!
Филипп снял кожаную фуражку, потер виски. Ну кутерьма! Что же предпринять? Хлопцы вроде искренние… Но махновцы же, едри их в селезенку! Вне закона, и тебя потом объявят врагом народа.
— Да не сомневайся, браток, — убеждал Анулова тот крупный, в штатском. Это был Лев Зиньковский. — Мы тоже горой стоим за советскую власть и революцию. Ну, решай. А то поздно будет!
Филипп боялся. Судьба-паскудница так переменчива. Банда убежит, а ему куда? В петлю?
— Мы посоветуемся в штабе, — ответил он уклончиво. Делегаты постояли, ушли. Анулов увидел в открытом окне вагона политотдела Настю, свою первую и, возможно, последнюю любовь. Девушка звала его к себе, махая тонкой рукой. И такая она была нежная, слабая, желанная — эта рука — и так просяще манила, что Филипп уже готов был броситься к ней, но стоящий рядом комиссар отряда спросил холодно:
— Куда двинем? Каждая секунда дорога!
Анулов дернул себя за бороденку, помял в пальцах вырванные волоски, бросил по ветру. Решил внезапно: «Пусть хоть Настя спасется» и сказал:
— Так, штабному поезду идти в Одессу, на прорыв. И ты, комиссар, тикай. Будешь главным. А в отряде уже агенты Махно, значит, я остаюсь, чтоб помочь вырваться остальным. Авось улизнем.
Он полагал, что в любом случае будет оправдан. Комиссар подтвердит, что Анулов спасал штаб, а бойцы — что не бросил их в трудную минуту.
«Нечего ждать, — решил. — К своим, и драпать». Он с тоской взглянул на уходящий поезд и ничего не мог понять. Тот стоял! Филипп прыгнул на мотоциклет и, минуя заросли колючей дерезы, подкатил к эшелону.
— Что такое?
— А ты на вышку взойди, на вышку! — странно подмигивая, советовал комиссар. Анулов быстро поднялся и обомлел.
За огородами, проселком и желтым полем через железную дорогу шла кавалерия: не эскадрон, не полк — тысячи сабель! Но они же не помеха паровозу? Филипп перевел взгляд левее. Там под красными знаменами пылили тачанки, походные кухни, овцы, верблюды — до самого степного горизонта. Наши! Но долетела песня:
За горами, за долами Ждет сынов своих давно Батько храбрый, Батько добрый, Батько мудрый — наш Махно!Анулов посмотрел еще левее. Пушки! Стал считать: одна, другая, третья батарея, и все стволы — сюда!
— Господи, помилуй, — шептал потрясенный Филипп, не зная, что предпринять.
Прилетела оса или здоровенная муха, гудела, тыкалась в нос, в уши. Анулов вяло отмахивался. Снизу крикнули радостно:
— Это же свои, командир!
Он слетел вниз.
— Мы встретили первые эскадроны, — говорил, улыбаясь, комиссар. — Они за советскую власть. Нас не тронут. Иди выясни.
Из окна опять помахала рукой Настя, но Филипп побежал к станции, забыв о мотоциклете. Где ни возьмись, появились три всадника, потребовали:
— Дай наган!
— Я начальник отряда Красной Армии, — запротестовал Анулов, подняв голову. Полуденное солнце слепило, и он не заметил, как один из верховых оказался сзади. Филиппа ударили в спину. Он упал. Подняли, повели к станции. Там уже всё запрудили войска. Анулова приметил какой-то, похоже, атаман с саблей на боку, гранатой и револьвером на поясе. Плотный, в новеньких ремнях, белокурый чуб торчит из-под козырька.
— Кого поймали? — повелительно спросил у всадников.
— Говорит, что начальник красного отряда, товарищ Калашников.
Филипа сжался в комок: — Это же он поднял бунт в бригаде Кочергина. Прапорщик-бандит. Ну, я пропал».
— Следуй за мной!
Кто-то схватил Анулова за руку. Он со страху оглянулся.
— Настя! — прилетела, голубка, ласкает зелеными глазами, а в них — слезы.
— Жена? — спросил Калашников. Многие командиры возили семьи с собой.
— Да, — соврал Филипп.
— Эх ты, сбрехать даже не можешь, краснюк. Ржа ест железо, а лжа — душу. Запомни. За мной!
Штабной поезд отряда уже пригнали на станцию, и Анулов увидел, что около вагона политотдела толпятся махновцы с черным флагом. А на ступеньках сидел кто-то в алой гусарской форме и перебирал бумаги из походной сумки… Филиппа.
— Вот, Батько, привел тебе их командира, — с некоторым бахвальством доложил Калашников. «Неужели этот… сидит… Махно?» — не поверил Анулов. Большие начальники Красной Армии, которых он видел, так простецки себя не вели. Гусар поднял голову и ожег пленника воспаленным взглядом.
— Это ты написал приказ, что идут бандиты? — спросил он, кривя запекшиеся губы. Огоньки вспыхнули в его темных глазах, и они показались художнику голубоватыми. Теперь Филипп не сомневался, что это и есть Махно. Комок подступил к горлу, и муторно заныло под ложечкой. От человека, что простецки сидел на ступеньках вагона, исходила какая-то лешая сила, которой нельзя было противиться. Хам Калашников мог пристрелить. А этот ведь ничем не угрожал, поднялся, чиркнул спичкой и поджег приказ Анулова.
— Вникай! — сказал. — Бумага белая. Видишь? Горит и стала красной. А в конце концов… вот она. Черная! Так и в народе. Сейчас уже всё перегорело. Осталась одна надежда. Глянь на наш флаг. Понял?
Махно вскинул руку. Вокруг притихли.
— Большевики душат народную волю, — продолжал он хрипловатым тенорком. — Это видит каждый, кто не слеп. Но когда встречают отпор, когда их бьют, — голос его креп от слова к слову, — они удирают как зайцы. Вот он стоит, — Батько указал пальцем на Филиппа. — Их начальник. Тоже бежал, поджав хвост! Где Дыбенко? Где хваленый Ворошилов? Где мухомор Троцкий? Они бросили врагу нашу родную землю! Плевать им на хаты, на ваших жен и детей. А мы… здесь! И будем бить Деникина и прочую сволочь в хвост и в гриву. Пока не прикончим. Ура!
У вагона, слушая Батьку, толпились сотни повстанцев. Ответное мощное «Ура!» потрясло Анулова. Вот вождь, будь он проклят! Вот за кем пойдут в огонь и воду глупые хохлы.
На взмыленных конях подлетели двое. Филипп разглядел одного: черненький, с тонкими усиками. Да это же Миша Полонский! Печатник из Одессы. Свой, партиец! Прибыл на выручку! Тот спешился, протолкался к Батьке. Но что это? Они пожимают руки…
— Вот, товарищ Махно, привел тебе подмогу, — услышал Анулов, не веря своим ушам. — Десять тысяч штыков и сабель. Время грозное, и люди считают, что только ты можешь возглавить их против Деникина. Больше некому. Но помни — я большевик. До нашей веры не касайся!
— Чудак ты, — отвечал Махно. — Мне любой дорог, кто защищает свободу и Украину. Ану, дайте прапор!
Ему поднесли черный флаг с вышитым лозунгом «Мы горе народа потопим в крови».
— Бери, Полонский, приготовили специально для твоей железной дивизии.
Предатель протянул руку… Что было дальше. Филипп не видел — закрыл глаза от горя…
Ночью им с Настей удалось бежать в степь.
А к Батьке прибывали всё новые полки, вчера еще красные. В обозе одного из них, на подводах, ехали арестованные: командир бригады Кочергин, комиссар Дыбец с женой Розой, другие. Показалось большое село.
— Добровеличковка, — радостно сообщил возница. — Тут вся моя родня!
— Теплое имя дали, — озвался Дыбец, спрыгнул на дорогу и пошел рядом. Возница, которому было приказано караулить их, и ухом не повел. Винтовка его давно лежала в завале барахла. Куда им, комиссарам, бежать? Да и свои ж люди, простые.
— У нас есть ще еврэйска колония Добра и сэло Добрянка, — говорил крестьянин. — Скоро будэ ричэчка Добра. По-нашому, значыть вирна, чесна. Та й по-вашому, по-кацапськы, вроди так, га?
— Точно, точно, — подтвердил Дыбец, глядя на свои красные сапоги. Думалось: «Сидел бы с Розой в сытой Америке и горя б не ведал». По молодости лет, желая мир посмотреть и себя показать, Степан уехал за океан. Подметал улицу, язык учил, общался с русскими анархо-синдикалистами, которые и нашли ему место слесаря. Вместе основали газетку «Голос труда». Но в семнадцатом он не выдержал и в сапогах из красной кожи мотнул в Россию, свергал Керенского, потом большевиков, что распоясались, взяв власть. Бежал из Питера в Бердянск с Розой Адамовной, тоже бывалой анархисткой. У моря образовался ревком, где Степан сошелся со вчерашними врагами — большевиками. Тут налетели гуляйпольцы, контрразведку завезли. Дыбец возмутился, спорил с Махно. А вскоре подоспела Красная Армия, и он вовсе отказался от анархизма. При отступлении назначили комиссаром бригады. И вот он арестант…
В Добровеличковке красных командиров повели по улице, запруженной войсками, семьями повстанцев, беженцами, что располагались по дворам, под заборами. Над ними висели тяжелые ветки с желтыми грушами. Всюду бегали дети, ревел скот. «Как же воевать с такой обузой?» — недоумевал Дыбец.
К ним подъехали всадники. На белом коне — Махно. Ему что-то докладывали, он отвечал. Послышалось ледяное слово «расстрел». Среди них, однако, Степан с надеждой заметил Мишку Уралова, знакомого по Бердянску. Матрос-анархист, всегда взвинченный, горячий как порох, он легко хватался за наган. Но был добр и справедлив.
— Там же, я вижу, Дыбецы, жилы из них вон! — громко возразил Батьке Мишка. Они еще пошумели. Какой-то адъютант подъехал и велел Степану с Розой подойти к Махно.
— Что же ты, старая анархическая крыса! Куда влип? — спросил тот сурово. Крутолобый крепыш Дыбец молчал.
— А ты, Роза, помнишь, как сидели с тобой в екатеринославской тюрьме и ждали палача с веревкой?
— Не забыла, Нестор.
— Известно ли вам, что я у большевиков вне закона? Любой, кто прикончит меня, их друг. Так кто же вы тогда?
Дыбецы смущенно потупились. А что скажешь? Глупый звук мог решить их участь.
— Ну так вот, — продолжал Махно. — Рука у меня не поднимается на старых ренегатов. Может быть, это слабость, но я вас не расстреляю. Приказываю: чтоб волос не упал с их головы. Кто нарушит — лично коцну, и только! Чулы?
Окружающие закивали.
— Идите на все четыре стороны. Остальных держать до особого распоряжения, — он пришпорил коня и, словно боясь, что передумает, ускакал.
— Мотайте по этой улице до конца, жилы из вас вон! — оказал Дыбецам Мишка Уралов. — Увидите хату, где развесистая шелковица во дворе. Сошлетесь на меня и сидите как мыши. Контрразведка вас уже пасет. В этом кавардаке укокошат в два счета, — он усмехнулся, тонкие брови взлетели. — Мигом смывайтесь, пока он не вернулся и не отправил вас рыбке в зубы. Берегитесь Щуся с матросиками, а пуще — Леву Голика. Тот тихий, но вашу шкуру живо перекроит на лоскутки!
Мишка тоже ускакал.
— Позволь, а как же товарищи? — забеспокоилась Роза, оглядываясь.
— Самим бы, дорогая, ноги унести, — муж взял ее под руку, и они торопливо пошли искать развесистую шелковицу…
Уралов явился затемно, принес бутылку самогона. Закуску дали хозяева. Сели за стол втроем.
— Не сладко пока, не сладко, — говорил Мишка, хрустя малосольным огурцом. — Кадеты прут. У вас вон были регулярные войска, оружие, хлеб, деньги — вы позорно бежали. А нам каково? Я тоже из России, но, в отличие от Троцкого, о-ох, больно это перевариваю. Местным куда? Белой рыбке в зубы? У них же семьи, у того же Махно, Калашникова, у Федьки Щуся, да у кого хошь. Разве потащишь с собой на север? А раненые? У нас их сотни!
— Ты прав, — согласилась Роза. — Это трагедия. Но пойми же и нас…
— Ково там? — Мишка махнул рукой и рванул рубаху на груди. — Глянь сюда, глянь!
Там был выколот зубастый дракон.
— Вот тебе, Розочка, наглядно наш север: голодный и злой. Ему еще нахлебников не хватало. Он сам кого хошь сожрёт! А тут, видали, груши с кулак, дули называются. Куда бежать от них?
Еще выпили.
— Не серчайте на меня, — попросил Мишка. — Маленько, тово, люблю шебутнуть. В общем состоялся у нас сегодня реввоенсовет. Именуемся теперь Украинская повстанческая армия! Это вам не хрен собачий. Обозы сокращаем вдвое, чтоб маневр иметь. На телеги ставим пулеметы, коней — под сабли. Образовали четыре корпуса. Донецким командует Сашка Калашников. Азовским — тоже знаете его — Трофим Вдовыченко, готовый генерал. Жаль, что его земляк сбежал. Огненный характер! Я сам такой…
— Куриленко, Василь? — уточнил Дыбец.
— А то кто же? Ох, забубенная головушка. Подался с вашими, кавалерийский полк увел, дурак.
— Слышал, как Василий моих комиссаров воспитывал-испытывал? — спросил, улыбаясь, Степан. — Нет? Назначили ему новенького. Твердого партийца. Дал ему Куриленко бинокль: «Замечаешь казачий разъезд в селе?» — «Вижу». — «Поехали к ним молоко пить».
— К белякам? — не поверил Уралов.
— Ну, конечно. Те на одном конце села, а комиссар с Василием прибыли на другой. Купили у бабки молока, пьют. Прискакал белоказак: «Из какой части будете?» — «А у тебя кто командир?» — интересуется Василий. «Такой-то». — «Лети к нему и доложи, обормоту, что красный полковник Куриленко тут молоко пьет!» Казак оцепенел. Василий достал наган: «Ну, кому говорю!» Того и ветром сдуло. А наши возвратились в полк. «Ты, гляжу, настоящий, — сказал комиссару Куриленко, — с тобой работать можно».
— Ах, сукин сын, люблю таких! — восторгался Мишка. — Жаль, что изменил нам. Но звонил сюда, говорил с Махно, просил не трогать вас.
— Да не может быть! — в свою очередь удивился Дыбец. — Хотя… Вася — редкая душа. Мы его тоже спасли от пули Дыбенко. Прости, отвлеклись. А кто другими корпусами командует?
— На Екатеринославский зря поставили Гавриленко. Он хоть и штабс-капитан и полный кавалер, а горшок… — Мишка постучал по темечку. — Горшок у него пустой для такой должности. Ну, и Крымский корпус. Павловский во главе. У Григорьева полк водил, тоже Георгиевский кавалер. Мы давай подначивать: григорьевский или Георгиевский? Батько психонул: «Кому не ясно, завтра пошлю против белой гвардии. Десять тысяч отборных сабель генерала Слащева сверкают на горизонте!»
— Прости, Миша, но как вы содержите всю ораву? — спросила Роза. — Грабите население?
— Ну-у, нет. Батько сразу голову оторвет. Миллионы нам дал Дыбенко, раньше. Кроме того, сундук из Черного леса привезли, — Уралов замялся. — Это… секрет, да жилы из него вон! Там столько золота и бриллиантов, что…
Мишка налил по последней и даже капли вытряхнул в кружки.
— Розочка и Степа, выпьем за то, чтоб завтра же вас ветром выдуло отсюда. Мы драпаем на запад. А в суматохе, сами понимаете…
Закусили, помолчали.
— Да, браток, не забудь красные сапоги снять, — посоветовал Уралов. — Их далеко-о видно. Лучше оставь-ка мне. Хоть пощеголяю всласть!
Теснимый с востока нашими частями, Махно подвигался вглубь Малороссии… и к началу сентября подошел к Умани, где попал в полное окружение: с севера и запада — петлюровцы, с юга и востока — части генерала Слащева.
А. Деникин. «Поход на Москву».
— Какое личное чувство Родины! Оно не от ума — от сердца! — изрек поручик Миргородский, израненный сын того генерала, в дом которого ворвались год назад Махно с товарищами и бросили гранаты.
— У каждого, Николай, свое заветное, — довольно холодно заметил командир батальона капитан Гатгенбергер, поводя крутыми, барскими плечами. Ему не понравилось, что сейчас, в этой походной кутерьме, вслух вспоминают о святом. К тому же больно по-славянски, на православный манер, что ли, рассуждает Миргородский.
— Простите, капитан, по-моему, Родина или есть, или ее просто нет. Это покупается кровью предков!
За стеной мычала корова. Гатгенбергер уже взялся за шпору, чтобы снять сапог, но бросил его, рассмеялся.
— Вот вам и ответ, философ!
Поручик тоже усмехнулся. Правда, как глупо с его стороны затевать подобные разговоры. Столько свинства вокруг. «Перед кем мечешь бисер? — размышлял Николай. — Что Гаттенбергеру наша Украина? Прибыльный чернозем или часть империи, Малороссия. Да, у нас со времен Богдана и Мазепы не было просвещенной элиты, как в Польше. А если и появлялась, то ее покупали, переманывали в Петербург, Москву. Я же чужд и русским офицерам, и своим мужикам. Это ужасно!»
Их Симферопольский офицерский полк вчера вечером расквартировали в селе Перегоновке. Весьма символическое название. Наконец-то всё готово для полного уничтожения бандитов. Или опять ускользнут?
В хате сидел еще хозяин, молчаливый седоусый дедок.
— Не стоит раздеваться. Прикорнем так, — предложил норучик. Он был помощником командира батальона. — Все равно махновцы ночью набегут. Это уж как пить дать.
Скрипнула дверь. Вошел благообразный, лысоватый еврей Кернер. Он тоже здесь квартировал.
— Что вас-то, Михаил Борисович, миллионера, занесло сюда? — поинтересовался Миргородский. — Небось, ободрали как липку анархисты Гуляй-Поля? Но там же теперь наши. Полная свобода для банкира!
Кернер присел на скрипучий топчан и поглядел на поручика с мягким укором.
— Охотно отвечу. Бывшего миллионера. Бывшего. Ежели вы имеете в виду барыш — его давненько не видно на сих степных просторах. Корова языком слизала. Не та, разумеется, что за стеной мычит. А которая «Капитал» читала, завидущая. Остались мешочники, запрудившие поезда. Вы полагаете, что у каждого честного еврея есть друзья. Э-э, сегодня от них приходится держаться подальше.
— Чудная логика, — озвался Гаттенбергер. — Мне казалось, наоборот, всё спасение в вере и близких людях.
— Отвечаю: алтари нынче пустые, а друзья легко становятся врагами. Жизнь есть жизнь, господин капитан.
— Одни загадки, — подозрительно буркнул командир батальона.
— Боже упаси! Это вы обо мне? — Кернер покраснел и скосил печальный взгляд на холщовую сумку, что валялась под веником. Там, среди сухарей, в тряпице, были завернуты два слитка: золота и серебра. — Я весь перед вами, как на духу!
Говоря о друзьях, он имел в виду предпринимателей, с которыми много лет сотрудничал. В кого они превратились? Беженцы, затворники. На каждом шагу обижают, а то и бьют иудеев. Тут бы самому спастись. Кроме того, среди своих друзей-защитников Марк Борисович числил и Нестора Махно, которому не раз помогал. Но разве можно об этом заикаться? Поволокут в контрразведку. А ему надо к жене в Одессу и сыновей разыскать. Со станции Помошной, законопаченной со всех сторон, Кернер подался на запад и застрял в этой богом забытой Перегоновке. Кто ж такое предвидит?
Чтобы прекратить этот скользкий разговор. Миргородский обратился к седоусому дедку:
— Славно дома-то сидеть? Вот спать ляжешь. А нам каково?
Хозяин поерзал, посомневался и выдавил:
— Сыдилы б дома, паныч. Хто ж вас нэволэ?
Чувствовалось его явное отчуждение.
— Будем отдыхать, — велел командир батальона.
Николай лег на жесткий топчан, подумал о Махно:
«И где он взялся, хмырь? Отца сгубил, меня покалечил. Отомстим». Поручик мечтал попасть на московское направление. Там, слышно, уже взяли Орел, скоро белокаменная падет. А они здесь, несколько дивизий, гоняются за бандой. Не поймают — позор. Одолеют — фу-у, ерунда! Так все и считали в их офицерском полку. Шутка ли, на должности рядового — прапорщики. Отменная дисциплина, английские мундиры, фанаты генерала Лемона — и всё против каких-то пахарей. Да мы их фуражками закидаем!
С легким и веселым настроением шли они к станции Помошной. По пути встретились еврейские обозы — беженцы из колонии Доброй. «Берегитесь, мальчики!» — предупреждали. Что за вздор? Первый же бой подтвердил: бандиты лезут нахально, а стоять упорно не способны — бегут. Куда им против регулярных войск?
Симферопольский полк сходу взял станцию. Но на следующий день… в это трудно было поверить… махновцы опять завладели Помошной! Их еле вышибли. Выяснилось, что у них три бронепоезда (один вчерашний белый — «Непобедимый»!), тысячи пехоты, кавалерии. Миргородский впервые призадумался: «Откуда всё это?» Ходили слухи, что потрепаны и полки соседней дивизии. А тут привезли награды: сто девять Георгиевских крестов и семь медалей. Николай засомневался: «Для чего? Это же гражданская война!» И шевельнулась тревога: «С кем бьемся? Не народ ли? Даром такие награды не вручают!»
Но вскоре сомнения рассеялись. Банды бежали на запад, через речку Синюху и ее приток Ятрань, почти без боя оставляли села, колонии, хутора. Поговаривали, что у махновцев мало патронов. Этим провокационным слухам уже не хотелось верить. Просто сборище анархистов улепетывает. А впереди была Умань — древний город, где генерал Слащев решил покончить с Махно раз и навсегда!
Засыпая, Николай видел розовое, приятное мельтешение. Вроде бал. В Павловском училище. Скользкий блестящий паркет, статуи по углам и вальс. Господи, забытая музыка, девицы в белых платьях, длинных и шуршащих, с обнаженными плечами, улыбки, запах духов… Потом всё это съежилось. Появился дом, знакомый с детства, кабинет отца и на полу — ребристая граната… кружится, кружится…
— Господин капитан, где вы? Проснитесь! — услышал Миргородский и вскочил.
— Что стряслось? — спрашивал Гаттенбергер из другой комнаты.
— Махновца поймали. Махновца, — говорил кто-то в темноте. — Адъютант самого Батьки, мать его в тринадцать гробов…
— Прекратите! — возмутился комбат.
— Прошу прощения. Он вез пакет.
— Давайте сюда. Свети. Да свети же!
Дедок зажег огарок. Послышался топот, и в хату втолкнули небольшого парня или мужичка. Поручик все никак не мог прогнать сон и раскачивался на топчане, подогнув под себя ногу. Неясным пятном проступало лицо пленного, усы, чуть блестевшие глаза. Гаттенбергер с треском разорвал пакет, наклонился к свече. На улице что-то тихо постукивало: ток-ток, тик-так. «Дождь», — догадался Николай.
— Это план их фронта с Петлюрой! — наконец сказал капитан. — Очень интересно. Ты кто?
Махновец молчал.
— Господин поручик, берите пакет и в штаб полка. Немедля! — велел комбат, передавая бумаги Миргородскому. — И его захватите с собой. Лично генералу Гвоздакову доставите. Это чрезвычайно важно. Они договорились с Петлюрой. Не дай Бог, соединятся!
Выходить на улицу, в сентябрьскую слякоть, не хотелось. Николай прикурил от свечки.
— Слушаюсь! — взял дождевик. — Пошли! — кинул пленному. Во дворе их ждала телега и трое казаков.
— Кто ты все-таки? — спросил поручик, усаживаясь и надевая башлык. Примостившийся рядом на сене махновец долго не отвечал. — Язык, что ли, проглотил?
— Я Лютый.
— Как? — не понял Николай.
— Лютый, говорю.
— Зверствуешь? Кличка, что ли?
— Нет, фамилия такая.
— Адъютант Махно?
— Вроде того.
— Знаешь, что тебя ждет?
— По головке не погладите.
— Это уж точно.
Телега хлюпала по лужам. За кустами плыла в темноте речка Ятрань. Пленный вдруг сказал стихами:
Гэй ты, батьку мий, стэп шырокый, поговорымо ще с тобою. Молоди мойи буйни рокы та пишлы за водою.— Никак поэт? — удивился Миргородский. — Анархисты пишут стихи? Какая нелепость! Вы что, и веру имеете?
— А за шо ж умырать?
— Позволь, позволь. Ты что, серьезно? — Николай не мог представить, что у бандитов есть хотя бы намек на интеллект. Ну в лучшем ою'чае — защита интересов лодырей и нищих, как провозглашают большевики.
— Вполне, — отвечал махновец.
— Коль так, времени у нас достаточно. Давай по порядку. Ты, конечно, не веришь в Бога?
— Нет. Зачем? Человек — мерило всего.
— Но если его нет, то и совести нет. Всё позволено! Где критерий? — Николай специально употребил это ученое слово: поймет ли бандит?
— Он простой, как правда, наш критерий. Его знает любой дядько, что трудится на земле.
— Однако твоего пахаря века христианства воспитали. Не так ли?
Петр Лютый молчал. Офицерик, оказывается, тоже не лыком шит. Целится в самое яблочко. Если еще и стреляет метко — дело швах.
— Нечем тебе крыть, дружок, — Миргородский с сожалением кивал головой. Так хотелось поспорить, ковырнуть разбойника поглубже.
— Хай и хрыстыянство! — воскликнул Петр. — Спасибо за науку. А сегодня дядько уже дорос до свободы!
— Хорошо, хорошо, — не стал перечить Николай, — но чем он отличается от культурного помещика или банкира Кернера из Гуляй-Поля?
— Мозолистыми руками.
— Тогда и ты для пахаря враг, — поручик ткнул пальцем в грудь Лютого.
— С какой стати? — отшатнулся Петр.
— Очень просто. Вместо плуга держишь перо!
— Я сирота. Всё умею.
— А управлять кому доверите?
— Тружеников поставим.
— Так они же завтра карету себе потребуют и шубу лисью дочке.
— Выгоним! — Петр сидел уже как на иголках.
— Кто это сделает? Вы же ни полиции, ни суда не признаете.
— Народ вытурит.
— Эх, Лютый, Лютый, может, и светла твоя вера, да глупая. Народ! Каждый мечтает о шубе и карете.
Миргородский вздохнул. Вот она, простая, трудовая Украина, и нет с ней контакта. Или еще попробовать?
Пока он сомневался, пленный соскочил с телеги и, хлюпая по грязи, бросился в дождливую темень.
— Стой, гад! Стой! — закричали казаки, что сопровождали их верхом. Вскоре они возвратились.
— Где анархист? — с тревогой спросил помощник комбата.
— Шустёр, бродяга. Вилял как мышь, — отвечал казак басом. — Но нам недолго. Напополам развалили!
«Дубьё! — подумал поручик. — Влетит от генерала. Ох, влетит!»
И они поехали дальше.
Матрос Александр Лащенко взял школьный глобус, покрутил, поискал пальцем Украину, Елисаветград, речушку Ятрань, в излучине которой они затаборились. Эх, не обнаружил, махнул рукой и поставил шар на подоконник. В классе шумели командиры. Александр как председатель реввоенсовета постучал по столу.
— Прошу внимания, братва. Настал решающий момент: или с Петлюрой объединимся, или сами проломимся домой. Толкуйте по очереди.
Первым поднялся Трофим Вдовыченко, крепыш с усами вразлет — командир Азовского корпуса.
— Саблю у меня из рук не вышибешь. А тут большой политикой пахнет. Но рискну. Будем дураками, якшо не спаруемся. Две армии — то ж сила! Кому еще дорога наша земля? Деникину? Нет! Ему империю подавай. Ленину? Тоже нет — этому диктатура мила. Польским панам? Еще чего! Задушат нас поодиночке. Всё! — он сел, гремя шашкой, которая зацепилась за стул.
— Самостийникам держава снится, а нам — свобода каждого земляка. По-твоему, Трофим Яковлевич, как это склеить? — попросил уточнить Алексей Марченко.
— А як хочэтэ. Для того и собрались, — отвечал Вдовыченко.
— Я согласен. Но с одной заковыкой, — сказал в тишине помощник начштаба Иван Долженко. — Армии соединить, а Главного атамана Петлюру, как и Григорьева, ликвидировать.
— Правильно! Дело предлагает! — зашумели члены совета. Встал начальник штаба Повстанческой армии Украины Виктор Билаш, без всякого оружия, в сером костюме.
— От нашей мудрости сейчас зависит судьба социальной революции. В строю тридцать тысяч штыков и десять тысяч сабель. Сила, как видите, немалая. Преследуя нас, деникинцы оторвались от баз и железной дороги. Настало время бить их! Но где взять патроны? Отвечаю: у Петлюры. Не даст — купим. Золото есть. Вдобавок пусть разместит у себя наших тифозных и раненых. А объединяться не нужно. У него-то и армии нет. Галичане подчинены своему диктатору. Предлагаю: послать в штаб Главного атамана делегацию. Например, испытанного дипломата Чубенко и теоретика Волина. Тем более, что у нас уже давно сидят хлопцы с косичками-хохлами и ждут послов.
— Они друзья, Виктор Федорович, или кто? — спросил Василий Данилов, уже инспектор артснабжения армии.
— А Главный атаман не снюхался с Деникиным? — подал голос и патлатый матрос Дерменжи, инспектор телеграфной и живой связи.
— Это вон разведка пусть доложит, — отвечал Билаш. Лев Голик глянул на Махно. Тот кивнул.
— По нашим сведениям, Петлюра отправил к белым целую камарилью, чтоб сохранить свою власть.
— Так о чем речь? — не понял Федор Щусь. — Он враг, и точка!
— Яснее крой, братишка, — попросил Дерменжи. — Палуба под ногами качается от ваших премудростей, брашпиль им в рот!
— Сейчас в наличии три Украины, — продолжал Голик.
— Ну, даешь! — удивился Данилов. Он никогда не вникал в историю народа, среди которого жил. Хохлы себе и хохлы. А оказывается, их три куска. — За свободу какой же нэньки мы тогда бьемся, Лева? Едри т-твою бабушку!
— Хай Чубенко скажэ.
— Давай, дипломат! — послышались голоса.
Алексей, головастый, степенный, прошел к столу.
— Вы ж понимаете, что я не ведун. Могу и сбрехать. Оно как получилось? Подальше на запад и север от этого места, где мы сидим, тоже живут украинцы. Красная Русь называлась. Ее давно еще захватили поляки, потом австрийцы, мову нашу попортили и веру. Может, слышали: Галичина, Волынь. У них теперь свое войско и правительство. Но из Львова их поперли поляки, прижали к Петлюре.
— Короче, — потребовал Махно.
— Там, где Киев, Полтава, при царе была Малороссия. А всё остальное — наша вольная, казачья окраина, или Слободская Украина.
— Столица в Гуляй-Поле, — подсказал Василий Данилов.
В классе засмеялись. Чубенко продолжал:
— Пару недель назад петлюровцы вместе с галичанами взяли Киев. А на следующий день белый генерал выгнал их оттуда.
Лев Голик добавил:
— Негоже говорить плохо про земляков. Но мои агенты доносят, что Главный атаман ищет помощи в Париже, Лондоне, Варшаве. Готов любому черту заложить наши просторы, лишь бы тот защитил его власть, его дэржаву.
После таких «высоких материй» никто слова не просил. Председатель совета Александр Лащенко наклонился к Батьке.
— Будете выступать?
Тот поднялся из-за стола и начал недовольно:
— Ты, Вася, насчет Гуляй-Поля брось ехидничать! Откуда повел полки Богдан Хмельницкий? Из Киева, из Львова? Эгэ… из Чигирина! Слыхали о таком городке? Нет? Вот то-то. Чем же он лучше нашего, родного? А тем, что там не точили лясы, а действовали! Мы послали письмо Петлюре. Он, дурак, молчит. Значит, хай едет к нему Чубенко и правдами-неправдами возьмет хоть патроны. Задача Волина другая: добиться возможности вести там нашу пропаганду. Захотят все украинцы идти с нами — пожалуйста, милости просим. А нет — силой и обманом не заставишь. Главный атаман, думаю, на подчинение не согласится. Он даже председателя Директории Винниченку попёр ко всем чертям ради своей власти. У них, видите ли, киевский, столичный гонор. Да что гадать? Поглядим.
— А почему бы тебе, Батько, самому не отправиться к Петлюре? — спросил, не поднимаясь, Александр Калатников. После того как привел красную бригаду, он почувствовал себя в большой силе. Все притихли.
— Глупость! Нельзя рисковать! — отрезал помощник командующего, молчун Семен Каретник.
— Разрешите мне, — вежливо попросил Лев Голик. — Мы имеем сведения, что Главный атаман очень опасен. Против него пытался бузить полковник Болбочан. Его заманили на Черный остров и там прикончили. Выводы делайте сами…
Чубенко с Волиным уехали. 20 сентября 1919 года на станции Жмеринка был заключен договор, по которому стороны обязались вести борьбу с генералом Деникиным и, если победят, махновцам предоставят территорию «для свободного советского строя». После долгих препирательств Петлюра (он не доверял анархистам и сам очень нуждался в помощи) выделил даром 125 тысяч патронов, а еще 575 тысяч продал за 50 тысяч рублей золотом. Кроме того, больные и раненые махновцы размещались по тыловым госпиталям. Войско Батьки в оперативном отношении подчинялось генштабу Главного атамана.
Было ясно, что он рассматривает Украинскую повстанческую армию как бедных родственников, которые к тому же имеют наглость что-то требовать. Например, свободу проповеди любых идей. Петлюра с этим решительно не согласился. Он видел, что галичане во главе с доктором Петрушевичем молятся национальной, считай, буржуазной демократии. Анархисты же бредят свободой без государства и слышать не хотят о национализме без приставки «интер». Разве можно дать им волю спорить? Схватятся за сабли! Хуже того: махновцы мигом задурят селянские головы и перетянут казаков-сечевиков на свою сторону, как вчера — красные полки!
А вот лично встретиться с Батькой Главный атаман согласился, сказал с приятной улыбкой Волину и Чубенко:
— Лучше раз увидеть, чем десять услышать. Хай приезжает в Умань.
Высоколобый, светлолицый, в наглухо застегнутом френче, Симон Васильевич был на девять лет старше Махно. Учился в духовной семинарии, но любил играть на скрипке и без меры увлекался родной культурой — выгнали. Помаялся на Кубани, во Львове, в Москве, давал частные уроки, редактировал «Украинскую жизнь». А с рокового семнадцатого пошел вверх и вот теперь — Главный атаман. Он искренне хотел блага своему трудовому народу, лишенному государства со времен татарского нашествия и разрушения Киева. Но Петлюра был крепко убежден, однако, что только он может и обязан возглавить историческую миссию восстановления Дэржавы.
Отправляясь в Умань в салон-вагоне, прицепленном к бронепоезду, Симон Васильевич надеялся, хотя и не без сомнений, что провинциальный, какой-то гуляйпольский батько не совсем же идиот и вместе со своей ватагой подчинится законному правительству Украинской Народной Республики. Сколько же ей мытариться без официального языка, герба и границ на карте мира? Об этом болит душа даже у последнего нищего земляка!
А Махно в это время созвал новый совет. Пока собирались, он почувствовал себя одиноким. Испытывал подобное не раз в тюрьме и позже: ни жены, ни любви, ни кола ни двора. Теперь было совсем иное. Входили, разговаривали между собой командиры, а он вроде уже оставался в стороне. Пригласили-то на встречу ЕГО, не кого-нибудь. Советоваться с первым лицом на Украине. Пусть почти липовым: ни территории у Петлюры нет, ни войска доброго. Да Главный же атаман! Пишет бумажки генералам и министрам в Лондон, Париж, а позвал ЕГО и не на чарку самогона — решать судьбу страны!
Вместе с приятным холодком шевелился какой-то чертик, как будто подпрыгивал внутри, радовался: «Только с тобой, Нестор! Лично! Ишь, куда ты взлетел!» Он пытался справиться с наваждением, отвечал на вопросы товарищей. Но чуть умолкал, как черненький тут же сладко напевал: «Вот случай, что побивает всесильную судьбу. Лови его! Лови. Другого не будет!»
Помощник начальника штаба Иван Долженко ляпнул:
— С Петлюрой надо кончать, Батько! Раз и навсегда!
Ледяной искуситель затрепетал, вроде даже аплодировал. Усмирить его попытался Лев Голик:
— Поймите, друзья. Главный атаман не один. С ним совет министров, и у каждого свой штат. Это же офицерско-чиновничья камарилья. Они все там кормятся и жаждут еще большего для себя от дэржавы. Много обещают и казакам-сечевикам, и те верят. О галичанах молчу, у них свой диктатор. Теперь соображайте. Коцнем Симона — чего добьемся? И белые уже под Уманью!
— Что предлагаешь? — насупился Махно.
— Исходя из суровой реальности — не ехать, не рисковать!
— А я за то, чтобы кокнуть, и всё! — настаивал Долженко. — Будем нянчиться — не быть матери Украине свободной!
Постановили так: согласится Главный атаман отдать вожжи — брать его под свое крыло. Заупрямится — порешить! Для этого выдвинули к Умани лихую кавалерийскую бригаду. Батько поехал тоже не с пустыми руками — в окружении охраны, пятисот испытанных пулеметчиков и рубак. Лев Голик предупредил, что и гарнизон Петлюры не дремлет, стоит в ружье. Сам же, как и условлено, ждет Батьку в салон-вагоне на железнодорожной станции. «Может, и договоримся, — полагал Махно. — Почему нет?»
— Гэй, Батьку! — крикнул Захарий Клешня, что ехал в охране. — Мудрости вам! Побрататься трэба!
Тачанка, в которой Нестор Иванович направлялся на встречу, катила уже по городу, когда появился на буланом жеребце Дмитрий Попов, эсер, забубенная голова.
— Удрал мой соратник по партии, — сообщил Митя, наклоняясь к Батьке.
— Симон, что ли? — спросил тот, не веря.
— Да-а, полчаса назад укатил в сторону Христиновки, в свой тыл.
Махно сидел насупившись и покусывал губы. Тачанка и охрана в недоумении остановились. Батько чего угодно ожидал — только не бегства Главного атамана. Испугался? Считает союз невозможным? Не верит в победу? «Какая же ты несчастная, моя Украина-мать», — качал головой Нестор Иванович…
Спустя некоторое время галичане, изнемогая от тифа и враждебности местного населения, сдались на милость белых. А Симон Петлюра, бросив остатки своего войска, бежал в Польшу.
— Ох, и кинем же мы на небеса большевиков! — сказал Петр Соболев, который (Сашка не раз убеждался) зря ничего не обещает. — Идешь с нами, Барановский?
— Куда?
— Пока на Арбат.
Они зашагали по Яегтярному переулку. Петр чуть впереди. В брезентовых куртке и кепке, в заплатанных штанах он шел, не оглядываясь, стремительно и твердо ступая. Сашка еле очухался от сыпняка и отставал.
— Не лети, — попросил. Соболев озирнулся. Саркастическая усмешка тронула его рыжее лицо. Рыжими были брови, усы, даже щетина на щеках. По всем приметам — противнючий тип. А бессребреник, каких мало. Надо же! И заботливый как нянька, но только со своими.
— Я тебе, Шура, не раз толковал: мы, анархисты подполья, — самые свободные на этой неуютной, пока рабской земле. Слыхал? Деникин задавил пол-Расеи. Сюда прёт. Завтра большевики, коль не пугнем их, зябликов, объявят тотальный террор.
— Им недолго, — согласился Сашка.
— И подметут всех сомнительных. В первую очередь нас. Но мы… готовы!
Барановский как-то читал с восхищением о римских гладиаторах, бестрепетных мужиках, которые восклицали перед боем: «Идущие на смерть приветствуют вас!» Вот что-то подобное. Соболев здорово напоминал их: большая голова с короткой стрижкой, мощная грудь плотника. И глаза. Редкие, молочно-голубые, как февральский лед. Беспощадные.
— Кремль? — спросил Сашка. Ему тоже не терпелось тряхнуть силушкой.
— Нет, проще. Они сегодня во главе с Лениным будут кучковаться в особняке графини Уваровой. Мы их, любезных, и пустим вне очереди на небеса. Витольд с Марусей Никифоровой кончают на юге Деникина. А у Батьки Махно уже новая армия. Слыхал?
— Откуда? — удивился Барановский.
— Прибыл гонец. Правда, сразу же уехал. Советовал начинать. Одним махом разорвем сети власти над славянами. А там — Европу и мир освободим!
На Арбате они вошли в подъезд дома № 30, поднялись в 58 квартиру. Им открыла блондинка в фартуке с цветочками.
— Ну и нюх у вас, мальчики! — улыбнулась. — Котлеты с картошкой и грибным соусом ждут. Пальчики оближете!
–' Потом, Татьяна Никитишна, — Соболев прошел в комнату. Барановский не отставал. Петр нагнулся, достал из-под кровати деревянную коробку, плотно обмотанную бечевой.
— Бери, — велел Сашке.
Тот поднял.
— О-го! — и понес к выходу.
Хозяйка, однако, расставила руки, не пускала:
— Обижусь, мальчики. Я так старалась. Ну прошу вас к столу!
— Ладно, Саня. Уважим, — они присели. Татьяна Никитична захлопотала у печки. Квартира была куплена специально для конспиративных свиданий анархистов.
— Где же моя подруга, Маруся Никифорова? Давненько не виделись, — спросила между прочим хозяйка.
— В Крыму, будьте любезны, отдыхает, — отвечал Соболев. — Под пахучими кипарисами.
— Счастливая. Там сейчас бархатный сезон. Море как молоко, — Никитична подала блюдо. Запахло опятами. — По рюмочке, мальчики, примете? Смирновской плесну, забытой нынче. Чистая слеза! И огурчик с пупырышками.
— Нельзя, — отказался Соболев. — На дело топаем. Потом.
Перекусив, они откланялись. Коробку взял Петр. В ней больше пуда весу, и переболевшему Барановскому, хотя он и на голову выше, такая ноша оказалась не под силу. К тому же он разглядывал то печальный памятник Гоголю, то какой-нибудь особняк с колоннами и лепкой, подсвеченный заходящим солнцем. Это было сейчас ни к чему, и Петр ворчал:
— Потом, Шура!
— После… не будет.
— Ты чо? — забеспокоился Соболев. — Пал духом? Так возвращайся! — и посмотрел на Сашку ледяными, молочно-голубыми глазами.
Тот смутился:
— Не-не, интере-есно. И мало ли. Не на свадьбу топаем.
Петр поставил коробку на землю, озирнулся. Напротив, у подъезда, сидел холодный сапожник, постукивая по каблуку. Какие-то бабы спешили с узлами. Никого подозрительного.
— Ребята соберутся славные, каленые, — зашептал Соболев на ходу, — и все же ты из них самый верный, Саня. Не идеям, нет. Свобода трудящихся от любого гнета для нас всех священна. А вот рука не дрогнет лишь у тебя. Дело-то мокрющее. Грандиозное, слышь! Метать снаряд будем вдвоем.
Барановский судорожно глотнул. Далеко ли кинешь такую тяжесть? Это верная гибель! Ну и что? Недавно чуть не окочурился от тифозной вши. Какая разница? И Петр на смертника не похож. Улизнем!
— А остальные?
— Те — охрана.
— Ну что ж, я готов, — согласился Сашка, польщенный тем, что даже не совсем выздоровевший ценится выше всех боевиков. Осторожный Соболев не сказал, что сегодня утром к нему пожаловал член левоэсеровского ЦК, осужденный большевиками за мятеж и с тех пор скрывающийся Донат Черепанов по кличке Черепок.
— Читал «Известия ВЦИК»?
— Нет. А что?
— На ловца, Петя, и зверь бежит. Вся верхушка диктаторов слетается вечером в особняк графини Уваровой, где раньше располагался наш цэка. Захватили, стервятники. Будет Ленин, Каменев, Бухарин, Ногин. Хватит тебе?
Соболев кивнул.
— Давай грохнем? Другого такого случая скоро не представится, — серые глаза Доната горели ненавистью, ноздри нервно вздрагивали. Галстук под белым воротом съехал на сторону. Петр слышал, что Черепок — юрист, чуть ли не профессор. Не чета ему, плотнику из артели. Но не сомневался: гость тоже крут.
— Подходы найдем? — лишь уточнил Соболев.
— Как свои пять пальцев. Мы там почти год заседали. Сад, лестница, балкон. Лучше не придумаешь. Вот гляди, — Донат взял карандаш. — Дом большой. Фасадом выходит в Леонтьевский переулок. Видишь? Тут охрана, и нам делать нечего. А вдоль Чернышевского переулка, Петя, идет забор…
Обсудив детали, договорились встретиться вечером, в восемь часов, когда собрание большевиков будет в разгаре.
— Деньги еще нужны? — предложил Соболев. — У нас касса миллионная!
— Не стоит дразнить Фемиду, — махнул рукой Черепанов. — Она хоть и слепая, а не любит самонадеянных…
С Тверской Петр и Сашка свернули в Чернышевский переулок. Прохожих почти не было, и стояла какая-то гнетущая тишина.
— Здесь, брешут, при Грозном опричники баловались, — заметил Соболев. — А при моем тезке разудалая тать гуляла. Веселенькое местечко, будьте любезны.
В саду, за оградой, сонно позвонила синица. Они отправились дальше. Показались еще двое.
— Это наши, — предупредил Петр, осторожно опуская коробку на тротуар. — Справа Черепок. С ним Федя Николаев, тоже эсер. Ты его не знаешь. А вон и своя братва: Миша Гречаников с Яшей Глазгоном. Все в сборе.
— Здравствуйте и дальше, орлы! — бодро и многозначительно сказал Черепанов, пожимая руки товарищей. — Меня могут узнать возле особняка. Туда пойдет… хотя бы ты, Яша. Вместе с Митей. Договорились? Поднимется шум до взрыва — палите по окнам, чтоб отвлечь внимание на себя.
Чувствовалось, что именно Донат среди них главный. Соболев не возражал.
— А мы с Федором остаемся здесь, — продолжал Черепок. — Обеспечиваем тыл операции. Все ждем взрыва. И тихо… подчеркиваю, тихо расходимся. Не бежать! Это — и без криминалистики ясно — верная гибель. Был бы верующим, пожелал бы: «Да поможет нам Бог!» Пошли.
Петр и Сашка отправились к ограде особняка. Они, конечно, не ведали, есть там кто, с той стороны в саду, или нет. Сейчас это уже не имело значения. Тем более, что опускались сумерки. Барановский подпрыгнул, схватился рукой за кирпичи на ограде и влез. (Соболев потому и выбрал именно его, высокого и крепкого, что никто другой не смог бы здесь забраться). Осмотрелся. Вроде никого.
— Давай, — шепнул.
Петр двумя руками поднял коробку, потом с помошью Сашки влез и сам. В саду было мрачно, сыро и пахло свежими палыми листьями. Оставив бомбу у ограды, они пошли к особняку. К нему была приставлена лестница, как и говорил Черепок. Она упиралась в балкон второго этажа, где в большом зале заседали большевики. Петр потолкал лестницу. Стояла надежно. Он полез вверх, осмотрелся. Всё точно: балкон, за ним дверь, окна. Молодец Донат, верный следопыт. Даже окно приоткрыто.
Соболев слез, кивнул, дескать, порядок. Пошли к бомбе. Петр чиркнул, проверяя зажигалку, вспыхнул огонек, погас. Взяли коробку и понесли к лестнице…
В особняке обсуждался не один вопрос о партийных школах, как было объявлено в газетах, а два. Вначале говорили о тайном. На днях чекисты раскрыли белогвардейский заговор — организацию «Национальный центр» и нащупали там агентов-информаторов. Кто они — оставалось загадкой, и активисты, а их бьшо более ста, явственно почувствовали угрозу. Где затаились те вражины? Может, и в этом зале сидят? Поди угадай. Когда зашла речь о школах, настроение не изменилось, хотя некоторые агитаторы все же беззаботно гуляли по коридорам.
Вдруг со стороны последних рядов раздался треск. Что это? Люди насторожились. А когда упало что-то тяжелое, одни в зале остолбенели, другие толпой бросились к выходу. Кто-то взвыл:
— Бо-омба!
Пропагандисты с воплями залазили под кресла, под рояль у стены. Не видя никакой причины для паники, к ним смело направился высоколобый, молодцеватый секретарь московского комитета Владимир Загорский. Его изумило малодушие людей, которые минуту назад громко клялись в верности… подумать только… мировой революции? Собирались вести за собой миллионы!
— Да что же вы, товарищи, в самом деле? — спросил он огорченно. — Ничего тут нет. Стыдитесь!
И в это время оглушительный взрыв потряс здание. Падали балки перекрытий, с грохотом валились стены. Всё вокруг заволокли пыль и гарь. В наступившей тишине раздавались крики о помощи, стоны раненых.
Вскоре прибыли медики, пожарные, чекисты и всю ночь разгребали завалы. Двенадцать человек было убито и пятьдесят пять ранено.
Виновники скрылись. На следующий день в газетах сообщалось, что это «дело рук белогвардейцев и кадетских Иудушек».
Я с полным основанием заявляю, что революция торжественно провозгласила новую подлинную религию, не небесную, а земную, не божественную, а человеческую — религию исполнения предназначения на земле…
Свобода! Только свобода, полная свобода для каждого и для всех! Вот наша мораль и наша единственная религия.
М. Бакунин. «Международное тайное общество освобождения человечества».КАЗНЬ МАРУСИ НИКИФОРОВОЙ
Комендантом Севастопольской крепости и начальником гарнизона генерал-майором Субботиным опубликован следующий приказ.
Из дознания, произведенного чинами севастопольского контрразведывательного пункта, видно, что именующая себя Марией Григорьевной Бржостек, она же по прозвищу «Маруська Никифорова» обвиняется в том, что в период времени 1918–1919 годы, командуя отрядом анархистов-коммунистов, производила расстрелы офицеров, мирных жителей, призывала к кровавой и беспощадной расправе с «буржуями» и «контрреволюционерами». В 1918 году между станциями Переездной и Лещинской по ее приказанию было расстреляно несколько офицеров и, в частности, Григоренко. Она участвовала вместе с войсками Петлюры во взятии Одессы, причем принимала участие в сожжении гражданской тюрьмы, где и был сожжен ее начальник Перелешин. В июле месяце 1919 года в гор. Мелитополе по ее приказанию было расстреляно 26 человек, между прочим некто Тимофей Рожнов.
Витольд Станиславович Бржостек обвиняется в том, что укрывал Марию Бржостек, не довел до сведения властей о совершении ею преступлений.
3 сентября военно-полевой суд приговорил к смертной казни Никифорову и ее мужа. Она держалась вызывающе и после прочтения приговора стала бранить судей. Расплакалась только при прощании с мужем.
Ночью они оба расстреляны.
Газета «Александровский телеграф».Перед рассветом пугливые кольчатые горлинки вдруг сорвались с веток, где ночевали, и заполошно заметались в сумраке — неслыханный взрыв потряс холмы у речки Ятрань (приток Синюхи, которая в свою очередь впадает в Южный Буг), леса, поля и даже докатился до Умани.
Это команда Алексея Чубенко подорвала две тысячи морских мин на возвышенности у села Перегоновки, тем самым известив все свои полки о начале наступления на белых.
Накануне вечером удар по ним был нанесен у сельца Рогово, что приютилось севернее на той же Ятрани. Однако командир офицерского Симферопольского полка Гвоздаков, произведенный в генералы за стойкость у станции Ломотной, донес: яростные атаки снова успешно отбиты и махновцы бегут на запад.
«Ну и слава Богу, — размышлял ночью Яков Слащев, стоявший во главе всей операции по уничтожению бандитов. — Никуда они не денутся. Николай Васильевич (Прим. ред. — Генерал Скляров) взял Умань и отрежет им пути отступления. А с юга идет со свежими дивизиями генерал Андгуладзе. Мышеловка захлопнулась». По всем правилам боевого искусства замысел был безукоризнен, но это не радовало Слащева.
Он тяготился ролью, которая выпала ему, выпускнику Императорской военной академии, пять раз раненному, получившему Георгиевское оружие и ордена всех степеней Святой Анны с мечами и надписью «За храбрость», Святого Станислава с бантами, Святого Владимира и Святого Великомученика и Победоносца Георгия. У многих ли есть такие награды в тридцать три года? Ему ли, гвардейскому генералу, гоняться за шайкой разбойников, когда вот-вот падет красная Москва? Газеты вон захлебываются сообщениями о победах над достойными соперниками. Но что поделаешь — дисциплина! И видимо, не судьба. Да теперь уже скоро этому конец. Рассеют повстанцев, пнут под зад никчемного Петлюру (как он, самостийный пёс, бежал из Киева, да всюду!) и замирятся с поляками. Слащев подумал еще о жене, повздыхал, протер одеколоном подмышки и уснул.
Перед рассветом его неожиданно разбудил офицер для особых поручений, штабс-капитан Ершов.
— Ваше превосходительство! Яков Александрович! Взрыв!
— Где? — строго спросил генерал.
— Со стороны махновцев. Я бы не беспокоил вас, но жуткий гром! У Перегоновки. Может, наши подорвали их обоз со снарядами?
— Славно бы. Ану, езжай туда, капитан, выясни обстановку. Скорее всего бандиты сами уничтожают свои запасы, чтоб легче было бежать.
Порученец поскакал на передовую. Еще в степи услышал нараставшие звуки боя: рявкала артиллерия, дробно стучали пулеметы. Ершов пришпорил коня, но командира Симферопольского полка Гвоздакова в Перегоновке не застал. Тот был севернее. А в штабе причину взрыва толком не могли объяснить.
— Может, морские мины пустили в расход, — предположил комбат Гаттенбергер, высокий блондин с тяжелой челюстью. — Разведка что-то такое докладывала.
— Не исключено, — согласился порученец и вышел.
Село запрудили обозы.
— Какой части? — спросил Ершов первого попавшего вахмистра.
— Феодосийский, рядом Керчь-Еникальский полк.
Синие утренние тени вытягивались вдоль заборов и хат. По улице метались всадники.
— Пятую! Офицерскую сюда! — требовал полковник, сидя на горячей вороной лошади. В руке у него бинокль, стекла взблескивали. Ершов подъехал, представился, поинтересовался:
— Что за взрыв был?
— А бес его ведает. Это у них. Пугают уркаганы и лезут, как саранча. Вы ближе, ближе взгляните! — рассердился полковник. — Пятая! Подтянись! За мной! — и он ускакал.
Порученец поехал за ротой. Она пела:
Грудью под-дайсь! Напра-во рав-няйсь! В ногу, ребята, иди-те!От этой лихой песни легче стало на душе. Но путь капитану преградили телеги. На них стояли пулеметы с продетыми лентами и поднятыми прицелами. Рядом торопились солдаты. А назад уже везли раненых, шли сестры милосердия в белых косынках. Справа на огороде стояли пушки. Подпрыгивая, били прямой наводкой.
— С коня, капитан! — услышал Ершов. — С коня! Срежут!
Он и сам видел, что порет глупость, но молодой задор и пример генерала Слащева, которого пуля боится, не позволяли прятаться. Кто-то звал:
— Ершов! Сюда!
Он заметил на чердаке открытое окошко и чью-то руку. Заехал во двор, привязал коня и по лестнице поднялся под крышу.
— Какая встреча! — послышался незнакомый голос. — Лезь сюда. У нас тут наблюдательный пункт.
Капитан забрался на чердак.
— Не узнаешь? Эх ты, друг ситцевый. Кроткое я! Новочеркасск, госпиталь. Сестричка Вера с шелковыми прядями!
— А-а, — Ершов улыбнулся. — Здорово, Анатолий!
Они обнялись.
— Теперь зыркни, зыркни! — приглашал Кроткое.
В щель было видно, как за голубой речкой ехали на тачанках, бежали толпами к Перегоновке махновцы. В реве орудий, в свисте, стоне можно было лишь понять, что идет навальное наступление. Выдержат ли защитники? Сражение шло внизу. Вправо и влево на огородах фигурки рассыпались, терялись. Весь в чердачной пыли Анатолий передавал команды орудиям, и за Ятранью, за хатами, то и дело кустисто рвались снаряды, вспыхивали белые облачка шрапнелей. А с того берега всё валили, лезли новые конные и пешие и словно пропадали у околицы. Глухо доносилось: «Р-ра! Р-ра!»
Усилился и обстрел позиций добровольцев. Неподалеку от наблюдательного пункта вздыбилась земля, полетели доски.
— Ох и лупят! — поразился Кротков. — Отличные наводчики. Откуда снабжаются? Поди разбери.
Немало повидавший Ершов тоже был удивлен упорством махновцев. Он не раз восхищался холодной стойкостью офицерских частей, но чтобы так отчаянно дрались какие-то бандитские шайки — казалось невероятным. «Мы бьемся за святую белую идею, за судьбу великой России, — полагал он. — Любовь к ней, честь ее — без этого моя жизнь теряет смысл. А что им надо? Чего ради сирые лезут на смерть? Хотят прорваться к беленьким хатам, к женам, детям? Пожалуй, так».
Спустя часа два махновцы, наконец, выдохлись и покатились, толпами побежали назад. Теперь, решил порученец, пора возвращаться и докладывать генералу, что атаки отбиты…
В это время севернее по речке, у сельца Рогово, повстанцы Александра Калашникова с высот пытались развить наступление. Но и тут ничего не получалось. Роты Симферопольского полка во главе с генералом Гвоздаковым стояли стеной. Виктор Билаш тем не менее был спокоен.
— Ждем вестей, — говорил он Калашникову, стоя на кургане. — И не пори горячку! Штаб армии следит…
— Какую горячку? — кипятился Александр. — Мы в окружении. Ловушка вот-вот захлопнется, и перебьют как мух. Давай подкрепление, пока не поздно!
Начальник штаба загадочно усмехался, кривя правый угол губ. Хотя в глубине души он тоже стал сомневаться. «А если всюду так? Белые не шутят. У них небитые войска, куча генералов. Но и мы не пальцем сделаны, как выражается Батько. Потомки славных запорожцев! Где-то обязательно прорвемся».
Особые надежды он возлагал на южный участок. Там уперся Крымский корпус. Испытанные хлопцы. Один железный полк Полонского чего стоит. А на них надвигались из Одессы новобранцы: всякие гимназисты, уркаганы и прочая шваль. Разметать их и ударить в тыл офицерам по речке Ятрань — вот какая стояла задача. Но первым прискакал все-таки гонец с севера, куда была отправлена почти вся кавалерия.
— Умань наша! — доложил он радостно. — Кадеты обоср… Что там творилось!
— Говори яснее.
— Туча пленных. Они, дурачье, взяли вчера город без сопротивления. Петлюровские сечевые стрельцы драпанули, как зайцы, а частью переметнулись к белякам. Пили на радостях, а мы тут как тут. Тысячи порубили. Остальные разбежались. Коней гоним тьму!
— Вот за это, — сказал Билаш, — спасибо, дорогой, от имени всей армии! А где наши хлопцы?
— Семен Каретник ведет к Перегоновке.
— Чув? — обратился начальник штаба к Калашникову. — Я тебя предупреждал: не пори горячку. О победе, думаешь, только нам донесли? Деникинцам тоже. Теперь бей их, пока не опомнились, и заходи в тыл к Перегоновке. А я со штабом тоже туда поеду, но по нашему берегу.
Не успели они собраться, как прибыл гонец и с юга.
— Одесская шваль тикае!
— Сам бачыв? — спросил Билаш.
— Та шоб мэни повылазыло!
Штаб армии отправился к Перегоновке. Махно с охранной полутысячей встретили у небольшой рощи. Дело шло к обеду. Дымились кухни, пахло жареным салом и кашей.
— С чем прибыл? — поинтересовался Батько. Вид у него усталый, подавленный. Серая папаха съехала на ухо.
— Юг прорван, — доложил Билаш.
— Знаю, это рядом. А север? Умань как?
Виктор медлил. Их обступали повстанцы.
— Наша! — выпалил Билаш.
— Ура! Ура! — закричали вокруг.
Эту весть давно ждали. Махно же и не улыбнулся.
— А у вас тут что? — задал вопрос и начальник штаба.
— Упёрлись, как волы рогами. Ни туда ни сюда.
— Давайте подождем подкреплений. Эй, повар, неси кашу! — попросил Виктор. — Веришь, Нестор Иванович, маковой росинки во рту не было.
— Кого ждать? — не согласился тот. — Еще раз ковырнем их!
— Правильно, — поддержал его командир охраны Гавриил Троян.
Но Билаш осуждающе покачал головой, взял миску, ложку, сказал:
— Не спешите. Кавалерия скоро прибудет. Калашников по тылам вот-вот врежет. Тогда и навалимся.
А Нестору Ивановичу перед тем доложили, что пал в бою брат Григорий и Петя Лютый пропал без вести окончательно.
— Поднимай охрану! — резко приказал Батько Трояну. — Мы им покажем, шакалам. Где пушки? Ану влупите по передовой!
Не притронувшись к еде, он повел своих рубак на Перегоновку. Билаш смотрел на них и все качал головой: «Что за лихость? Глупо! Глупо!»
Напор был силен, и белые оставили село на правом берегу, а затем и его центральную часть. Вскоре они, однако, опять потеснили махновцев.
Тут и показались кавалеристы, идущие с севера, от Умани. Лошади как на подбор, еще и запасных ведут. Но люди усталые, многие в бинтах. К Билашу подъехал инспектор кавалерии Максим Дорож, шахтер из Юзовки, вчерашний красный комбат.
— А где Каретник? — не понял начальник штаба.
— Ранен. В обозе. Приказ выполнен, — докладывал инспектор, глядя в сторону села. Там заливались пулеметы. — Никак не можете взять?
— Уперлись рогами. Подсобите? — попросил Билаш.
— Силы, считай, на исходе, Виктор Федорович. У хлопцев глаза слипаются.
— Вижу, потому и не приказываю.
Вокруг них крутились верховые, прислушивались. Другие сразу же подались в Перегоновку, где дрались у кого отец, у кого друг или брат. Оттуда прискакал Михаил Уралов:
— Спасайте пехоту! Батько в опасности!
Кавалеристы молча переглядывались. Они не спали, измотались. Кроме того, не всем пришелся по нраву один из последних приказов Махно. Видите ли, хлопцы обыскали в селе какого-то Евдокима Бабия. Взяли штаны, кожу для сапог, женский платок, перочинный ножик и три рубля 75 копеек. Чи не богатство? А хлопцев-то тютю. Еще и возвратили всю эту чепуху Евдокиму, чтоб он подавился. «Цэ, бля, вжэ зовсим! За шо ж воюем?» — говорили между собой повстанцы. Видя, что они не торопятся ударить по врагу, Михаил вскочил на тачанку, достал книжечку.
— Братишки! В моих руках дневник офицера. Вот он, смотрите и слушайте! — голос Уралова звенел. Верховые подъезжали, останавливались. — Это исповедь. Он пишет: «Добивать пленных красноармейцев мало удовольствия. Привязали его к дереву, между ног повесили гранату. Дернули шнур… и вдребезги! Поймали махновца. Решили поджарить. Кинули на лист железа, развели под ним огонь. Как он извивался! Поручик Ника разрывной пулей снес ему голову». Братишки! — кричал Мишка. — Отряхнем с плеч панов и палачей! Вперед на тирана!
Загремело «Ура!» Инспектор Дорож, видя такое, скомандовал:
— По коням! Рысью марш!
Эскадрон за эскадроном вперемешку с тачанками двинулись в сторону села. Билаш на ходу давал последние распоряжения. Эту разъяренную лавину нельзя было остановить. Она ринулась через Ятрань и, взблескивая саблями, устремилась на деникинцев. Те стойко отбивались, но вскоре вынуждены были отступить. Часть кавалерии пошла вправо и в сельце Краснополье окружила Лабинский полк. Кубанцы воткнули штыки в землю. Их пощадили. Литовский полк не сдался и был полностью изрублен.
Другая часть кавалерии охватила Перегоновку слева. Симферопольцы и феодосийцы, отступая, пытались проскочить в лесок, но он уже был занят махновцами. Пришлось уходить по полям на восток.
— Почему они не стреляют? — недоумевал поручик Миргородский.
— Нет патронов, Ника… Но нас это вряд ли спасет, — отвечал командир батальона Гаттенбергер. Они шли, спотыкаясь, по пахоте. Раненых и пулеметы везли на подводах. Вдали темнел еще один лесок. Над ним вилось воронье. Припекало солнце — последний дар бабьего лета. А вокруг, на небольшом расстоянии, гарцевали махновцы. Самые удалые (среди них был и Сашка Семинарист), презирая пули, подскакивали поближе и бросали гранаты.
— В лес! — приказал Гаттенбергер. Но опушка, словно на грех, была окопана глубокой канавой. Пришлось бросить раненых и пулеметы.
— Ради всего святого, пристрелите меня! — попросил Николай Миргородский, валясь на бок. Его зацепило осколком. Гаттенбергер молча взглянул на верного помощника, достал наган и выстрелил.
Едва остатки батальона выбрались из леска, как их снова стали преследовать по пятам. На этот раз палили картечью прямой наводкой. Люди теряли рассудок. Но, слава Богу, впереди засинела вода. Над ней пригорюнились вербы.
— Доберемся… и вплавь! — подбадривал офицеров комбат. Из полутысячи их осталось человек шестьдесят. Все ускорили шаг. Вот уже и вода-спасительница! Впереди тихо плыла меж полей и курганов река Синюха. Но на том берегу… Лучше бы и не видеть… Их ждали махновцы на лошадях.
— Давай сюда! Давай! — звали, размахивая на солнце клинками.
Капитан Гаттенбергер вынул из кобуры наган, постоял минуту, приставил дуло к сердцу и нажал на курок.
Петлюра действовал вяло и нерешительно. Оставался один типичный бандит — Махно, не мирившийся ни с какой властью и воевавший со всеми по очереди…
Это умение вести операции, не укладывавшееся с тем образованием, которое получил Махно, даже создало легенду о полковнике германского генштаба Клейсте, будто бы состоявшем при нем и руководившем операциями, а Махно, по этой версии, дополнял его военные знания своей несокрушимой волей и знанием местного населения. Насколько все это верно, сказать трудно.
Я. Слащев. «Материалы по истории гражданской войны в России».
Отдохнув полдня у речки Синюхи и раздав бедным крестьянам лишние подводы и коней, повстанцы готовы были лететь домой. Ждали решения реввоенсовета. Он заседал на пасеке, под старым дубом. Виктор Билаш наклонился над картой и провел три линии, что лучом расходились на восток.
— Наш рейд — это нож в спину белых. Они даже не подозревают, что им грозит. Захватим базы с оружием и продовольствием, перережем дороги, связь. Это крах всей их стратегии! Бьем тремя колоннами…
— Может, рано? — усомнился Алексей Марченко. Члены совета зашумели недовольно — всем давно хотелось домой.
— Что ты имеешь в виду? — спросил начальник штаба Билаш. Ему не нравилась всегдашняя въедливость высоколобого Марченко. С таким характером в конторские крысы иди, а не лезь в стратегию.
— Хай бы они сцепились намертво под Москвой, — объяснил Алексей. — Порвут глотки друг другу — тогда и ударим. Иначе, вот увидите, поднесем победу комиссарам на широком блюде!
Мысль была колючая. В суматохе боев, от которых еще не остыли, об этом не думалось, и все примолкли.
— Он прав, прав, — согласился Махно. — Подождать бы не мешало. Да хлопцы уже как на иголках. Не усидят же, барбосы. По юбкам и хатам скучают. И тут оставаться опасно, на этой Синюхе. Деникин тоже не дурак, скоро опомнится, нагрянет, — Нестор Иванович вздохнул. — Пойдем напролом. Такая уж наша планида. Что будет, то и будет. Как считаете?
Его поддержали.
Первая колонна отправилась севернее — на Екатеринослав. Главная — в Александровск, а третья — на Никополь и Кривой Рог. Получался гребешок.
— Мы им крепко почешем затылок беляков! — грозился Батько. Но четкий замысел сразу же был нарушен им самим. С кавалерийской бригадой он заехал на часок в Песчаный Брод: навестить тещу-вдову и взять с собой Галину. Домна Михайловна была убита горем.
— Посыдить хоть зи мною, диты, — просила, беспомощно качая головой. — Що ж я одна останусь? На кого вы мэнэ кыдаетэ?
— Поедете с нами! — решил Нестор.
— А як же могыла Андрия Ивановыча? Свижа ище, и травка нэ выросла, — теща заплакала, по-детски ловила слезы ладонями. — А хату на кого оставлю? Собаку, кота, курэй. Та тут же вси наши ридни кости. Ой-йо-йой!
Нестор смотрел на мокрые заскорузлые ладони Домны Михайловны, представил мать, что тоже где-то горюет, вздохнул. Уважить просьбу, остаться здесь хотя бы на денек, ну никак нельзя. Тысячи повстанцев ждут его в пути. Мало ли что там может случиться в любой момент. Страдания близких и личные привязанности теперь должны быть безжалостно отброшены прочь! «Но ради чего? — спросил он себя. — Разве счастье все^с дороже слез одной вдовы?» Тут и Галина всхлипнула, заикнулась о Пете Лютом, что пропал без следа, о гибели брата Григория. Сердце Нестора зашлось, кровь ударила в голову.
— Ну, если вы просите, — сказал и вспомнил слова Алексея Марченко: «Может, рано? Пусть порвут глотки друг другу». — Если просите… Готовьте ужин!
— А скилькы ж… чоловик у вас? — поинтересовалась Домна Михайловна.
— До шестисот, мама.
— Ой боже, скилькы? — она даже руками взмахнула. — Чым же йих угощать?
Нестор усмехнулся, увидел, что под образами в красном углу горела теперь лампадка.
— Не волнуйтесь, мама. Пригласим лишь командиров. Остальных разместим по хатам. Федор! — позвал он Щуся, возглавлявшего бригаду. Тот тактично ждал во дворе, зашел. — Караулы расставил?
— По всем стежкам-дорожкам, Батько.
— Тогда созывай митинг, да побыстрее!
Крестьянам было объявлено о большой победе над деникинцами, о том, что вся земля теперь навечно и даром отдается тем, кто на ней работает, власть — тоже. Выбирайте, кого хотите. Просто и ясно.
— А чтобы не болела голова, где взять тягловую силу, — продолжал Махно, — хай выйдут сюда все безлошадные!
Им тут же вручили по коню из тех, что отбили у добровольцев. Всем вдовам без различия, с кем воевали их мужья: с немцами, Григорьевым, Петлюрой, Махно, с красными или белыми — всем выдали, кроме того, по три тысячи рублей и по куску мануфактуры, взятой ранее на станции Помошной. Люди плакали, порывались целовать руки Батьке. Слыханное ли дело? Это же в сказках только случалось!
Нестор Иванович сказал:
— А сейчас просьба к вам, земляки. Разберите по хатам моих хлопцев. Пусть обмоют победу и отдохнут.
Вскоре в Песчаном Броде заиграли, запели, затанцевали…
Тем временем главная колонна, которой руководил штаб армии, с боем взяла станцию Ново-Украинку и, нигде не задерживаясь, ушла верст за сто на восток. Затаборились на родине Григорьева — в селе Верблюжке. Здесь Виктору Билашу донесли, что северная группа под командой Александра Калашникова, как и было условлено, внезапно атаковала Елисаветград и выбила оттуда белых. Не успели порадоваться этому — новая весть. Калашников проявил беспечность, его уже потеснили, и, видимо, с испугу он двинул свой корпус не на Екатеринослав, а вопреки замыслу — на Кривой Рог, то есть поперек пути всей остальной армии.
— Да он что, издевается над нами? — вспылил начальник штаба. — Атаманом снова себя почувствовал? За такие вывихи судить надо! Где же Батько запропастился?
Вошли двое. Наметанным взглядом Виктор Федорович выделил белокурого хлопца с большими голубыми глазами. Тот представился:
— Командир отряда Васыль Блакытный, — и покраснел, как девица. Таких стеснительных среди махновцев мало попадалось, и начальник штаба скривил в усмешке правый угол губ.
— Он еще и поэт, понимаешь? Не терзай его, — попросил Миргородский. — Прозвище даже имеет, или как это у вас, книжных червяков?
— Псевдоним, — подсказал Блакытный, беря себя в руки. — Пеструшкой еще зовусь и Стэповым тоже. Но это чепуха. У нас, под Кременчугом, тысячи повстанцев бедуют в лесах без оружия. Помогите, товарищ начальник штаба. Не пожалеете! — голос поэта зазвенел страстно. — Люди рвутся в бой. Берите под свое маховое крыло!
Теперь и Билаш почувствовал силу слова этого голубоглазого парня.
— Говори по сути. Что нужно? — остудил он его.
— Хотя бы тысячу винтовок и с десяток пулеметов.
— Кого бить собираетесь?
— Та белых же.
— А Петлюру? Мы вам оружие, Лазурный, а вы к Главному атаману переметнетесь! Он тоже эсер, верно?
— Нет! Он предал трудовой народ, бежал в Польшу, — глаза Василя посинели упрямо. Семен Миргородский поддержал его. Дмитрий Попов тоже, и штаб армии разрешил выдать Блакытному то, что он просил.
К вечеру появился и отряд Шубы. Его пополнили бывшими красноармейцами-северянами и двинули на границу с Россией — на Черниговщину. Уже в темноте, последними, ушли к себе полтавцы — полторы тысячи штыков.
Уставший Билаш наконец перевел дух. Чутье подсказывало ему, что эти силы еще ого-го как пригодятся в будущей схватке за свободу всей Украины. Правда, Батько разъярится — это уж точно. «Мы, хохлы, тугодумы. Пока решимся на что-нибудь путное, и рак свистнет, — с тревогой размышлял Виктор Федорович. — Но кто-то же должен смотреть вперед и рисковать?»
Во дворе зашумели. Он взглянул на часы — полночь. Дверь растворилась. На пороге стоял Махно.
— Заждался, штабная крыса? — спросил, усмехаясь. — Как тут без меня?
Билаш пожал руку Батьки, коротко доложил обо всем. В это время зашли Волин, Каретник, Щусь, Марченко.
— Вы гляньте на него! — Махно дрожащим пальцем указывал на начальника штаба. — Может, я тут уже лишний? Новый стратег-барахольщик объявился! Он всю армию самоуправно пустил по ветру. Он же… хуже контры! С кем мы остались? Не-ет! Я этого бардака не потерплю! Выбирайте что-то одно: или я… или Билаш!
Виктор Федорович стоял руки по швам, бледный. Ожидал головомойки, но чтобы так, рубить с плеча — это уж слишком! Батько превращался в диктатора. Вот тебе и анархист! Вот тебе и презрение к власти! Он не желает даже слушать никаких доводов. Гуляйпольский царек! Где-то шлялся двое суток. Это как понимать? Разве не самоуправство? И все словно воды в рот набрали. Соратники, называется!
— Чего ты кипятишься, Нестор? — подал голос, наконец, Всеволод Волин, задиристо подняв клинышек бородки. Он в эти дни писал долгожданную «Декларацию Повстанческой армии Украины (махновцев)» — кредо их борьбы — и знал, что, кроме него, никто ее не осилит. Потому не смутился. — Пойми же, Билаш не сам решал, по всем вопросам советовался с нами. Эти группы, что ушли в разные стороны, станут набатом, будирующим фактором третьей анархической революции.
Махно резко оборотился к Марченко и Каретнику — самым близким, испытанным помощникам.
— И вы тоже так считаете?
Те молча кивнули. Нестор Иванович, насупившись, походил еще, похмыкал.
— Ну тогда и черт с вами. Гаврюша!
— Тут я, — озвался Троян. Он держался незаметно, за спинами более видных командиров, но всегда рядом.
— Неси бутыль со спиртом и закуску. Все ж голодные, як собаки, того и гавкаем.
Билаш вымученно улыбнулся. Он надеялся, конечно, что так и будет. Но зачем же нервы мотать? Они и без того издерганы. Батько, ох, и вонючий мухомор! Правда, отходчивый. Может, еще и спасибо скажет.
Сели за стол. Налили по чарке, вскоре запели:
Дивлюсь я на небо та й думку гадаю: Чому я не сокіл, чому не літаю? Чому мені, Боже, ти крилля не дав? Я б землю покинув і в небо злітав…Перед рассветом, готовясь к походу в родные села, командиры помельче забегали в штаб за последними указаниями и тоже опрокидывали по рюмке на посошок.
Движение это совершалось на сменных подводах и лошадях с быстротой необыкновенной: 13-го — Умань, 22-го — Днепр, где, сбив слабые наши части, наскоро брошенные для прикрытия переправ, Махно перешел через Кичкасский мост и 24-го появился в Гуляй-Поле, пройдя в 11 дней около 600 верст.
В ближайшие две недели восстание распространилось на обширной территории между Нижним Днепром и Азовским морем. Сколько сил было в распоряжении Махно, не знал никто, даже он сам. Их определяли и в 10, и в 40 тысяч. Отдельные бригады создавались и распылялись… Но в результате в начале октября в руках повстанцев оказались Мелитополь, Бердянск, где они взорвали артиллерийские склады, и Мариуполь — в 100 верстах от ставки (Таганрога).
Положение становилось грозным и требовало мер исключительных. Это восстание, принявшее такие широкие размеры, расстроило наш тыл и ослабило фронт.
А. Деникин. «Поход на Москву».
Пианино повалили на телегу и привязали веревками.
— Пребывайте с добром, господа хорошие, — крестьянин взял вожжи, прикрикнул на лошадку, и Соня с грустью смотрела, как этот необычный груз скрылся за углом соседнего особняка.
— Музыка умерла… Зато есть два пуда муки, — обреченно выдохнул дядя. Губы его дрожали. Он махнул длинным и тонким пальцем, направился к подъезду. Племянница тоже поднялась на третий этаж в комнату, заваленную дровами. Посредине стояла печь из кровельного железа.
— Как я ее обкладывал изнутри, Сонечка! Да брось ты печалиться. Лучше разведи тесто. Попируем!
Она не знала, где лежит сахар, масло.
— Водичкой, милая, водичкой. Какое масло? Забудь! Хлеба-то нам, москвичам, по пятьдесят грамм дают, — говорил дядя. — Да-а, обкладывал печь. Где взять кирпичи? Рядом ломали дом. Я туда. Гребу и складываю в мешок… Вынырнул милиционер. Бабах в воздух. «Мотай отсюда, гнилой буржуй!» — орет. А мне что, замерзать? Отопление-то исчезло. Взвалил мешок с половинками на спину и чуть ли не на карачках убёг.
— Какой кошмар. Вы же композитор! — воскликнула племянница.
— В отличие от Александра Блока, не вижу сияния. Один терновый венец и смех сквозь слезы. Эксперимент же идет, дорогая! Большевики нас к счастью ведут. Ты тоже ведь революционерка? Понимаешь, что к чему.
— Я… совсем другое. Анархистка. Простите, они не снимаются!
— Эх-х, лаборанты, — вздохнул дядя, отстраняя ее от сковороды. — Хотите народ переделать, а простых оладушек не спечете. И Ленин ваш такой же, и князь Кропоткин. Страшные дилетанты!
— Я уезжаю на Украину, — вдруг сообщила Соня.
— Когда?
— Завтра утром.
— А у тебя есть разрешение комиссара внутренних дел? Без этого теперь ни шагу.
— Да, достали.
— А деньги? Можно с голоду помереть и в дороге. Возьми муки.
— Дядюшка, где же там печь? — Соня улыбнулась снисходительно. — Я еду не ромашки собирать, а по заданию всеукраинской конфедерации «Набат». Слышали?
Он посмотрел на нее с иронией: черненькая, миловидная, глазенки блестят. Ну зачем такому изяществу лезть в политическую грязь? Ведь вымарается невольно!
— И там хотите развести эти оладьи без масла? Мало вам России?
— Мало! — неожиданно твердо заявила Соня. — Мы весь мир сделаем свободным. Но без насилия. У нас могучие умы. Один Барон чего стоит!
— Спасибо хоть за это, — церемонно, словно на сцене, поклонился дядя. — Без насилия пожалуйста. Только кто же в таком случае пойдет за вами в рай?
Уже в вагоне, вспоминая спор, Соня находила разные, как ей казалось, более убедительные аргументы. Рядом сидели красноармейцы, о чем-то переговаривались. Она их не слушала. Думала об Ароне Факторовиче, товарище Бароне, который снабдил ее нужными документами, дал деньги и письмо: «Какой человечище! Европу изъездил, в Оксфорде учился. Красавец. Вожак! И неравнодушен ко мне».
За окнами темнел лес, изредка одиноко мелькали голые березы, и ветром уносило клоки пара. Холодно на улице — начало октября. Неуютно и в вагоне. Солдаты курили, стали разворачивать нехитрую снедь, пригласили Соню. Она отказалась.
— Слыхали о взрыве в Леонтьевском переулке? — спросил наголо выбритый красноармеец с прыщиком на носу. — Белогвардейские паскуды сотворили!
— Оно как вышло? — вступил в разговор белобрысый богатырь, свешиваясь с верхней полки. Соня невольно прислушалась. — Накануне в «Известиях» напечатали списки расстрелянных кадетов-шпионов. Я сам видал, и громилы тоже почитали. Верно мозгую? Вот и кинули бомбу. Месть!
— Гады, сто человек изувечили, — заметил худой боец, что держал винтовку между ног. — Дай еще сала, Никифор!
Наголо бритый подал кусок и продолжал:
— А кричат: «Белая идея!» Бандиты они с большой дороги. Ну, доберусь я до них.
Барон предупреждал Соню: «Будь осторожна. Путь очень опасен. Война, и людишки пакостные шастают». Но эти красноармейцы были столь простодушны, как дети. Верили глупой пропаганде. Нельзя же так. Девушка не выдержала, возразила:
— Почему непременно белогвардейцы? Их что, поймали? Доказали вину?
Худой боец перестал жевать.
— А кто же? — удивился.
— Ну, например, революционеры.
— Хм, какие? — насторожился и наголо бритый с прыщиком на носу.
— Да мало ли, — Соня горделиво тряхнула головой и отвернулась. Им, темным, хочешь помочь, а они еще и сомневаются. Разговор прекратился. Потом принесли кипяток, пили его с сахарином, смеялись. Белобрысый богатырь вскоре захрапел. Другие тоже дремали. А на подходе к Брянску худой боец взял винтовку и предложил Соне выйти.
— Зачем это? — почти возмутилась она. Влюбился, что ли, дуралей?
— А там увидишь. Айда, братва, подтвердите, что она болтала.
Соню отвели к коменданту. Тот пригласил товарища из транспортной ЧК. Красноармейцы передали суть разговора в вагоне.
— Вы кто такая? — спросил товарищ из ЧК.
— Софья Каплун. Еду на Украину.
— Документы есть?
Она не имела никакого отношения к террористам. Но когда ее обыскали, нашли письмо Барона членам «Набата». Он, в частности, сообщал: «Погибло больше десятка. Дело, кажется, подпольных анархистов. У них миллионные суммы, и правит всем человек, возомнивший себя новым Наполеоном».
Барона тоже арестовали. След, который уже столько дней безуспешно искали чекисты, потянулся дальше.
А на юге октябрь дарил последнее тепло, и в Гуляй-Поле справляли свадьбы. Война войной, а после уборки урожая (да еще такого, давно не виданного!), когда все свезено в клуни, сараи, почищено, ссыпано и заквашено в бочки — грех было не отдохнуть и не подумать о потомстве. Так повелось от веку, и Батько не мог и не хотел нарушать добрые традиции.
Выйдя из Александровска с большей частью войск, он отправил их во все концы: на север — к Синельниково, на юг — к Херсону, Мелитополю и Бердянску, пулеметный полк Фомы Кожина — в Юзово. А сам взял Орехово, Гуляй-Поле, Пологи, Цареконстантиновку и… дал хлопцам недельный отпуск, «чтоб дух перевели».
Виктор Билаш, прибывший по его вызову из Александровска, где размещался штаб армии, нашел Нестора Ивановича в просторном крестьянском дворе. День был солнечный, хотя и ветреный. Столы ломились от угощений. Гремел духовой оркестр. Молодые и старые отбивали гопака. Среди них, похлопывая себя по бокам, вприсядку ходил и Батько. «Йидри ж його пид тры чорты!» — подумал Виктор, с горечью глядя на это заразительное, но такое неуместное сейчас веселье. Войска с боями растянулись на тысячу верст. Нужно бы сходу пугануть ставку Деникина в Таганроге, взять крупнейшие склады оружия в Волновахе, пока там не опомнились. А главнокомандующий пляшет!
— Счас он угомонится, — успокоил начальника штаба Гавриил Троян — единственный, казалось, трезвый на всем подворье. «А где же Лютый?» — чуть не спросил Виктор, привыкший, что адъютант всегда рядом с Махно. Эх, нет Пети, многих уже нет.
Тут к Билашу подскочили дружки жениха с белыми рушниками через плечо, подхватили его под руки. Он пытался освободиться. Но и сваты появились, кланялись, догадываясь, что на автомобиле прикатила большая шишка.
— У нас так! Зашел во двор — будь гостем. Сюда его, сюда! — шумели они наперебой, и невозможно было отвертеться. Виктора усадили за стол, налили «штрафную» чарку. Он выпил, хотя еще пять минут назад не собирался этого делать: предстояло докладывать стратегическую обстановку.
— А-а, и ты причащаешься! — услышал он веселый тенорок Батьки, хотел встать, но тот положил ему руку на плечо и сел рядом. — Здоров, полководец! Так и надо. Молодец! Зачем сторониться народа? За то нас и любят. Ану, наливай. Го-орько!
Жених с невестой целовались. Кто-то затянул с азартом:
Ты ж мэнэ пидману-ула, ты ж мэнэ пидвэла-а!— А-а, не подвела нас судьба? — спросил Махно. — Мы ее, суку, в бараний рог согнем! Погляди, Виктор, какая свобода. Вот оно, к чему мы стремились. Люди-то счастливые!
Билаш, кивая, напомнил, что есть кое-какие вопросы и Бердянск взяли с большим арсеналом, там горы оружия. Куда его девать?
— Тэ-экс, — заинтересовался Батько. — Тогда пошли.
Им поднесли на метровых палочках румяные дивни с разноцветными конфетками, алыми бантами. Махно и Билаш благодарно поклонились хозяевам и направились к автомобилям. Вся свадьба шумно провожала их, и было в этом много уважения и достоинства. «Может, он и прав, — размышлял Виктор. — Вот она, истинная свобода. Убрали урожай, радуются. Что еще надо?»
Дома Евдокия Матвеевна и Галина бережно приняли дивни, поставили их под иконку в красном углу, предложили поужинать. Билаш поблагодарил, отказался, а Махно прилег отдохнуть. Когда он уже спал, Галина попотчевала гостя узваром из вишен и как бы между прочим заметила:
— Хороший звычай у нас оти свайбы. Та дужэ багато йих, Виктор Фэдоровыч. Хоч бы вы повэзлы Нэстора куды подальшэ.
— В Бердянск собираемся, Галочка.
— От и добрэ, а то тут уже и полякы прыйихалы з Варшавы.
— Зачем? Идиотами нас считают? Они же спят и видят в своих лапах пол-Украины!
— И я тэ ж самэ кажу Нэстору. С Пэтлюрою вин нэ захотев брататься, а з ворогамы зустричаеться.
— Обязательно увезу его! — пообещал начальник штаба, и утром они уже катили в Бердянск.
На Приазовской возвышенности было холоднее, холмились голые поля, крутилось вороньё, и дороги словно вымерли — нигде не видно ни одного дядьки. Здесь недавно гремели бои. Белые откатились на восток до Волновахи, где у них артиллерийские склады.
— Надо бы их взять, — сказал Билаш. Они с Махно и Алексеем Чубенко ехали в автомобиле.
— Мы что, себе враги? — возразил Батько. — Оттуда снаряды идут под Москву. Хай бьются. Наша свободная земля стоит поперек горла и белым, и красным.
Начальник штаба не ожидал такого ответа, призадумался: «Ишь ты, он запомнил совет Алексея Марченко, чтобы не торопиться. Не зря гуляет на свадьбах, и хлопцы не просто так «переводят дух». А ведь и верно, зачем помогать комиссарам?»
У самого Бердянска, на горке, их встретил лихой матрос Михаил Уралов с отрядом.
— Як вы тут? — спросил Махно.
— Жарко было, братишки. Ох и жарко! Тысячи две отборных добровольцев перемололи. Они зубами держались за каждый дом. Баррикады настроили. Море видите? — Уралов широко повел рукой. Голубое небо вдали сливалось с едва различимой полосой Азовского моря. — Они, драпая, вскочили на пароходы, отчалили. А мы из пушек ба-бах! Четыре снаряда — и всё пошло к бычкам и камбале на дно!
— Вдовыченко где? — строго перебил главнокомандующий. — Почему не встретил? Очень занят?
— Извини, Батько. Второй Азовский корпус пошел на Мариуполь. Пообедаем? — предложил Михаил. — Столы накрыты в гостинице, осетринка…
— Пузо потом! — отрезал Махно. — Собирай митинг. Будем решать, как жить людям дальше.
Уралов с отрядом рассыпался по городу.
— А ты, Алешка, — обратился Батько к Чубенко, — езжай пока к тюрьме, осмотри ее и приготовь заряд. После митинга рванешь так, чтобы дотла, но чтоб и кирпичи на стройку мужикам сгодились. По-хозяйски распорядись.
— Гарантирую: срежем, как бритвой!
На площади собралось несколько сот человек. Махно поднялся в автомобиле.
— Бердянцы, вы не первый раз видите меня. В наших краях побеждает третья, социальная революция. Берите управление в свои руки! Никакие партии, чиновники не спасут вас и не подарят порядок и счастье. Никакие, запомните! Бросьте напрасные надежды. Это доказала вся история. Повторяю: ваша судьба — в ваших руках, и только! Вот, говорят, бандитизм. Да, он есть — эта зараза, как у сучки блохи. Создавайте отряды самообороны. Ловите и судите негодяев. У вас не работают заводы, школы, больницы. Выбирайте вольный совет и решайте вместе с профсоюзами, кооперативами. Верно я кажу?
— Правильно! — раздались редкие голоса.
Большинство молчало. Оно на горьком опыте убедилось, что разбои можно остановить лишь наганом. А новое управление создается годами, в грызне и кривотолках.
Так уж устроен мир, и сходу его не переделать. Махно, по всему видно, неплохой мужичок и речи его сладкие. Да что толку?
— Где брать деньги? Третий месяц не платят за работу!
— Дети голодают! — слышалось из толпы.
— Уралов, есть в городе хлеб? — спросил Батько.
— Навалом. Двадцать вагонов захватили.
— Так что ж вы сидите? Бердянцы! Идите на вокзал. Каждый получит полмешка зерна. Но это не выход. Налаживайте связи с селом, меняйте то, что производите, на сало, муку.
Нестор Иванович с болью чувствовал слабину своей и в целом анархической позиции. Легко в книжках, газетах писать о социальной революции. Но как ее на практике «углублять»? Волин, Аршинов, другие теоретики говорят о «свободном творчестве масс». Что это такое? Вот они, бердянцы, ждут простой и понятный ответ. Где поменять железное ведро на картошку, если тебя ограбят на первом же перекрестке? И опять всплыли-вспомнились жесткие слова кремлевского «бога» Ленина: «Анархисты сильны мыслями о будущем. В настоящем они беспочвенны, жалки». Он что, вождь, лучше знает ответ? Да ни хрена он не знает. Навязывает вековую власть. Только под новым, большевистским соусом. Нагло врет или заблуждается — это не важно. А мы замахнулись на сам фундамент, на устои. Да, где Чубенко?
— Я готов, — доложил Алексей.
— И последнее, — сказал Махно на митинге. — Сейчас мы взорвем тюрьму. Все желающие могут взять кирпич для строительства хат и сараев.
Шофер дал газ. Чихая и дымя, автомобиль поехал по набережной. Михаил Уралов вскочил на подножку.
— Видишь песчаную косу, Батько? — матрос показал в сторону моря. — Она тянется на двадцать верст. Там был Варшавский арсенал кадетов. Они отступали, мы за ними. Слышим: задрожала земля под ногами. Колоссальный взрыв! И еще один, еще. Ужас!
— Мухоморы, зачем допустили? — возмутился Махно. — Это ж наше оружие пропало!
— Бес попутал, — оправдывался Михаил. — Кто виноват — не разберешь. Все палили из винтовок, пушек. Трупы беляков и счас прибивает волной к берегу.
— А осталось что-то?
— Навалом, Батько. Миллионы патронов, тысячи снарядов, английских мундиров и автомобили, даже новый аэроплан. Не желаешь взлететь?
— Ну ты и балабон! — усмехнулся Нестор Иванович.
— А вон знаменитая канава! — тыкал пальцем Уралов. — Чтоб не перепились бойцы, мы вылили сюда весной тысяч три-идцать ведер отличного вина! Мужики, лежа, хлестали и плакали от обиды.
У тюрьмы остановились. Старый каторжанин пощупал кирпичную кладку, постучал по ней кулаком.
— Эти цитадели рабства нужно стереть с лица земли. Навсегда!
— А куда ж ворюг? — вытаращил глаза Михаил.
— Матёрых… в расход по решению Совета. Вшивари… пусть говно возят. В камерах никого нет?
— Проверили, — отвечал Алексей Чубенко.
— Ну, тогда приступайте.
Все, кроме подрывников, спрятались за домом поодаль. Тут же беспокойно переговаривались, зло поглядывали на махновцев жители близлежащих хат. Один за другим грохнули взрывы. Кое-где зазвенели, падая, стекла. Но улице клубами погнало пыль, гарь.
— Что ж вы творите, а? — причитала толстая тетка в синей шляпке. — А если стены у меня лопнули? А потолок? Хто ремонт оплатит?
— Успокой эту квочку. Дай денег, чтоб не визжала, — сказал Махно Уралову. — Останешься комендантом. Пошли смотреть.
На месте тюрьмы лежала груда кирпичей, досок, бревен, и к ним уже ехали на подводах шустрые бердянцы. Эта их торопливость неприятно задела Батьку. «Вот так бы новую жизнь строили, как рушим старое, — подумалось с огорчением. — А тяпнуть на дармовщину мы бегом!» Он постоял у развалин, представил, сколько мук погребено под ними, сколько надежд, слез.
— Чисто сработано? — поинтересовался 4 убенко, отряхивая руки.
— Дурное дело не хитрое, — буркнул Махно, и лицо Алексея вытянулось от удивления.
— Может, что-то не так?
— Да нет. Поехали обедать.
В гостинице за банкетным столом Батько предложил назначить комендантом Бердянска Михаила Уралова. Никто не возражал. Все понимали: разговоры о вольных советах хороши, но без власти, хотя бы временной, не обойтись.
Распределив оружие и крепко выпив, гости переночевали, отправились в Мелитополь. Там тоже после митинга взорвали тюрьму. К вечеру прибыли в Большой Токмак. В сквере увидели памятник Александру II из темно-муругого мрамора. Скульптор постарался: лик императора, высоколобого, усатого, в мундире с эполетами, дышал холодной силой и благородством.
— Освободитель! — то ли с иронией, то ли с почтением сказал старичок, что вертелся поблизости, по виду купец или учитель.
— А вы не родственничек ему? — ласково спросил Лев Голик, начальник контрразведки армии.
— Ну что вы? — полыценно замахал ручками старичок. — Куда мне? И к швейцару-то в Зимний не допустили бы! Александр Николаевич крепостное ярмо аннулировал!
Махно слушал, нахмурясь. Для него этот памятник был лишним напоминанием о судьях, полиции, сытой бюрократии.
— Ярмо, говоришь? — зыркнул он на старичка. — Аты сидел в царской тюрьме?
— Нет. Как можно!
— Тогда и не пой гимны. Волю мы не желаем получить ни от царя, ни от Ленина, ни от черта! — изрек он сурово.
Дедок изумленно вздохнул и стоял с открытым ртом, потеряв дар речи. «Что же это за публика? — соображал. — Налетели, как вихрь. А язык-то наш».
— Чубенко, закладывай пироксилин, — приказал Махно. — Ишь ты, рабство он аннулировал!
— Да вы что, православные! — взмолился старичок, падая на колени. — Мой же отец был крепостным, и я пожертвовал последние копейки на сооружение. Побойтесь хоть духов предков!
Но подрывная команда уже снимала с тачанки деревянный ящик, готовила зажигательный шнур.
— Уберите это чучело! — потребовал Чубенко. — Иначе мокрое место останется.
Хлопцы из охраны подхватили деда под руки, понесли, а он все оглядывался потерянно.
А надо знать, что нет дела, коего устройство было бы труднее, ведение опаснее, а успех сомнительнее, нежели замена старых порядков новыми. Кто бы не выступал с подобным начинанием, его ожидает враждебность тех, кому выгодны старые порядки, и холодность тех, кому выгодны новые.
Н. Макиавелли. «Государь». 1532 г.
Тяжелым подвигом и жертвами лучших сыновей своих подвигается вперед Добровольческая армия в Москву, для освобождения России…
В тылу появились различные банды, шайки дезертиров, не желающих драться, а только грабящих народ… Бомбами будут разрушены и сожжены все дома и места, где соберутся толпы народа и разбойничьи банды Махно.
Газета «Южный край». 9 октября 1919 г.
— Извини, Сева, но ты меня хоть изжуй — не возьму в толк: зачем тебе, умнице, весь мир объехавшему, в Париже, в Америке побывавшему — зачем… Махновия? — удивленно и тихо спрашивал благообразный Кернер, наклоняясь к Волину поближе. Они сидели в одной из комнат особняка миллионера Бадовского в Александровске. Марк Борисович после Одессы ехал в Гуляй-Поле, чтобы встретиться с сыном, и, узнав, что Всеволод уже не кто-нибудь — председатель реввоенсовета у повстанцев, задержался здесь на денек. Ему было край любопытно, чем же можно завлечь еврея в массовый бунт? И не просто участвовать, а занимать большую должность, формально даже выше Батьки Махно?
— Это долгая песня, — усмехнулся Волин. Чувственные губы его тронула ирония. Гость это заметил.
— Буржую не доверяешь? Ах, напрасно. Я, может, ближе тебе, чем весь ваш совет, и с отцом твоим мы были на короткой ноге.
— Скрывать-то нечего. Поверьте! Мы боремся против засилья капитала и власти. Вот, к примеру, этот чудный особняк освободили. Бестактно лишний раз напоминать об этом вам, уважаемый дядя Марк. Есть же вещи деликатные, — говорил Всеволод доверительно, и Кернеру понравились его слова, хорошо поставленный голос.
— Слава Богу, значит, не все потеряно. Меня что поражает, Сева? Это огромное народное движение, бунт, если хочешь, похлеще пугачевского. У аборигенов, конечно, своя история. Запорожские казаки, Хмельницкий, кстати, антисемит, открытый супостат жидов, не тем будь помянут. Ты же, Сева, ничего этого не знаешь. Оно тебе чуждо по крови!
— Ну почему же? Я не столь темен, — запротестовал Волин, скользнув взглядом по желтоватой лысине гостя.
— Да и я не о том! — перебил Марк Борисович тихим и внушительным тоном раввина. — Всемирную историю мы все проходили помаленьку. Но нравы, обычаи, память веков, наконец, что живет и буянит в сердце, — где тебе это взять, хохлатское? Да и зачем оно тебе? Вот о чем я беспокоюсь. Нет-нет, я уважаю народ, среди которого живу. Однако они же насмерть бьются по сути за новый передел земли и наследства предков. А ты за что?
— Тяжелый вопрос, — признал Всеволод. Беспокойные зеленые глаза его то оглядывали непрошеного гостя, то смотрели куда-то в окно, на звезды, что ли. — Тяжелый. Цель у нас ясная — свобода, и национальность для нее безразлична.
— Какая свобода, милый мой? Я разве против нее? Или Деникин, Петлюра, Троцкий? Все — за! Это же лозунг, конфетка, которой манят детей! Вон большевики пообещали мир. Где же он? Или землю крестьянам. Где она? Хоть один рабочий стал хозяином фабрики? Повторяю — это блеф, митинговая утка!
— Ну-у, простите, — Волин вскочил, быстро зашагал по комнате. — Есть же документы, программы, декларации. В них, как в зеркале, видно, кто чего добивается. Я вчера выступал на съезде. Наши взгляды близки крестьянам, рабочим. Без обмана.
— Мальчик мой, — ласково сказал дядя Марк. — Есть неистребимый, веками установленный быт. Он во всем Божьем мире один. Люди хотят кушать, любить и плодиться. Свободно. И работать в меру сил. Всё! Больше ничего. А есть единицы, которым подай власть или богатство, что почти то же самое. Вот они-то и мутят воду, изощряются в идеях, так как у кормила и кормушки на всех места не хватает. Особо изворачиваются те, кому сладка власть. Придумывают новые лозунги, декларации, объявляют человека (имеют в виду себя) царем Вселенной. Всё это, повторяю, игрушки. Ты не обижайся, Сева, но доподлинно известно: когда поделят портфели, неважно кто, и народ устанет, успокоится — опять восторжествует тихоход быт. Моя стихия. Дай Бог, чтобы прибавилось свободы хоть на мизинец!
— Вы критикан… и Фома неверующий. Хотя… тоже ведь богатством не брезгуете, — усмехнулся Всеволод. — А мы — революционеры. Да здравствует бескорыстный риск, дерзость и неукротимая энергия! Вот чего вы не берете в расчет, дядя Марк. Плюс инерция протеста. Тех, кто восстал, не тормозить надо, а направлять. Психологию масс нельзя мерить такими индивидуальными стимулами, как богатство и власть.
Председатель реввоенсовета сделал паузу и продолжал, еще более оживившись:
— Анархизм — это особое состояние души. Вы любили в юности?
Кернер высоко поднял брови. Озабоченное лицо его посветлело.
— Вижу, да! — вскрикнул Волин. — Значит, тоже были анархистом! Подобное хмельное парение испытывают сейчас и массы, избавленные от ярма власти. Это редкая роскошь в истории.
Марк Борисович вроде был поражен таким красноречием, но сказал:
— Ты лишь подтверждаешь мои слова, Сева. Поистине умница: что угодно оправдаешь. Но люди рано или поздно спросят: «Чего же вы, вожди, добились для нас?» Будь любезен, приведи пример. Хоть самый завалящий. Вот здесь, в Александровске, чугуно-литейный завод, фабрики, мастерские. Хозяев вы разогнали. Где сегодня выпускают товар? Назови!
Волин почесал затылок, присел.
— Мы делаем все, что от нас зависит. Но разруха, дядя Марк. Война. Нет угля, мазута. Без перерыва выдают продукцию лишь водочный завод и пекарни.
— Не надо прибедняться. Уголек у вас есть, из Мариуполя, и поезда ходят исправно. Почему же не заводите рабочее самоуправление на железной дороге? Это такой козырь! Воплощение анархической идеи!
Марк Борисович бил наотмашь в самое больное место. Всеволоду рассказывали, как на днях из Бердянска в Александровск ехал Махно. Его встречали, шумели: «На гетмана пахали — никто не платил! На Петлюру, на красных ишачили, на Деникина! Теперь вы. Где жалование? Чем семьи кормить?» По прибытии Батько напал на Волина: «Я воюю. Берем города. У нас огромная вольная территория. Почему реввоенсовет не вводит самоуправление?» — «Мы против любой власти, — напомнил теоретик. — Лишь советуем крестьянам и рабочим, как устроить жизнь без партий и чиновников». — «Но людям-то жить надо! — вскричал Нестор. — Что им ваши голословные советы? Дети голодают!» Он сел и написал обращение к железнодорожникам:
В целях скорейшего восстановления нормального движения в освобожденном нами районе, а также исходя из принципа устроения свободной жизни, предлагаю тт. железнодорожным рабочим и служащим энергично сорганизоваться и наладить самим движение, устанавливая для вознаграждения за свой труд достаточную плату с пассажиров и грузов, кроме военных, организуя самим свою кассу на товарищеских и справедливых началах и входя в самые тесные сношения с рабочими организациями, крестьянскими обществами и повстанческими частями.
Командующий Революционной Повстанческой Армией Украины Батько Махно. г. Александровск. 15 октября 1919 г.«А сейчас дайте рабочим хотя бы хлеб, и бесплатно. Немедленно!» — приказал он. Волин сжал в кулаке бородку: «Я что здесь, мальчик на побегушках? Командуй в армии, — подумал. — А я председатель… Стоп! Какая власть? Ежели мы так пыжимся, то что же ожидать от других?»
Всеволод, уже от себя, написал распоряжение начальнику снабжения армии Григорию Серегину, бывшему слесарю: «Предложить Совету профсоюзов через его рабочий аппарат, близко стоящий к массам, организовать бесплатную раздачу беднейшему населению города 15 ООО пудов хлеба». И что же? Профсоюз умыл руки! Ответил: пусть этим займется городской производственный комитет. А там тоже чиновники, спекулянты. Волин возмутился. Да что же это за болото! Опубликовал в газете «Путь к Свободе» разгромную статью «Позор» и предложил созвать съезд рабочих и крестьян, чтобы разоблачить крючкотворов. Без палки, без власти (стыдно в этом признаться) ничего путного, цветущего не наблюдалось. Зерно раздавали повстанцы, прямо из вагонов. Деньги сиротам, вдовам, голодающим вручали из армейской кассы. В ней, конечно, миллиарды рублей, взятых силой. А где же радостный труд, самоуправление?
Выходило, что народ к свободе не готов, робок. Сомневается? Затоптан? Всеволод днем и ночью ломал над этим голову, прочитал на съезде фундаментальную «Декларацию» — что же изменилось? Благоприятного ответа не было — хоть плачь! Из двух одно: либо сам великий замысел анархизма чего-то не учел, либо мешают война и разруха. Волин склонялся ко второму, иначе вся их борьба сразу же и, возможно, навсегда теряла смысл.
— У нас отлично поставлено школьное дело, — отвечал он Кернеру. — Им занимается жена Махно — Галина, симпатичнейшая брюнетка. Мы роздали землю, дома, заводы. Регулярно выходят газеты. В наших театрах полно публики. Кроме того, решили на съезде вопросы о снабжении армии, борьбе с пьянством, о больницах и лазаретах, об украинском языке. Мало этого?
Гость, однако, грустно взглянул на Волина, заметил:
— Есть такие селекционные яблоки, ароматные, крупные… скороспелки. Не приходилось кушать?
Всеволод нахмурился, и Марк Борисович почувствовал, что дальше задираться глупо и опасно. Пусть потешатся ребята. Без предпринимателей и доброй старой веры все равно никто не обойдется. А сейчас… хоть бы детей не потерять да самому уцелеть.
— Как тут Лева Задов? — поспешно сменил тему разговора Кернер. — Он был у нас в Гуляй-Поле депутатом. Хваткий хлопец!
— Контрразведчик первого корпуса, — довольно холодно сообщил Волин.
— Тебе не кажется, Всеволод, что в этой стране, впрочем, как и в любой другой, нас могут сделать свободными только большие деньги? — небрежно спросил еще Марк Борисович, хотя ради этого, собственно, и пришел.
— Нет! — рубанул председатель реввоенсовета. — Не кажется. Соколу все равно, в какой клетке сидеть: в железной или золотой.
— Ну, извини, — Кернер вежливо откланялся и поехал дальше. По дороге думалось: «Ах, жаль! Такие таланты… Сами себя, добровольно, ради иллюзий зарывают в землю!»
Легкость, с которой был совершен взрыв в Леонтьевском переулке, усыпила бдительность анархистов подполья. К тому же минул месяц, никто из них не был взят, и становилось как будто ясно, что в ЧК работает любительское дубье или конспирация террористов — действительно верх совершенства. Петр Соболев так и сказал товарищам:
— Руки у них коротки. Мы еще покажем диктаторам-бэкам (Прим. ред. — Так называли большевиков) октябрьские торжества. Всю Красную площадь, будьте любезны, поднимем в воздух!
Между тем арестованный Барон, не имевший к делу никакого отношения, проговорился, что как-то заходил с безобидным теоретиком Левой Черным в квартиру на Арбате. Чем она интересна? Ничего особенного, вполне легальное жилье. Да все приезжие анархисты туда наведываются. Какой дом? Кажется, тридцать. А квартира? Позвольте, позвольте… Вроде пятьдесят восемь, но не уверен…
В тот же день там сделали обыск и был оставлен агент, который просидел сутки за вешалкой и слышал, как являлись какие-то типы. Возле дома срочно устроили засаду. Под утро заметили мужичка «с висячими гуцульскими усами и бородкой», велели:
— Руки вверх!
Но не тут-то было. Шустряк кинул бомбу, которая, по счастью, не взорвалась, и бросился наутек, ранив комиссара. Однако меткими выстрелами бандита сразили наповал, и труп отвезли в ЧК. По фотографии установили, что это некто Казимир Ковалевич.
— Запомните: лучше живой осел, товарищи, чем дохлый лев, — с укоризной сказал Феликс Дзержинский.
Пока разбирались с Ковалевичем — редактором и казначеем Всероссийской организации анархистов подполья — в ту же квартиру на Арбате явились и были взяты еще двое: отчаянный экс Хиля Цинципер и его подруга Фаня. Их усадили на кровать. Дебелый чекист из рабочих или крестьян самоуверенно расхаживал рядом. Другой отправился звонить. Хиля услышал, как он за стеной докладывал:
— Прихватили еще парочку. Да, да. Сидят тут, голубчики… А ежели новые подвалят? Присылайте подмогу… Что, что? Какие сомнения?
Цинципер понял: другой охраны нет. Вскочил и мгновенно выхватил револьвер из-за пояса чекиста.
— Молчи, а то бахну! — прошипел. Растяпа поднял руки. Фаня связала их, сняла наволочку и заткнула рот сторожу. Рядом уложили его товарища и скрылись.
Казалось бы, теперь-то все террористы срочно уедут из Москвы, подальше от греха. Тем более, что у Ковалевича (и это легко можно было предположить) нашли записную книжку с адресами. Но анархисты подполья и не думали о спасении.
— Гибель Казимира и арест Хили с Фаней — печальные недоразумения! — заявил Петр Соболев. Нос его заострился, холодные глаза смотрели по-прежнему непреклонно. На этот раз конспираторы собрались на подмосковной даче.
— А что на очереди? — спросил Сашка Барановский.
— Ты меня удивляешь, боевик. Нас ждет Красная площадь! — отвечал Соболев. — Уже прибыли два вещмешка тола. Вон в углу лежат. Из Брянска едет новый груз, и, чего бы то не стоило, мы выполним свой долг перед тысячами повстанцев Батьки Махно, что гибнут на юге за свободу! Или, может, кто-то устал?
— Оставь это, Петр, — попросил одетый с иголочки старый анархист по кличке Дядя Ваня. — Мы не дети, сознаем, что терроризм ужасен. Но еще хуже — хлебнув свободы, сносить насилие большевиков и молчать. Это… невыносимо!
Получив задания, гости разъехались, а хозяева остались на даче, где была типография и лаборатория по изготовлению бомб…
Между тем, после бегства Хили с Фаней, московская ЧК взялась за дело уже по-настоящему. Была сколочена боевая оперативная группа, куда вошли битые сыскачи: заместитель Дзержинского — Манцев (вскоре его пошлют на Украину для борьбы с Махно), братья Фридманы, другие. Они нащупали. еще одну конспиративную квартиру — ту самую, что принадлежала Марусе Никифоровой.
Там никто не жил. Но днем и ночью стали следить из окон дома, что был напротив. Никаких подозрительных личностей не замечалось. Наконец появился высокий мужчина в приталенном пальто, зыркнул по сторонам и юркнул в злополучную квартиру. Ему дали выйти и тихо схватили за углом. Обыскали, изъяли: два револьвера, гранаты и главное — ключ. Завели арестованного в квартиру, по документам установили, что это Хлебныйский. Потом он уточнил — Приходько Иван Лукьянович, кличка Дядя Ваня. Он писал в ЧК: «Я старый анархист. На экспроприациях бывал на Украине, принимал активное участие, но в Москве нет».
Манцев терялся в догадках: «Если таким не доверяли, то кто же те, отъявленные? Может, прав Барон — в Наполеоны целили? Поистине великие злодеи!»
Засада затаилась уже в квартире Никифоровой. Знала б она, что так распорядится рок, — десятой дорогой обошла бы коварный Глинищевский переулок! Но к тому времени уже и Маруси не было в живых.
В сумерках послышалось: кто-то вставляет ключ в замок. Чекисты насторожились и схватили «гостя» прямо на пороге. Разглядели. Батюшки, это же опять Хиля Цинципер! Собственной персоной. За ним потянулись другие. К утру арестовали тринадцать человек!
— Чертова дюжина, — пересмеивались чекисты. Но не уходили, ждали новых «гостей». Тут явно была намечена сходка. Значит, пожалуют и главари.
— Маковой росинки во рту не было. Дайте хоть кусочек хлеба, — попросил Цинципер. — Жандармы и те кормили.
— Ишь ты, а где взять? — откликнулся Михаил Фридман. — Мы тоже голодные. Ждали вас, ждали. Нет, чтобы прибежать поскорее!
— Неплохо замечено, — усмехнулся Хиля, потирая руки, — Да вон же на подоконнике. Готовая закуска!
— И рюмку налить? — еще пошутил Фридман, подавая хлеб с посудой.
Уже было светло, когда к дому подошел тот, кого больше всех ждали — организатор и вдохновитель анархистов подполья Петр Соболев. Холодными молочно-голубыми глазами он опасливо взглянул на подоконник и обмер. Условного сигнала — тарелки с хлебом — там не было. Это — провал! Засада! Может, уже и целятся из подъезда!
В первый раз нервы подвели испытанного конспиратора, и он побежал по тихой, пустынной улице. За ним тут же устремились трое чекистов. Петр кинул гранату. Она со стуком покатилась по мостовой и… не взорвалась. Соболев отстреливался из двух стволов. Чекист дернулся и упал. За ним второй. Вот и Тверская. Перебегая ее, Соболев поразил последнего преследователя и свернул в Гнездиковский переулок, совсем выпустив из виду, что там же находится уголовный розыск!
На выстрелы выскочил дежурный и схватил бегущего в охапку. Петр пальнул ему в грудь. Из окна это увидел начальник уголовного розыска и на самокате (так называли велосипед) стал догонять преступника. Соболев кинул оставшуюся фанату, но и она… проклятье!., не взорвалась. Начальник прицелился и разрядил в убегавшего всю обойму.
Теперь следствие знало уже почти всё об анархистах подполья. Многие из них давали показания. Особенно откровенен был Михаил Тямин, полагая, что большевики такие же революционеры, как и он сам, а потому поймут и пощадят его, и отправят, допустим, на фронт.
Дополнительно показываю…
Типография, а может быть, и адские машины находятся на даче в Краскове по Казанской ж. д. Эту дачу дал подпольникам некто Педевич, служащий Продпути. Вероятно, на даче есть Таня (жила на Арбате, 30, 58), затем наборщики Паша, Митя, может быть, Соболев, Азов, Барановский. Прислуживает на даче девушка, которая не связана совершенно с подпольниками.
В Красково немедленно направили отряд чекистов, вооруженных до зубов. Торопились еще и потому, что завтра — годовщина Октябрьской революции. А вдруг анархисты, разъяренные арестами, решатся на крайнюю меру — попытаются все-таки взорвать Красную площадь!
Сашка Барановский коротал время на даче вместе со всеми, кого не успели взять. Позавтракал и захотел в туалет.
— Ты куда? — поинтересовался всегда веселый светлый Яша Глазгон, что остался за старшего.
— Да тут. В лесок, рядышком.
Шурка присел под сосенкой и… услышал выстрел! Что за оказия? Выглянул осторожно — мать родная! К дому, пригибаясь, крались чекисты. Напасть сзади? Одному? Глупо! Их тут стая, и по ним уже палили из наганов, рвались гранаты. Сашка юркнул в кусты. В суматохе никто его не заметил. Он пришел на станцию и уехал в Москву, где попал в засаду на конспиративной квартире…
А перестрелка на даче продолжалась. Чекисты готовились взять ее штурмом, когда просторный деревянный дом… поднялся над землей! Взрыв потряс окрестности. Дача рухнула и загорелась. Не желая сдаваться, анархисты подожгли «адские машины»…
Заведовавший бюро фальшивых паспортов Михаил Тямин в списке расстрелянных не значился. Как и взятый последним Донат Черепанов, который заявил на следствии:
— Об одном сожалею: при аресте меня схватили сзади, и я не успел пристрелить ваших агентов. То, что сейчас творится, сплошная робеспьериада!
По долгу воина и гражданина докладываю, что противостоять Конной армии Буденного я не могу… В моем распоряжении около 600 сабель Кавказской дивизии и 1500 сабель — остатки корпуса Мамонтова. Остается Терская дивизия, но она по Вашему приказу забирается для уничтожения махновских банд. В силу выше изложенного даю приказ — завтра оставить Воронеж.
Генерал Шкуро.
Хмурым вечером возвратился к себе в особняк начальник контрразведки первого корпуса Лев Зиньковский (настоящая фамилия — Задов была сменена, в семнадцатом, и среди махновцев ее почти не знали). Он начал перебирать бумаги. На душе кошки скребли: впервые почувствовал, что Батько вроде заблудился, потерял след, а может, и голову. Ну что это, простите, за воззвание? Куда оно годится? Зиньковский читал:
Граждане.
Буржуазия всё хихикает, видя наши неудачи на некоторых фронтах. Я скажу свое последнее слово: напрасно она злорадствует, надеется на наше поражение и торжество юнкерского белого Дона и Кубани. Временная неудача наша на этом участке — есть гибель буржуазии. Для этого приняты мною меры. От рук оставшихся здесь начальников по обороне г. Александровска т. Калашникова и его помощника т. Каретника, должна постигнуть гибель всей буржуазии и всех ея приспешников…
Да здравствует социальная Революция!
Командующий Армией Батько Махно. 4 ноября 1919 г.«Это же безмотивный террор! — размышлял Лев Николаевич. — За что мы костерили, порой презирали покойную, не тем будь помянута, Марусю Никифорову? Хватала миллионера — и пулю в лоб! Теперь сами взялись. Эх, Батько, Батько». В списке, который он вручил Зиньковскому для бессудной расправы (а составил его тезка и шеф Голик), значилось 78 человек. Их арестовали. В большинстве это были евреи. Как ни крути, а выходило, что он, Лева, должен стать черносотенцем! Всякое случалось. Контрразведка — не пансионат благородных девиц. Но чтобы такое! «Нашли козла отпущения. Нет, Батько определенно сломался. Не могу я это выполнить!» — решил Зиньковский, невольно вспомнив свою семью.
Их у крестьянина Николая Задова было десятеро: шесть дочерей и четыре сына. Старший — Исаак занимался извозом, во время войны разбогател и давно не давал о себе знать. Что же он — враг? А вот Наум — кустарь в Юзово. Совсем не друг. Даник же всегда рядом. Сначала в еврейской школк^седере, потом на мельнице, где таскали мешки, затем в доменном цехе. Лева высок и силен. Взяли каталем. По двенадцать часов в сутки гонял тачки с рудой, коксом, известняком и весь был пропитан красной пылищей — не отмоешься. Потому каталей на квартиру не брали. Ютились у мужиков, в мазанках. Идешь по грязной улице, а сзади бегут пацаны с криком: «дяденька, дай лапоть — чай заварить!» Одни взрывы чего стоили! Чугунная плита пробила кровлю домны и со свистом грохнулась около Левиной тачки! Это называется жизнь? Да лучше в тюрьму! Он стал анархистом, эксом.
Брал почтовую контору, стрелял в железнодорожного кассира и по политической статье получил восемь лет каторги. Освободила его, как и Махно, Февральская революция. Вступил в Красную гвардию, в отряд анархиста Чередняка, воевал под Царицыном, оттуда подался в мятежное Гуляй-Поле…
Теперь махновцев, уже в который раз, потеснили белые. Не могли они терпеть такую разруху в своем тылу. А против регулярных частей с аэропланами, броневиками, крепкой дисциплиной трудно было устоять повстанцам, особенно необстрелянным. Снова отданы Мариуполь, Бердянск, Мелитополь, Гуляй-Поле. Почти вся армия, отступая, собралась у Александровска. Вот почему нервничал Махно. Зато взят Екатеринослав! Решено всем идти туда, и как раз под горячую руку доложили, что буржуазия радуется. Батько и написал обращение, передал Зиньковскому список. Выполняй!
А сам с частью войск ушел. Сел в карету, рядом Галина. Белые рысаки заржали, пошли на Кичкасский мост. Лев со своими хлопцами и с отрядом военной полиции (завели и такую!) ехал в охранении до Днепра. Жуткая картина. За войсками толпились раненые, тифозные — тысячи. В одном белье, босиком, а кто в простынях, больничных халатах. Боялись остаться: от кадетов пощады не жди. А на улице холодрыга. Лучше б и не видеть!
Взяв список обреченных, Лев направился в штаб и показал его начальнику обороны города Александру Калашникову. Здесь же за столом сидел и его помощник Семен Каретник. Почитали, поморщились.
— Зачем? — спросил Калашников. — Мы и так выдоили из них до капли. Сколько взяли контрибуции?
— В этот раз двадцать миллионов, — отвечал Зиньковский. О золоте не стал напоминать.
— Ну, я согласен — враг! Коси его. А эти кто? Выжимки! Так, Сеня?
Калашников последнее время не очень-то праздновал Батьку. Толково руководить стотысячной армией тот не смог и вел себя вызывающе. Распушил Александра за самовольный уход корпуса в Кривой Рог. Зато возвысил до небес Волиных-Эйхенбаумов всяких да Аршиновых-Мариных. Их реввоенсовет нагло сует нос во все щели. Командиров превратили в мальчиков на побегушках. Калашников побаивался, конечно, высказывать это во всеуслышание. Но где только мог — перечил. Вот и сейчас подходящий случай.
Каретник молчал. Он оставлен вроде комиссара, и как-то не с руки ронять авторитет Батьки. Хотя Семен тоже не одобрял всесилие Волина.
— Тогда пошли к Билашу, — предложил Зиньковский. Хитрая лиса, он и слова не проронил против воли Нестора Ивановича, лишь тонко учитывал настроения старших. Семен сумрачно взглянул на контрразведчика.
— Идем! — решил Калашников. Он назначен начальником обороны города потому, что умеет зажечь, повести полки. Его любят и боятся повстанцы. Но в делах стратегических, и не только в них, Виктор Билаш незаменим.
Он был очень занят. Три корпуса сосредоточились вокруг Александровска, и со всех сторон их теснили белые. Несомненно, они пронюхали, что Махно покинул войска, и намеревались мощным ударом покончить с теми, кто остался. Перед начальником штаба армии стояла нелегкая задача: дать отпор и организованно уйти за Днепр. Спокойно сделать это не позволят. Раздерут на куски, на спинах ворвутся в город, и тогда… пиши пропало!
Разведка донесла, что с севера давят: первая Туземная дивизия Шкуро из восьми полков, Донская сводная дивизия и бронепоезд «Единая Россия». С востока нажимали вторая Терская и Кубанская пластунская дивизии. С ними бронепоезда «Иван Калита» и «Дмитрий Донской». Внушительная сила!
Зато на юге противник пока отстал, и это давало Билашу возможность для испытанного маневра. Он сколотил конную группу во главе с неудержимым Трофимом Вдовыченко, который должен в разгар сражения, когда третий корпус намеренно отступит, врубиться во фланг и зайти в тыл терцам и кубанцам. Ему же придавались резервные полки на тачанках. Уничтожить белых вряд ли удастся, но потрепать можно изрядно.
— Генералы считают нас кем? — спросил Виктор командиров, что склонились над картой-десятиверсткой.
— Навозом! — брякнул Вдовыченко, как всегда, прямо и грубо.
— Точно, — махнул пальцем Билаш. — На этом строим контрудар. Покусают локотки, да поздно будет. Потому требую беспрекословной четкости…
В это время в штаб зашел Калашников с товарищами, положил на стол список обреченных.
— Санкционируй, — сказал.
Виктор взглянул на бумагу, потер усталые глаза.
— Сами, что ли, не можете решить? Да тут же вот подпись Махно!
— Сомнения появились.
— Тогда, Сашко, давай так. Оно ж не горит? Собери эту труху в контрразведке. Я закончу и поглядим…
В коридоре особняка, где располагалась тайная служба, давно ждали решения своей участи первые арестанты, вызванные из подвала по списку. Вошел стройный блондин в легком пальто, смотрел затравленно.
— Заместитель управляющего Азовским банком Гресь Андрей Маркович, — прочитал Зиньковский. — Обвиняется в сочувствии кадетам.
— Это правда? — резко спросил Калашников.
Гресь видел, что «судьи» торопятся. Скажи «да» — и конец.
— Нет, — отвечал он, глядя на желтый язычок керосиновой лампы.
— А чего ждал? Почему не уехал, как другие толстосумы? — обратился к финансисту Каретник.
— Отец без ноги. На кого брошу?
— Где потерял?
— Еще на японской.
— А если бы с ногой? — напирал Семен.
— Я живу на Вознесенке (Прим. ред. — Село, пригород Александровска, где, к слову сказать, появился на свет и автор). Дед тут родился и прадед. Куда бежать? Родное кубло.
— Иди. Зови следующего, — велел Билаш.
— Я свободен?
— Нет. Жди решения.
Приковылял бодрящийся старичок. Шляпу с округлым верхом бережно держал обеими ручками.
— Купец Шнейдерман Изя Самойлович. Обвиняется в благожелательном отношении к добровольцам, — доложил Зиньковский.
— Позвольте, какое доброволь… господа? Ой, извиняюсь, товарищи. Мне бы лишь тихонько отойти в мир иной…
— Спекулянт? Чем торгуешь? — строго прервал его Калашников.
— Боже милосердный! — арестант с испугу уронил котелок, и тот закрутился по полу. Старичок нагнулся, стал ловить его, говоря: — Гвозди, дверные петли, пакля… Ничего же нет. Шаром покати!
Билаш прикрыл ладоныо улыбку. Кого нахватали? Рухлядь же. У этого трясогуза дети, внуки, наверняка целый выводок. Стрельнем — вой поднимут на весь город. А завтра в озверении будут палить в рабочих, крестьян той же Вознесенки.
— Зови следующего!
Этот оказался толстым, пузатым, с отвислыми усами.
— Владелец маслобоен и мельниц Кущ Фома Евдокимович, — представил его Зиньковский. — Обвиняется…
— Оружие прятал, хрен собачий! Где, сколько? Не скажешь — на акацию потянем! — набросился на него Каретник. Он предвидел, что Батько будет вне себя, когда узнает, что его приказ не выполнен. А дело шло именно к тому. Не могут же они все быть чистыми?
Толстяк рухнул на колени. Язычок лампы заколебался.
— Поверьте, дорогие анархисты. В руках наган сроду не держал!
— Ну, ну. А молол зерно голодающим? — спросил начальник контрразведки. Он хорошо знал нравы этих живодеров. Сам когда-то таскал мешки с мукой и не прочь был пустить в расход пузатого. Хоть для отчета Батьке.
— Истинный крест, ник-кому не отказывал!
— Небось, драл три шкуры?
— Не-е. Даром, даром! — толстяк, безусловно, врал. Но за что его губить?
Арестованные производили жалкое впечатление. Это были не воины и не заклятые враги. Те давно бежали. Контрразведка явно захапала, первых попавшихся.
— Барахло сгребли, — с укором обратился к Зиньковскому Калашников. — Делать вам… и нам нечего, что ли?
— Яка трава, такое и сено, — загадочно отвечал Лев Николаевич.
— Надо их отпустить. До единого, — предложил Виктор Билаш. Глаза его слипались от усталости. — Но с условием, что и волос не упадет с головы работяг, когда нагрянут добровольцы. Так?
Все согласились, кроме Каретника. Тот промолчал.
В тумане, да еще как будто и холодный дождик сеялся, трудно было различить, где повстанцы, где белоказаки. Мат-перемат вокруг, стрельба, штыки, шашки мелькают, конские гривы, и чем-то теплым брызнуло в глаза.
— Попался, махновская морда! — услышал Захарий Клешня, бросил винтовку и быстро поднял руки, чтобы сдуру не рубанули. Может, и не ему кричали. Разве тут поймешь? Пошли они все на… с единой Россией, нэзалэжной Украиной, со свободой — жизнь дороже!
Его толкнули в спину, повели. Он наконец протер глаза. На краю глубокой балки, у голых мокрых кустов шиповника их набралось человек сорок, пленных.
— Стойте пока! — приказал верховой, помахивая нагайкой. — А ты, Егор, гляди в оба за этой половой. Скоро разберемся!
Бой удалялся, а с ним Сашка Семинарист, батальон, где числился Клешня, и весь третий корпус Повстанческой армии, что держала здесь оборону. Сытые куцехвостые лошади немецких колонистов приволокли пушку. Она развернулась и стала рявкать куда-то в сторону Александровска. Звенели пустые гильзы, пахло порохом. Мимо прорысили четыре или пять эскадронов с шашками наголо. Копыта чавкали в раскисшем черноземе. Появились подводы с пехотой. Одни останавливались, что-то копошились. Другие, тарахтя котелками, ехали и ехали дальше.
— Ну, капец, — обреченно выдавил сосед Захария, смуглый и худой, как жердь. — Кубанцы не пощадят. Хотя их предки из наших же краев…
— Вы там! Разгово-орчики! — прикрикнул Егор, что охранял их. Он в зеленой шинели и черной папахе с белой ленточкой.
Клешня сплюнул. Д-дурак! Чего поднял руки? Бежал бы со всеми. Да пропади они пропадом. Эти тоже не подряд расстреливают. Еще победуем. Вспомнилось мельком, как месяц тому ехал с пулеметным полком Кожина брать Юзово. Там родина Фомы. А Захарий мечтал попасть совсем в другое место — в Рождественку. Тихонько откололся и подался домой. Оля встретила, слезы ручьем. Детишки прилипли к ногам батьки. Чистая постель. Вот счастье-то где! Единственное и самое дорогое. «За то бьемося? — думал Клешня. — Свое поле вспахать, колосок пощупать. Э-эх ты ж, доля наша неладная. Та кому тут объяснишь? Все такие, а враги!»
— Куда золотишко, граммофоны запрятали? — громко спросил Егор. Ему было скучно. Ребята погнали бандитов, скоро нагребут добра полные телеги, а он торчит здесь, словно оглобля на току.
— Якэ золото? — с обидой озвался Захарий. — Мы ж голота, як и ты.
— Не надо брехать. Мы вас раскусили, паразитов, и вытряхнем всё, что награбили. Ради этого и стараемся. Должна же быть справедливость!
— Чудак, у меня и хаты нет, — брезгливо проронил сосед Клешни, худой и злой.
— А где ж она делась? — заинтересовался Егор.
— Австрийцы спалили. Хоть бы копейку кто дал. Эх ты, завидющий. Славянин тоже мне!
— А почему вы его Батькой зовете? — мягче спросил караульный. — Глупое слово. Атаман бы, и всё.
— Э-э, ты, хлопец, не поймешь, — сказал сосед Клешни. — Махно и начальник, и совесть наша. Як моя хата — не изба, не жилье только, а родина. Теперь, правда, пепелище.
— Гляди ты! — удивился Егор. — Философ нашелся на краю могилы…
Так они переговаривались. Между тем солнце уже поднялось к обеду и помаленьку рассеяло холодную изморось. Стали различаться холмы, поля вокруг, далекий пологий скат балки на той стороне, и Клешня увидел, что белые обеспокоенно зашевелились, послышались резкие команды. Пушку покатили вправо, и сюда летели конные, разворачиваясь в лаву. Что же случилось?
По широкому днищу балки тоже двигалась кавалерия. Шла и шла. Вдруг Захарий догадался: «Та цэ ж… наши!» Кровь ударила ему в голову. Всё убыстряя шаг, эскадрон за эскадроном на них валили махновцы. Точно! Вон и черное знамя. А дальше, дальше! Господи, конца-краю не видно. Из балки несся глухой, тяжелый топот и слышалось: «Ра-а! Ра-а!»
Говорили, вроде в этих местах, между левыми притоками Днепра — Конскими Водами и Мокрой Московкой, может быть, даже на этом холме, семьсот лет назад разыгралась первая жуткая битва с татарами. Самые лихие русские князья выскочили сюда, как сейчас белоказаки, и обмерли: в широкой низине скрытно, молча стояли тумэны, которым и конца не было. Потом началось избиение наших несчастных предков.
Пригнувшись к лукам, передние вихрем вырвались на верх балки, порубили прислугу пушки и схлестнулись с кубанской лавой. Крики, стоны, хруст костей, певучие пули.
Клешня озирнулся. Парня, что их караулил, словно ветром сдуло, и пленные побежали в разные стороны. Захарий тоже не стал ждать, метнулся к пушке, поднял чей-то карабин. Глядь — каурый жеребец бредет. Глаза дикие, морда оскалена, и повод волочится по земле. Клешня подхватил его.
— Коня, коня, — сказал и вскочил в седло. Хоть и сабли нет, а воевать можно. С гиком и свистом летели мимо эскадроны повстанцев. Захарий даже не предполагал, что в его армии столько кавалерии. Он подался следом. Казачью лаву смели. Теперь на очереди была Кубанская пластунская дивизия, которая никак не ожидала удара с тылу. Огрызались пулеметы, палили успевшие развернуться пушки, но все это стихало под разъяренным напором.
Клешня подъехал поближе к белякам, остановился и стрелял прицельно. Жеребец мешал: ерзал, просил повод. Тут, ближе к Александровску, не было холмов — ровная степь, и далеко видно, как с той стороны нажимает махновская пехота на тачанках, рвутся белые облачка шрапнелей, а кубанцы поспешно отступают на северо-восток.
— Захар, ты где пропадал, едрена вошь? — рядом стоял Сашка Семинарист и зыркал исподлобья.
— В плену был.
Батальонный еще более нахмурился, бандит бандитом.
— Что за шутки? Казачки, небось, и рысака тебе дали? А если контрразведка заинтересуется?
Клешня плевал на это, был уверен: Батько помнит, кто его приютил в лихую годину, и защитит всегда. Не зря же Петровичем величал.
— Коня взял в бою, — отвечал он, спрыгивая на землю, — и не я один там был.
— Ну, здорово! — Сашка неожиданно обнял его. — Молодец! Раньше я, грешным делом, считал, что ты фраер, хуторское дупло. А каурый у тебя, эвона, зверь. Гляди, землю копытом роет! Подари, а? Век не забуду.
Клешня знал цену лошади. Дороже лишь жена и детки. Но он, слава Богу, изучил Сашку. Вон чего обнимался, уркаган. Все равно не отстанет, пока не получит.
— Что дашь взамен, командир?
— Желаешь портсигар?
— Та я ж нэ курю.
— Золотой, дура! — Семинарист достал из кармана и осторожно, в ладони показал коробочку. Она взаправду была червонная. Захарий оторопел. Никогда ничего подобного не держал в руках. Он чмокнул губами: «Взять? Нет. Вытянут ночью, тот же батальонный, когда заснем вповалку».
— У тебя немецкий конь есть. Мохноногий.
Сашка кивнул.
— Давай махнем на него, командир. Зачем в хозяйстве рысак?
Они ударили по рукам, и Семинарист ускакал. Но вскоре возвратился.
— Слушай приказ! — крикнул повстанцам. — Дальше погибает Железный полк. Надо помочь. За мной!
Обгоняя их, к северным окраинам Александровска пошла и кавалерия.
— Там чечня лютует!
— Не-е, свойи, кубанци, — слышались голоса.
— Одна сатана. И шо йим трэба у нас?
— Врижым по рэбрам — узнаютъ!
Они проскочили через железную дорогу Москва — Симферополь и дальше по низинке ударили во фланг белым. Захарий Клешня не кинулся вперед, а влез на немецкого битюга и, пригнувшись, потихонечку подался за пешими. Стрелять было сподручно: конь спокойный, не то что жеребец. Но и казачки особенно не упорствовали. Кавалерия махновцев прорвалась к ним в тыл, с юга напирал Железный полк. Потому вскоре противник побежал. Его не преследовали.
— Уходим на Кичкасский мост! — шумел Сашка Семинарист. — Дальше… Екатеринослав!
«Зачем он мне? — кумекал Захарий. — Я там и не был никогда». Ему хотелось в Рождественку, домой, с таким добрячим коньком, чтоб и Оля порадовалась, настелила чистую постель без тифозных вошек. Но никак нельзя. В первом же селе схватят озверевшие кадеты, будь они прокляты. Ох, и когда оно кончится?
На кургане что-то темнело. Клешня подъехал, взяв карабин на изготовку. Нагнулся и увидел кавказца с тонкой талией, перехваченной серебряным пояском. Рядом валялась папаха. «Взять?»— заколебался Захарий и невдалеке заметил еще одного лезгина или чеченца, потом третьего, четвертого. Нехорошо стало, муторно. Не прикрыты даже кураем, а люди же. Они лежали и в жухлом жнивье, вдоль дороги — никому не нужные, словно перекати-поле. «И я б мог, — с тоской представил Клешня. — Куда нас несет? Яка сыла?»
«Подойдя с трех сторон вплотную к городу, Махно открыл из шести орудий пальбу, оставив для остатков Добровольческой и Щетининской армий один выход — через железнодорожный мост на Синельниково.
Здоровые молодые люди в офицерских погонах и с винтовками в руках бежали впереди, а позади тысячной толпой шли женщины, дети и старики, спеша к мосту, спасаясь от могущего каждую секунду ворваться в город Махно. Пошатываясь, кутаясь в одеяла, плелись тифозные офицеры и казаки…
А к вечеру с трех сторон по широким улицам стала вливаться повстанческая армия».
3. Арбатов. «Екатеринослав 1917-22 гг.»
Спустя две недели начальник контрразведки Лев Голик в гостинице «Астория» доложил Нестору Ивановичу, что против него созрел заговор. Батько долго молча сидел в кресле, покусывая губы. Этого следовало ожидать. Покушались на его жизнь неоднократно. А заговор возник, если Лев не врет, впервые. Значит, их большое дело начало расслаиваться и они слишком терпимы. А иначе, какая же свобода? Стоп! Она же, стерва, не беспредельна. Но где край?
Красная Армия гнала белых от Орла на юг, все ближе и ближе к махновцам. Скоро пожалует и сюда. Какова будет встреча? Опять Троцкий сунет под нос каленое железо? Или бойцы, простые рабочие и крестьяне, станут брататься? Ох, мало на это надежды. Московские вожди ни за что не допустят. Власть для них слаще любых идей и коммун. Да и тут держиморд хватает.
— Большевики бузят? — спросил наконец Голика.
— Да-а, во главе заговора — Полонский, наш сукин сын. Сегодня пригласит вас на вечеринку и отравит коньяком.
— Ты, Лева, прямо гадалка! Откуда сведения?
— Они собирали губпартком. Мы разнюхали, послали туда своего человека. Гравер Иосиф Гутман тиснул ему на холсте липовый мандат представителя ЦК. Поверили, говорили обо всем, не таясь…
— Почему раньше не доложил? — перебил Нестор Иванович. Он смотрел в окно. На бульваре белел снежок, куда-то бежала бездомная собака.
— Так только закончилось их заседание. А кроме того, у нас войска триста тысяч!
— Лишку хватил.
— Ну с обозами, резервами, далекими отрядами. Одних тифозных больше тридцати тысяч. Я к чему? На каждый десяток повстанцев есть мой доверенный. Разве обо всем доложишь?
— Заговор не мелочь, — заметил Батько. Из открытой форточки пахнуло холодной сыростью, донесся взрыв снаряда, потом еще один. Это с левого берега Днепра били орудия добровольцев.
— Большевички поверили нашему «делегату», — продолжал Голик тихо, бесстрастно. — Полонский заявил: «Всё готово для захвата власти. А Махно с верхушкой уберем. Лучше всего отравить. Сыпняк свирепствует, и не возникнет никаких подозрений. Врачей подкупим».
— Выходит, спровоцировали командира Железного полка? — процедил сквозь зубы Батько.
— Сука не захочет — кобель не вскочит, — парировал начальник контрразведки. Он заматерел, отпустил пушистые усы. Кончики их вздрогнули. Нестор Иванович это заметил. «Может, службу свою возвышает? — засомневался. — Но лучше переборщить, чем недосолить».
— Что предлагаешь?
Голик был из рабочей аристократии — токарь, любил почитывать книжки и давно усвоил правило: хочешь, чтобы с тобой считались, никогда не торопись говорить. Большим пальцем он мягко и медленно подправил усы.
— Не отвечай, — разрешил Махно. — Это в конце концов мелочь — моя, твоя жизнь. Лучше скажи, почему в Екатеринославе не радуются свободе, которую мы дали? Впервые в истории. Почему не берут ее? Даром!
— Хм, Батько, ну и вопрос, — Лев скупо усмехнулся. — А что сделает собака, если ее отвязать? Будет стоять и недоуменно глядеть на хозяина. Потому и пословица: не в воле счастье, а в доле.
— Заладили «доля», «доля». Ермократьев-бандит о ней бубнил. Я же речь веду о целом городе. О нашей Украине! — с болью возразил Нестор Иванович.
— Они же все, барбосы, разные, и у каждого — своя воля. Тебе, Батько, нравится соколом парить, за плугом пройтись, пасеку завести, а другой мечтает о миллионе рублей, третий рвется в правители, иной в холуи. Бабнику юбки снятся. Э-эх, что там еще? Вино, кони, карты… — Голик вздохнул. — Хочешь сделать всех счастливыми — обстругай! Но быстро это не получится. Мозги до-олго вправлять надо, и несогласных — к ногтю.
Скривив губы, Махно исступленно глядел на костолома: «Если он мои-и сомнения читает, как по-писаному, то каково же тем, кто в его подва-але дрожит?!»
— Выходит, Лева, ты не веришь в нашу победу? Сягнул умом выше Кропоткина, Бакунина?
Контрразведчик мельком взглянул на плакат, что висел на стене: «Если есть государство, то непременно есть господство, следовательно, и рабство. Государство без рабства, открытого или замаскированного, немыслимо. Вот почему мы враги государства. М. Бакунин».
— Нет, Батько, я с тобой — до могилы, пока сердце не лопнет. Я токарь, но теперь уже… по человеческим душам.
Нестор Иванович, ухмыляясь, поднялся из-за стола, подошел к соратнику, обнял его за плечи.
— Ну и сволочь же ты, Левка, все-таки. Ладно, иди. Я подумаю.
— О расходах золотого фонда на пропаганду, заграницу… потом?.
— Да, потом. Где это Виктор Билаш?
— Лежит. Возвратный тиф. Вошь, к сожалению, без страха.
— Значит, по-твоему, не доросла до воли Украина? — еще спросил Махно. — Ну, что ж. Хай мается, несчастная. А мы сделаем всё, что сможем. Хоть попробуем, убедимся.
Голик постоял, выжидая, и ушел. Батько взял сводку управления военных сообщений. Железные дороги в ужасном состоянии: топлива нет, крупные мосты взорваны, паровозы на приколе. Это хорошо и плохо. Генерал Слащев, расправившись с галичанами, снова замаячил на горизонте, с запада. Но быстро наскочить не сможет — распутица. Плохо же потому, что и самим не рыпнуться.
В другой бумаге — отдела снабжения армии — сообщалось, что на станциях и пристанях лежит до двух миллионов пудов зерна, муки. Голод не грозит. Добыто 200 ООО штук обмундирования — и не хватает! Новобранцев много. Где взять?
Вошел адъютант Григорий Василевский, тоже небольшого роста.
— В приемной ждут. Принимаете? — и смотрит преданно. Он в офицерском мундире, сапоги блестят — не узнать сына гуляй польского скупщика свиней. Да и сколько лет утекло? В царской армии не служил, был объявлен дезертиром, грабил богатеньких, крайне осторожен, ни разу не попался. Потом боец черной гвардии, уже год — рядом с Батькой. После пропажи Пети Лютого стал самым близким ему человеком.
— Вечером большое совещание командиров. Не забыл? — спросил Махно.
— Всё помню, — рот у Григория малый, а карие глаза широко поставлены и по-еврейски печалятся. Это от отца.
— Так что же лезешь? — грубо осведомился Батько. — Некому решать? Рассуй посетителей по шишкам!
— Добро, — без обиды согласился адъютант, хотя оставил в приемной лишь тех, кому никто не мог или не хотел помочь: ни начальник гарнизона хитроумный Семен Дашкевич (это он взял город, спрятав повстанцев на возах с капустой), ни реввоенсовет, который теперь снова возглавлял красавец-матрос Александр Лащенко.
Махно вышел из гостиницы, намереваясь проехать по окраинам Екатеринослава, проверить оборону и подумать. Змейками-медянками крутилась боль: «Что везут комиссары — крах или союз? Будем биться или брататься? И тиф, этот всепожирающий гад! Кто наслал?»
На тротуаре к Батьке кинулся мужик в кожухе и с бумажкой в руке. Но был остановлен Гавриилом Трояном с телохранителями.
— Дай хоть слово скажу атаману! — просил неизвестный.
— Подойди, — разрешил Махно. — Ты кто?
— Та Васыль с хутора. Хлиб же вам прывиз, сто пять буханок. Прыжмэш — играють, як гармошкы. Даром, для Батькыного войска. Тут написано, чытай! — он совал измятую бумажку.
— Верю, спасибо, — веско сказал Нестор Иванович, понимая, что перед ним кулак. Значит, припекло, почуяли запах красного каленого железа.
— Та шо ж тэ спасибо? — возмутился мужик. — А патроны хто дасть?
— Ты же хлеб, говоришь, даром привез.
— Так и вы ж даром дайтэ, а то до самого Батька дойду!
— Получишь, — пообещал Махно. — Только сначала ответь по совести: слышал, что сюда красные идут?
— Та чув, хай бы йим черт!
— Как мозгуют в селе: замириться или воевать?
— А всим по домам, — не задумываясь, сказал мужик. — Нэ лизь попэрэд батька в пэкло. Кому нужна война? Чуешь, напышы отут, шоб патроны далы.
Нестора Ивановича больно задела вековая народная мудрость. Выходит, батько всегда первым лез в пекло? А остальные ждали в сторонке: выскочит с поживой или сгорит. Захотелось выругаться: «Ах вы ж клятые-мятые, хитрожопые!» Но он сдержался, спросил:
— Мира жаждешь? Зачем же оружие?
— Э-э, чоловику дано два вуха, шоб слухав, и одын рот, шоб мовчав.
— Молодец, — то ли похвалил, то ли съязвил Махно и велел Трояну: — Выдайте ему патроны. Сколько тебе, Васыль?
— А по пять штук за буханку. Бильшэ дастэ — нэ откажусь!
Директор музея древностей, магистр русской истории Яворницкий съел крохотный кусочек сала с луком, запивал чаем и перелистывал томик писем Пушкина. Посетителей здесь давно не было, обслуги тоже. Никто Дмитрию Ивановичу не платил ни копейки, а он каждый день приходил в это белое с колоннами здание при австрийцах, петлюровцах, добровольцах, красных и теперь — при махновцах. Его дело превыше всяких смут, партий, властей. Оно, полагал Яворницкий, вечно. Лихолетье, однако, угнетало, и как-то нужно коротать время и успокаивать душу.
В нижней части Екатеринослава, у Днепра, изредка бухало, шальной снаряд мог прилететь и сюда. От этого становилось зябко, да и не топили давно. Хотя люди вон ходят себе по улицам, даже дети бегают. Недавно повстанцы облили керосином и сожгли обе тюрьмы. Говорят, уголовники ух как радовались. В храме разбили окна, и хотелось забыться в розысках, что ли, давно минувшего. Такой доступной и утешительной стала для Дмитрия Ивановича редкая история Бронзовой бабушки.
Фаворит Екатерины II Потемкин, чтобы польстить благодетельнице, заказал немецким мастерам ее статую. Императрица как раз готовилась отправиться в полуденные края, намереваясь заложить новый город у днепровских порогов. Там и должны были установить ее изваянный лик. Но скульптуру отлили на год позже. К тому времени приспела война с турками, фельдмаршал Потемкин уехал и неожиданно скончался. Статуя осталась в Берлине и была выставлена для продажи с аукциона. Случайно ее увидел и купил Афанасий Николаевич Гончаров, в имении которого однажды побывала Екатерина II. Он хотел водрузить памятник во дворе, но тут и царица померла. Случайность? Снова? Павел I не любил мать, и, дабы не навлечь на себя его гнев, Гончаров не исполнил задуманное. Статуя долго валялась в пренебрежении.
О ней вспомнили, когда внучка Афанасия Николаевича Наташа стала невестой Пушкина и на свадьбу потребовались деньги. «Дедушка выдает свою наложницу замуж с 10 ООО приданого, а не может заплатить мне моих 12 ООО и ничего своей внучке не дает», — огорченно писал поэт. Что оставалось делать? Гончаров предложил продать Бронзовую бабушку на переплав. Легко сказать. Это же лик венценосной особы! Потребовалось высочайшее разрешение, и Пушкин, хочешь не хочешь, вынужден был обратиться за помощью к шефу жандармов, командующему императорской главной квартирой графу Бенкендорфу. Но как объяснить столь щекотливое желание частного лица потревожить память императрицы?
Поэт-жених сообщает, что «колоссальная статуя… совершенно не удалась и так и не могла быть воздвигнута», что она просто уродлива. Разрешение на переплав дали. А где же деньги? Пушкин спрашивает невесту: «Что поделывает Бабушка — бронзовая, разумеется?» Через некоторое время из Болдино: «Как идут дела и что говорит дедушка? Знаете ли, что он мне написал»? За Бабушку, по его словам, дают лишь 7 ООО рублей, и нечего из-за этого тревожить ее уединенье. Стоило подымать столько шума! Не смейтесь надо мной, я в бешенстве. Наша свадьба точно бежит от меня».
Читая эти письма, Яворницкий вздохнул, почесал за ухом. Вот оно: личное и государственное, воля и неволя. Как причудливо переплелись! Бронзовая бабушка всё лежала неприкосновенно, до поры до времени храня свои, видимо, роковые задатки.
В одном из писем (историк прочел это по пути) Пушкин замечает о польском восстании: «Но все-таки их надобно задушить… Для нас мятеж Польши есть дело семейственное, старинная, наследственная распря».
Дмитрий Иванович раньше не встречал этих строк и был поражен. «Екатерина II уничтожила Запорожскую Сечь, — думал он. — Тоже «дело семейственное»? О какой же тогда свободе пел поэт? Ох, смутное, переменчивое понятие! Вот и махновцы бьются за нее, грабя состоятельных граждан. У меня, старика, забрали шубу последнюю и галоши».
Повалил снег. Яворницкий выглянул в окно. Каменные степные бабы во дворе побелели, как и тысячу лет тому, когда зябли на глухих курганах. Стоят! А рядом с ними… закопана Бронзовая бабушка. Еще утром там выделялось глиняное пятно. Теперь уж и следа не осталось. Мог ли вообразить такое Пушкин?
Неприкаянная Бронзовая бабушка никак не покидала поэта. Они переехали на новую квартиру, и последний раз Пушкин упоминает о ней не без раздражения: «Мою статую еще я не продал, но продам во что бы то ни стало». Уже ее осмотрели художники-академики, найдя цену слишком умеренной, и Наталья Николаевна искала покупателя, написан был «Медный всадник» с первым героем-анархистом Евгением, а избавиться от рокового кумира не удавалось. Яворницкий искал в письмах каких-либо упоминаний о нем после 1833 года, но их не было до самой гибели Александра Сергеевича.
Тут в дверь музея постучали. Обеспокоенный директор пошел туда. С добром сейчас почти никто не являлся.
— Кто там?
— Скорее пускай! Батько Махно прибыл!
— Вы не шутите?
— Давай, побачыш!
Он отворил. На крыльце действительно стоял Махно в полушубке и каракулевой папахе. Щеки запали, глаза блестят.
— Прошу, — пригласил Яворницкий, с недоумением глядя на нежданного посетителя. Еще подумалось: «Бабушка, что ли, накликала?»
Гость вошел, остальным велел:
— Ждите на улице. Толковать будем.
В кабинете директора пахло заваренным чабрецом, мятой, васильками.
— Хотите чаю? — предложил Дмитрий Иванович, опасаясь, что Махно прибыл за последней бутылкой казацкой горилки — оковытой.
— Не откажусь, — гость снял папаху. — Тут прямо весна! Чем заняты?
Яворницкий мягко улыбнулся, седые опущенные усы зашевелились. Ну что отвечать атаману? Не поверит же.
— Историей Бронзовой бабушки, — честно сказал директор музея, наливая чай.
Теперь усмехнулся Махно.
— Завидую вам, Дмитрий Иванович. В тот раз вы огорошили меня оковытой из древней могилы. Опять что-то связанное с запорожскими казаками?
— Напрямую. Она их последнюю Сечь разорила, — историк лукаво взглянул на Батьку и добавил: — А я храню ее памятник. Хотя знаю, что все, к кому он попадал, добром не кончили.
— Глупо так рисковать, — решил Махно.
— А вы, Нестор Иванович, давно были на кладбище?
— Пока, слава Богу, не носили меня туда.
— Простите, я имел в виду, что там все примиренные. А скульптура не рядовая, принадлежала поэту Пушкину.
— Который восславил свободу? Наш мужик, как и Шевченко. А где она? — заинтересовался командующий армией.
Яворницкий замялся. Дело в том, что памятник стоял на Соборной площади и революционеры свалили его. Директор музея нанял грузчиков, привез статую сюда и закопал. При всех этих передрягах у Екатерины II было отбито три пальца. Один из них лежал сейчас на столе, рядом со стаканом, щкоторого пил Махно.
— Покоится в земле, — отвечал историк. — Люди же не подозревают о ее роковом характере. Я и спрятал от греха подальше.
— Как же она, бронзовая курва, прискакала сюда от Пушкина? — не понял гость.
— После смерти поэта ее продали на переплавку. На заводе увидел наш земляк и сообщил своим. Горожане купили статую за 7 ООО рублей серебром и доставили домой. Вот и вся сказка.
— Значит, нам тоже надо замириться с русскими мужиками? — вдруг спросил Махно. Ради этого он и приехал.
— Какими? — Яворницкий снял очки, протирал глаза.
— Ну, что большевики ведут на нашу землю.
— А белые?
— Те уже обречены.
Дмитрий Иванович еще потеребил свой довольно большой нос. Вспомнились пушкинские слова: «их надобно задушить… дело семейственное».
— С мужиками что же делить? — сказал ученый. Он, более чем кто-либо на Украине и в России, понимал, что махновская армия — это последний яростный всплеск казацкой вольницы, проснувшейся, как и на Дону, Кубани, после векового забвения. Ее душили, выкорчевывали саму память о тех славных временах, а она жила в поколениях и, смутная, уродливая, озлобленная, бурлит теперь по южным степям. Яворницкий это понимал, но… не мог принять. Его коробил разгул страстей черни. Говорили, какой-то сорвиголова из Одессы, Мишка Япончик или Левчик, заправляет контрразведкой в Никополе, тут бьют стекла в храмах. Разве это воля, о которой мечтали славные предки? А тут еще этот гость со своими сомнениями.
— Верно. Нечего нам делить с русскими мужиками, — согласился Махно. — С вождями их как быть? Ведь смертные враги свободы! Гребут жар под нашу задницу руками голодных рабочих и крестьян севера. Что делать? Подскажите!
Такая мрачная безнадежность послышалась в голосе Батьки, что Яворницкий опустил седую голову и вздохнул.
— Надо же было уродиться лыцарству на голой земле, — проговорил он наконец. — Ни гор у нас нет, ни леса. Раньше плавни Великого Луга спасали да быстрые ноги скакунов, да распря Москвы с турками. Теперь… Кто вам поможет?
— Опустить руки? — не поверил Махно. — Мы зачем кашу заварили? Послушайте, Дмитрий Иванович, вы — совесть Украины. Вот вам исповедь. Наша армия дала свободу трудящимся и охраняет их. Живите, как только хотите. Мы — не власть и не стремимся к ней. Ни командир повстанцев, ни рядовой никогда не получали ни копейки — служат революции по призванию. Да, мы конфисковали вещи в городском ломбарде. Но бедноте по квитанциям всё возвратили, остальное предложили медикам и больным. Из шуб пошили форменные шапки. Вот такие, — он показал свою папаху. — Четыре, миллиона рублей отдали сиротам в приюты, семьям погибших, а на тысячу, вы же знаете, можно месяц жить.
Тут бы Дмитрию Ивановичу в самый раз напомнить, что он тоже давно не видел жалования, к тому же ограблен. Но ученый промолчал. Батько продолжал:
— Говорим, кричим рабочим: «Берите на здоровье заводы, фабрики, мастерские! Создавайте экономический совет!» Но почему они даром не берут то, о чем предки веками мечтали? — с болью, почти отчаянием спрашивал Махно.
— Наверно, замордованы, — мягко и тихо отвечал Яворницкий. — По моим наблюдениям, пока лишь нужда, корысть, боль, тщеславие двигают прогресс. Вы же их не поощряете?
Дмитрий Иванович поразился, с какой иронией это прозвучало. Да, уж очень краснобаистый атаман. Прямо благодетель. Послушаешь, так вроде бы рай на улице.
— Перед вами, Нестор Иванович, лежит бронзовый палец, указующий перст Екатерины II. Видите? Она его не опускала. Его отбили. А сама в земле. Потому я рассуждаю просто: не получается большое — сделай хоть маленькое добро. Дайте мне как директору музея охранную записку, чтоб никто ничего не трогал.
— Хорошо. Получите в моей приемной.
Махно поднялся и, насупившись, пошел к выходу. Не такого совета он ожидал.
— А в чем ваши разногласия с Лениным, — догоняя гостя, попросил уточнить Яворницкий. Его словно бес подмывал.
— Он устанавливает диктатуру своей партии, — сказал Батько на ходу. — Новых дворян плодит — комиссародержавие…
— Мужику-то что до этого? — перебил историк. — Ему дай землю и мир. А кто правит — дело десятое.
— А чрезвычайки, комбеды, а трибуналы? — резко возразил Махно, останавливаясь и глядя удивленно на Дмитрия Ивановича.
Тот давно уже вот так безудержно не закусывал удила. Доконали тревоги последних лет, несчастья, что обрушились на Украину и на него лично. Да и настырный атаман бередил душу.
— Но и у вас же контрразведка, говорят, коменданты, — брякнул историк.
Подобного оборота беседы Батько не ожидал и нервно мял в руках папаху. Директор музея еще прибавил:
— С белыми мужик бился против помещиков. А с красными чего ради?
— Они три шкуры сдерут! — проронил Махно с плохо скрытым раздражением.
— Вы не сердитесь, — попросил Дмитрий Иванович. — Ленина я не защищаю и всей душой за свободу. Но кто же вам правду выложит? Сдерут, говорите? А мужик, и русский, и украинский, — дурак затасканный, верит лишь оку и уху. Заглядывать вперед его палкой отучили. Мне больно это признать, даже стыдно. Поверьте! Снимут с земляков шкуру — тогда и взвоют, вот тогда и…
— Поздно же будет! — чуть не вскричал Батько. — Я хочу им добра!
Историк мог бы привести тысячу доводов, что Украину спасет только единство всех сил, как в Польше, Финляндии, что добро сегодня — это согласие с Петлюрой, другими атаманами, единение братское. Но в пылу спора сказал он другое:
— А Хмельницкий что — враг был своему народу, когда заключал союз с Россией? Бронзовая бабушка, где хотела стоять? А Пушкин что желал…
Не слушая дальше и не прощаясь, Махно покинул музей. Спешил на большое совещание командиров. Историк же взял отбитый бронзовый палец и бережно спрятал в шкаф.
После совещания подошел Михаил Полонский.
— Сегодня именины моей жены. Не откажите, Батько, выпить чарку.
Они одного роста, только Михаил поплотнее, не сутулится, лицо, усы тонкие, форсистые.
— Полночь. Уже и коты спят. Когда пировать? — спросил Махно и опустил глаза, боясь выдать вспыхнувшую ненависть. Подозрение контрразведки точно подтверждалось, и нервы пошаливали. Как еще не обругал Яворницкого? Тот т1?же хорош гусь: «Бронзовая бабушка хотела!» Да мало ли что она хотела, стерва!
— Делу время, потехе час, — продолжал Михаил, удивленный словами Батьки. Раньше он не отказывался от чарки. Что-то заподозрил, волчина? — Приходите, пожалуйста. Жена недавно родила, обидится, если не уважить. Заодно младенца обмоем.
Затаив дыхание, Махно буркнул:
— Будем, — и отвернулся, заговорил с другими командирами. Полонский отправился домой.
Все эти месяцы, пока воевал в Повстанческой армии, он помнил, что не сам прибился к анархистам. Привел к ним… эх, море по колено!., целую бригаду кавалеристов и пехоты. Мало того. Большевик по убеждениям еще со времен службы на крейсере «Иоанн Златоуст», зачем-то, ну в порыве благодарности, что ли, принародно взял в руки проклятое черное знамя! Как ни крути, а стал изменником. Пусть в безвыходном положении, когда со всех сторон лезли деникинцы, французы, петлюровцы, всякие банды. Да кто же станет вникать, сочувствовать? Вон Якир вывел-таки красноармейцев из гибельного мешка. Полонский же, гад, предал! И скоро придется держать ответ. Белые бегут на юг. Неделя-другая, и неумолимые друзья-комиссары появятся в Екатеринославе. Спасти могло только устранение Батьки. Сегодня!
Тогда-то Михаил и кинет свой последний козырь, который хранил на самый крайний случай. Он достал его, аккуратно расправил и прочитал:
МАНДАТ
Дан сей тов. Полонскому в том, что он назначен парткомом для формирования отряда особого назначения по борьбе с бандитами (Махновщины). По прибытию т. Полонского в часть просим его не задерживать как отчетностью, так и другими делами.
Секретарь парткома Никонов. 23.111.1919 г.Весной эта бумага не понадобилась. Но дождется своего часа. Михаил ведь думал не только о себе. У него молодая жена-актриса, дочь родилась. Ради них он самовольно прибыл сюда из Никополя, за что схлопотал строгий выговор штаба армии. Если ЧК расстреляет его как предателя — что ждет близких? Мытарства?
Потому вместе с товарищем Захаровым (агентом Льва Голика) он уговорил членов губкома и получил добро на устранение Батьки. Когда гости будут отравлены, но еще живы, их развезут по домам. Для этого выделили Азотова, Иванова, Семенченко и Азархова. Днем уж всё можно свалить на коварный тиф. Люди мрут сотнями. Попробуй разберись!
Но как только Полонский ушел, Махно подозвал Семена Каретника.
— На именины Мишка кличет. Ох, глупым пахнет. Что посоветуешь?
— Берегись, Батько. Уконтрапупят!
Нестор Иванович призадумался. Полонский — видный вожак, и явных доказательств против него маловато, и медлить нельзя. Один раз уже почти все изменили, когда распоясался Троцкий. Покрутились, перевертыши, в большевистском ярме… Сашка Калашников, Билаш, Вдовыченко… да многие. Василь Куриленко до сих пор там… Прибежали назад. Мишка тоже приткнулся без радости: «Ты до моих убеждений, Батько, не касайся. Большевик я!» Но фактически-то предал звезду. «Он что, лучше моих «орлов»? — размышлял командующий. — Точно так же, сволочь, переметнется назад. Как говорит бывший матрос Щусь, а Полонский тоже из них, «даст гудок к отвалу и обрубит концы». Хай же будет урок для всех слабодушных падл!»
— Гаврюша, бери полуэскадрон, — приказал Махно начальнику личной охраны Трояну. — Поступаешь в распоряжение Каретника. Пошли!
Втроем они направились в коридор гостиницы. Там Батько тихо велел Семену:
— Всех, кто будет у Полонского, жену и его самого арестовать. Коньяк, вино взять на анализ. Дом незаметно окружить, слышь, Гаврюха, чтоб муха не пролетела. До утра кто заявится — тоже забрать в контрразведку. Ясно?
К ним подошел Василевский.
— Я могу помочь?
Махно мрачно взглянул на него, не любил, когда лезли не в свое дело. Но тут был особый случай, и адъютант открыто показывал преданность.
— Иди с ними, — разрешил Батько, резко махнув рукой. Каретник понял этот жест по-своему.
На днях в контрразведку поступил донос на преподавателей гимназии, где директором была старуха Степанова. Перечисленных в анонимке арестовали, начали допрашивать. Присутствовал и Нестор Иванович, слушал, покусывая губы. Жена просила его (Галина жила с ним в гостинице «Астория» и заведовала школьным сектором реввоенсовета), чтобы напрасно учителей не преследовали. Но Степанова, клятая старуха, явно из любви к своим питомцам, которые теперь, волчата, служили Деникину, принялась костерить анархистов на чем свет стоит, в том числе и Махно. Не вмешиваясь, он терпел, терпел, а потом ушел, напоследок вот так же резко махнув рукой. Степанову с коллегами порешили…
А у Полонских жарились куры и на столе уже стояли запотевшие бутылки коньяка, мадеры. В дверь постучали. Михаил открыл, впустил гостей и выглянул в коридор.
— Где же Батько?
Каретник с Василевским, не раздеваясь, направились в комнату. За порогом топтались Троян и Марченко.
— Скоро будет, — отвечал Семен, вынимая наган. — Всем стоять. Иначе — пуля!
— Ой, да что вы, мальчики? — изумилась голубоглазая жена Полонского, актриса зимнего театра. Она еще не опомнилась от родов и страдальчески смотрела на гостей.
— Может, перепутали адрес, а?
Говоря так, она увидела, что любимому связывают руки. В квартире были еще председатель трибунала Екатеринославского полка Вайнер и командир батареи, анархист Белочуб. Их разоружили.
— Что происходит, мальчики? Не с ума ли вы сошли? — со слезами вопрошала актриса, далекая и от войны, и от политики.
— Следуй с мужиками, — велел ей Каретник.
— А как же кроха?
— Пока останется тут.
— С кем же? Кто молочко даст? Нет, я ее возьму!
— Не мучь ляльку. Скоро возвратишься, — успокоил ее Троян.
Пока выходили на улицу, в темень, середняк из-под Мариуполя Белочуб смекнул, что крепко запахло жареным, коль и бабу загребли. Пришьют и отчество не спросят. Контрразведка явно что-то разнюхала. Как и многие теперь, он не прочь был подружить с большевиками. А что терять? Не кулак, не буржуй. Привалит Красная Армия, и конец вольнице. Скажут, этого не трогать, он помогал разлагать махновщину изнутри. Вот и на вечеринку его же не зря пригласили, хотя тайны пока и не доверяли. Неужели конец?
— Слухай, Семен, — сказал Белочуб просительно, — ты же меня знаешь, как облупленного. Я же старый анархист. Попал к ним случайно, выпить чарку. Отпусти, а?
— Там расскажешь, — неопределенно процедил сквозь зубы Каретник. Арестованных посадили на дрожки, повезли. У Днепра зачем-то остановились.
— Выходи! — приказал Семен.
— Не смеете без суда и следствия! — возмутился Полонский. Его стащили с дрожек, другие сами попрыгали на землю. Их повели к обрыву.
— Пантелей! — позвал Каретник Белочуба. — Бегом сюда! — и как только тот отделился, прогремели выстрелы. Трупы раздели, сбросили в воду. Пантелей молча помогал.
— Молись, дурак, — сказал ему Семен по пути к дрожкам. Белочуб перекрестился.
— Да не на меня, чучело гороховое. На портрет Кропоткина!
Квартиру Полонских перевернули вверх дном, но ничего подозрительного не нашли. Зато взяли явившихся туда ночью Семенченко, Азархова, Иванова и Азотова. К утру около дома были арестованы еще девять каких-то типов, оказавшихся большевиками.
Каретник коротко доложил обо всем Махно. Тот тоже не спал, сидел за столом в своем номере гостиницы. Сказал лишь одно слово:
— Иди.
Когда Семен был уже в дверях, он спросил:
— Коньяк отдали на анализ?
— Зачем? Его же не разливали. А какой дурак себя травить станет? — и Каретник прибавил неожиданно поспешно: — Я выполнил приказ. Остальное — парафия Льва Голика.
— Стрелять я тебе не… — Батько помолчал, вздохнул. — Дитя куда дели?
— Пока дома. Отдадут в приют.
— Ну, ладно. Пошли в контрразведку.
Между тем одному из тайных помощников Полонского удалось скрыться, и он принес товарищам страшную весть об арестах. Срочно созвали губком. Члены его не за были, как летом по приказу Троцкого громили повстанцев. Теперь, пока не подошла Красная Армия, разгорится месть. Это ясно. Что еще можно ждать от бандитов? Закроют газету «Звезда», запретят комячейки в полках, отправятся по квартирам!
Анархисты же спорили. Большинство считало, что все сделано правильно. Зачем в коньяке была синильная кислота? Другие: начальник штаба Билаш, зав. секцией печати Аршинов, казначей армии Чубенко, зам. председателя реввоенсовета Волин призывали «остановить руку палача» и освободить арестованных, прежде всего Белочуба и жену Полонского. Потребовали к ответу Махно.
Его долго не было. Как раз в это время в контрразведке заканчивалось следствие и оформлялся протокол. С ним-то и явился Лев Голик, тихо следуя за Батькой.
— Вот послушайте, — холодно сказал Нестор Иванович. Вспышка подозрительности уже прошла, и он чувствовал себя не совсем уверенно. Голик зачитал, кто расстрелян.
— Это же самосуд! Какой позор для нашего святого дела! — вскричал Всеволод Волин. Он все более отдалялся от Батьки. Попытки быстро внедрить в жизнь идеи свободы никак не удавались. А власть в городе принадлежала военным, и штатский честолюбивый Всеволод не мог с этим мириться.
— Позвольте, я не закончил, — возразил Лев Голик. — Мы точно установили, что адъютант Полонского — Семенченко тайно ездил в Москву с письмом, где указывалось, что их Стальной полк, хотя и переименован в повстанческий, но «все такие же, как были, ждем сами знаете чего». Они хотели уничтожить нас с вами и в первую очередь Батьку, «смерть которого может быть верна только от руки женщины». Я цитирую их слова при допросе.
— Это именно слова. Где же доказательства? — не унимался Волин.
Тогда к столу президиума вышел Нестор Иванович. Левая щека его подергивалась.
Тот, кто выступает против повстанцев с оружием в руках, пропагандой шепотом и заговором, когда мы окружены белыми, — тот за Деникина! — сказал он хрипло, угрожающе. Понимая, что это тоже лишь слова, прибавил: — И если какой-то подлец посмеет требовать ответа — вот ему! — и указал на маузер, что висел на поясе.
Это было уж слишком. Волин принял вызов и тоже вскочил.
— Бонапарт нашелся! И пьяница!
Все замерли, понимая, что тут не просто перепалка. Рушился союз с теоретиками анархизма, падало даже нечто большее, о чем и думать не хотелось.
— Ах ты ж б… такая! — выругался Батько, прикусил нижнюю губу и покинул собрание.
Опасения большевиков, однако, были напрасны: никто их не преследовал и газету «Звезда» не закрывал.
Сироту Полонских взяла на воспитание Галина.
Общая обстановка заставила меня… возложить на генерала Шиллинга лишь прикрытие Крыма, с тем чтобы главные силы направить спешно в район Екатеринослава для быстрой ликвидации банд Махно, по-прежнему сковывавших корпус Слащева.
А. Деникин. «Поход на Москву».
Яков Александрович с дамой шли вдоль строя, пристально вглядываясь в лица солдат и офицеров Феодосийского полка. Они уже были готовы к отправке на Екатеринослав, как вдруг явилась эта несчастная. По виду, правда, о ней такого не скажешь. В элегантной, хотя и кроличьей, шубке и шляпке с вуалью дама смотрелась весьма недурно.
В салон-вагоне, где только что объяснялись, кроме самого генерала Слащева, еще находились: его жена, молоденький же ординарец — герцог Лейхтенбергский и начальник контрразведки Шаров. Войдя, дама с недоумением увидала скворца в клетке, колоду карт на столе, недопитую бутылку в углу и молчала.
— Я тороплюсь. Говорите, — попросил Яков Александрович.
— Ваше превосходительство, меня… изнасиловали!
— Кто? Вы его узнаете? — вскочил Слащев.
— Думаю, что да.
— Предполагаете или точно? — даме показалось, что и волосики на почти лысой голове командира зашевелились от возмущения.
— Точно, — подтвердила она.
— Какой позор, мой генерал! — воскликнул герцог, тоже вскакивая.
— Не волнуйтесь, Сергей Георгиевич, — с почтением обратился к нему Слащев. — Идем немедленно!
День был промозглый, обычное южное предзимье. Мокрая, чуть заснеженная мостовая скользила под ногами. Справа серели пустые, готовые к погрузке вагоны и платформы с пологими сходнями. Слева вытянулся строй. Над головами несло клоки пара пополам с дымом. Незнакомка поёжилась и замедлила шаг около поручика.
— Хрипунов?! — с изумлением спросил генерал, знавший своих офицеров в лицо.
— Нет-нет, — поспешно пропела женщина и пошла дальше. Адъютант и Шаров следовали чуть сзади. Она опять остановилась.
— Который? — грозно сказал Слащев. Он в черных брюках с серебряными лампасами, в белой бурке и кубанке — невиданный в армии наряд. Яков Александрович позаимствовал его у большого оригинала, атамана Шкуро, когда был у него начальником штаба.
— Простите, ваше превосходительство. Нет, — и они отправились дальше. В строю не понимали, что происходит, но догадывались. Непременно какая-нибудь гнусность. Иначе зачем же здесь дефилирует эта красотка с лихим генералом, от которого пощады не жди, коль виноват. Не зря с ними шествует и контрразведчик. Что же они вынюхивают?
— Вот он! — женщина остановилась перед штабс-капитаном. Константинопуло. Тот побледнел и опустил голову.
— И рядом… тоже, — она указала еще на подпоручика.
— Что-о? Вдвоем?! — вскричал генерал как-то необычайно громко. Дама потупилась, не отвечала.
Преступников спешно увели, и погрузка началась.
Корпус, который вел на Екатеринослав генерал Слащев, был, пожалуй, уже единственным у белых, не изведавшим горечи поражения. Правда, три месяца тому назад изворотливый Махно прорвал кольцо окружения и ушел, изрубив несколько полков. Но как бы там не язвили недруги Якова Александровича, бандит всего-навсего бежал, позорно удрал, только и всего. Зато капитулировала Галицийская армия, и начдив 4-й стал комкором 2-й и начальником Екатеринославского района, который, однако, еще предстояло захватить. А дороги раскисли, составов не хватало. Тем не менее, смяв и рассеяв повстанцев, нужно было выйти на левый берег Днепра, защитить фланг отступающей Добровольческой армии, а главное — закрыть Крым. Ставка уже месяц требовала этого удара.
В отличие от Главнокомандующего и его окружения, Слащев вовсе не считал махновцев «шайкой бандитов». Он видел их в бою, этих вчерашних своих подчиненных, что мерзли вместе с ним в окопах мировой войны, и убедился: партизан направляла уверенная рука пусть не профессионала, но вожака весьма решительного и опасного. После уманского прорыва он угрожал самой ставке в Таганроге, потом разметал оборону Екатеринослава, где противостояли ему не мальчики-кадеты, а Кавказский, Чеченский и Славянский полки, отряды особого назначения, Донская и отдельная сводная кавалерийские бригады! Это вам не шуры-муры, а достойный противник!
Он ощетинился в излучине Днепра с центром в Екатеринославе и с флангами от Пятихаток до Никополя. После долгих размышлений Яков Александрович решил одолеть Махно мощным ударом на узком участке фронта. Проткнуть, как пикой! Корпус был брошен на Пятихатки. Фронт прорван, и белые устремились дальше. Повстанцы с боями отступали.
Сидя в салон-вагоне и попивая коньяк, что стало за последнее время дурной привычкой, Слащев говорил ординарцу:
— Не пойму легкомыслия Махно. Чего он ждет? Ведь такая пассивность не в его натуре!
— Темна и непостижима мужичья лукавость, мой генерал, — отвечал молодой герцог. Он тоже пил с патроном, и это никого не удивляло. Все знали, что он — пасынок Великого Князя Николая Николаевича и в старые добрые времена вряд ли стал бы якшаться с полевым командиром, тянувшим армейскую лямку, начиная с жалкого подпоручика. Но сейчас, когда вся белая сила дрогнула и покатилась, не дай Боже, в пропасть, Слащев не ведал поражений. Это радовало, возвышало. Кроме того, «мой генерал» был ласков, предупредителен. Да и жена у него милашка!
Якову же Александровичу такая дружба льстила. Из-за близости к коронованным особам ему многое прощали, хотя бы увлечение вином и задержку с выходом к Екатеринославу. В конце концов, герцог не герцог, а славный малый был Сергей Георгиевич, или просто Серж. Разве этого мало: лелеет скворца, в картишки перекинуться — будьте любезны, чарочку принять — пожалуйста. Как же без этого, когда всё летит в тартарары? Если боевые офицеры, сукины дети, гуртом изнасиловали даму! А мы их не расстреляли: некому воевать! Куда уж дальше-то падать?
— Происходящее, Серж, — это похоронный звон по русской душе. Останется лишь зоологическое понятие! — с горечью говорил Яков Александрович, когда вошел Шаров. — А-а, вот и очи наши несмыкаемые, орлиные! — с какой-то злой иронией продолжал генерал. — Присаживайся, кречет, выпей рюмку. Как полагаешь, почему Махно растянулся в грязи?
— Мы обвели его вокруг пальца. Дезинформация, ваше превосходительство, и главное — ваш блестящий замысел. Бандиты в шоке!
— А не переусердствуем? Не прижмут ли нас к речке Мокрая Сурава? Противник-то коварен.
— Это не исключено, — говорил Шаров, подстриженный ёжиком длинноносый субъект. — Но маловероятно. По нашим сведениям, вся верхушка разбойников сейчас в Никополе. Я же говорю: дезинформация! Они, кроты, ждали там нашего удара.
— Как настроены генералы: Скляров, Морозов, Васильченко, Андгуладзе? Не боятся Махно? Все-таки битые! — поинтересовался командир корпуса.
— Донцы и чеченцы, что застряли на левом берегу, рвутся домой. Обрыдла им эта Новороссия, — доложил Шаров, избегая называть имена. — Но и мы же идем на восток. Не так ли?
— Дай Бог прорваться, — сказал Слащев, закусывая и загадочно улыбаясь…
Нюх у белой разведки был тонкий. Накануне все по тому же делу Полонского в Никополь выехали Голик и начальник связи армии Дерменжи. Они арестовали кое-кого из большевиков и конфисковали их листовку. Вслед за ними туда же прибыли Билаш и Волин. Но совсем не потому, что ожидали удара с юга. Они с возмущением освободили арестованных и осматривали тыл на случай отступления при подходе Красной Армии. Но всюду свирепствовал тиф. Трупы валялись прямо на улицах. Не успевали рыть ямы, и на кладбищах покойники лежали кучами. Разъяренный Билаш заменил начальника гарнизона и коменданта, выделил 15 миллионов рублей для новых лазаретов, а сам отправился еще дальше к югу.
Чуть позже, как раз когда корпус Слащева изготовился к прорыву, в Никополь прибыл и Махно. Ему не давала покоя измена Полонского, и хотелось вырвать заразу с корнем. Всех, кто дружески общался с командиром Стального полка, в том числе и только что назначенных Билашом начальника гарнизона и коменданта, расстреляли за предательство и антисанитарию. Батько рвал и метал. Проезжая по большаку и проселкам, он всюду встречал повстанцев, которые самовольно возвращались домой. Одни бежали от тифа, иные спешили спрятать награбленное, третьим всё осточертело. Армия таяла на глазах.
В это самое время Слащев и нанес удар с севера. Махно срочно возвратился в Екатеринослав, но было поздно. Утром белые ворвались в город. Хуже всех пришлось раненым и больным. Они толпами бежали по улицам, цеплялись за орудия, пытались влезть на перегруженные тачанки. Их, слабых, сталкивали в дорожную грязь. Плача и проклиная все на свете, они заползали под заборы, в сараи, пустующие дачи. Около трех тысяч этих несчастных были пойманы, расстреляны, порублены и повешены на столбах. Белые захватили два бронепоезда, три автоброневика и некоторые склады.
Жалкая победа. Основные силы Махно снова ускользнули. Слащев даже и не въехал в город. Зачем он ему, пережеванный? Генерал остановился на вокзале и пил горькую. Приказ опять не был выполнен, и повстанцы, несомненно, скоро нагрянут. Лишь чуть опомнятся и соберутся с духом.
— Этот Батько — прямо стоголовая степная гадюка! — говорил Яков Александрович с каким-то странным весельем герцогу Лейхтенбергскому. — Мы его хватаем, рубим, а он, гад, уползает и жалит. Вот если бы так же дрались наши хваленые Май-Маевские, Врангели, Шкуро — пух бы полетел от большевиков!
Выпив очередную рюмку, Слащев громко захохотал. Он с горечью восхищался своим ловким противником.
А за окнами уже дуло с посвистом, и всё забелила метель. Как всегда внезапно нагрянула южная веселая, вроде невзаправдашняя, зима.
Пока корпус приводил себя в порядок, от Карнауховских хуторов ударила какая-то махновская кавалерийская то ли бригада, то ли дивизия. Генерал Васильченко по примерзлой земле пытался их контратаковать тоже достаточно большими силами. Кинулись лава на лаву, и гусары с казаками не выдержали натиска, побежали, бросив восемь орудий. Лихие налетчики (их вел срочно возвратившийся с юга Билаш) чуть не ворвались в город!
Тут разведка донесла, что шкуровские рубаки, донцы и чеченцы, охранявшие левый берег Днепра, самовольно снялись и ушли на Ростов. А сюда, вытесняемые красными, подваливали все новые партизанские отряды. «Так недолго и в окружение попасть! Будем уходить, — решил комкор. — И комиссары за бугром. Пусть лучше они сцепятся с хитроумной степной гадюкой в кровавом клубке!»
Слащев кинул свои силы по правому берегу на юг. Просто перейти на ту сторону реки он не мог: мост в Екатеринославе давно был взорван. Не встретив особого сопротивления, белые достигли Александровска и по льду перебрались к отступающим армиям. Но тех уже и след простыл.
Что та зима, тиф, даже комиссары, которые сунут сюда? Когда рухнула светлейшая мечта! Да для какого же беса все наши жертвы, кровь, если земляки не могут без власти? Ты им хоть кол на голове теши, а дай начальника! Справедливого требуют, сирые, настоящего. Самому, что ли, стать диктатором? Тогда полетит прахом вся чистая задумка третьей социальной революции. Нет, врешь! Это же, что творится вокруг, — добровольное! А виноваты в неверии людей белые и красные. Не будь их, пустозвонов…
Такие думы одолевали Нестора Ивановича, когда прохвост Слащев бежал в Александровск и привели хлопца из отряда анархиста Дьявола, что окопался на Дмухайловских хуторах.
— Каков он из себя? — попросил напомнить Махно.
— Та высокый, вы ж бачылы. В генеральской шинели. Молодой, а виски седые, як у деда, — говорил хлопец.
— И темляк на сабле с голубой кисточкой, — не без иронии подсказал Батько. Он вспомнил этого толкового командира из тульских рабочих, тоже бывшего каторжанина.
— Во, во. Дуже сердитый Дьявол со всякой падлой. Я у него ординарцем ходил. Нас окружили чеченцы, а тут краснюкы помоглы. Ну, давай брататься. Кацапы ж голодни, хватають варэныкы, ковбасу, самогон дуем. Всё по-человечески.
— Интересно. Продолжай, — сказал Махно. Это были первые достоверные сведения о соприкосновении с большевиками.
— Ну, митингувалы, крычалы мы свое, ти свое. Против чека, реквизиций. А они убеждали, что уже не будет того. Наши вступали в Красную Армию, и Дьявол был «за». Ему дали пропуск до вас, а потом… бабах в затылок! — парень всхлипнул.
— За что? — не понял Нестор Иванович.
— А вы у йих, у комиссарив узнайтэ, у той, як казав Дьявол, трехсот тридцати трех святителей е… рати!
Сигнал был поганый. Махно, конечно, еще не знал о секретном приказе Троцкого. Но догадывался. Ту весеннюю подлую войну с повстанцами никто ведь не отменял, и Лев Давидович, понятно, не забыл, как Батько послал его подальше, мухомора. Так стоит ли ждать чего-то доброго от братьев-трудящихся с красной звездочкой? Это советуют Виктор Билаш и Миша Уралов-словоблуд. Или лучше ощетинить армейские корпуса, с которыми кремлевские шишки будут считаться? Это требую!* Всеволод Волин, Иван Долженко и Семен Каретник.
Они жарко спорили в Никополе, где все собрались на последний совет. Войска таяли. Куда одних тифозных девать? Даже Петр Петренко, словно из мореного дуба вытесан, а и тот слег. Билаш уже третий раз температурит. Калашников сидит весь в поту. Кто его корпус поведет? Ха-ха, корпус! Сто пехотинцев и триста сабель. Решили так: половина армии уходит на юг, закрывает Крым и Николаев. Остальные с Батькой отправляются в Александровск и затем в Гуляй-Поле. Что из этого выйдет — «воно покаже».
Слащева они не опасались: его карта бита. И правда, генерал им не встретился — смылся южнее. Но лишь только махновцы заняли Александровск, как ночью, 5 января нового 1920 года, появились разъезды красных. Они шли по пятам за добровольцами, но были возвращены назад: командование тут углядело большую опасность. Появился и бронепоезд. В нем — комбриг Фишель Левензон.
В отличие от Дыбенко, звезд с неба он не хватал и местных не считал земляками. В семнадцатом был комендантом Кишинева, работал в штабе, потом комиссаром бригады. Обтесанный войной партийный кадр. Вместе с Якиром прорывался в мае из Одесского котла, когда многие, в том числе Полонский, переметнулись к Махно. Так что Левензон не по наслышке знал, как он, бандит, опасен и коварен. Не зря же Якир недавно предупредил: никому из командиров с Батькой не встречаться. Ни при каких обстоятельствах! Приказ центра.
На перроне расхаживал гражданский с красной повязкой. Фишель присмотрелся: «комендант станции от войск Батьки Махно». Что за чушь? Если бандиты, то почему с нашей повязкой? И зачем им вообще комендант? Рядятся?
— Кто у вас главный? — спросил комбриг.
— Батько в городе. Толкуй с ним.
Несмотря на запрет, надо идти к атаману. Сам Левензон на это не решился, взял с собой комиссара и двух командиров полков. В шапках-богатырках они пришли в Большую Московскую гостиницу. Там увидели накрытый стол, сидят военные, а у резного буфета, опершись на локоть, — Махно. Фишель предполагал, что тот видный мужик, вроде Котовского, начнет кричать, безобразничать. Ничего подобного. Невзрачный худой Батько сухо представил своих: командира корпуса Семена Каретника, секретаря реввоенсовета Дмитрия Попова, комполка Фому Кожина, еще кого-то. Левензон не запомнил.
— Я желаю переговорить о гарнизонных делах, — заявил он.
— Вот с ними и будете толковать. А политическое решение потом примет наш реввоенсовет с вашим, — ответил Батько. — Но прежде, по славянскому обычаю, выпьем по чарке за встречу двух армий, и только!
Гости переглянулись, явно сомневаясь. Бражничать с разбойником?
— Чего там ломаться? Давайте! — махнул рукой командир красного полка Михай Няга, молдаванин. Выпили, закусили.
— Ну, пора беседовать, — пригласил Каретник.
Батько пожелал им удачи и удалился. Он не хотел вступать в спор с этими мелкими пешками. Теперь всё зависело, полагал он, как сладятся Ленин с Троцким. Возьмет верх последний — не миновать новой резни. Но чем черт не шутит? А вдруг их Ульянов и правда мудрый, каким хотел казаться при личной встрече полтора года назад!
Каретнику Махно велел: «На рожон не лезь. В твоих руках, Семен, наше завтра. Все балачки они передадут по инстанции. А решать будут там, — он показал на потолок. — Соглашайся занять участок фронта против белых». — «А если спросят о личном составе?» — «Ври побольше, чтоб хвост не поднимали».
На следующий день, как и предполагал Батько, в дивизию, а оттуда в 14-ю армию полетела секретная депеша:
Комбриг 1-й тов. Левензон, прибыв в Александровск, отправился к Махно. Его принял комкорпуса Каретник и после длительного разговора заявил: «Мы готовы занять определенный участок, ибо враг у нас один…» В городе расклеен приказ, гласящий, что за грабежи расстреливать на месте, ходят патрули, разъезжают крупные разъезды по 80-100 сабель с черными знаменами. Комбриг спрашивает определенных указаний, каковых спрашиваю и я.
Якир.Ни Махно, ни красные, что находились в городе, еще не слышали о сдаче белыми Ростова-на-Дону, Таганрога и Мариуполя. Поэтому когда Каретник говорил: «Враг у нас один», — руководство Южного фронта это уже не волновало. Противника близко не было, если не считать потрепанный корпус Слащева, что с горем пополам удерживал вход в Крым.
Нестор Иванович также не предполагал, что Троцкий сейчас в Петрограде и Украина его мало занимает, иначе бы обрадовался. И напрасно. Льва Давидовича здесь «заменял» не менее коварный Иосиф Виссарионович, тоже имевший прямую связь с Кремлем. Сталин понимал, что обвинить махновцев в развале фронта, как это ранее придумал Троцкий, сегодня, конечно, смешно. Нужна новая версия, и, пока красноармейцы с повстанцами читали разные листовки, угощали друг друга самогоном и маршировали на парадах в Александровске, начдива вызвали на телеграф. Он выстукивал:
«Добрый вечер, тов. Якир. У аппарата Уборевич и члены реввоенсовета. Тов. Сталин только что передал распоряжение Южфронта предложить армии Махно выступить на защиту Советской республики против поляков в районе Мозыря… Нами будет передан для Махно приказ».
Якир ответил: «Я лично, зная Махно, полагаю, что он ни в коем случае не согласится… и операцией против него будет весьма трудно руководить».
Уборевич: «Вы хорошо понимаете, что этот приказ является известным политическим маневром и только… Если этого не пожелают сделать, значит, они враги и изменники».
Утром Батьке принесли приказ: «Выступить со всеми вооруженными силами по маршруту: Александрия — Черкассы — Бровары — Чернигов — Гомель, где, сосредоточившись, поступить в распоряжение РВС 12-й армии».
— Что за чушь? — возмутился он, покусывая губы. — Гриша! — позвал Василевского. — Срочно сюда Каретника, Марченко и Попова!
Он ожидал любой пакости, но только не это. Выходит, вожди не против повстанцев, готовы даже дружить с ними. Лишь подчиняйтесь! Будьте на побегушках. Ох и лисы острозубые!
Услышав шум, появилась из другой комнаты Галина.
— Что случилось, Нестор?
Он не отвечал, мрачно ходил из утла в угол, опустив голову.
— Ну-у, мухоморы! — сказал раздраженно. — Ультиматум прислали. Приказывают нам идти на польский фронт. За тысячу верст киселька хлебать!
В Большой Московской гостинице было тихо. За окнами второго этажа ветер раскачивал черные, голые ветви тополя. Жена улыбнулась.
— Тебе смешно! — голос Нестора задрожал.
— Не горячись, Батько. Цэ ж сама доля клыче тэбэ.
Еле сдерживаясь, Махно смотрел на жену исподлобья.
Опять эта «доля»!
— Там же Петлюра и вси наши, — объяснила Галина. — Цэ останний шанс вызволыть Украйину. Иды скоришэ, и дайтэ бильшовыкам по рэбрам!
— Панам помогать? Петлюра с ними! — вскипел Нестор. — Да за что ж мы тогда положили тысячи голов?
— Другой свободы нет, милый. Хоть генералом станешь.
— Я не продаю убеждения за звания!
В соседней комнате заплакал ребенок — приемная дочь, взятая у Полонских. Галина пошла к ней, искоса, с сожалением поглядывая на мужа…
Ответ нужно было дать к 12 часам 9 января. Оставалось чуть больше суток. Все командиры резко высказались против похода на польский фронт. Да если бы и согласились, уставшие от боев, болезней повстанцы все равно разбрелись бы по домам. В этом не было никаких сомнений. К тому же и сам Батько подкосился, слег с температурой. В Александровске свирепствовал сыпняк. Мыло и лекарства ценились на вес золота.
Оставшееся руководство повстанческой армии, понятно, не хотело допустить резни с красноармейцами.
— Нам нечего делить с русскими, молдавскими рабочими и крестьянами! — доказывал помощник Билаша Иван Долженко (сам начальник штаба лежал в тифу где-то в Никополе). — Их вождь Ленин мечтает о коммунизме, и мы тоже. Дадут свободную территорию. За милую душу будем пахать землю!
— Глупые надежды! Им безраздельная власть нужна. Это же тираны! — горячился Всеволод Волин. — Глядите в корень: их лозунги — фикция. Они спят и видят себя тузами!
После долгих споров решили сообщить красным: согласны на совместные действия при условии заключения военного договора и признания независимости Таврии и Екатеринославщины.
Однако, еще не получив ответ махновцев, Сталин с товарищами издал секретную директиву: «Эстонской, 9-й стрелковой и 11-й кавалерийской дивизиям перейти в резерв фронта и расположиться: первой — в районе Александровой, второй…» — всем в повстанческом краю. Это не считая дивизии Якира.
Так же поспешно принимается и постановление Всеукраинского ревкома: «Махно не подчинился воле Красной Армии, отказался выступить против поляков… и со своей группой объявляются вне закона, как дезертиры и предатели. Все поддерживающие и укрывающие этих изменников украинского народа будут беспощадно истреблены». Первым подписал кровожадный приказ Г. Петровский, в честь которого потом переименуют Екатеринослав!
Рано утром 9 января к Александровску тайком подъехала еще и 41-я дивизия, чтобы окружить повстанцев с юга. Левензон встретил ее на подходе, выступил перед бойцами. Их настроение, однако, ему не понравилось. Рядовым явно нечего было делить с махновцами.
Возвратившись в город, Фишель увидал на улице начальника контрразведки корпуса Льва Зиньковского. Тот зыркнул весьма подозрительно. Комбриг подошел к нему по грязи (зима что-то опять расквасилась) и приветливо улыбнулся.
— Надо поговорить по душам, Левушка.
— И я бы хотел.
— Чудесно. А вот и комиссар мой, Генин. Пошли пообедаем. Может, в последний раз-то и видимся.
Зиньковский насторожился. Он хотел выведать, зачем идут сюда еще какие-то войска. А тут «в последний раз видимся»!
Когда сели за стол, Генин заметил:
— Батько совсем не показывается.
— Болеет, — сухо ответил контрразведчик, но умолчал, что Махно под видом крестьянина уже уехал на подводе в Гуляй-Поле с женой и приемной дочкой.
— Так я и говорю, что мы расстаемся с вами, — продолжал Левензон как ни в чем не бывало. — Уходим бить Деникина, Левушка. Точнее, добивать его. Жаль расставаться, но… приказ. Для порядка оставляем батальон, и всё. Сменит нас сорок первая дивизия. Кстати, ее начальнику Зомбергу и дайте ответ о переходе на польский фронт.
— Обязательно, а как же! — говорил Зиньковский, откланиваясь. — Спасибо, что поставили в известность.
Он не поверил ни одному слову красного комбрига. Все они сволочи, считал контрразведчик. Люди-то сами по себе неплохие, даже приветливые, когда не касаешься их власти. Но если дотронулся — берегись! Поэтому Лев немедленно доложил о разговоре Семену Каретнику. Тот пошевелил тонким кривоватым носом и молчал: впервые стал главным и опасался напартачить.
— Бежать надо, хлопцы! — настаивал Зиньковский. — У меня нюх собачий. Иногда сам себе не верю. Но такое ощущение, что прыгнут из-за угла.
— Да что они, осатанели? — пялил глаза секретарь реввоенсовета Дмитрий Попов. — Мы же еще ответ им не дали!
Его поддержал Алексей Марченко, как бы заместитель Каретника:
— Горячку пороть рано. Подождем сутки, а там… воно покаже.
— Согласен, — подвел итог Семен, хлопнув по столу широкой ладонью…
А замысел красных был прост и коварен. Бригаде Левензона далеко от города не уходить, ночью напасть на окраины, спящих повстанцев разоружить, кто сопротивляется — кончать на месте. В центре же действует оставленный батальон: хватает штаб и в первую очередь Махно с его черной охраной. Убегающих скосит 41-я дивизия.
Начали от моста через Днепр. Сняли часовых, что охраняли орудия и пулеметы. Кавалеристы Михая Няги безжалостно очистили окрестные села. Партизан брали, рубили сонных, как мух. Встретился еще махновский отряд, что шел откуда-то с севера на соединение со своими. Его окружили. Повстанцы ничего не могли понять. Кое-кто даже заплакал от горечи. Кавалерист выхватил револьвер и крикнул Левензону:
— Либо сам пущу себе пулю в лоб, либо отойди. А коня и шашку не дам! Вы что, хлопцы? Мы же все тут бедняки! Командир, что происходит?
А тот у них оказался большевиком. Ну, что делать? Прямо сумасшедший дом!
— Да мы же с Красной Армией по гроб жизни! — заявил он. — И Батьку заставим перейти к вам. А нет — патлатую башку свернем!
Левензон послушал, посомневался и махнул рукой:
— Ладно, поехали.
Отряд вместе с красными вошел в город. А там — тихо: махновцы все-таки ускользнули в степь. Многие. Видя такое, приблудный отряд по грязи понесся к своим. Ему стреляли вслед, вопили:
— Гады! Предатели!
Между тем на станции Хортица за Днепром, всего в каких-нибудь двадцати километрах от Александровска, маялся Василий Данилов, ни сном ни духом не ведая, что творится в городе. Вскочил на стоящий у семафора бронепоезд «Смерть или победа».
— Ну что, Кочубей, приуныл? — спросил командира. Кличка у него такая, а фамилия Лонцов.
— Ты, Васятка, тоже почему-то не хохочешь, — отвечал тот, шахтер из Юзово, белобрысый малый с низким лбом и приплюснутым носом. Во всем его облике чувствовалась ядреная сила.
Данилов снял кубанку, хлопнул ею по колену.
— Черт-те знает что! У нас аж семь бронепоездов. Глянь на пути. Во всей царской армии, говорят, было столько же. А куда двигать? Кого крушить?
— Спрашиваешь. Ты теперича у нас единый вождь, — усмехнулся Кочубей. — Тебе, Вася, и вожжи в руки. Понукай, коногон!
И правда, старше его по званию — начальника артснабжения штаба армии Данилова — здесь никого не было. А если добавить к бронепоездам еще пять составов с патронами и снарядами да охрану — то хоть «караул!» кричи. Куда все это грузное добро девать? Что сказать людям? Невольно вспомнилось, как когда-то он мечтал Добыть хоть ящик снарядов, даже заехал за ними на позицию добровольцев. А сейчас? Василий улыбнулся. Во Цирк! До слез прошибает.
— Так-то лучше, — похвалил Кочубей. — Ворочай мозгами, полководец, а то, сидя на золоте, пропадем ни за грош!
Время ползло к обеду. Солнце не показывалось. В серенькой дали за Днепром (рукой, кажется, подать) приютился Александровск, но туда дорога заказана. Сами же махновцы, отступая осенью, попортили колею на Кичкасском мосту. Потом слащевцы постарались. Телеграфную связь с городом прервали красные. И на Апостолово не проскочишь — рухнул Чертомлыцкий мост. Но до Никополя как будто еще можно проехать. Так нет же никакого приказа! Батько поспешно драпанул. Штаб армии вместе с Виктором Билашом застрял в Никополе. Туда тоже не дозвониться. Вот и выходит, что Василий Данилов остался первым лицом, коногоном, твою ж бабулечку наперекосяк!
А комиссары шастают уже где-то рядом. Слышно, взяли Екатеринослав, подкрадываются сюда. Как быть? Никто не уполномочил Данилова ни воевать, ни сдаваться. А дело-то не шуточное. Начнешь палить — от станции, от всех, кто в округе, только пыль полетит. Громадная ж пороховая бочка!
— Обед готов, — доложил повар.
— Молодец, Никодим! Хоть ты на страже, — похвалил Кочубей. — Айда хлебнем горяченького.
— И так печет, — заметил Василий.
Не успели они сесть за стол, прибежал связной.
— Красная кавалерия захватила станцию! Сюда летят!
— К пулеметам! — заорал командир бронепоезда.
— Вы что? Не стрелять! — предупредил Данилов.
— Тогда, коногон, даешь Никополь. Согласен?
Василий кивнул. Другого выхода и не было. Вдвоем они выскочили на смотровую площадку. По путям метались какие-то люди. Рядом стояли на парах составы со снарядами.
— Тикайте! Тикайте! — махал машинистам Лонцов, и паровозы, звякнув буферами, тронулись, стали набирать скорость. Замыкающим удирал на юг бронепоезд «Смерть или победа». Местность тут равнинная, голая, и далеко видно было, что никто больше не вырвался.
Захлебываясь свежим ветром, Василий соображал: «Ну зачем мне, кузнецу, вся эта катавасия? Жена Вера неизвестно где. Старики-родители остались в Гуляй-Поле. Живы ли? Друг Красная Шапочка пропал без вести. Что я могу изменить на этом паскудном свете? Батько вещал: «Свобода!» Сладко звучит, да, ох, не в нашу честь». Вместе с тем Данилов понимал, что его путь — только с махновцами. Краснюки, беляки, если словят, спросят: «Командир? Ага, дружок, просим к стеночке!» Так что выбора не было, хоть плачь.
На подходе к Никополю Лонцов сказал:
— Слышь, Вася, найдешь штаб и доложишь о…
— А ты? Не желаешь?
— Буду караулить на станции. Вдруг и там комиссары.
Кочубей, похоже, оробел. Как никак, а бежали постыдно, без приказа. Мало того, потеряли какую силищу: шесть бронепоездов и два состава снарядов! Попадешь начальству под горячую руку — не сносить головы.
— Ладно, — легко согласился Данилов. — Где наша не пропадала!
Он шел по притихшему Никополю, и становилось не по себе. Вон старуха валяется в грязи, дальше бородатый мужик оскалил рот. Двое ребят лежат, раскинув руки под забором. Их выволакивали обессилевшие родственники, чтобы хоть не помешаться. Василий хотел выругаться, но слова застряли в пересохшей глотке. Казалось, жизнь уже остановилась, навеки кончилась. Никого вокруг, лишь облезлый кот ковылял через дорогу. «Свобода, — думалось. — Вот она, милая, где успокоилась».
В поисках штаба Данилов побывал в разных домах. Заразиться не боялся. Но всегда веселый и неприхотливый, он сейчас, конечно, приуныл. «Да куда денешься? — говорил себе. — Пришли махом, улетим прахом». Равнодушно смотрел на винтовки, пулеметы, даже пушку, что стояли без пригляда. Кому это нужно? Весь город превратился в кладбище и лазарет. Уж чем лечили, одному Богу известно. Хоть крыша над головой, и то хорошо. Зима все-таки.
Штаба как такового уже не существовало. Василий еле нашел Виктора Билаша. Свернувшись калачиком, он спал на диване одетый. В углу на кровати вытянулся Петр Петренко. Оба пострижены наголо.
— Я прямо со станции, — доложил Данилов. — С горем пополам вырвались из-под Александровска. Со мной Лонцов, бронепоезд и три состава снарядов. Что делать дальше?
Билаш устало поднялся, сел, тряхнул головой. Широко поставленные черные глаза его ввалились, губы белые.
— Где Батько? — спросил. Потери, видимо, его не волновали.
— Ушел на ту сторону Днепра и как в воду канул, — отвечал Василий. — Связи нет. Полный кавардак. Чего уж там скрывать, Виктор Федорович, — разгром. Полный! Без малейшего сопротивления.
— Не догрызай меня, Вася. Ты хуже тифозной вши, — слабым голосом попросил начальник штаба армии.
— Разгром, говоришь? — озвался и Петренко, не поднимая головы. Он последнее время командовал особым отрядом. — Шалишь. Мы им еще покажем, где раки зимуют.
Глядя на него, беспомощного, лысого, Василий невольно усмехнулся.
— Но что же все-таки делать? Там у нас бронепоезд пыхтит, — добивался он. — Куда снаряды девать? Целые ж склады на колесах. Им цены нет!
Билаш пятерней провел по лицу, словно снимая боль и усталость. Что он мог посоветовать?
— Скажи людям, хай ждут.
— Мы как обреченные! — возмутился Василий. — Давайте влупим по комиссарам! Столько снарядов. Душа горит!
— Нет, — вздохнул начальник штаба. — По таким же трудягам? Нет. Хай они берут грех на душу. Да и кто бить станет?
С упавшим сердцем Данилов возвращался на станцию. По пути неожиданно встретил Клешню, который как-то помогал ему грузить снаряды.
— Куда бредешь, землероб?
— Ты хотя и начальник, Вася, а свойский. Скажу правду: шукаю попутчиков.
— Домой, что ли?
— Ага. Переболел уже, отвоевался, и командир мой драпанул, Сашка Семинарист. Можэ, чув?
— Бандитская рожа такая?
Захарий кивнул.
— Далеко побёг?
— Та до красных вроде. Счас одна дорога.
— У него ж золотишко, наверно? Заберут!
— Не-а, Сашка и у йих будэ командиром. А от я… дурак, — Клешня почесал затылок. — Був кинь мохноногий, немецкий, и той сдох!
— Не боишься чека? — Данилов глянул искоса.
— А шо ж теперь? Тысячи тикають.
— Ел сегодня? — еще поинтересовался Василий.
— Не-а.
— Ну, тогда дуй со мной на бронепоезд. Там каша варится.
Увидев их, Лонцов спросил:
— Что слышно в штабе?
— Валяются стриженые. Велели ждать.
— У моря погоды? — вскипел командир бронепоезда. Приплюснутый нос его побагровел. — У меня вон, пока ты ходил, вся прислуга разбежалась!
— Ишь ты, вызверился, как коза на мясника, — не остался в долгу и Данилов. — Я что тебе, Батько?
— Та-ак, — перевел дух Лонцов. — А это кто еще припёрся?
— Герой гражданской войны, познакомься. Захар Клешня прозывается. Семь мух одним махом убивает!
— Ловко. Нам бы и раковую шейку для гарнира, — потеплел Кочубей. — Повар-то остался. Эй, Никодим, тащи жратву! Станем жить по правилу: родился мал, вырос глуп, а умер пьян. Ром не забудь, Никодим! Тот, аглицкий, — сногсшибательный. От тифа вроде спасает, а уж от тоски… и подавно.
Они пили день и полночи, пели, плясали в обнимку с трехдюймовыми пушками. А что оставалось делать? Никто их не посещал, не тревожил. Сами себе атаманы, и катись всё оно к е… матери пид тры чорты!
А утром на станцию прибыл знакомый бронепоезд, брошенный на Хортице. Из теплушек посыпались красноармейцы. Явился дядя в островерхой шапке-богатырке.
— Петр Лебеда, назначен комендантом Никополя, — представился довольно угрюмо. — Где ваше махновское начальство?
— В городе, — отвечал Данилов.
— Ведите меня к ним!
— Пожалуйста. Но они все… в тифу.
— Гм-м, это хужее, — засомневался новоиспеченный комендант. — Ладненько. Я еще вернусь, — и зашагал по шпалам.
Повстанцы переглянулись. На похмелье и так было тошно, тревожно на душе, а тут этот хмурый тип.
— Мы что, полудурки, чтобы ждать его? — спросил Кочубей. — Слышь, Вася, мигом дуй в штаб, скажи: надо тикать. Кто хочет и может — пусть с нами.
Данилов ушел. Вокруг бронепоезда уже шастали красноармейцы, заглядывали в щели, что-то обсуждали. Внутрь пока не лезли. Опасались или ждали приказа? В любом случае нужно было удирать. Ничего доброго это соседство не предвещало.
— Хлопци, а як же наши больни? Йих же тысячи в городи! — забеспокоился Клешня.
— Небось, сам намылил пятки, раковая шейка? Ты потащишь их? На себе? — въедливо поинтересовался Лонцов. — Мы и раньше бросали тифозу белым. Ну и что?
Они взяли по паре гранат, патроны, карабины, рому и ждали Василия Данилова. Тот всё не появлялся. Может, штаб уже арестовали да и его заодно прихватили? Что творится! За какого беса бились? Батько сам говорил на митинге: «Мы подсекли тыл белых. Пусть нам будут благодарны большевики!» Вот и дождались дулю с маком. В чем же виноваты махновцы?
Пока они так переговаривались, появился наконец Василий.
— А штаб? — не понял командир бронепоезда.
— Ждут за станцией. Тут опасно. Бегом смываемся. Стоп! А ром и оружие для лысого начальства?
По одному, по два они уходили. Последним был Кочубей. Он поцеловал поручни, сказал бронепоезду:
— Прости, друг. Не уберегли… — и смахнул слезу.
На лодке случайного старика переправились через Днепр. Дальше пробирались плавнями, где когда-то прятались запорожские казаки, убегая от татар. Высоченные сухие тростники, рогоз, голые вербы, осокори тянулись на десятки километров, и все это называлось Великий Луг. Тут можно спрятать и прокормить рыбой, медом целое войско. Опасны были лишь огонь и аэропланы.
Показался дымок, костер на поляне у озерца. Наши беглецы принишкли в кустах. Но сорока, сучья дочь, заметила их и беспокойно стрекотала.
— Эй, хто там? Вылазь! — послышалось от костра.
— Ану, Вася, узнай, — попросил Билаш.
Данилов пошел и вскоре позвал:
— Свои! Дуйте сюда!
У вместительного шалаша сидели бородатые мужики, что-то пили, закусывали.
— Бог в помощь, — сказал Билаш.
— Сидай, якшо нэ шутыш, — ответил незнакомец, седой, в грязном, некогда белом кожухе. — Хто вы таки?
Виктор не стал юлить:
— Я начальник штаба Повстанческой армии Батьки Махно. Фамилия Билаш.
— А Зубкова знав?
— Пузатого? Что литр самогона мог выпить за один присест? — Виктор скривил в усмешке правый угол губ, посиневших от холода.
— Бачу, нэ брэшешь. А за вамы там ще хто е?
— Нет. Мы сами еле унесли ноги из Никополя.
— Хлопци! — гаркнул седой. — Вылазьтэ! Цэ свойи!
Зашуршали тростники, справа и слева появились дядьки с винтовками, даже «максим» выкатили.
— Молодцы! — похвалил Петр Петренко.
— Иначе крышка, — согласился седой. — Красные по берегу прут на Крым. Наших ловят. Командиров к ногтю. Ану, налывайтэ гостям!
Из разговора выяснилось, что плавни кишат партизанами. Никакой власти они не признают: ни белой, ни советской. Только свою, свободно выбранную.
— Нам шо трэба? — объяснял седой. — Зэмлю и мыр. А порядок навэдэм сами.
— Но поодиночке вас перебьют, — возразил Билаш.
— Так а дэ ж той Махно? — развел руками партизан. Этого никто из них не знал…
Только на пятые сутки беглецы вошли в Гуляй-Поле. Нестора Ивановича там уже не было: увезли без сознания в Дибривский лес вместе с Галиной. Повстанцы разбрелись по хатам.
Армия исчезла, затаилась.
КНИГА ЧЕТВЕРТАЯ
8 февраля 1920 г. Утром со стороны Полог подошел 522-й полк и согнал нас из Гуляй-Поля… Проклятые гуляйпольцы не хотят воевать, опасаются за семьи…
11, 12, 13 февраля. Перешли желдорогу и спустили под откос состав порожняка. В селе Воздвиженке зарубили двух большевистских агитаторов, организовавших ревком, и выехали на Рождественку, где поймали 10 красноармейцев продотряда. Раздели, но не тронули… Отряд растет, уже 30 человек.
19 февраля. На рассвете бросились на Пологи и отбили на платформах 12 орудий, ударили с пулеметов по полку, стоящему по крестьянских хатах. Отняли десять пулеметов. Все было хорошо, но вдруг подвернулись знакомые. Махно напился, а тем временем подошел бронепоезд и ударил картечью. Мы бежали.
20 февраля. В Воскресенке красные на днях расстреляли 12 махновцев и сожгли две хаты. Дерменжи удрал и сегодня с 15 хлопцами прибыл к нам… Отряд подрастает: имеем 70 конных при десяти пулеметных тачанках.
21 февраля. Налетели на Гуляй-Поле и взяли 500 пленных. Красноармейцы переходят на нашу сторону, но штаб из боязни воздержался их принимать. Из армейской кассы взяли два миллиона денег и раздали повстанцам по 500 рублей, а командирам по 1 000.
22 февраля. Поехали в Дибривки, где встретили Петренко. Бедный, больной, слабый, зарос рыжей бородой. Он плакал и сам рубил двух пленных продармейцев… Махновцы не вступали в отряд, и было видно, что от нас прячутся.
26 феврагя. В Святодуховке провели митинг. После Махно напился и сдуру разбрасывал крестьянам деньги, а в штабе дрался с Каретниковым. Хотел расстрелять Попова за то, что тот ухаживал за Галиной. Его связали и уложили на тачанку…
27 февраля. Пришел В. Данилов и Зеленский, говорят, что в Гуляй-Поле большевики производят аресты. Махно торжествует: «А, стервы, не хотели воевать, так и на выручку не пойдем. Пусть сволочей расстреливают».
1 марта. Сделали налет на Гуляй-Поле и выбили 6-й советский полк. Взяли в плен 75 красноармейцев во главе с командиром полка Федюхиным, тяжело раненным в бою. Он просил застрелить его, и Калашников удовлетворил просьбу…
16 марта. Выехали на ст. Андриановку и с налета взяли 3-ю роту 22 карательного полка, что расстреляла 15 махновцев и сожгла пять дворов. Их было 120 человек во главе с коммунистами, которых крестьяне избивали палками, кололи вилами и расстреливали.
Лев Голик. «Дневник».
Насыпь перед мостком через речку Волчью была мокрая и узкая. Грязь расползалась под колесами тачанки, копытами лошадей, и Галина со страху схватила под руки Феню Гаенко и Нестора. Он же сидел себе, развалясь, и даже дремал. Сзади кто-то шумнул:
— Ой, та и выкупаетэсь вы счас!
— Но-о, родимые! — прикрикнул кучер Сашко. Кони шли с опаской. Правый пристяжной, чтобы не свалиться, напер на коренника, тот — на кобылу. Она поскользнулась, и все, вместе с тачанкой, полетели в темную зимнюю воду. Никто не успел даже ахнуть. Хорошо еще, что около мостка был забит крепкий шест. Тачанка зацепилась за него и не опрокинулась. Тут подоспели повстанцы. Галина выбралась первой, за ней Феня и Нестор. Под мостком барахтался и вопил Сашко. Пока его тащили за руки, Галина с сожалением смотрела, как уплывают чемоданы: один с бельем, другой с драгоценностями, деньгами. А за ними шубы, одеяло, Фенин большой пуховый платок. Потом Галина увидела лошадей.
Коренник упал кверху ногами. Поперек него стояла кобыла и не могла сдвинуться с места, опутанная постромками, вожжами, сломанным дышлом. Конь бился, вода сносила их под мосток. На нем, дрожа, стоял пристяжной.
— У-у, падло, хитрее всех! — ругал его Сашко. Коренник утонул. Стали спасать хоть кобылу, тянули к берегу.
— Воля, Воля! — звали ее к себе. А она лежит, стонет жалобно и глядит под мосток налитыми кровыо глазами. Галине стало не по себе. «Вот она, воля наша несчастная, — думалось. — Кто столкнул, тот жив и здоров. Заводила пропал. А эта еле ногами дрыгает. Ну, точно, як мы!»
Воля всё стонала, попыталась подняться на ноги и опять упала. Ее тянули. Погружаясь в ил, кобыла запрыгала… к противоположному берегу! Там был лед. «Господи, та шо ж цэ таке? — совсем растерялась Галина. — И мы ж точно таки дурни!» Наконец Волю подозвали, вывели на берег и стали хлестать, гонять, чтобы не замерзла.
Галина поёживалась. Внутри что-то больно обрывалось. Да сколько же терпеть это издевательство?
Еще полгода назад, чего греха таить, ей было приятно ездить с Батькой в нарядной рессорной карете, слышать, как уважительно называли ее «Мать», «Матушка». И земля вокруг впервые за века была своя, вольная, родная. Воздух прямо сладок! Галина всю душу отдавала школам, защищала учителей, особенно украинского языка, устраивала благотворительные вечера. Ходила в котиковой шубе и светлых ботах. Куда все это подевалось? Поплыло, как чемоданы за водой. Правда, их-то вытащили. А войско подкосил тиф, и они с Нестором заболели. Он еле-еле выкарабкался с ее помощью. Кроху Полонских, взятую на воспитание, пришлось оставить добрым людям.
Отряд рыскал от села к селу, и если трудно было мужчинам, то Галине, Фене, сестрам милосердия — вдвойне. Хотелось расчесаться у зеркала, помыться, не оглядываясь, зашить одежду. Да что там? Не раз и угорали в чужих хатах. Или сядут обедать, а тут вбегает Гаврюша Троян:
— Скорее впрягайте коней! Красная конница с горы летит!
И так изо дня в день, из ночи в ночь. Большевики ловят бывших махновцев, жгут их хаты, берут заложников. Повстанцы рубят красных командиров, чекистов, продармейцев. «Да когда же это кончится? — спрашивала себя Галина, пока въезжали в село Богатырь. — Нестор не остановится, хотя о свободе Украины уже и не заикается. Вон брата его, Савку, словили в Гуляй-Поле. Помиловали? Ага, свинцом угостили. Но и так же нестерпимо!»
Месяц назад Феня сказала:
— Нэ можу бильшэ, Галя! Остаюсь, и хай що будэ, тэ и будэ!
Подруга, подруга… Когда большевики расстреляли ее брата, григорьевца, потом Андрея Ивановича Кузьменко — Феня неузнаваемо изменилась. И следа не осталось от того девичьего света, что раньше так привлекал Галину. Гаенко словно взбесилась. Тогда у самой церкви в Песчаном Броде перестреляла голых, со связанными руками красноармейцев и теперь их не миловала. Галина слышала не раз, как повстанцы, даже сдержанный Гаврюша Троян, говорили с осуждением:
— Не баба — черт в юбке!
Никто, кроме разве что Нестора и Льва Голика, да еще, пожалуй, ее мужа, Пантелея Каретника, не хотел понять, что Феня разведчица, не раз смотрела смерти в лицо и душа ее почернела.
На свою беду она еще раньше влюбилась в статного, лихого начальника гарнизона Екатеринослава Георгия Дашкевича. Был он умен, удачлив, но якшался с большевиками и после развала армии пропал. Судьба многих была неизвестна. Исчезли Всеволод Волин, Алексей Чубенко, Фома Кожин, другие. Но почему-то именно о Дашкевиче ходили упорные слухи, что предал, переметнулся к красным, собака. Фене это бередило душу, и она покинула отряд. Нестор сказал:
— Отстала, и жалко. Может, и ты, жиночка, драпанёшь?
Галина и правда хотела остаться с подругой, но не посмела. «Боюсь, что меня всюду видели с Батькой? Узнают, выдадут? — спрашивала себя. — Нет. Испугалась, что бросит? Еще чего! Если б только это — наверняка осталась бы. Разве что Нестор пообещал изменить обстоятельства? Пустые слова. То не в его силах. Так что же? Э-эх, апатия, безразличие ко всему на свете. Куда я денусь? Кому нужна? Где? Фу, какая муть, какая гадость!»
Феня, однако, вскоре возвратилась в отряд. Не вынесла одиночества и боялась, конечно. Не будешь же сутками сидеть в темном, пыльном углу. А высунешься — сцапают. Увидев подругу, Галина улыбнулась печально: «Повязаны мы все теперь по гроб жизни!»
В Богатыре сушили одежду, деньги, провели митинг, а потом подались в феческое село Большой Янисоль. Там неожиданно встретили… Георгия Дашкевича. Сколько было радости! Обнимались, целовались. Феня сияла. Жора рассказывал, как удачно бежал из красного плена. Батько слушал, слушал и спросил:
— А что с деньгами?
Дашкевичу были отданы на хранение четыре с половиной миллиона рублей, конфискованных в Екатеринославе. О них и шла речь. Георгий смутился, закурил.
— Я потом доложу, — пообещал.
Но в толпе, что их окружала, раздались недовольные голоса:
— Вин йих пропыв! В карты просадил! Бля… раздал!
— Глянь, Батько, я без ноги! — вопил повстанец, размахивая костылем. — Те гроши моей кровью добыты. А куда потекли? Хиба то революция? Бардак!
Нахмурясь, Махно молчал. Его смутил такой оборот дела. Что за ерунда? Дашкевич — испытанный, честный командир. Но не могут же и мужики брехать!
— Давайте по-справедливости, — сказал наконец Нестор Иванович. — Где Назар Зуйченко? Ага, ты тут. Как старый каторжанин будешь председателем комиссии. Нет возражений? Кого еще?
— Гришу Василевского. Его не обманешь!
— И мать Галину, — предлагали повстанцы.
— Быть по тому, — решил Батько. — Идите с Егором, и пусть даст полный финансовый отчет. И только!
Выяснилось, что денег нет. Осталось лишь сто пять тысяч.
— Ну, что теперь попишешь? Виноват, — признал Дашкевич с надеждой, что свои же люди, поймут. Сколько рубок было, спасали друг друга. Ну, споткнулся, загулял. С кем не случалось? — Пошли ко мне ужинать, — пригласил он членов комиссии, всех желающих. — На сковороде шкварчат чири-чири. Пальчики оближете!
Все отказались, сославшись на усталость. А Феня с радостью согласилась и потащила с собой Галину. В греческом доме их радушно встретили, чири-чири были прелесть как вкусны. Провожая гостей домой, Георгий еще и Батьке прихватил угощенье. Тот съел, сыграли в подкидного дурачка и разошлись. Дашкевич провожал Феню. Нестор же, ложась спать, спросил жену:
— Разобрались до дна? Виноват?
— Без сомнения.
— Значит, завтра — проветрим.
Утро выдалось тихое и по-весеннему теплое, все-таки март. Проснувшись, Батько и не вспомнил о Дашкевиче. Но вошел Гаврюша Троян:
— Мы были у растратчика. Взяли оставшиеся деньги.
— А его самого?
— Он такой жалкий, — командир личной охраны замялся. Не проронил ни слова больше и Нестор. Жена видела, что он не хочет расправы. Дашкевича знают тысячи повстанцев. Скажут, а раньше что — слепые были командиры? Но если простить миллионы, что делать завтра с мелкими грабителями? Размышляя над этим, Батько наскоро поел и отправился с Петром Петренко и другими в соседнее село проводить митинг. Надеялся, что «воно самэ покаже».
Между тем в Янисоле, как обычно утром, хлопцы выходили на улицу, потягивались, зевали, собирались на одной стороне, девчата с Галиной — на другой. Ждали, что скомандует начальство. Появился и Дашкевич. Подошел к мужикам, поздоровался. Те ответили сдержанно. Георгий направился к бабам, спросил, где Махно, предложил подыскать нелегальное жилье и сделать документы.
— Вот спасибо тебе. Мы как раз хотели остаться, — говорила Галина, любуясь офицерской выправкой Дашкевича, его широкой грудью и догадываясь, что этот здоровяк скорее всего умрет через полчаса-час. Он исчезнет а она БУДЕТ! Это чувство, такое гадкое, не пропадало, копошилось, даже возвышало. Не потому ли Нестор — герой, Батько, что он всегда неуязвим?
Ожесточившись, они все теперь ходили по самому краю могилы. Недавно проснулись от стрельбы. Пули клевали дверь, с треском лопнул горшок на заборе. А оказалось, хлопцы… неосторожно пробовали пулемет после ремонта! В селе Конские Раздоры большевики порешили председателя свободного совета, старосту, писаря и троих партизан. Отряд поймал карателей и тоже прикончил. Не успели уснуть, как навалились чекисты. Лучшие пулеметчики Середа и Литвиненко врезались в их ряды на тачанках. Как всегда первые! Литвиненко пуля попала в лоб, Середе — в грудь. А Галина вот же беседовала с ними. Эх, жизнь-копейка!
— Извините, что побеспокоил, — вежливо сказал девчатам Дашкевич и направился домой.
— Погоди, Жора! — позвал его Василевский и взял под РУку. А сзади уже стояли контрразведчики. Тут приехал Махно, увидел караул и насупился.
— В центре народ собрался, — буркнул он. — Ведите Дашкевича туда.
На площади к арестованному подошел Гавриил Троян с револьвером. По указанию Батьки объявил:
— Смотрите, товарищи! Это… бандит. Он транжирил деньги вдов, инвалидов, сирот. Наша комиссия проверила и приговорила, — Троян нажал на курок. Осечка!
Толпа замерла. Гавриил снова взвел курок. В тишине он сухо щелкнул еще раз. Опять осечка! Люди шумно вздохнули. Феня вскрикнула. Галина обняла ее за плечи.
Тут бы Батьке в самый раз остановить расправу. Виновный целых два мига был у смерти в зубах. Есть же и казачий обычай — простить счастливца. Но Махно молчал.
Дашкевич затравленно оглянулся и… побежал по улице со связанными руками. Ему палили вслед, но так, больше для порядку. Василевский прицелился и попал: адъютант все делал надежно. Георгий повалился на бок. Василевский подскочил к нему. Раненый поднял голову, сказал:
— Зато пожил!
Адъютант выстрелил в упор…
Отряд вскоре уехал, а Галина с Феней остались на житье в следующем селе. Гаенко рыдала, приговаривая:
— Т-такого кавалера! У-у, рожи! Анти-христы!
Галина же не могла простить себе того поганого чувства, что она БУДЕТ! Где? В этом жестоком беспределе? Фу, какая гадость!
В селе они пробыли недолго. Хозяева разглядели гостей и очень уж боялись, прямо тряслись от страха. Пришлось отправиться дальше. На прогретых солнцем холмах ютились голубые, белые пролески.
— Ой, глянь, цэ ж вэсна! — воскликнула Феня. Подруга тоже обрадовалась. От букетиков исходил тонкий, почти забытый аромат, и женщины стали вспоминать, как переполошились тетка с дядькой и ночь напролет не давали спать: «Ой, та шо ж цэ будэ? А як чека нагрянэ? Ой, мы пропалы!» Теперь, в зеленеющих полях, это казалось смешным и глупым.
Беглянки наняли другую подводу и, скрывая след, поехали на юг, затем резко свернули на запад. Дул теплый ветерок, ласкало солнце. Возница попался с юмором и всё шутил, принимая подруг в крестьянских кожухах и платках за простецких баб. А у них словно тяжкий камень с души свалился: опять вольные птицы! Они и не догадывались, что скоро встретят карателей.
Грозные, недавно вооруженные силы юга распались… Ставку я расположил временно в тихой Феодосии… Противник занимал северные выходы из Крымских перешейков. Силы его были невелики (5–6 тысяч), а присутствие в тылу отрядов Махно и других повстанческих банд сдерживало его наступательный порыв… Генерал Слащев посылал гонцов к барону Врангелю, убеждая его «соединить наши имена», и при посредстве герцога Лейхтенбергского входил в связь с офицерскими флотскими кругами… Настало время выполнить мое решение. Я отдал свой последний приказ:
«Генерал-лейтенант барон Врангель назначается главнокомандующим вооруженными силами Юга России.
Всем шедшим честно со мной в тяжкой борьбе — низкий поклон.
Господи, дай победу армии и спаси Россию.
Генерал Деникин.Это случилось 22 марта 1920 года.
Месяц спустя на западной границе был заключен договор, по которому Петлюра отказывался в пользу Польши от Восточной Галичины и части Волыни, чтобы его признали Верховным гетманом Директории. Объединенные польско-украинские войска вскоре взяли Киев.
Склонившись над столом в кремлевском кабинете, Ленин писал мелким бегущим почерком: «Предлагаю разработать следующее постановление:
1. Войскам Кавфронта идти пешком через всю Украину…»
Слова были казенные, привычные, и он не вникал в их армейский смысл. А стоило бы. Как это, простите, идти пешком? Все-таки кавалерия. И потом, какое расстояние от Майкопа до Киева? Больше тысячи верст. А в День сколько одолеешь с полной выкладкой? Да если еще хлеб отбирать, оружие у населения. Ильич, однако, думал о другом.
Он был весьма занят. В разгаре IX съезд партии, острейшие вопросы. А тут Буденный с Ворошиловым, видите ли, не могут решить, как их конармии двигаться: походным порядком или по железной дороге? Были у главкома Каменева. Тот сомневается. Обратились к Троцкому — не принял, некогда. Нашли Сталина. Этот «стратег» позвонил сюда, просил принять. Выслушав его, Ленин вдруг вспомнил о Махно. Когда-то ведь встречались, гонористый мужичок. Сколько можно с ним возиться? Жалкий анархистишка с кучкой бандитов мутит воду целый год! Дыбенко за ним гонялся — не поймал. Ворошилов, Бубнов, Троцкий, затем Уборевич со Сталиным — никто не совладал. Позор какой-то! Словно гниду ловят ночью на лысине. А между тем из-за Махно даже Крым проморгали. Надо кончать эту комедию. Да на той же Украине и других банд хватает: националисты, зеленые, серо-буро-малиновые. Всех под корень!
Когда Буденный с Ворошиловым начали объяснять, что по железной дороге придется ехать четыре месяца и потребуется более ста составов, Ленин их почти не слушал. Конечно, только пешком! Это же очевидно. Довольные кавалеристы не стали уточнять термины. А вот то, что вождь сказал дальше, их озадачило:
— Непременно зайдите во все деревни!
Буденный, по казацкой простоте, чуть не ляпнул:
«У нас же, Ильич, на юге нет деревень — хутора, станицы, села». Но вовремя сдержался.
— Главное учтите, дорогие товарищи. На Украине мы уже должны были взять 50 миллионов пудов продовольствия, а на сегодня нет… и двух! Рабочие Москвы, Питера голодают, а кулак посмеивается. Хорошенько вздуйте его! Архиважно покончить с бандитизмом, с этим Махно. Раз и навсегда! Собирайте оружие, продовольствие по разверстке и запас создайте — двойной. За невыполнение — расстрел хозяев, штрафы, конфискация имущества, работы в копях.
— Будет исполнено! — откозыряли кавалеристы. Хотя как можно «зайти во все деревни» помимо маршрута — они не представляли. Это что же, лавой раскинуться от Бердянска до Чернигова? Всех войск республики не хватит! Ну, ладно. Вождь на то и вождь, чтобы мыслить глобально. А наше дело маленькое: бей да круши!
Ленин же заспешил на съезд партии. По дороге усомнился: «Зачем в копях? Не поймут же, извратят. Но по сути — верно. Да-а, для полной победы над бандитами мы на Украину и Дзержинского пошлем!»
30 апреля. Был бой с частями 4-й Кав. дивизии. Решили уходить с полосы движения маршевых колонн 1-й Конармии.
3 мая. Налетели на с. Цареконстантиновку и вступили в бой с красным полком и бронепоездом, которые накануне расстреляли 30 махновцев, сожгли десять домов и увели много заложников. Налет был настолько неожиданным, что полк целиком взят в плен. Я еду в Новоспасовку для связи.
Лев Голик. «Дневник».Глухой хутор Николаевский приютился у речки Берды. Рядом тростники, где можно спрятаться, а в поле зайцев — хоть руками лови! Здесь и выздоравливал после тифа Виктор Билаш. С ним бедовал его бессменный помощник Иван Долженко, другие появились. Пили самогон, настоянный на травах, чистили оружие. А на душе кошки скребли: долго ли так протянешь? Все равно же поймают.
В конце февраля тайком, на попутной подводе приехал… Они даже не могли поверить… Васька Куриленко! Красный командир, орденоносец. С чем пожаловал? Не подослан ли? Ведь расстались почти враждебно, еще летом, когда Василий увел свой кавалерийский полк на север.
— Дали отпуск по ранению, — объяснил он, поводя широкими плечами. На груди виднелась марля. — Ехал сюда через всю Украину. Что творится, хлопцы? Везде льется невинная кровь повстанцев. Ужас!
«Ага, не всю совесть потерял сосед», — обнадежился командир бывшего Азовского корпуса Трофим Вдовыченко.
— Чем же ты, Вася, это объяснишь? — осторожно спросил донской казак Миронов — начальник штаба бывшего корпуса. Брат же его, Филипп, водил корпус У красных.
— Козе понятно — измена! — уверенно, с болью говорил Куриленко. — В поездах послухали бы, что народ балакает. Наших конников кинули на Чонгарский мост в Крыму. А там узкое дефиле — пехоте не проскочить. Кто же губит? Белые суки, окопались в наших штабах! Всюду их агенты. Эх, знал бы Ленин об этих безобразиях. Надо хоть воззвание выпустить…
— Эх, Вася, родной мой землячок. Лихой ты командир, извини за прямоту, но в политике — ни в зуб ногой! — сказал Лука Бондарец, крестьянин из Ново-Спасовки же, вчерашний комполка. — Кому ты служишь? Оглянцсь вокруг, Вася, остынь. Твой Ленин, Троцкий, может, идейные коммунисты, да власть для них дороже всего на свете. Брата не пощадят!
Время цедилось в бесплодных спорах, добывании еды и ожидании нападения. Однажды Иван Долженко надоумил проанализировать все крупные боевые операции, разобрать их по косточкам. Эти штабные занятия очень пригодились потом. Василий Куриленко (он все числился на излечении) где-то раздобыл и привез подробную «Историю запорожских казаков» Яворницкого. Перелопатили и опыт воинственных предков.
А в апреле хуторские мужики вышли в поле, попросили помочь. Бывшие командиры с удовольствием и оглядкой ходили за плугом, сеяли зерно и хоть маленько заглушили нестерпимую тоску. Не давала покоя думка: что там творится на белом свете? Вроде поляки напали на Россию или Украину. Барон Врангель объявился в Крыму. Где же Батько, жив ли?
— Тэпэр можно и за ружо браться, — говорили хуторяне, радуясь теплому дождику.
Ночью всех побудил часовой. Лаяли собаки. Кто-то шумел за воротами. Оказалось, приехал Лев Голик.
— Спите, герои? — спросил с иронией. — А у меня на хвосте каратели! Трясут все хутора подряд!
— Врешь, небось? — не хотел верить Миронов, протирая глаза. Этот испуг, который он не мог скрыть, был приятен контрразведчику. «Много мните о себе, полководцы, — думал Лев, усмехаясь. — Я вас, гонористых петушков, насквозь вижу. Обиделись за Полонского, остались в Никополе. Батьку считали растерянным бездарем. Пусть, дескать, покажет, на что способен. А он не лаптем щи хлебает. Давно на коне. А вот вы — дрожите!»
Весь лагерь был уже на ногах, человек сорок. За окном, в пахучих кустах сирени, робко пробовал голос соловей.
— Что ж вы, хлопцы? — удивлялся Голик. — Забыли слова славного Тараса Бульбы: «Бывали и в других землях товарищи, но таких, как в Русской земле, не было таких товарищей». Пока дремлете, Буденный привел в наши края всю конармию. С мужика дерут три шкуры, дочиста подметают клуни. Хватают заложников. По селам трамтарарам. У меня точные сведения. Сунут сюда. Бежать надо!
Прилетный соловей вдруг ударил дробью, засвистал, защелкал. Не слушая его, Виктор Билаш сказал:
— Мы это предвидели. В Азовское лесничество пойдем. Там ждут.
Ночью они ушли в сторону Мариуполя. Затаборились, немного успокоились. Лев Голик лег спать в доме лесника. Новоспасовцы расположились на солнечной поляне и читали дневник контрразведчика, привезенные им листовки. Да, Батько не сидел сложа руки. Но чего же добился? Где армия? Повстанцы прячутся по хатам. Он лютует.
— Все равно пора найти Нестора, — заметил Василий Куриленко.
— Сколько можно дрожать? — поддержал его Трофим Вдовыченко. Другие пока молчали.
— Ну что, Виктор? — настойчивее заговорил Куриленко, пристально глядя на бывшего начальника штаба. — Ради свободы я бросил Красную Армию. Уж меня-то первым вздернут, если словят!
— А чо это мы должны кланяться? — напирая на «мы», спросил Иван Долженко.
— Голик же прибыл! Не кто-нибудь. И полный отчет привез. Тебе мало? — резко возразил Вдовыченко. — У нас отак вся Украина! Петлюра в одном углу надулся, как мышь на крупу. Галичане — в другом. Рабочие с большевиками. Мы тут, Батько там. Та шо ж так завоюем? Свободу? Дулю под нос!
Трофим вскочил, пошел к тополю и стал мочиться. Билаш посмотрел на струю, покачал головой. Он не мог забыть, как Нестор, ни с кем не советуясь, расстрелял сначала Полонского с женой, потом коменданта и начальника гарнизона Никополя (пусть не сам, Каретника заставил), а в конце концов бросил тифозный штаб на произвол судьбы. Разве это не предательство? И с таким Батькой снова брататься?
— Ну, что ты предлагаешь? — напирал Куриленко. Крупное открытое лицо его раскраснелось. Он ценил Билаша за редкий дар стратегического мышления, выдержку, честность и не хотел без него уходить к Махно. «Армии без Виктора не будет, — полагал Василий. — Мы все лихие рубаки, полк поведем, дивизию, а на большее масла в башке не наскребем».
— Я… думаю, — отвечая Билаш, кривя в усмешке правый угол губ.
— Индюк думал, и знаешь, куда попал? — уже сердился Куриленко. — Пошли завтракать чи обедать, и давай решать!
К вечеру прискакал еще один гонец.
— Батько тут рядом, — сообщил он, запыхавшись. — А на вашем хуторе бедокурил заградотряд и пять милиционеров из бывших махновцев. Мы их порубали. Ждем вас!
Теперь уж ничего другого не оставалось, как объединиться. В отряде Батьки насчитывалось около тысячи штыков и сабель при 50 пулеметах и 8 орудиях. Увидев жалкую полусотню новоспасовцев, Нестор Иванович спросил грубо:
— Вы что же это, сидите в подполье и не проявляете себя? Или хотите передаться на сторону красных? Тогда уходите к е… матери и будем драться!
Но повстанцы уже обнимались. Махно единогласно избрали командиром, а Билаша — начальником штаба. «Армия» пошла искать встречи с Буденным.
Украина кипела крупными и мелкими бандами. Батька Махно и «атаманы» помельче рангом нападали на железнодорожные станции и поезда, громили советские учреждения и склады, срывали продразверстку… Для укрепления тыла Юго-Западного фронта Политбюро ЦК РКП(б) приняло решение о направлении на Украину Дзержинского.
Он приехал в Харьков 5 мая. Вместе с ним прибыл целый эшелон, 1 400 человек — московские чекисты, командиры и бойцы войск внутренней охраны… В распоряжение Дзержинского передавалось авиазвено, бронепоезда и необходимое количество вооружения и боеприпасов.
А. Тишков. «Дзержинский».
Оля говорила Захарию:
— Чуешь, як птыци спивають? Всэ цвитэ, пахнэ. Хай воны там вси пэрэгрызуться. А ты будь дома!
— Та клыче ж Батько. Я його спасав, тэпэр вин нас.
Вчера в Рождественке побывали продотрядовцы. Объявили, что будут собирать овес для лошадей Буденного. Нужно приготовить муку, десяток свиней на мясо и другие продукты. Это по разверстке. А еще создается двойной запас. Он будет храниться тут же, в селе, и по мере надобности изыматься. Люди заволновались:
— Дэ ж його взять?
— У нас гостевали белые с помещиками, махновцы, ваши эстонцы, мадьяры. И всем — дай!
Командир отряда, видимо, из рабочих, с грубыми толстыми пальцами, терпеливо разъяснял:
— Мы же не грабители какие-нибудь. Мы — ваша, советская власть и не лезем по амбарам. Спокойно приготовьте, товарищи. Через день заедем и возьмем.
— Захар, ну скажи ж йому! — просили соседи Клешню. После того как он возвратился из походов с пустыми руками, люди поверили в его честность. Хотя и усмехались: чудак или дурак! А все-таки пришел домой и не калека. Другие вон пропали. Значит, шустрый. Может, может постоять за себя. И за нас!
Но он молчал. Раскроешь рот — зацапают. Всё припомнят! И те же соседи охотно подтвердят, что, конечно, был, был у Батьки, сукин сын, а як же. Угостят свинцом и цигарки не дадут.
Продотряд уехал. А сегодня утром нагрянули махновцы, вербуют в новую армию. Правда, незнакомые какие-то хлопцы. Захарий раньше их не видел. Да разве всех и запомнишь? Собрали бывших повстанцев, пообещали пугануть красных грабителей, как только те появятся. «Давай к нам!»— почти требовали. Клешня не возражал, но и не соглашался. Пришел на обед, рассказал жене. Та и слышать не хотела.
— Ни, ни! — замахала руками.
— Шо ты як коза? Мэ, мэ! Шкуру сдэруть комиссары, — ерепенился Захарий. — С голоду подохнэм!
Ольга не знала, что возразить. Муж прав. Но сердце стучало: нет, нет, не пускай!
— Та хай хоть и голод, а ты рядом, — сказала. — Кропыву будэм жрать!
Прибежали дети. Ольга заплакала.
— Батько покыдае нас. Попросить його.
Сынишка обнял ногу Захария. Дочка терлась щечкой о штанину.
— Ладно, ладно. Хватэ вам! — прерывающимся голосом пытался строжиться отец. — Нэ пиду. Буду дома.
А в это время по улице скакал верховой и звал:
— Э-гэй! Мужики, собирайтесь!
Захарий от безысходности поднял сухую, давно не стриженную голову, увидел облако и под ним — трепещущую точку жаворонка. Пел ли он — услышать не удалось. На том конце села стрельнули. «Будь оно всё проклято!» — ругнулся Клешня. Донесся еще какой-то шум, и над крышами взвился столб дыма. Хозяин хотел выйти на улицу, поглядеть, что там случилось, но жена не пустила.
— Убьют же! — вскрикнула, и словно в доказательство застрочил пулемет. Били очередями. Кто, в кого — не понять. Клешня с семьей спрятались в хате. Он достал из-под тряпок на чердаке карабин и выглядывал в окно. Никто больше не появлялся, не шумели. Крадучись, Захарий с оружием пошел к воротам. На том краю села горели три двора.
— Шо там такэ? — спрашивала Ольга, не выходя из хаты.
— Помогать трэба. Бида!
Жена прибежала, схватилась обеими руками за карабин.
— Нэ пущу!
— А якбы у нас огонь? — потерял терпение муж. Серые глаза его потемнели от возмущения. Он бросил оружие и кинулся к погорельцам. Люди носили воду ведрами, пытались залить языки пламени, спасали скот из сараев. Захарий влетел в горящую мазанку, заметил старуху, что стояла на карачках, схватил ее и выволок. Соломенная крыша обвалилась.
— Ой, гады! Ой, звери! — причитали женщины.
Клешня закурил.
— Хто ж цэ зробыв? — спросил.
— Та оти ж махновци! — злобно отвечал измазанный сажей дядько Петро. — Шоб йим на тим свити пэрэвэрнуться! Иты з нымы я отказався, и запалылы.
— А Мишку и Лаврентия скосили. Они на помощь с дробовиками выскочили, — добавил дедок, что стоял поодаль.
— То нэ махновци — красни! — уверенно заявил парень в разорванной сорочке. — Я узнав одного. Вин у йих вроде начальника. Провокаторы! Хто пишов з нымы — тут и пострилялы.
— Нэ можэ буть! — усомнился дядько Петро.
— Вот тебе и нэ можэ! — вроде даже обрадовался дедок. — Махновцы — свои. Не сотворили бы такое.
— Всякие там и там, — заметил Клешня.
На следующий день, как и было обещано, прикатил продотряд. У Захария забрали последнюю свиныо и мешок муки. Он стоял бледный и не проронил ни слова.
— Не горюй, отец, — сказал ему красноармеец, похлопывая по плечу. — Наживете! А это — голодающим, и для армии товарища Буденного стараемся. Он — орел! Летит на польский фронт. Вникаешь?
Когда продотряд уехал, сосед Лукьян, с волосистой бородавкой на лбу, подозвал Клешню к забору и шепнул:
— Чув? Нестор Иванович в Гуляй-Поле. Хочешь мстить — шевелись.
Это было что-то новое. Лукьян — самый зажиточный в селе, трое лошадей имел, сеялку, вкалывал за двоих. Раньше о махновцах и слышать не желал. А появился красный ревком, землю у соседа почти всю отрезали, коней увели. Вишь ты, вспомнил про Батьку!
Ночью Захарий протер карабин, поцеловал растерянную, притихшую Ольгу, детей и подался в Гуляй-Поле. Уже на подходе остановили его конные.
— Эй, кто будешь?
Клешня засомневался. Сосед — серьезный мужик, не мог сбрехать. А вдруг власть переменилась? Он назвал себя.
— Куда путь держишь? — добивался, наверно, старший дозора. Еще как следует не рассвело, и лицо его, фуражку трудно разглядеть. Есть там звездочка или нет?
— Та вы ж бачытэ, в Махноград, — хитрил Захарий. Если возмутятся, значит, красные. А он ответит, что к ним и бежит от повстанцев, которые зажгли Рождественку. Но уловка не удалась. Старший строго спросил:
— Так в чью сторону гребешь, Клешня?
Тот назвал своего бывшего командира Петра Петренко.
— До Батьки топаешь? — как-то ехидно уточнил дозорный.
Захарий занервничал:
— Шо ты прыстав? Вэды до начальника!
— Счас рубану, дядя, и никто не у знает, где могилка твоя. Отвечай! — прикрикнул конный. — Куда топаешь, гнида?
Хлебнувший вольности Клешня уже не мог стерпеть такого издевательства. Лучше сдохнуть на месте!
— До Батька! Ну и шо?
— Это совсем другое дело, — потеплел разведчик. — А то ерепе-енишься. Мы все грамотные. Топай!
У Захария отлегло от сердца: свои! Но пока он добирался к центру, еще два раза останавливали. Ничего не скажешь — грамотные стали хлопцы, беда научила сухари грызть.
Петренко был уже на ногах.
— О-о, здоров, Клешня! — обрадовался. — Где тебя носило? Жив, значит. А Сашку Семинариста, дружка, потерял?
— У красных вроде.
— Вот сволочь! Не ожидал. Та-ак, вон кухня коптит. Иди перекуси. Скоро в поход.
Куда они отправляются и зачем — Захарий не вникал. Какая разница? Теперь он готов на любое дело. Послышалась команда:
— Становись, братва! — и они, кто пеший, кто на коне, а Клешня вскочил на тачанку, отправились на Святодуховку. Там не задержались, пошли к Туркеновке. Пригревало солнце, зеленели поля. Село утопало в белом цвету вишен, груш, пахло медовым духом. Ничего этого особо не замечая, лавина повстанцев — около трех тысяч штыков и сабель — с топотом завернула на Успеновку, где, говорили, стоял штаб шестой конной дивизии Буденного.
Красные явно не ожидали такого наглого нападения. Они уже привыкли к победам, и рядом же, на хуторах, стояла еще одна дивизия! Что за дурь?
Захарий видел, как легко, с гиком ворвались в село кавалеристы, рубили направо и налево. За ними катили тачанки. Клешня стрелял по убегающим красноармейцам, приговаривая:
— От вам свыня! От вам мука!
Буденновцы прятались, огрызались. Пули свистели где-то рядом, пока не задевая. А дальше стояли подводы, брички, целый обоз, словно на базаре. Повстанцы дружно кинулись туда. Захарий не отставал. Вот где можно, наконец, поживиться! Чего тут только не было: связки гимнастерок и кальсон, сухая вобла, спички, граммофоны, шубы, ящики с патронами и снарядами, баяны, мыло. Едри ж его маму: не грабить пришли — хоть свое, отнятое возвратить!
Хлопцы гребли, кто что успевал, грузили на тачанки, на лошадей, снова бежали к добыче. Клешне достался полный мешок чего-то. Легкий, гадство! Чепуха какая-то. Ну, не везет так не везет. Документы или газеты. Захарий дернул шнурок, глянул внутрь и обмер: деньги! Во бля! Миллион, не меньше!
Куда ж его? В тачанку? Там делиться надо. А куда? Клешня стал оглядываться, ища знакомых. Как назло — никого! Эх, Сашку б Семинариста сюда. Тот нашел бы укромное место. Постой, в этой же Успеновке крестная мать живет! Но где? Захарий не видел ее уже лет пять, а то и больше. Облизывая пересохшие губы, кинулся с мешком к ближайшей хате. Карабин сползал с плеча, он его поддергивал. Во дворе никого не видно, попрятались, тараканы! Лишь черненькая собачка с белым ухом робко выглядывала из конуры.
— Эй, кто есть? — позвал Клешня. Ни звука. Ну что же делать? У кого б узнать? Где та крестная потерялась? Мать тоже… называется.
А к обозу подваливали все новые и новые толпы желающих поживиться. Захарий мельком заметил, что чуть дальше кони стоят, оседланные, сытые. Садись и скачи. Куда? Потом, потом… Он побежал вдоль улицы, перехватив карабин под руку. Где та крестная запропастилась? Может, и вот в этой хате под соломой. Так узнай попробуй. Нет, вроде у нее черепица на крыше. Или солома? Да, там старая акация росла у забора. Точно! Вон же она, корявая!
Клешня кинулся к знакомому дереву и увидел, что навстречу, заняв всю улицу и блестя саблями, летит кавалерия. «Опоздали, хлопцы, — была первая мысль. — Всё уже расхапали»… И вдруг до него дошло, прямо как кипятком ошпарило: «Сабли наголо. Цэ ж красни!» Он бросил мешок, карабин за шаткий забор, сам перескочил и притаился в развесистых кустах крыжовника. Иголки впивались в руки, ноги, в задницу. Нельзя было даже пошевелиться.
Кавалерия всё пёрла и пёрла. «Порубають наших, як капусту!» — решил Захарий, поглядывая на мешок. Миллион лежал рядом, а не высунешься. Конные, как на грех, стали притормаживать. «Побачуть!» — струсил Клешня и задом, задом больно втискивался в колючие кусты, пока не провалился в какую-то яму. Там было мокро, воняло, но он не высовывался до сумерек. Только тогда подполз к забору, пошарил. Ни мешка, ни карабина уже не было и в помине.
Лев Голик еще в далекой юности определил для себя, что доброта опасна. Потом, работая за токарным станком, освоив острые ходы резца, он все более убеждался, что миром испокон веков управляет сила. Металл намного крепче тела и гонора человеческого — и тот поддается. Визжит, скрежещет, а уступает. Милость же, прощение нарушают порядок, ведут к поломкам и разложению. Может, где-то за пределами земного, на небесах, о чем толкует религия, и есть другие законы, но не здесь. Все факты, которые наблюдал Голик и о которых писали знающие люди в книгах, газетах — все они вопили о лицемерии христианства. Кто сжигал еретиков на кострах? Верующие. Кто уничтожил миллионы коренных жителей Америки? Опять же христиане. Кто затеял мировую войну? И они еще смеют говорить о доброте! Кого дурят? Всем заправляет вольная мощь!
Лев зверски чуял ее в заговоренном Батьке. Равняться с ним не просто глупо и опасно — это святотатство! Ему можно только служить, презирая любые мольбы и стоны врагов. Правда, сам Голик редко казнил. Для этого были под рукой Немой, Федя Глущенко, Зиньковский, другие костоправы. «Сила не любит разброса», — полагал начальник контрразведки, зорко следя за единством своих рядов.
После ухода на польский фронт конармии Буденного повстанцы легко расправлялись с карательными частями, присоединяли все новые отряды и через три недели рейда по северным районам уже имели до шести тысяч штыков и сабель. Прослышав об этих успехах, к ним приехала группа анархистов-теоретиков: Барон (Арон Канторович) с женой, Алый (Яков Суховольский), Гордеев (Исаак Теппер), а также возвратился друг и учитель Нестора — Аршинов (Петр Марин).
Не дремал и Дзержинский. Вместе с военными он разработал план «окончательного уничтожения махновцев». Они как раз остановились на отдых в давно облюбованной Больше-Михайловке, у Дибривского леса. Здесь Нестора впервые назвали «Батько», здесь он вылечил тиф. Тут была родина Федора Щуся и Петра Петренко. И сюда спешно шли с трех сторон красные: Чаплинская группа войск, Гайчурский отряд и 42-я дивизия. Все они в ожесточенных боях были рассеяны.
Но коварный Феликс Эдмундович заготовил еще одну каверзу, о которой всегда помнил Лев Голик. Он первым проведал о приезде на Украину председателя ВЧК и сразу доложил об этом Батьке, заметив как бы между прочим:
— Вы его лично должны знать, Нестор Иванович.
— С какой стати? — нахмурился тот.
— Да маялись же в Бутырках в одно время и вышли в феврале семнадцатого. На прогулке, может, встречались. У него глаза такие припухшие, трахомные.
— Это лучше помнит Митя Попов, который арестовывал его, жандарма. Жаль, не прикончил. Трахо-омные. Ты сам гляди в оба!
— Стараюсь, — заверил Голик, не подозревая, однако, что опасность ходит уже рядом.
В Туркеновке, где остановилась часть армии во главе с Батькой, появились курносый кудрявый Федор Глущенко и харьковский налетчик по кличке Яшка Дурной. Никого это особо не заинтересовало. Вокруг толклись сотни бывших красноармейцев, кадетов, уголовников, что присоединились к повстанцам. Правда, на околице Федора с Яшкой все же остановили. Но Глущенко уверенно заявил:
— До Левы Зиньковского топаем, слышь? Спецзадание! — и больше вопросов не было.
Рабочий из Екатеринослава, Федор действительно служил в махновской контрразведке. Однако сюда прибыл вовсе не для доклада. Арестованный ЧК, он был поставлен перед выбором: расстрел или сотрудничество. «Буду служить и там и там. Поглядим, чья возьмет, — решил. — А дальше — воно покаже».
Глубоко не вникая в думы своих агентов (да и некогда было), начальник всех чрезвычаек на Украине, друг и соратник Дзержинского, Манцев, предложил Глущенко… убить Махно! Федор испугался, но виду не подал и в конце концов согласился. «Батько уже всем намозолил глаза до чертиков, — размышлял он. — Если я его коцну где-нибудь в укромном уголке, то это же слава. Кто достал неуловимого Махно? Доблестный Глущенко! А не представится случай или заловят — скажу Нестору Ивановичу о кознях чека, и всё шито-крыто».
Федор давно усвоил, что в это паскудное время надежнее всего лавировать между зверьем. Хай они грызутся, шакалы. А мы свое ухватим, и никто не обвинит, что прячемся в сторонке. Да так весь наш степной народ виляет! Пришли белые — доброго здоровья, господа. Черт принес комиссаров — не возражаем, товарищи. Махновцы нагрянули — та цэ ж свойи хлопци! А по существу — все дерьмо.
В помощники Глущенко дали Костюхина с кликухой Яшка Дурной. Тот был высок, мускулист, с маленькой головой.
— Рука у него верная, не дрогнет, — заверил высоколобый, лысоватый Манцев и на прощанье порекомендовал: — Глянь там, Федя, по ситуации. Лев Задов, как и ты, и Яша, из рабочих, юзовский каталь. Потолкуй с ним осторожно. А вдруг клюнет. Все-таки наша косточка, пролетарская. Совесть-то, поди, не всю еще потерял?
Сначата они с Яшкой поехали в Александровск, где опознали и выдали ЧК махновцев. Оттуда на подводе отправились в Гуляй-Поле. По дороге Дурной со смешком рассказывал, что при царе сидел в тюрьме аж девять раз из своих двадцати пяти годков.
— А после революции с грабежом я завязал, — сообщил он не без гордости, кивая маленькой головой.
— Ну да! — не поверил Федор. «С кем я спутался? — думалось. — И чека хороша. Никем не брезгует». — Ты, Яша, кто по профессии?
— Слесарь. По замкам!
— Почему же не потеешь с напильником?
— Да что я, малохольный идиот? За копейки корячиться! Занялся экспроприацией богачей, помогал советской власти в этом чистом деле. А она паскуда, не оценила, в Харькове сцапать захотела. Я отстреливался, бросал бомбы и скрылся. Меня просто не возьмешь! Но отморозил ноги в сарае.
«Помощничек, твою ж маму! — приуныл Глущенко. — Чуть что, и сдам его. Свобода так свобода».
В Гуляй-Поле никто не ведал, где сейчас Батько, и чекистские деньги пропили. Яшка продал краденое пальто, мотанулись по селам. В Туркеновке, наконец, наткнулись на Махно. Еще издали увидели: стоит в окружении командиров или охраны. «Надо бы поискать Левку, — засомневался Глущенко, замедляя шаг. — Может, клюнет, каталь? Все-таки пролетарская косточка. Держи карман шире — три шкуры сдерет! Или нет?» Вспомнились красноармейцы, которых встречали по дороге. Батько их пленил и отпустил. «Не такой он зверь, как малюют», — говорили бойцы, усмехаясь.
Террорист остановился, закурил, прикинул, можно ли подойти к Махно. «Узнает же, допустит. А как стрелять? Тут же скрутят. Да и Нестор верткий. Глазом не мигнешь — всадит пулю!» Всё это Федор уже сто раз представлял себе: «Ну схватят. Так для того же и Яшка здесь, чтобы палить. Куда там? Сдрейфит, ворюга!» Тяжело вздохнув, Глущенко сказал:
— Не теряйся, слышь. Вперед.
На них по-прежнему не обращали внимания. Командиры о чем-то спорили у кирпичного дома волостного правления. Уверенно подходя к ним, Федор шепнул спутнику:
— Стой и жди.
Так было договорено. И вдруг Махно повернул голову и взглянул на Глущенко. Тому даже показалось, что Батько смеется. Темные глаза его вспыхнули каким-то бесовским огнем. Федор похолодел: «Всё знает. Ждет!» — мелькнула догадка. Нестор Иванович тут же отвернулся, а террорист подбежал к нему и срывающимся голосом выпалил:
— Батько! Я имею вам… очень важное… сообщить.
Тот небрежно махнул рукой:
— Передай вон Куриленко, — и по давней привычке, искоса следил за неожиданным визитером.
А Федя шептал Василию:
— Вон стоит… с двумя наганами. Слышь? Хочет убить Махно!
Могучий Куриленко, не раздумывая, подскочил к Яше и обхватил его сзади. Тут же налетели охранники, вытащили у Дурного из карманов маузер и браунинг. Обезоружили и Глущенко.
— Кто тебя прислал? — гневно спросил Нестор Иванович.
Яшка онемел. Любое неосторожное слово стоило жизни. А Федор ждал, что напарника прикончат, и тогда можно набрехать с три короба небылиц.
Но подошел Лев Голик со своими хлопцами, тихонько попросил Батьку:
— Отдай его нам. Разберемся.
— Я же ничего! Просто стоял! — крикнул Костюхин, мотая маленькой головой.
— Раз-берем-ся, — тихо повторил Голик. — Ведите его.
— Так и этого тоже! Он со мной! — Дурной злорадно указывал пальцем на Глущенко.
— Федор? — удивился контрразведчик, без теплоты глядя на своего курносого кудрявого агента.
Тот с надеждой протянул руки к Нестору Ивановичу:
— Меня за что, Батько? Я же раскрыл бандита! Я же вам… лично…
Махно молчал.
— Пойдем, — Голик ткнул дуло револьвера в живот Федору.
— Курва ты, — сказал ему Яшка, когда их вели в дом волостного правления.
— Ловим гадов! — с достоинством отвечал Глушенко, нисколько не сомневаясь, что разыгрывается спектакль для чекистов, затаившихся среди повстанцев. Вон стоит подозрительная рожа — Исаак Теппер, поглядывает, сучок. А сколько тут таких?
На допросах оба арестованных ничего не скрывали, вовсю костерили Манцевых и Дзержинских. Федор утверждал, что у него и в мыслях не было стрелять в Махно. Приехал, чтобы предупредить Батьку и выдать бандита. Ход был верный, и опровергнуть его никто не мог. Однако все командиры, кроме Голика, высказались за смертную казнь обоим. Тогда Лев спросил:
— Вы хотите, чтоб в чека работали наши люди? Да? Ну так кто же согласится на это, если пустим в расход Глущенко?
Командиры призадумались. Верно говорит, верно.
— Хай твои люди проникают хоть на тот свет! А покушаться на Батьку не позволим! — категорически возразил Семен Каретник.
— Сама думка про это губительна для революционера, — добавил Алексей Марченко, и арестованных приговорили.
Но даже когда Зиньковский взвел курок, Федор верил, что это игра, его пощадят, дадут новое задание, как и раньше. Иначе проклятая кутерьма, именуемая жизнью, теряла всякий смысл. Он сказал с надеждой:
— Боже вам помоги…
Умолк шум печатного станка, курьеры увезли пачки газеты «Вольный повстанец», а ее редактор Петр Аршинов, сутулясь, вышел во двор. Сюда же из-за крестьянской хаты пыталась заглянуть и тусклая луна. «Одинокая, вроде меня», — вздохнул Аршинов. Личная жизнь его не сложилась. Вот таким же сухим, теплым вечером обнимал когда-то… В другой жизни, явно не в своей… Фиолетовые Цвели георгины, чьи-то ульи оказались рядом, пахло сотовым медом… Эх, Зоя, Зоя. Сколько же лет утекло? Пятнадцать? Вроде того. Звездочка ты моя падучая. Кому светишь и греешь ли?
Были и потом встречи, бесследные расставания. Обидно. Кого ни возьми вокруг: того же Нестора, Барона, Васю Куриленко, Семена Каретника — у всех семьи, любимые жены. «А я… как это говорят? — не находил слов Петр Андреевич. — Да, мышиный жеребчик! Истинно так. Скачу с юности за мечтой. Даже своего угла не заимел».
Сын слесаря и сам слесарь, он стал профессиональным революционером, сидел за убийство в Бутырках с Махно, учился в Париже, Вене, увлекался симфонической музыкой и стал… рабочим-интеллигентом. Хуже не придумаешь: и тем и другим чужой! Так иногда казалось Аршинову, вот как сейчас, под этой луной-одиночкой.
Да и вся их армия разве не такая же? Мечется между Врангелем и красными, как инородное тело. Но тут уж ничего не поделаешь: порыв к свободе всегда редок и своеобычен. Аршинов не связывал его с национальными особенностями украинского или еврейского народов. Темных заковык редактор всячески избегал.
Арон Канторович (Барон), с которым Петр Андреевич приехал к Батьке, сразу же поставил вопрос ребром: надо затабориться и, не мешкая, строить новую, вольную жизнь! Командиры пожимали плечами: вроде грамотный, теоретик, а несет околесицу. Да завтра же комиссары или добровольцы окружат и замесят из нас грязь!
От села к селу войско повстанцев росло. В него вливались и те, кого в свое время Виктор Билаш предусмотрительно послал на север, на восток. Махно тогда возмущался: «Распылил армию!» А теперь из полтавских лесов выползли более трех тысяч партизан Христового. Им снова выдали оружие и деньги. 700 штыков привел Матяж, что был за самостийну Украину без Петлюры, 600 — матрос Живодер, еще в прошлом году красный комбриг, 500 — кулак Левченко, эсер по убеждениям, петлюровец по принадлежности и военный комиссар уезда по должности. «Какие колоритные фигуры! — радовался Аршинов, разглядывая кряжистых мужиков. — Сколько сил таится в народе! Неужели это… можно истребить? И как Батько умеет держать их в кулаке!»
Помимо всего прочего, Петр Андреевич еще писал историю этого невиданного движения, где не только бунт, как у Спартака или Разина, но и ясная цель: освобождение труда! Собранные документы зимой потерялись, но редактор не унывал, собирал новый архив и, беседуя с командирами, готовил для будущего их биографии, фиксировал всякие происшествия.
На подходе к городам армия зримо распухала. Так было под Изюмом, Зеньково, и редактор «Вольного повстанца» радовался: какой революционный энтузиазм! Проснулась Украина! Жалко, нет кинокамеры, и Петр Андреевич обратился к Батьке:
— Когда же добудем аппарат? Это исторические мгновения!
Махно пообещал, да, видимо, не до того было. Тогда, уже под Миргородом, Аршинов высказал свой восторг Льву Голику. Начальник разведки, еще более пополневший, так как теперь следствием не занимался, хмыкнул:
— Ты чо, Петр, с луны свалился?
— В каком смысле? — нахмурил рыжие брови редактор. Лицо у него серое от ночных бдений над текстами.
— Отстань-ка от штаба, окунись в гущу — поймешь! — как-то ехидно посоветовал Голик, которого Аршинов порой выделял из всех: тоже рабочий, умница, обособленный. Ай-я-я!
Он не ездил верхом, жалел животных. Поэтому взял тетрадь, карандаш и, сутулясь, пошел вдоль строя назад. Его узнавали, приветствовали. Петр Андреевич улыбался. Припекало солнце. Курилась пыль под копытами лошадей, колесами тачанок, и было что-то могучее, неудержимое в бесконечном ходе повстанческого войска. В колоннах пели:
Из-за горок, из-за леса На тачанках вдоль реки Вереницей бесконечной Выезжают мужики.Особенно выделялся густой бас бывшего регента кафедрального собора отца Владимира. Он вел дальше:
Впереди Махно суровый — Вдохновитель боевой. Всех повстанцев криком грозным Увлекает за собой.Песню сочинили в культпросветотделе. Нашелся и композитор. А как же без марша в строю? Мелодия затихала, шел следующий полк, и редактора окликнули, но странно, назвав Петей. Он оглянулся и с огорчением понял, что приветствуют вовсе не его, затворника, — Петра Могилу, экспедитора газет, которого знали во всех эскадронах.
— Ты куда топаешь? — чуть даже раздраженно спросил Аршинов. Сухой, чернявый Могила не мог сознаться, что его послал Голик, чтобы поберечь друга Батьки.
— Та в обоз же, — соврал экспедитор.
— Так он уже прошел! — прищурился редактор. — Вон где кухни. А это — замыкающий пулеметный полк Фомы Кожина. Здравствуйте, Фома!
Командир взял под козырек и усмехнулся.
— А за ними… еще дикий обоз, — подняв палец, объяснил Могила.
— Откуда он взялся?
— Тю-ю, вы шо? Со всех окрестных сел мужики прут за нами. Пограбить Миргород.
— Как это… пограбить? — насупился Аршинов.
— Ну, не то слово, простите. Красные склады мы счас раскроем, и дядькы полезут, як саранча.
Петр Андреевич искоса, крупным своим зеленым глазом в пушистых ресницах взглянул на экспедитора.
— Не верите, что ли? Ага, вот без винтовок уже. Цэ дядькы. Давайте подсядем, и ноги не казенные. Ану тормозни! — крикнул Могила мужику и запрыгнул на подводу. Аршинов устроился рядом.
— На склады? — спросил Петр возницу. Тот хитровато сжал запыленные губы. — Та ты не бойся, дядько. Мы не контрразведка. Я корреспондент, а ось цэ рэдактор.
— Ну-у! — с усилием и сомнением выдохнул мужик.
— Что ты мукаешь, як бугай? — засмеялся Могила. — Имя есть?
— Дид Муха.
— Значит, тоже казацкого роду, як и я, — весело продолжал Петр. — А скажи, дед, кабана у тебя продотряд забрал? Мешок пшеницы тоже. Верно?
— Якый мишок? — возмутился Муха. — Гусы, куры — всэ пидмэлы подчистую! Нэ кацапы. Наша голота лазэ по сараям, пидвалам, чуть нэ в ж… заглядае. А чого? Йим кожный чэтвэртый мишок даром дають. Поняв? А Дэ ж я визьму? Хоть в Мыргороди. От спасибо Махно! Батько так Батько. Одын чесный чоловик на всим билом свити!
Аршинов слушал и качал головой. Да-а, суровая правда-матка.
К концу августа разгром большевиков поляками выяснилсяв полной мере: около 250 тысяч людей и десятки тысяч коней попали в плен и частично были интернированы в Германии. Остатки большевицких армий поспешно бежали на восток, преследуемые польскими войсками.
На правом фланге поляков действовали украинские части… Отряды Махно, Гришина, Омельяновича-Павленко и другие беспрерывно тревожили войска красных, нападая на транспорты, обозы и железнодорожные эшелоны.
П. Врангель. «Южный фронт».
На рассвете Нестора позвали. Галина тоже поднялась, вышла в кухню. Там уже пылала печь и смачно пахло: жарились яйца с картошкой.
— Як ночувалось? — заботливо спросила хозяйка, такая же тонкая, кареглазая, как и жена Махно.
— Спасыби, добрэ, — Галина взяла деревянную ложку и попробовала еду. Она делала это постоянно, опасаясь, чтобы не отравили мужа. Останавливались в просторных хатах, где можно проводить совещания и при случае принимать гостей. А что на уме у зажиточных хозяев, кулаков — кто их разберет? После ранения Гаврюши Трояна охраной заправляет лысый дебелый Зиньковский, один вид которого нагоняет страх. Да не станет же Лев заглядывать в каждую кастрюлю, сковородку?
Наскоро поев, Нестор уехал. За селом погромыхивали пушки. Вроде опять Чаплинская группа наседает. Галина, тревожась, потопталась во дворе. Низинный туман висел на листьях груш, акаций, капало с крыши, добрый хозяин в такую погоду и собаку на улицу не выгонит. Какие они все-таки грубые, заполошные, мужики. Фу-у! Даже в школу неохота.
Учительница с тоской вспомнила, что никто же теперь и не ждет ее. Нет уроков. И детей нет, ни своих, ни чужих. Родной угол-то есть, но в Гуляй-Поле, где красные. Или Уже белые? Во карусель! Одно занятие и осталось — жестокая, но справедливая комиссия антимахновсккх дел. «Маму зовут жандармка, и я тоже», — подумала Галина, возвращаясь в хату.
Пока она нехотя ела, хозяйка крестилась на образа в углу. Оклад их взблескивал от печного пламени. А стены были белые, потолок тоже. На окнах кружевные занавески.
— Всэ сама, всэ сама! — сказала женщина и для убедительности протянула к гостье натруженные руки ладонями вверх. — Кажуть, кулак — то ворог, ксплутатор! А у нас же пятеро детей. Земли, конешно, багато и скот е. Та я ж сама и дою, и мэту, и варю, и рожаю. Хто ж ворог? Я?
Галина смотрела на нее с уважением. Политикам-мужикам, тому ж Нестору, Ленину, Врангелю, и в голову не приходит, что воюют с бабами. В украинской хате, как, наверно, и в русской избе, всё лежит на слабых женских плечах.
Послышался топот, шум во дворе. Резко открылась дверь, и, не входя, Лев Зиньковский прохрипел:
— Батько ранен!
Жена выскочила за порог и увидела с замирающим сердцем, что несут Нестора и еще кого-то. Она подбежала, не веря в несчастье, — заглянула в глаза мужу. Он, слава Богу, был в сознании, даже попытался улыбнуться, но серая щека дернулась с болью.
— А-а, но-ги, — с трудом выдохнул Батько, и Галина увидела весь в крови сапог. Ей враз стало дурно. Тут быстро пронесли мимо и Василия Куриленко, лихого кавалериста, с красным сапогом. «Если в колено — калеки!» — решила Галина, заходя в сени. Она уже привыкла, что мужа ни сабля, ни пуля, ни осколок не достают. Недавно водил в атаку трехтысячную конницу. И зачем, дурень, лезет вперед? Что, мало командиров? Еще и говорил, смеясь, как залетели во фланг, свинец свистит над ухом, фуражку показывал с дыркой. Жена ее заштопала. «Я заговоренный!» — хвастал. А теперь с палкой будет ковылять.
Раненых перевязывали. Они кряхтели, стонали. Доктор щупал ногу Нестора.
— А так… больно? Простите. А так?
Потом попросил жену в сени, зашептал:
— Кость раздроблена. Я… все, что мог. Но, Андреевна, срочно нужна операция, стерильные условия. Иначе… Сами понимаете… В город бы…
— Заражения не будет? — протрубил над ухом Зиньковский, тоже вышедший в сени.
— Ну что вы? Ручаюсь! — запротестовал врач. — Но повторяю: срочно оперировать. Обоих.
— Гляди! — предупредил начальник личной охраны Батьки.
Доктор поспешно собрал нехитрый инструмент.
— Скоро буду, — пообещал, уходя.
— Как же это случилось? — спросила Галина. В ее тоне Зиньковский уловил скрытую угрозу: дескать, что же ты, горе-охранник, не уберег их? А она не просто жена Нестора Ивановича — его глаза и уши в новой контрразведке!
— Выехали мы за село в тумане, — горячо зашептал Лев. — Батько с Куриленко возглавили бригаду кавалерии. Где-то недалеко находились красные. Разведка всю ночь их прощупывала. А они, падлы, вынырнули прямо под носом. Ни зги же! Ту-ту-ту слышим. Глядь, а Батько валится из седла. Я его подхватил. Хлопцы орут, что и Василий ранен. Кавалерия кинулась и порубала тех пулеметчиков.
— Что ж вы его не заслонили? — еще строже спросила Галина.
— Он же как ртуть, Андреевна! Был вот под рукой — и нет.
— Э-эх, телохранители. Гаврюша берёг. А вы! Где хирурга взять?
Зиньковский, лысый после тифа, высокий, плечистый, виновато сутулился.
— Ищите хоть под землей! — гневно велела Галина и пошла в хату.
Ни в этот день, однако, ни на следующий хирурга не нашли. Армия — почти двадцать тысяч штыков и сабель — уничтожила Чаплинскую группу и уходила подальше от красных и белых. Лев выяснил, что хорошая больница есть лишь в Старобельске, что севернее Луганска. Но городок заняли через пять дней после ранения Махно, и только тогда местные хирурги сделали операции Батьке и Василию. Ходить они, конечно, не могли, надолго выбыли из строя.
Галина взяла в больнице все, что необходимо, и стала медсестрой и нянькой, заботливой, как несостоявшаяся мать. Неистовые мужики, Нестор и Вася, лишившись подвижности, вели себя порой по-детски: капризничали, стеснялись ночного горшка. Она угождала им, а то и покрикивала. Потом, где-нибудь в уголке, чтоб никто не видел, плакала.
Ей было горько, что так обделена судьбой. Муж, ниже ее ростом, часто усталый и раздраженный, не вызывал в ней того постельного восторга, о котором мечталось. Походная кутерьма, чужие кровати, хаты, торопливость и настороженность тоже не располагали к нежностям. Даже простыни, одеяла, что возили с собой, не всегда удавалось постирать, просушить, и, ложась спать, чистюля Галина брезговала, поеживалась. Она не могла забыть, как выкинула недоноска и оставила взятого чужого ребенка, как чуть не попала с Феней в плен и потеряла дневник. «Что за коловерть? — думалось. — И когда кончится? Ну когда же, Господи?»
Иногда ее и раненых развлекал начальник лазаретов батько Правда. Подъезжал на двуколке и, поднявшись на своих культях, говорил:
— Ось тэпэр будэтэ знать, як воно. Ничего, хлопци, пока есть голова — жить можно.
— А если и ее потеряем, что тогда? — спрашивали больные.
— Тоди и чарку вжэ нэ выпьеш! — отвечал Правда с большим сожалением.
Какой-нибудь раненый озорник, прищурив глаз, пытался сбить его с панталыку:
— Что ты скажешь, Правда, про нашего Батьку? Вечный он или нет?
Махно поднимал голову и тоже прислушивался.
— Нэ треба, ха-ха-ха, я всэ-э знаю! — усмехался калека. Он за словом в карман не лез. — Нэстор Иванович характэрнык. Цэ вам нэ тру-ля-ля. Таки козакы раньше руками ядра ловили. Ясно?
— Не юли, Правда. Режь всю матку! — требовал озорник.
— Якшо вжэ так хочетэ, то скажу вэлыкый сэкрэт. Есть така пуля и для характэрника — сэрэбряна. Мало того. Над нэю трэба прочытать двенадцать литургий! Ота достанэ. Та хто ж ту пулю бачыв? Ты, можэ, ротозей?
— Нет, я чув, як над ухом пела! — хохотал озорник, и всем было чуток веселее.
Ехали уже по пыльным донским степям. Взяли узловую станцию Миллерово и углубились в станицы. Войском руководил Семен Каретник. Вместе с начальником штаба Виктором Билашом он часто навещал раненых, советовался, куда идти. Было очевидно, что, разрушая тылы красных, взрывая железные дороги, повстанцы расчищают путь на север барону Врангелю. А что делать? Кремлевские вожди ведь не просят помощи, хотя поляки, говорят, гонят их в три шеи. Комиссары о союзе даже не заикались. Нет, молчат, спесивцы.
Галина не вникала в тонкости большой политики. Однако намеки Билаша на то, что армии стали тесны проселочные дороги, что пора бы и отдохнуть, осмотреться, были близки жене Батьки. Хватит колесить по степям, нужно подлечиться. Нестор не возражал. Рессорная тачанка смягчала тряску, но раздробленная нога все равно ныла, не так срасталась, что ли. Полегче было лишь на привалах.
Обычно под вечер, когда утихала пальба, Махно с Куриленко ездили по селу или станице, где таборилась армия, беседовали с повстанцами, давали распоряжения, при случае и шутили. Все знали, что Батько ранен, и хотели видеть его. А он вот, пожалуйста, рядом, и мать Галина с ним, ухаживает.
Она чувствовала теплое отношение воинов, а это хоть маленько согревало, как сентябрьское солнце, что посылало из-за багровой тучи последние яркие, прямо ангельские лучи.
— Глянь же, Нестор, какая красота! — воскликнула Галина.
Муж покачал головой, то ли любуясь зарей, то ли удивляясь, что жену волнует сейчас такая чепуха. Впереди, по пыльной улице, гнали пленных, видимо, на расстрел. Когда поравнялись с ними, Махно велел кучеру остановиться.
— Кто они? — спросил у старшого.
— Та цэ ж продотрядивци, Батько. Звери! Шкуру здырали з козакив.
Среди арестантов выделялся высоколобый, светлолицый паренек в разорванной сорочке.
— Подойди! — указал пальцем на него Махно. — Ты чей?
— Шолохов я, Михаил.
— Зверствовал?
— Не-ет, учетчик, — паренек ожегся о взгляд Батьки, потупился.
— Отпустим его, глупыша, — сказал Нестор Иванович. — Хай подрастет и осознает, что творит. А нет — успеем, в другой раз повесим. И только!
– Яэтого… не забуду! — то ли злобно, то ли облегченно вскрикнул Михаил и не двинулся с места.
— Тикай, дура! — подтолкнул его старшой караула, и Шолохов побежал прочь.
Галина смотрела ему вслед со странным чувством. Сегодня комиссия антимахновских дел допрашивала этих продотрядовцев. Они вели себя вызывающе, требовали немедленно помочь голодающим рабочим севера и ни о какой пощаде не просили. Глядя на хлопчика тогда, Галина еще подумала: «Жалко сопляка. Дурнэ ж, як тэля, и мамка ждэ його». А вот чтобы отпустить… С какой стати? Они грабят селян, детишек оставляют без куска хлеба. Нестор же, видишь, пожалел волчонка. Сотнями вызволяет пленных. Непредсказуем!
Между тем поднять верхнедонских казаков против комиссаров не удалось, и войско повернуло обратно. Из разговоров мужа с Василием, из своих наблюдений Галина сделала печальный вывод: свобода людям, ох, не по зубам. Они устали, растеряны. Кому верить? На что надеяться?
Не было единства и среди анархистов. Барон по-прежнему настаивал на своем: нужна республика свободы! Хоть в Крыму! Командиры ехидно усмехались: «Там же сидит один несогласный — барон тоже!» И Галина все чаще замечала, как нервничает Нестор, встречаясь с Канторовичем. Сам вид его — эта неизменная тросточка, скрещенные на груди руки, несуразная кепка — всё подчеркивало отличие мэтра от крестьянской массы. Кроме того, хоть Махно и говорил не раз о помощи, которую ждет от теоретиков, на самом же деле не нуждался ни в каких оракулах.
А тут еще без вести пропали Яков Суховольский, литератор, и начальник типографии Иосиф Гутман. Кому мешали эти светлые трудяги? Чекистам? Или своим негодяям? Канторович не на шутку испугался и решил не искушать судьбу.
— Лучше сгнить в советской тюрьме, чем прозябать среди таких анархистов! — заявил он и ночью бежал с теоретиками в Харьков. Там состоялась третья конференция «Набата», которая признала, что Махно перестал быть анархистом и личные капризы вздымает выше общих целей.
Узнав об этом, Батько лишь усмехнулся, а Василий Куриленко махнул рукой:
— Туда им и дорога, болтунам!
Виктор Билаш давно подумывал о союзе с Красной Армией, но только теперь заговорил об этом. Куриленко насторожился: комиссары живо припомнят ему предательство. Не проронил ни слова и Семен Каретник. Управляя армией, он видел, что другого выхода нет. Но кто же лично рубил и стрелял красных офицеров, чекистов?
— Покумекаем, — сказал Махно.
Решали вчетвером, да еще рядом сидела Галина. Заложив большие пальцы рук за ремни портупей, Билаш продолжал:
— Врангель сегодня взял Волноваху. Прёт сюда. Размышлять некогда.
— Потеряем… пол-армии, — проронил наконец Каретник.
— О чем ты? — насторожился Батько.
— Фомин с дончаками уже откололся (Прим. ред. — К этому отряду пробьется потом Григорий Мелехов из «Тихого Дона».). Не верю я и старому националисту Матяжу. Он хоть и против Петлюры, а комиссарам никогда не поверит на слово, уведет свою тысячу штыков, — от такого многословия тонкий, кривоватый нос Семена покраснел. — Есть у нас и уголовники, бежавшие от кары чека. Например, Степан Бондаренко. Тоже удерет и полк сманит…
— Брось паниковать! — перебил Махно. — Я Степана знаю давно, еще с днепровских порогов. На Царской скале сидели.
— Ну, побачытэ, — буркнул Каретник.
— Мы не собираемся кланяться красным, — настойчивее продолжал Билаш. — Потребуем автономию в Гуляйпольском районе. Это раз. Свободу пропаганды своих идей. Это два. И вырвем из советских тюрем наших товарищей… — Виктор сделал паузу и подкинул козырную карту: — Того же Алешу Чубенко, что сидит в Бутырках.
Батько пристально посмотрел на Билаша, словно хотел сказать: «Ох, ты ж и бестия!» Упоминание о Бутырках и Алешке больно задело Нестора Ивановича.
— Ладно, — согласился он. — Попытайся. Но учти… Мы болеем. Ответственность… вся… на тебе!
В тот же день Виктор связался с Харьковом и передал предложение начальнику особого отдела Южного фронта Манцеву. Тот ответил: «Будет рассмотрено». Новый командующий фронтом Фрунзе, не имевший резервов, тут же доложил о секретных переговорах главкому Каменеву, а тот — Ленину. Долго думать и им не позволяли обстоятельства: с поляками готовился грабительский мир, и Врангель сунет на север. Вождь посоветовался со своими, ответил украинским товарищам: «ЦК не возражает против временного союза с Махно. Детали согласуйте на месте». Вечером телеграф выстукивал: «Штабу повстанческой армии. Ждите, вам будет передано экстренное сообщение».
А в Харькове нервничали. Накануне в газете «Коммунист» предсовнаркома Раковский писал: «Все главари банд и все, участвующие в бандах, объявляются вне закона. Каждый захваченный будет расстреливаться на месте как враг рабоче-крестьянской власти». А теперь что же — союз? Где же наша большевистская принципиальность? Мы что, мальчики на побегушках?
Волновались и в штабе повстанцев. Мнение Галины, конечно, никто не спрашивал, но она видела, как возмущены Митя Попов, Алеша Марченко, другие. Они прямо говорили Батьке:
— Это же глупо! Нас обдурят снова! Используют как таран и уничтожат! Большевики — те же иезуиты!
Нестор лежал на кровати, потирал ноющую ногу, думал: «Почему молчат, сволочи? Откажут? Или нет? Если дадут от ворот поворот — не оберешься позора. Придется валить на бузотёра Билаша».
Глухой ночью наконец застучал телеграф: предложение принято!
Батько поднялся, обошел на костылях вокруг стола и продиктовал приказ: «Всякие враждебные действия против частей Красной Армии должны быть прекращены». Он присел и тихим голосом продолжал:
— Всем находиться при полной боевой готовности и зорко следить за передвижениями красных. Поняли?
В Старобельск армия повстанцев возвратилась уже как союзница. Ее встречали холодными осенними букетами астр, кричали: «Ура!» Вскоре прибывший профессор-хирург прооперировал ногу Махно. Стали возвращаться из тюрем известные анархисты. А главное — никто не стрелял! В кои-то веки!
Особенно благостно было в госпитале. Хрустящие простыни, забытые добрые улыбки. Во дворе с мягким шорохом падали желтые листья. Идя по ним, Галина отдыхала душой. Даже не верилось: неужели такое — навсегда? Она пошла в церковь и поставила свечку. «Господи, дай здоровье Нестору. Помоги нам и помилуй», — шептала с надеждой.
Вытурив врангелевцев из родных мест, в Гуляй-Поле собралась, наконец, вся армия. Повстанцы пошли по домам, приводили себя в порядок, ели борщ, ковали лошадей. Было решено послать против белых лишь Крымскую группу во главе с Семеном Каретником.
Вскоре вместе с красными она захватила в ожесточенных боях Большой Токмак, Мелитополь и выкатилась к Азовскому морю.
Запахло печеным хлебом. Это было столь странно в белой от снега, голой Таврической степи, что Фрунзе стал выглядывать в приоткрытое окошко бронеавтомобиля. Где же тут пекарня? Ехали вдоль железной дороги. Может, вон там, на станции?
За все время гражданской войны Михаил Васильевич (а он покомандовал уже и на Волге, Урале, и в Средней Азии) не видел такого нагромождения покореженных вагонов, паровозов, пушек, подвод, автомобилей. Но особенно его поразили не техника, не обугленные ветряные мельницы и даже не павшие люди — лошади! Сотнями лежали на полях, бродили от самого Мелитополя и дальше на юг немецкие битюги, тонконогие донские скакуны, вислобрюхие тележные кобылы. Фрунзе любил их и знал в них толк. «Как же будем ездить? Чем землю пахать?» — сокрушался, качая крупной головой в смушковой папахе. О бессмысленности этой бойни мысли не приходили. Он был убежденным, кровно обиженным в юности, азартным бойцом.
— Да откуда же запахло хлебом, Аркадий? — спросил комиссара полевого штаба Осинкина. Члены реввоенсовета, что тоже ехали в бронеавтомобиле, выглядывали в окна. Справа и слева дымились пакгаузы какой-то станции, горели вагоны. Из них текли на землю огненные струи.
— Это же зерно, Михаил Васильевич! Сыплется и пылает, — определил Осинкин.
— Какие подлецы генералы! — высоким тенором, гневно заговорил Фрунзе. — А в Москве, Иваново голодают дети. Разве у золотопогонников нет дочерей, внуков? Показать бы это ткачам. Голыми руками разорвали бы мерзавцев!
Аркадий души не чаял в своем командире, но справедливости ради подумал, что шли жестокие бои. Стреляли наши, белые и махновцы. Кто поджег — поди разберись. Вместе с тем въедливый, дотошный Осинкин понимал: Михаил Васильевич возмущен не одним лишь видом горящего зерна — сорвался, по его же определению, «смертельный и молниеносный» разгром Врангеля. Барон не только уполз в Крым, но напоследок еще и крепко дал по зубам нашим наседавшим частям. Вот почему штаб фронта спешит на юг. Хватит протирать штаны в Харькове!
Командующий хотел, наконец, сам все увидеть и сориентироваться не по докладам. Этому его научила война, как, впрочем, и Нестора Махно. Они во многом были очень похожи. Однако, если бы кто осмелился сказать такое Фрунзе, тот бы скорее всего удивился, а может, и выругался…
Оба начинали с разбоя. В девятьсот пятом им, зеленым, казалось, что простой народ, революция вот-вот победят, надо лишь хорошенько взяться за богатеньких. Потом было много разочарований. Но несмотря ни на что, они, атеисты, сохранили эту единственную веру неприкосновенной, считая, что трудящиеся — рабочие и крестьяне — давно готовы к счастливой жизни, нужно только побыстрее создать им для этого подходящие условия.
Фрунзе и Махно в юности были приговорены военным судом к повешению, долго ждали свой смертный час и помилованы. Оба «заработали» в тюрьме туберкулез и ни одного дня, каторжные, не служили в армии. Зато лично создавали гвардию: один — красную, другой — черную.
Но, в отличие от Батьки, Фрунзе всегда знал свое место в партийной и военной иерархии, был одним из многих, и его раздражало, что кто-то может себе позволить полную независимость. Для таких он припас презрительно-враждебное словечко «князек».
В отличие же от Махно, Михаил Васильевич никогда не жил на Украине и не имел к ней ровно никакого отношения. Это, а также опыт усмирения басмачей были учтены Лениным при назначении командующего Южным фронтом. Вождь, несомненно, предвидел, что на «юге России» пострашнее Врангеля окажется иная сила…
Приехав на побережье, Фрунзе посетил незнакомые ему штабы армий, захотел встретиться с бойцами. У полевой кухни его угостили кашей. Но куда же поставить миску? Ни сесть, ни лечь — вокруг стылая и голая солончаковая степь.
— На семи ветрах! — усмехнулся красноармеец, что ел рядом. Подошвы сапог его были прикручены проволокой.
— Скоро ли вздуем барона? — спросил другой солдат, безусый, конопатый. Он жался спиной к товарищу, чтобы хоть так заслониться от стужи.
— А вот где его проломить? — хитровато поинтересовался Фрунзе. — Может, по Арбатской стрелке вдарить? Проскочим?
— Не-ет, пустое! — запротестовал красноармеец с оторванной подошвой. — Наш полк туда уже совался. Корабли барона к-как га-ахнули! А стрелка-то узенькая. Считай, с десяток нас и осталось. Бежали, не чуя ног!
— Тогда через Чонгарский пролив, по дамбе, пожалуй, — хитровато вел дальше Михаил Васильевич. Он хотел услышать мнение бывалых солдат.
— Там нет маневра, товарищ… не знаю, кто вы, — вступил в разговор кавалерист со шпорами. — Наши сибиряки, однако, пытались, да умылись кровавой щербой, ухой то есть. Вот так.
— Значит остается одно — брать Турецкий вал. Правильно я понял? — добивался Фрунзе.
— Ох, ох! Гиблое место. Сотни наших скрючились. Пёс не проскочит: столько там белого огня, — вздохнул конопатый, облизывая ложку.
— Позвольте! Так что же делать прикажете?
— А вот что, милый, — сказал кавалерист. — Заходите в тыл того вала. Через Сиваш, понял? Да махры нам пришлите, дровишек. А то попухнем тут или околеем. Хрен редьки не слаще.
Фрунзе поблагодарил солдат и уехал. Ему очень хотелось повторить маневр русского фельдмаршала Ласси, который в XVIII веке обошел крымского хана по Арбатской стрелке. Но корабли Азовской флотилии словно сквозь землю провалились. Напрасно прождав их три дня (потом оказалось, они стояли в Таганрогской бухте, скованной льдом), комфронта решил снова, не считаясь с жертвами, брать штурмом Перекоп. Там каждый метр простреливается пулеметами и орудиями противника, и без хитрого маневра, о котором говорил кавалерист, эта задача, скорее всего неразрешима. Обойти же Турецкий вал можно только по мелководному заливу Сиваш — гнилому морю, как это сделал в прошлом году Дыбенко.
Первыми, ночью, когда Фрунзе еще был в пути сюда, пытались переправиться махновцы. Ориентируясь по своим кострам на берегу и пройдя почти половину залива, они все-таки возвратились назад. Ледяная вода кипела от разрывов снарядов. Ноги, колеса вязли в грязи. Мокрые кожухи хрустели в корках льда. Нужно было отметить вешками броды и ждать западного ветра, чтобы он погнал воду Из Сиваша. Иначе нечего и соваться.
Пока повстанцы с грехом пополам отогревались у костров в близлежащем селе (а скученность была неимоверная: сюда привалила еще и вторая конная армия), залив обмелел и его преодолели две красные бригады. Они бросились на защитников Турецкого вала с тыла, но были остановлены корниловцами. Бой шел больше суток. Кончались патроны, нечего есть, пить, и вода стала прибывать. «Где помощь?» — с тревогой спрашивали храбрецы. Но и связь с ними прервалась.
Тем временем дивизия Блюхера в лучах прожекторов погибала под кинжальным огнем у Турецкого вала. Бросив туда еще две резервные дивизии и приказав им «атаковать в лоб под угрозой самых суровых репрессий», Фрунзе в ночном тумане поехал на броневике по берегу Сиваша, чтобы найти и кинуть новые силы на помощь десантникам. Снаряды дальнобойных пушек белых долетали к дороге. Впереди, вращая крыльями, горела ветряная мельница. К полуночи комфронта добрался до села Строгановки. Ему доложили, что вода снова затапливает броды. Этого еще не хватало! Взятие Перекопа, Крыма и судьба самого Фрунзе повисли на волоске.
— Какие тут ближайшие части? — спросил он, чувствуя, что теряет управление войсками. Доложили, что седьмая кавдивизия и махновцы. — Немедленно пусть прибудут сюда!
Но прошел час, другой — никто не появлялся. Михаил Васильевич, ниже среднего роста, как и Махно, плотно сбитый, ходил по хате и нервно поглядывал на часы. В желтом свете керосиновых ламп видно было, как он осунулся, глаза ввалились, усы топорщатся. Это тяжкое ожидание напомнило ему камеру смертников и шаги в ночной тишине. «За мной или нет?» — думалось тогда. Теперь же скорый топот означал бы спасение. Но его не было. «Да что же они, скоты! — терял терпение командующий. — Где запропастились? Боятся? А вода-то прибывает!»
Минуло еще полчаса. Ни кавдивизии, ни махновцев не слышно. «Рвань полосатая!» — кипятился Фрунзе. Покалеченная карателями-казаками коленная чашечка начала вдруг ныть. Они тогда накинули ему на шею аркан и потащили за лошадью. Он бежал, перецепился, упал, бился головой, спиной о камни. Сволочи. Никакой пощады!
Полотенце на стене было в синюю полосочку. Глянув на него, Михаил Васильевич вспомнил вдруг байку, кем-то рассказанную в штабе. Махновцы заняли АсканиюНову. В вольерах обезьяны, страусы. Но мужиков удивила зебра: лошадь… и полосатая! Откуда такое? Они ее поймали, свалили, намочили самогоном тряпку и ну тереть бока чудной скотине. Подозревали, что покрашена. Во народец! Жди от него дисциплины!
Наконец-то послышался долгожданный топот, громкие голоса, и в хату ввалился высокий, широкий Каретник со своим начальником штаба. От них шел пар.
— Командующий Повстанческой армией по вашему приказанию… — начал Семен, приложив руку к черной папахе.
— Вас только за смертью посылать, — холодно прервал его Фрунзе. Он впервые видел Каретника, и этот князек ему сразу не понравился. Что-то восточное, смуглое, кривоносое напоминало Среднюю Азию, главаря басмачей Ахунджана, который с отрядом тоже переметнулся на сторону красных, а потом отказался ехать в Ташкент, заерепенился, выхватил маузер и чуть не застрелил Фрунзе. Этот анархист ничуть не лучше. Все они одним миром мазаны: жаждут автономии. А зачем, спрашивается? Провинциальная блажь? Своеволие им нужно, а не свобода. Есть ясная цель — большевистская. Всё остальное — бред, разбой!
— Наши две бригады погибают на том берегу, — взяв себя в руки, сказал комфронта. — Немедленно идите им на выручку!
Он не ругался, даже не повысил голос. Еще не время. А Каретник понял это по-своему, спросил:
— Как там вода? Опять восток вроде дует, — помолчал и прибавил: — Нам было бы сподручнее работать с красной конницей.
Фрунзе сжал зубы и невольно сравнил этого обормота с Чапаевым. Тоже ведь партизан, забубенная головушка. Но как почтительно встретил, как слушал, исполнял! «Этого лишь могила исправит, — решил комфронта. — Боится ловушки. Погоди, князек, погоди».
А Семен Каретник действительно опасался, что пошлют на верную гибель. Уже сколько раз обманывали эти комиссары.
— Сейчас подойдет седьмая кавдивизия, — согласился Михаил Васильевич, глядя на махновца серыми запавшими глазами вприщур. — Отправитесь вместе.
— Я буду на улице, — сказал Каретник.
— Идите.
Глядя на широкую спину строптивца, Фрунзе вспомнил, как был у Ленина в Кремле. После заседания Совета труда и обороны они вдвоем вышли на улицу. Темень, лишь на аллее мерцал фонарь. Говорили о Врангеле. Ильич заметил: «А ведь мы могли не допустить его в Крым. Но беда в том, что есть открытые, а есть хитрые, подлые враги. Вот, например, Махно. Слыхали?» — «Пока одним ухом». — «Он нам все тылы истрепал. Бандитизм на юге России должен быть истреблен, и, возможно, вам, товарищ Фрунзе, еще придется вплотную этим заняться». — «Там же нет гор — справимся!» — пообещал Михаил Васильевич. Теперь, в хате на берегу Сиваша, он подумал: «Вот только сначала одолеем барона».
Явился наконец командир седьмой дивизии, и махновцы первыми пошли в ледяную воду…
Поняв, что защитников Турецкого вала окружают, Врангель этой же ночью отвел большую их часть на вторую линию обороны. Днем вал был взят без особого сопротивления, и у Фрунзе отлегло от сердца. Чтобы не дать белым спокойно уйти за море, он развернул все перекопские дивизии для решительного броска. Но им навстречу ринулся конный корпус генерала Барбовича. Это была последняя, отчаянная атака Русской армии.
Пять тысяч сабель и пик сверкали на зимнем солнце. Двадцать тысяч лошадиных копыт стучали по мерзлой земле. На позиции пехоты несся угнетающий гул, и голодные, измотанные ночным боем красноармейцы дрогнули, побежали.
Алексей Марченко, что командовал кавалерией махновцев, стоял на левом фланге и видел: сдержать жуткий порыв гусар и казаков сейчас невозможно. Они сметут всё на своем пути, терять им нечего. А если еще прорубятся в тыл…
Семен Каретник находился в центре. Не торопясь подозвал ординарца.
— Скачи к Фоме. Тачанки вперед!
На взмыленном жеребце ординарец подлетел к Кожину. Тот уже стоял на возке, послушал, гаркнул:
— Хлопцы-ы! Р-робы грязь!
Триста пулеметов на тачанках, запряженных четверней, лихо покатили навстречу ревущей белой лаве. Топот становился все громче, блеск шашек все ярче. Фома Кожин на ходу развернул свою тачанку и остановился. За ним тот же привычный маневр совершил весь его полк.
— Пли! — махнул рукой Фома. — Пли!
Летящая лава словно наткнулась на невидимую преграду. Передние ряды закувыркались. Задние напирали на них, шарахались в сторону. Их тоже косили. Из-за тачанок уже появилась и стала преследовать белых конница Алексея Марченко. А Фома схватился за бок, сел, потом лег на железную обивку. Теплая кровь текла по рукам…
Когда Фрунзе доложили о контратаке повстанцев, он прежде всего приказал отправить Кожина в госпиталь. Затем долго качал головой: «Да-а, с этой оравой придется повозиться. Ох, придется».
Спустя три дня Повстанческая армия вместе с красными вошла в Симферополь. А 15 ноября конница Марченко взяла горящую Евпаторию.
В это же время в Харькове состоялось заседание ЦК большевиков, где присутствовал по поручению Ленина Троцкий. Было решено немедленно… уничтожить махновщину!
17 ноября 1920 г.
Секретно
Вне очереди
В связи с окончательной ликвидацией врангелевского фронта приказываю:
1. Командарму 1-й Конной с получением сего немедленно отправить части… в район Елисаветград — Екатеринослав.
2. Командарму 2-й Конной… отправить всю конницу… в район Пологи — Цареконстантиновка — Черниговка, где ожидать дальнейших указаний.
Повстанческую армию Махно передаю в оперативное подчинение командарму 4-й, которому иметь в виду предстоящую переброску армии Махно… на Кавказ.
Командюжфронта М. Фрунзе.В этот же день издается и другой секретный приказ:
Для предотвращения проникновения контрреволюционных элементов из Крыма на территорию Украины и Советской России… в районах Сальковского и Перекопского перешейков поставить особые заградительные отряды.
Пока в Крыму ловили, сортировали, расстреливали пленных врангелевцев (этим занимались и махновцы), пока собирали добычу, хоронили павших и награждали победителей (среди них махновцев не было), пока организовывали ревком (его возглавил совершенно чужой здесь Бела Кун) и налаживали береговое охранение — Фрунзе не трогал Повстанческую армию. Да он и понимал: уничтожить ее, как требовал Троцкий, не так-то просто. Красноармейцы вчера только бок о бок шли с партизанами. Те и другие устали, мечтают скорее попасть домой. Не лучше ли подчинить махновцев Советской власти? Не хотят они идти на Кавказ — пусть вольются в войска. А дальше бандитов-анархистов выудить и взять на мушку. Во всяком случае это будет честно, по-большевистски.
Михаил Васильевич, кроме того, не желал кланяться Троцкому. Этот наглец даже посмел окружить и проверить его поезд, когда приехали из Средней Азии в Москву. Чекисты, извиняясь, искали золото, бухарское оружие с бриллиантами, чтобы скомпрометировать Фрунзе в глазах Ленина. Не удалось. Теперь Лев Давидович жаждет замарать честь победителя Врангеля, требует подло нарушить соглашение с повстанцами. Не выйдет! Но и не выполнить указание председателя реввоенсовета республики никак нельзя. Пусть махновцы сами решают. Надо дать им шанс, твердолобым хохлам.
Фрунзе вызвал к себе в Симферополь Семена Каретника. Пока тот сомневался, советовался со своими (очень похоже было, что это ловушка), Михаила Васильевича срочно потребовали в Харьков. Там созрело желание назначить его «членом Совнаркома УССР в качестве уполнаркомвоена на правах народного комиссара». Словом, не знали, как и назвать. Он поехал. Эта командировка была кстати. Хотелось увидеться с молодой женой, с крошкой Танечкой. И главное — в случае отказа махновцев подчиниться можно лично не приказывать стрелять в них. Но кому это поручить?
Выбор пал на начальника тыла четвертой армии Грюнштейна. Ему было велено устно: вместе с особым отделом и Каретником, если тот появится и заупрямится, уехать в Мелитополь и там… сами понимаете.
А как поступить с охраной? — поинтересовался Грюнштейн.
Фрунзе нахмурился: не любил лишних вопросов.
— Что вы имеете в виду?
Этот Каретник не сам же явится. С головорезами.
— А-а, существенная деталь. Пусть едут с ним. Там, на месте, изолируйте. Но тихо.
Для надежности в Мелитополь же направлялась и сводная дивизия красных курсантов, не имевших понятия об истинных целях махновцев.
Их Крымская группа, как и следовало ожидать, наотрез отказалась войти в состав четвертой армии. Командиры в один голос заявили, что подчиняются только Батьке. Для Фрунзе это был бунт, и ни о какой моральной ответственности речь уже не шла. Тем не менее еще раз, со станции Лозовая, он связался с Москвой. В телеграмме Повстанческая армия называется «шайкой бандитов», которую нужно уничтожить. Москва согласна, Харьков тоже. Прямо в поезде подписывается заранее заготовленный секретный приказ:
«С махновщиной надо покончить в три счета. Всем частям действовать смело, решительно и беспощадно».
Как ни покажется странным, но Фрунзе все равно колеблется. То ли предчувствует, в какое гиблое болото его втягивают, то ли еще теплится надежда на покорность «бандитов». В приказе есть и такие строки:
«Реввоенсовету Повстанческой армии немедленно приступить к работе по превращению партизанских частей в нормальные воинские соединения Красной Армии… До 26 ноября я буду ждать ответа». От кого? Нестора Махно никто об этом не ставил в известность. Ог Семена Каретника?
Утром в Мелитополе ему показали этот секретный ультиматум. Но не тот он был человек, чтобы подчиниться произволу. Да и знал: армия все равно не покорится.
На это я никогда не пойду, — сказал Семен Грюнштейну. — А Батько читал?
— Конечно. И вы же не один. С вами охрана, штабисты, раненые, — напомнил начальник тыла. — К тому же ваша армия в Крыму, считайте — в мешке!
— Батько Махно говорит так, дорогой товарищ чекист: не тому печено, кому речено, а кто кушать будет.
— Вот мы и сожрём, — угрожающе подвел итог Грюнштейн. Каретник всё понял, выдавил:
— А где же Фрунзе? Что он, как напакостивший щенок, прячется за вашей спиной?
— Командующий занят.
— Иуды вы поганые!
Морозным днем их вывели на базарную площадь в Мелитополе. Плотными рядами здесь уже стояли красные курсанты. За ними топтались обыватели, поскрипывая кто валенками, а кто и стылыми галошами. На деревянный помост взошел начальник штаба дивизии курсантов. Грюнштейн, подобно Фрунзе, не желал прослыть палачом.
— Ревтрибунал постановил! — громко заявил начштаб. — Считать необходимым отметить прощальным салютом участие махновцев совместно с Красной Армией в разгроме Врангеля!
Оратор махнул рукой, и треснул сухой залп. Опять установилась тишина. Лишь скрипел снег под ногами замерзших и удивленных мелитопольцев.
— За измену советской республике, — продолжал начштаб, — пойманные бандиты приговорены к расстрелу! Хотите что-либо сказать?
Они стояли тесной кучкой — штабисты, раненые в бинтах. Каретник выступил немного вперед, достал серебряный портсигар, раскрыл, закурил. О чем говорить? Что они ни кем не пойманы, а преданы? Что они не бандиты? Но зачем оправдываться? Раньше он сам расстреливал, и, бывало, комиссары пытались выступать. Кто их слушал? Друзей тут нет. А врагам и зевакам его речи, что горох об стенку.
«Где же наша охрана? Почему медлит?» — не мог понять командующий Повстанческой армией. Он для того и закурил, все надеялся, что хлопцы вот-вот ворвутся на площадь и разгонят пулеметами эту свору. Но помощи не было: охрану вырезали.
Щелкнув портсигаром, Семен молча бросил его под ноги курсантам. Это был жест презрения: «Возьмите последнее, глупыши. Не зря так люто я вас ненавидел, рабов!»
Треснул еще один залп.
— Войско Врангеля сдохло, а с большевиками нам делить нечего! — сказал Нестор Иванович, поднимая рюмку. Сидели в его родной хате. Нога почти зажила, и настроение было приподнятое. Командиры внимательно слушали. Он продолжал: — Мы хотим жить свободно, сыто, по-коммунистически. Они тоже, если не брешут. Вы видели, сегодня приезжал представитель их цека Мартыненко. Автономию нам дают! Чего еще надо? Наша армия им мешает? Пошлем желающих прямо из Крыма в Турцию на помощь товарищу Кемалю, затеявшему там революцию. Согласны?
Виктор Билаш, Василий Куриленко, Лев Зиньковский, Федор Щусь, Галина с братом (его недавно избрали в штаб), Василий Данилов — все закивали. Сбывалась мечта о мирной, счастливой жизни. Жарко пылала печь, светило три лампы.
— За что и выпьем, — подвел итог Батько. — Значит, не зря мы бились насмерть четыре года. Нет, не зря!
Пока закусывали, в тишине Зиньковский напомнил:
— А как же секретные агенты сорок второй дивизии?
Поскольку Лев Голик находился в Крыму, Зиньковский теперь отвечал и за охрану Батьки, и за разведку. Дивизия, о которой шла речь, в боях не участвовала, постоянно караулила повстанцев здесь, и вчера были схвачены ее агенты. Они признались, что посланы в Гуляй-Поле следить за хатами командиров и распространять листовки, вот эти: «Смерть махновцам» и «Вперед на Махно».
— Подстрекатели! — отрезал Нестор Иванович. — Мы же их отпустили. Нельзя срывать соглашение.
Верно, Батько, верно, — поддержал его Петр Рыбин, избранный секретарем Совета вместо Дмитрия Попова, что находился в Харькове. Новичку трудно было рассчитывать на доверие махновцев. Но рабочий-металлист из Орловской губернии Рыбин добился этого на удивление легко и сразу. Среднего роста, плотный и голубоглазый, он подкупал напористостью без наглости, говорил страстно, веско. А главное, вызывала уважение его необычная судьба. Еще до войны Петр эмигрировал в Америку, стал членом союза русских рабочих США и Канады. После революции перебрался во Владивосток, I оттуда в Харьков, где возглавил профсоюз металлистов. Рассорился с большевиками, подался в Гуляй-Поле. Тут немедленно организовал курсы пропаганды анархизма.
— Но не обольщайтесь. Ленинцы никогда не позволят нам жить свободно, — говорил Рыбин убежденно. — Государство не терпит воли. А соглашение… мы не порушим.
В это время скрипнула дверь, и в хату зашел старший караула.
— Прости, Батько. Там припёрлись какие-то уни… вер… Тьфу! Язык сломаешь, — выругался он. — Словом, рвутся к вам.
— Универсалисты, что ли? — усмехнулся Махно. — Ану погляди, Лева!
В темени на снегу стояли незнакомцы, человек десять. Их окружала конная штабная охрана. Один из гостей подступил поближе.
— Я Мирский, Левушка. Помните? Адъютант Шубы. Вот привел ребят.
— Зайди, — разрешил ему Зиньковский. В сенцах буркнул: — Что надо?
— Это… террористы! — возбужденно зашептал Мирский. — Харьковская чека послала. Нате мой наган.
Лев взял, достал и свой револьвер, вышел на крыльцо.
— Стреляю без промаха. Сдать оружие! — приказал.
Чекистов-универсалистов арестовали. Они возмущались:
— В чем дело? Это разбой!
Зиньковский с Мирским направились в хату.
— Что там за шум? — поинтересовался Махно.
— Вот адъютант Шубы, привел чекистов, чтоб нас всех ухлопать, — доложил Лев. — Я их уже прищучил.
В хате стало слышно, как потрескивают дрова в печи.
— Ану иди сюда, адъютант Шубы, — потребовал Батько, упорно гладя на гостя исподлобья. — Это… правда?
— Чистая правда, Нестор Иванович.
— А ты откуда знаешь?
— Так я же с ними… из Харькова прибыл.
— Из чеки, что ли?
Мирский замялся, но взял себя в руки.
— Да, Батько, из чеки, чтоб спасти вас.
— Ишь ты, Христос. А если мы тебя… Не поверим и копнем без долгих разговоров?
— Я не боюсь. Слушайте: красные ночью готовят налет. В районе концентрируются войска. Нужно встретить их скорее. Иначе погибнем!
— Что… ты… несешь? — возмутился Махно. — Где доказательства?
— Но мы же ехали, наблюдали. Сорок вторая дивизия с артиллерией сунет сюда с севера! — повысил голос и Мирский. — Расстреляйте меня, если вру!
— Что с ним делать, с провокатором? — обратился Батько к командирам. Все были в замешательстве. Гость внушал доверие своей искренностью. Но тогда что же — война? А как же Крымская группа? Там десять тысяч хлопцев!
— Коцнуть успеем, — сказал Федор Щусь, обычно скорый на расправу. «И он допетрил, что нельзя ерепениться», — подумал с благодарностью Нестор Иванович. Тут зазвонил телефон. Адъютант Махно взял трубку.
— Виктор Федорович, вас.
Билаш послушал, возвратился к столу.
— Две сотни красных сабель стоят у штаба, — сообщил.
— Кто же их пропустил? — вскипел Батько. Неприятности сыпались градом.
— Иван Долженко докладывает, что пришли сдаваться и мирно спешились. Штабные пулеметы держат их на мушке. Командир приблудного дивизиона утверждает: этой ночью будет налет!
За столом обеспокоенно зашушукались. Значит, Мирский не врет? Или их всех специально прислали? Проверяют на благонадежность! Билаш сказал в раздумье:
— Прогнать мы их не можем. Такое комиссары своим не прощают. Может, на всякий случай ушлем на хутор? И агентов с ними.
— Ну, давай. Поглядим, что за гуси.
Командиры закурили. Два таких предупреждения — это не шутки, и с Крымом уже десять дней как потеряна связь. Но что же делать? Поднимать людей среди ночи, на мороз? Все спят, и разведка молчит. Махно велел адъютанту Василевскому:
— Мотай, Гриша, на телеграф. Еще и еще раз вызывай Харьков, штаб Южного фронта. Надо же выяснить в конце концов, что за бардак!
— Депешу дадите?
— Да линия-то барахлит. Если наладите — позовешь.
Батько поднялся, по давней привычке потер руки, где были кандалы, и стал что-то тихо говорить Билашу. Галина смотрела на них с тревогой. Неужели опять мыкаться? Надо бы приготовить теплые вещи. В дверях появился Петр Аршинов с пачкой бумаги.
— Я прямо из типографии. Вот, готовое положение «О вольных Советах», — улыбаясь, он раздавал пахнущие краской листки. — Завтра познакомим народ!
Петр Андреевич был доволен своим трудом и тем, что недавно сколотил, снабдил деньгами и разослал в Киев, Одессу, Екатеринослав, Полтаву, редакции анархических газет. Они там тоже не спят!
— Вот что нам нужно, а не война, — говорил Махно, читая свежий текст. За столом помалу оживились.
— Трэба його на украйинську мову пэрэвэсты, — предложила Галина, роясь в шкафу и доставая шерстяные вещи.
Такой уж беспокойной выдалась эта ночь, что появились еще гости. Срочно приехали из Харькова представители повстанцев при советском правительстве Александр Клейн и Ольга Таратута. Вместе с морозным воздухом с улицы они внесли мешок, развязали его.
— Сто миллионов на мелкие расходы! — возбужденно объявил Клейн. — Комиссары отвалили ровно столько, как мы просили. А на станции еще сотни сабель и сёдел.
— Да, и наш вольный Гуляйпольский район признан! — добавила Таратута. На нее смотрели с недоумением. — А что с вами, товарищи? Не верите? Заждались добрых вестей?
— Вы же с дороги. Садитесь, будь ласка, к столу, — пригласила Галина. Гостям налили по чарке. Батько предложил тост за их благополучное возвращение. Выпили. Но Ольга, белокурая с темными глазами и пушком над верхней губой, ощущала какую-то напряженность.
— Что же вы не радуетесь? — спросила игривым голосом. — Сам секретарь цека Косиор заверил меня в преданности и дружбе. А еще неделю назад волком поглядывал на членов «Набата».
— Да они же вас дурят! — не выдержал Мирский. — Водят за нос, как птенцов!
— О чем это вы? — широко распахнула темные глаза Ольга.
Слушая их перепалку, Махно шумно, тяжело дышал. Давал о себе знать забытый каторжный туберкулез, и мучили сомнения. Так близка желанная, многовыстраданная цель. Миллионы, сабли, сёдла дали! Это ли не факт? Вместе выперли Врангеля. Люди же они, хоть и большевики. Есть же у них, диктаторов, хоть крохи совести?
Оранжевые языки пламени вырывались из-под дверцев печи. Отблески играли на потолке, беленых стенах. Нестора Ивановича бросило в жар. Если война, то Крымской группе аминь! Опираясь на трость, он вышел на улицу, вдохнул морозный воздух. За холмами, что окружают Гуляй-Поле, уже занималась сиротливая заря. Глядя на еле обозначенный, кривой горизонт, Махно подумал о том, что давно беспокоило, да не высказывалось, таилось, чуждое анархизму: «Кроме свободы, народу нужна и власть. Своя, справедливая. Кто Хмельницкий? Гетман! Или вон большевики. Не успели прискакать — уже правительство из Москвы приволокли, ревкомы насаждают. Пусть липовые, вроде бакенов на Днепре, что сносятся течением. Но кораблю без них — гибель. Э-эх!»
— Не спится, Батько? — участливо поинтересовался часовой, что топтался за углом. Там же темнели еще три-четыре мужика. У их ног угадывались пулеметы. Махно не успел ответить, как далеким эхом загудело, засвистело и рванул снаряд! Из хаты выскакивали командиры.
— Вот оно, вот! — почти радостно закричал Мирский.
За околицей вспыхнула и нарастала стрельба. Галина вынесла, накинула на плечи Нестора полушубок, дала шапку. Теперь уже ни у кого не было сомнений — это подлое предательство, новая необъявленная война с большевиками.
Батько с охраной поехал в штаб. Рассветало. Прямо над головой молча летела стая ворон. Повстанцы, ругаясь, выкатывали на улицы тачанки, подводы. С только что прибывшего обоза раздавали патроны, сабли, седла. Испуганно лаяли собаки. С узелками в руках спешили к мужьям, сыновьям женщины. На рысях обгоняли их разведчики. Беспрерывно гудел церковный колокол, возвещая беду.
Дежурный по штабу Иван Долженко в начищенных до блеска сапогах доложил Махно, что со стороны железнодорожной станции на околицу ворвались конники какой-то Интернациональной бригады — мадьяры, киргизы, латыши. Их выбили. Разведка успела определить: Гуляй-Поле окружено. Близко подходить, однако, красные пока опасаются. Бьют из пушек, разворачиваются. Сколько их? Трудно сказать. Сорок вторая дивизия, Интербригада, еще какие-то полки с востока и юга.
Нестор Иванович слушал, насупившись. Не мог простить себе легкомыслия, доверчивости. А красные мухоморы подкрадывались. Ну что ж. Не впервой так. Били австрияков, генерала Слащева, карателей, рыскавших по пятам. «Прорвемся и на сей раз, — думалось. — Правда, войск маловато, около трех тысяч. Но зато какие хлопцы!»
Слушая твердые доклады командиров о готовности, Батько не сомневался в успехе. Его орлы сомнут и мадьяр, и латышей, и чекистов — самому черту свернут рога! Но где ударить? И как быть с Крымской группой? Пропадет же!
— Этот приблудный кавдивизион, что ночью появился, опять тут, — сказал Билаш.
— Мы же его отослали! — рассердился Махно, подмигивая. Левую щеку беспокоил нервный тик.
— Опять тут, — развел руками начальник штаба, — и рвется в бой.
— Та-ак, хай идут на Успеновку. Первыми, — решил Батько. — Там какие-то новые красные. А мы налетим следом, по флангам. Командуй!
Войско ринулось по заснеженным полям на восток. Впереди летели приблудные конники. Их не остановили ни разрывы снарядов, ни пулеметная трескотня. Терять было нечего. Следом, рассыпавшись влево и вправо, по баночкам устремились лихие тачанки. Красные пятились.
Легко они воюют. Не заманят в западню? — спросил Батько Билаша. Ехали на рессорной немецкой бричке в середине колонны. У Нестора Ивановича еще мелькнула догадка: «Не хотят бойни. Тоже трудяги. Кто же их гонит, несчастных? Фрунзе? Комиссары? Какая подлость!»
— Хрен с ними. Будем прорубаться! — отвечал начальник штаба.
В тылу красных, к счастью, резервов не оказалось, и, преследуя отступающую бригаду (она вскоре капитулировала), махновцы вырвались на оперативный простор.
— Ну-у, гадёныш Фрунзе, держись! — весело злобясь, воскликнул Батько. — Мы тебе покажем, как нарушать слово. Жаждал бойни — получишь!
Минувшей же ночью шли повальные аресты анархистов в Харькове, Киеве, других губернских городах. Были взяты дипломатические представители повстанцев Дмитрий Попов, Авраам Буданов, командиры, что лечились в госпиталях, а также секретари конфедерации «Набат» Всеволод Волин, Барон, Марк Мрачный — всего 346 человек. Многих отправили в Москву, в ЧК и там расстреляли.
После того как Семен Каретник уехал в штаб Фрунзе и не вернулся, когда повстанцы поняли, почему их затюрили в эту Евпаторию, песчаную окраину Крыма, где легко перекрыть дороги, — вожаком избрали Алексея Марченко. Он сразу вспомнил слова Льва Голика, сказанные на следующий же день по приходе сюда: «Хлопцы, это мышеловка. Давайте тикать!»
Но куда? Где приказ? Вся надежда была на мудрость Батьки, предусмотрительность Билаша. Они уже вторую неделю молчали. Один за другим летели в Гуляй-Поле гонцы, а ответа нет как нет. Сначала казалось, что Махно плетет какие-то свои хитроумные сети. Потом явилась догадка: вестовых же ловят! Связь специально прервали!
Ночью решено было прорываться домой. Красноармеец ходил в атаки вместе с махновцами. Что же он — совсем скотина? Не станет стрелять братьев-трудящихся!
— Так? — резким тенорком спросил Алексей Марченко. Узкое нервное лицо его, даже залысины посерели.
Тонкие губы плотно сжаты. Все не раз видели, как он отчаянно рубится в кавалерийских атаках, слышали, как едко и умно критикует начальников. Потому и назвали его, язвительного живчика, а не скрытного тугодума Петра Петренко.
— Так, так, — согласились командиры, понимая всю опасность, может, даже гибельность предстоящего рейда. Подобное никто еще в истории войн не предпринимал. Ведь весь Крым запружен победителями Врангеля!
В предрассветном холодном тумане махновцы выкатились из Евпатории. Конный полк красных, что стоял там, и не пикнул. Караульные разъезды, встреченные по дороге на север, сдавались без шума. Иных частей пока не было видно, и повстанцы на рысях уходили подальше от неприютного Черного моря. Их колонна растянулась на три версты.
Узнав об этом, возмущенный Фрунзе отчитывал командарма 4-й Лазаревича: «Мне не понятно, почему вы отложили операцию на утро 27 ноября… Приказываю действовать со всей решительностью и беспощадностью».
Вскоре махновцы столкнулись с конной бригадой, что шла их ловить.
— Дай залп поверх голов, — прикоснувшись к шапке, велел Марченко командиру пулеметного полка Петренко. — Не пропустят — робым грязь!
Грохот двухсот пулеметов ошеломил кавалеристов, и они не стали упрямиться. Более того, показали секретный приказ. «Требование РВС Южфронта, предъявленное 23.Х1 командующему Повстанческой армией Махно о расформировании партизанских отрядов, производящих бесчинства, им не выполнено», — читал Алексей. Он не знал, что это ложь. Никто Батьке ничего не предъявлял. Фрунзе писал: «Вместо этого Махно открыто выступил против Советской власти». «Брехня! — догадался Марченко. — Не мог Батько предать нас. Я знаю его пятнадцать лет. Не мог!»
То, что было дальше в приказе, не оставляло никаких сомнений: «Войскам фронта считать Махно и все его отряды врагами Советской республики и Революции». Кровь ударила в лицо Алексею. «Хай Махно такой-сякой. А мы-то причем? — подумал он в ярости. — Бесчинств у нас нет. Мы честно сражались, положили в Крыму тысячи хлопцев! Ради какого же хрена? Ах вы ж, скоты-властители!»
Познакомив своих командиров с этим тайным объявлением войны, Марченко сказал:
— Так вероломно поступали только монгольские ханы. Что нам остается? При встрече с противником высылаем вперед часть пленных красноармейцев с ультиматумом: пропустить нас. Иначе остальным — крышка!
Наступила тревожная ночь. Идти дальше или остановиться? До перешейков еще далеко, по темноте не успеть, и люди валятся от усталости. Решили прикорнуть в селении Айбар. Что будет, то и будет. Только расположились, как прискакал разведчик:
— Конница на подходе!
— Разворачиваются в лаву? — спросил Марченко.
— Нет, пока колонна.
— Значит, шутят.
Это шла пятая кавдивизия. Пулеметный полк дал предупреждающий залп. Казаки явно не горели желанием сложить головы по-глупому и, покричав, укатили к теплому жилью.
На следующий день махновцы встретили седьмую, затем девятую дивизии, где много было знакомых, и никто не хотел колотить друг друга. Тем более, что повстанцы предъявили ультиматум: перед боем пленных расстреляем!
Дальше стояла бригада 52-й дивизии, с которой недавно форсировали Сиваш, мерзли на гнилых берегах. По старой дружбе Алексею Марченко втихую дали армейский пропуск и сообщили секретный пароль для прохода через Турецкий вал. Потом попался батальон латышского полка, который легко взяли в плен.
Лишь у Юшуньских позиций махновцев не пропустили, встретили плотным огнем. Но дорога была знакомая. Группа свернула к озерам и ночью же выскочила к Сивашу. Тут разделились. Часть повстанцев, чтобы не рисковать, пошла через Гнилое море. Другие — к Турецкому валу, где предъявили пропуск и назвали пароль. Их не задержали. А впереди уж была вольная степь-матушка! Так казалось на радостях.
Поджидая своих, что еще не одолели Сиваш, Марченко стоял на берегу со Львом Голиком.
>1. -» Вот и всё, Алеха, — сказал разведчик. — Теперь домой!
— Так-то оно так, да куда путь держать? Можно на восток, в Бердянск. А можно…
Тихо падал пушистый снежок, и, поскрипывая, к ним шел Петр Петренко.
— О чем толкуете?
— Да вот ломаем голову: куда двигать? — отвечал Голик.
— Только на север! Железную дорогу Москва — Симферополь крепко стерегут. Не проскочим незамеченными. Хвост у нас длинный. Уцепятся и загрызут.
— А не лучше ли разделиться, как это Батько всегда делал? — засомневался Лев.
— На север так на север, — быстро согласился Марченко. Он считал себя хожалым волком, обвел вокруг пальца советских полководцев, а всё на вторых, третьих ролях. Ну кто такой Батько? На коне сидеть не может по-кавалерийски. Подумаешь, стратег!
Между тем Фрунзе (он был тогда в Москве), узнав о случившемся, рассвирепел. Как же так? Разгромили Врангеля с его регулярным войском, а каких-то бандитов не одолеем! Сначала ускользнул Махно, за ним и Крымская группа. Ни в коем разе нельзя допустить, чтобы они соединились. Все виновные немедленно будут преданы суду военного трибунала! Где комиссары? Проглотили языки? Нужно смешать с грязью бандитское отродье! Куда оно бежит? Конечно, на север. Там нет наших войск и корма для лошадей вдосталь.
На перехват группы Марченко срочно кинули из Мелитополя дивизию Семена Тимошенко. Ему сообщили, что бандиты взяли в плен целый полк и скорее всего вышлют красноармейцев для переговоров, как это было в Крыму.
— Гляди мне. Никаких уступок! — потребовал Буденный. — Башку оторву!
— Но-о… махновцы перебьют же оставшихся, — возразил Тимошенко.
— Ты слухай, пока есть чем слухать! — пригрозил будущий маршал будущему же маршалу.
Для перехвата повстанцев отрядили еще три свежие дивизии, не воевавшие в Крыму. Их комиссары распустили слух: «бандиты» награбили кучи добра, везут шубы, золото, вино, ковры, и красноармейцы, понятно, были не прочь поживиться за счет анархов, хоть малость какую ухватить на бедность.
Ни о чем подобном не подозревая, группа Марченко катила по заснеженным полям навстречу своей гибели.
Захарий Клешня на Врангеля не ходил. «Хай бьються з бароном наши гэройи, — рассудил. — Мэни и тут добрэ». Но вскоре пришлось бежать вместе с Батькой из Гуляй-Поля, снова скитаться, мерзнуть. Зима выдалась суровой. Они отскочили далеченько, почти к Юзово. Там сгребали мелкие отряды, приводили себя в порядок, иногда постреливали. Каратели примолкли, вроде даже подались куда-то. Может, ловить повстанцев, что, по слухам, вырвались из Крыма? Как бы там ни было, но, пользуясь затишьем, войско Махно помаленьку продвигалось к родным местам.
— Скажить, ротный, — обратился к Захарию молодой боец Середа. В темноте они ехали рядом на тачанке. — Против кого мы воюем? Врангэля ж нэма!
— У каждого, сынок, своя рана, своя обида. Для примеру, есть у вас свыня?
— Нэма.
— А дэ дилась?
— Продотряд забрав.
— Так. А кони е?
— А як же. Махно дав. А наших красни взялы.
— Та-ак, брата твого нэ вбывалы?
— Не-е.
— А в ями з говном ты сыдив, Сэрэда, колы рядом кавалеристы скакають?
— Не, ще не.
— То-то же, парень. Посидишь в говне — узнаешь, за шо воюем, — вступил в разговор ездовой Михаил, бородатый увалень без правого глаза. Бричка жестко переваливалась на колдобинах.
— А ще скажить, — приставал Середа, прикуривая и кончиком языка ощупывая волосешки на верхней губе. — Шо то за басурманы?
— Слухай. Украйинци та й кацапы нэ хочуть з намы воювать, — веско отвечал ротный. — Комиссары прывэзлы сюда мадьяр, латышив и басурман.
— А яки воны? Страшни?
— Люды як люды. Страшна йих дурь, — разъяснял Захарий. — Сказалы йим, шо мы бандиты — вирять. Свого ума нэма — одни идэйи.
К тачанке подъехал на коне командир их полка Харлампий Общий, татарин.
— Впереди село Комарь, — сказал ротному. — Под бугром остановка. Понял? Жды прыказ, — и ускакал.
Через некоторое время послышалось:
— Стой! Стой!
Клешня спрыгнул на снег, поправил упряжь, приласкал лошадей и, поскрипывая, пошел узнать, в чем дело. Уже наметился рассвет, и холм справа выделялся темным крутым пузом. Конные, что были в авангарде, негромко переговаривались:
— Их там полное село. Как селедок в бочке! Киргизы какие-то. Чего припёрли к нам?
— Пощекочем! — усмехнулся дядя, звеня саблей. — Ох, и пощекочем!
Полк хоронился за увалом и еще прокрался вперед. Захарий подбодрил своих на тачанках, проверил замок пулемета, наличие лент, сказал Середе:
— Не бойся, сынок. Дрожишь?
; — Справлюсь я, — буркнул хлопец.
— А то ось бачыш! — и ротный показал красный от холода кулак. За холмом хлопнул выстрел. Ездовой Михаил выпрямил спину. Всадники дернулись и устремились к селу. За ними гуськом покатили тачанки. Вот уж зачернели деревья вдоль речки, улица, запруженная чужими военными. Видимо, они только собрались в поход. Клешня привычно припал к зеленому щитку «максима». Улица все ближе, ближе. Летевшие первыми кавалеристы с голыми клинками юркнули за хаты.
— Левее бери! — рыкнул ротный ездовому, и прибитый к сиденью пулемет застучал. Пешие, конные киргизы, или кто они там, крутились, поднимали руки, падали. Их били со всех сторон, и вскоре улица была устлана трупами. Ни пройти, ни проехать. Одиночки бежали к речке, их настигали сабли. Других вытаскивали из погребов, с чердаков. Захарий оглянулся и замер. По щекам Середы, по чуть пробившимся усикам стекали слезы.
— Э-эх ты! — выдохнул ротный. — Басурманов жалеешь. А они тебя, думаешь, пощадили бы? Шо йим тут надо?
— Жа-алко, — всхлипнул хлопец. — Лю-юды ж, Заххарий Петрович!
Тот достал из-под одеяла, которым была застлана тачанка, бутылку самогона.
— Счас уже можно. На, дёрни, дурачок.
Середа закашлялся. Слезы еще пуще побежали по щекам.
— Молокосос! — хмыкнул ездовой Михаил. — А мий глаз тоби нэ жалко? Бачыш, яка яма. Ану дай сюда горилку, ротный!
За каких-нибудь полчаса Заволжской бригады красных не стало. Пленных, около двухсот, раздели, закрыли в сарае. Иных, кто пожелал, махновцы взяли с собой. До Гуляй-Поля было уже рукой подать, и решили отбить его, чтоб поддержать народ морально. Клешня, однако, поосторожничал, остался с Батькой, который со штабом затаборился в Старом Кременчике. Не сразу, конечно. Запутывая следы, дали добрый крюк по другим селам и только потом осели. По пути поймали красных стрелков из карательного батальона.
— У нас паника! — говорили они. — Очумелые джигиты, что чудом вырвались из Комаря, бормочут: «Массая Махно, массая Махно». А мы теперь даже в разведку боимся ходить.
В Старом Кременчике собрался многолюдный митинг. Захарий со своим молодым помощником Середой и ездовым Михаилом толклись в толпе, когда донесся шум:
— Крымчане идут! Крымчане!
Их давно ждали. Это какое же подкрепление! И вот оно вкатывается в село. Клешня смотрел и не верил своим глазам. У него даже сердце зашлось: из десяти тысяч кавалерии, пехоты на тачанках… Шо ж цэ такэ? Вернулась жалкая кучка, не более двух эскадронов. Едри ж твою маму! А где же остальные? Ушли в Гуляй-Поле? Разбежались по хатам, юбки дергать?
Все шушукались, ничего не понимая. На свежесколоченную трибуну поднялся худой, вроде с креста снятый Алексей Марченко. Сейчас он всё разъяснит. «Постой, а дэ ж йих командующий Сэмэн Карэтнык?» — недоумевал Захарий.
— Мы раздолбали Врангеля вместе с красными! — начал Марченко, выдыхая пар. — И что вы думаете, нам спасибо сказали? А дулю не хотите! Окружили в Крыму, як врагов! Чтобы прорваться, мы дали залп из двухсот «Люйсов». Красноармейцы растерялись и пропустили. Не раз так было. С боями вышли из Крыма. Направились домой, усталые, кони голодные. Под Тимашовкой попали в новое кольцо, бились до последнего патрона. Покосим одних, а тут свежие летят. Еле вырвались. Кто остался… вот, привел сюда.
— Где Семен Каретник? — спросили из толпы.
— Не знаю. Уехал в штаб Фрунзе и пропал с охраной.
— А Голик дэ, контрразведчик?
— У Левы сердце лопнуло от горя! — Марченко, не таясь, смахивал слезы.
Клешня стоял неподалеку от трибуны и видел Батьку. На нем лица не было. Казалось, он стал еще меньше. Ай-я-яй, такой погром! Лучших хлопцев словно корова языком слизала. И за что же бились? За власть комиссаров! «Хай бы воны сами сдохлы, бандюгы! — молча возмущался Захарий. — Хорошо, я туда нэ влиз. Прямо Бог спас. А шо ж робыть? Быться з Южным фронтом? Та народ же з намы. А шо народ? Так Батько ж е! Хай думае!»
Нестор Иванович поднял руку. Толпа затаила дыхание. Что он теперь скажет?
— Холодно нам… такое слышать, и зима — не время для войны. А шо робыть? Разбежаться по хатам? Комиссары того и ждут. Вот мне дали приказ начальника тыла четвертой армии какого-то Грюнштейна, — Батько потряс листок бумаги. Голос уже звенел. — Это наши сорвали со столба. Послухайте, что он, сволочь, пишет: «Всем, знающим о месте пребывания махновцев, под страхом расстрела доносить об этом. Кто окажет помощь повстанцам, подлежит немедленному расстрелу». Чулы? Каждого из вас уже ловят, як бешену собаку! Мы для них не люди. Так кто же они для нас? Смерть комиссарам!
— Смерть! Смерть! — эхом отозвалась толпа.
Утром объявили, что начальником кавалерии на совете избрали Алексея Марченко, а Петра Петренко — вожаком пехоты на тачанках. Армия двинулась на юг, чтобы соединиться с крупным отрядом лихого Трофима Вдовыченко. Вслед прилетела радостная весть: Гуляй-Поле опять наше! Несмотря на огонь бронепоездов, там изрублено более тысячи красных. А еще две сдались в плен, и основные силы повстанцев идут к Батьке. Все встретились в Ново-Спасовке, на родине Билаша, Куриленко, Вдовыченко. По пути был захвачен обоз второй конармии: обмундирование, патроны, сабли, седла.
Отдохнуть, однако, не пришлось. Среди ночи роту Захария Клешни подняли. Она влилась в поток, который, как всегда на рассвете, атаковал красный Бердянск. Въезжали туда по кладбищенскому спуску. Деревья стояли в инее, а дальше, на горизонте, угадывалось Азовское море.
— Ты був тут? — усмехаясь в усы, спросил ротный Середу.
— Николы в жизни!
— От бачыш. А кажуть, война — то бида. Брэхня. Есть и польза. Жалко, шо зима, а то покупалысь бы хоть раз, як господа!
Клешня вспомнил жену Олю, ребятишек. Как они там, в Рождественке? Не горюют? Хорошо бы приехать сюда летом, по-мирному расположиться на теплом бережку, забрести в море. Э-эх, судьба-дура!
Из-за ближайших домов застрекотал пулемет. Захарий припал к щитку. Тачанка прижалась к забору. Откуда били? Не понять. Пули свистели над ухом. Вроде с чердака лупят, справа. Клешня отвязал гранату, сказал по-крестьянски деловито:
— Ану, пишлы, — соскочил на землю и юркнул в подворотню. За ним протиснулись Середа и ездовой Михаил. Когда затутукало снова, близко, они определили, где сидит пулеметчик. Ротный кинул фанату на крышу. От взрыва посыпалась черепица, и всё стихло.
— От бачыш, — заметил Клешня. — Шо город, шо сэло — однэ и тэ ж. Люды скризь мягки. Бах — и нэма.
Бердянск был взят. На площади собрали митинг. Говорили то да сё. Захарию запомнилось, как вывели знакомого. Шустрый такой, глазастый. Кажется, Семен Миргородский. Офабил кооператив.
— С такими разговор короткий, — объявил Батько. — К стенке!
Давнишнего махновца, даже бывшего члена совета армии, отвели к дому, поставили между дверью и окном. Бабахнули из нагана.
В Москве Фрунзе встречали как героя.
— Знаете ли, батенька, — сказал ему Ленин, усаживая в кожаное кресло, — что разгром барона Врангеля — величайшая победа гражданской войны? Поздравляю! Теперь уж развернемся. Надеюсь, что вы как командующий войсками Украины и Крыма жалких-то разбойничков усмирите быстро?
— Конечно, Владимир Ильич.
— Уверены? Весь юг России бурлит.
— На все сто!
Лестные слова услышал Михаил Васильевич и от Троцкого, и от главкома Каменева. Досадной занозой все же бередил душу этот бандит Махно. Ускользнул, паршивец, из гнусного Гуляй-Поля и Крымскую группу хотел спасти. Не удалось. Ничего у него не выйдет!
Приехав на Украину, Фрунзе издал приказ:
5декабря 1920 г. Харьков.
Южному фронту поставлена задача в кратчайший срок окончательно ликвидировать махновщину, дабы можно было приступить к советскому строительству и проведению продовольственной кампании.
Я решил концентрическим наступлением с северо-запада, севера и востока прижать остатки махновских отрядов к Азовскому морю и беспощадно уничтожить.
На повстанцев были брошены сводная курсантская и 42-я стрелковые, пятая, седьмая, девятая и вторая Донская кавалерийские дивизии, Интернациональная кавбригада. Это не считая тыловых частей, что плотным полукольцом, «в шахматном порядке» окружали азовское побережье. Михаил Васильевич полагал, что из такой западни мышь не проскочит незамеченной!
После митинга в Бердянске к Батьке подошел Лев Зиньковский.
— Мои люди разнюхали: со всех сторон сунут красные.
— А что ж они не наступают? — спросил Нестор Иванович, опираясь на палку.
— Эта материя моим старушкам с инвалидами не по зубам.
Стояли в холле гостиницы, ждали обед.
— Мы же хотим листовку размножить «Черная измена большевиков». Быстро не успеем, Батько, — забеспокоился Петр Аршинов.
— Надо срочно уходить, — заметил начальник штаба Виктор Билаш.
— Пообедаем и ноги в руки, — поддержал его Василий Куриленко, помощник командующего.
— Наши с тобой ноги только в руках и носить, — усмехнулся Махно. Раны зажили, но беспокоили. — Добре. В два часа отправляемся на Ново-Спасовку. Давай приказ, Виктор Федорович.
Первыми во всех направлениях были высланы военные разведчики. Им велели задерживать любого, пешего или конного, старого и малого, кто идет в сторону противника, и красное командование еще сутки считало, что махновцы пьют вино и грабят Бердянск. Это заблуждение особо не повлияло на ход операции. Далеко уйти повстанцам все равно не удалось. Но начальники карательных дивизий, обнаружив ошибку, засомневались в успехе. Тем более что из Ново-Спасовки махновцы тоже снялись и были обнаружены лишь у Андреевки — большого села на северо-востоке. Тут перед рассветом и закипел бой.
Начало его Василий Данилов не застал. Он хоть теперь и член штаба армии, как сам шутил — «большая шишка», но находился в обозе, поближе к своим снабженцам. Где-то впереди уже вовсю стреляли, когда подводы с патронами, снарядами вкатывались в село. За ними двигались лазарет, сторожевой отряд и разведчики Кочубея-Лонцова. Всех махновцев было до трех тысяч. «Маловато, — считал Василий. — Но зато в плен нас не берут! Значит, выскочим. На тот свет или на этот — воно покаже, як Батько каже».
Данилов побывал на передовой и убедился: увы, сейчас им не проскользнуть. Красные уперлись лбами, секут из пулеметов каждый кустик за селом. Нет, не выскочить из этого, тройным узлом завязанного мешка. Однако и радость есть. Василию показали две новенькие пушки, захваченные в ночной атаке. Хороший подарок артдивизиону.
Каратели маячили на горизонте, не решаясь нападать. А зачем подставлять грудь, когда война закончена? Эти придурковатые махновцы и так никуда не денутся. Пусть попляшут под обстрелом! Снаряды рвались на улице, в огородах. Еще и декабрьское, скупое солнце, как на грех, выглянуло из-за туч и не собиралось прятаться. Идя в штаб, Василий погрозил ему пальцем:
— Имей же совесть! А-а, понимаю. Ты тоже красное!
— Здоров, Данилов! — услышал он и увидел Клешню. — Шо ты, Вася, на столб показуешь?
— Какой столб?
— Та оцэй же, телеграфный. Слухай, а як ток идэ?
— Тебе, Захар, что, делать нечего?
— Готовлюсь к бою. Пулемет в порядке. А ты ответь, шишка. Хлопци интэрэсуються.
— Ток, говоришь, — Данилов сквасил недоуменную мину. — По проводам же идет.
— Э-э, то жилизяка, — возразил Клешня. — Вона ж твэрда. Куда тому току просунуться?
— Он внутри, а провода как трубочки, — объяснил Данилов. — По ним и катится ток. Понял?
Клешня усмехнулся лукаво.
— Оцэ спасибо. Набрався ума. Можно и в бой.
Уже отойдя порядочно, Захарий остановился.
— А трубок нэма. Мы шукалы!
Василий тоже обернулся, выкинул указательный палец:
— Они очень тоненькие. Как новорожденные гниды!
В каменном доме с крыльцом, где был штаб, командиры уже пообедали, пили компот.
— Чего ж сидеть? — спросил Батько. — Есть еще предложения?
По его бодрому тону каждый почувствовал, что всё трын-трава. Нестор Иванович вроде вообще не ведает страха. Что за человек? Ненормальный? Или железный, током напитанный?
— Повторяю, надо бить на юг, — заговорил Виктор Билаш, в штатском, аккуратно подстриженный.
— А я считаю, на север! — возразил Федор Щусь, обвешанный оружием. — Шо нам делать на том юге? Ну прорвемся. А дальше? Снова в Бердянск?
— Вдоль родного моря пойдём, — настаивал Билаш. — Главное сейчас — вырваться!
— Подождем ночи, я думаю, — тенорком заявил первый кавалерист Алексей Марченко. — Посветлу мы уже прорывались под Тимошовкой. То гибель!
Слушая его, Петр Петренко тяжело вздохнул. Они оба, крепко битые, напряженно ждали: как же поступит Батько, какой еще урок преподнесет? Обстановка-то аховская. Хуже некуда!
— А ты что надулся, Василий? — обратился Нестор Иванович к своему помощнику и другу по несчастью Куриленко. Тот пошевелил пятерней светлый чуб, потер широкую грудь. В стратегии он был не силен, вот в рубке — сокол. Сказал:
— Алеха прав. Ночь для нас — мать родная.
В ограде грохнуло, посыпались стекла. Все сидели, не шевелясь. Лишь Данилов уронил кружку, и она, тарахтя, запрыгала под столом. Из соседней комнаты выглянула Галина, за ней — испуганный хозяин.
— Закрой дверь! — рыкнул Махно. — Та-ак, хлопцы. Идем на юг.
Билаш выразительно посмотрел на командиров широко поставленными черными глазами.
— Но не для прорыва, — продолжал Батько. — А для пущего обмана, и только!
Он опять умолк, словно давая возможность каждому вникнуть в это коварное предложение.
— Для какого обмана? — не вытерпел Данилов. Непревзойденный снабженец слабо разбирался в боевых тонкостях.
— Ты, Вася, подними кружку и нюхни, нет ли там чего, — усмехнулся Нестор Иванович. Данилов нравился ему всегдашним юмором и оптимизмом. — А потом… потом обеспечь побольше снарядного грохота в южном направлении. Понял?
Василий поставил кружку на стол и закивал.
— А куда пойдем ночью, — вел далее Махно, — это нам подскажет Лева. Твои калеки да бабы спят или работают?
— Шуронём их, Батько, — пробасил Зиньковский. — Они’ у меня всегда по стойке смирно!
— Вот и добре. Хай глянут. Может, где смена частей будет или померзнут краснож… Слышь? Уйдут погреться, зазеваются.
— Пронюхаем, Батько…
— А ты, Петренко, поднимай свою пехоту на юго-восток. Дразните их до темноты. Даже за село скачите, чтоб поверили нам. Ясно?
На том совещание закончилось.
Вечером начальнику сорок второй дивизии Николаю Ефимову донесли, что махновцы скапливаются на противоположной — южной околице Андреевки. Готовят прорыв явно там, и артиллерия лупит без умолку.
— Это хорошо. Значит, сможем сменить уставшую сто двадцать шестую бригаду, — решил Ефимов. — Передайте приказ…
В темноте, когда гремел бой на южной окраине, Лев Зиньковский нашел Махно.
— Меняют бригаду, — доложил, потирая руки. — Ту, что ночью сражалась с нами на севере.
— Верные сведения?
— Головой отвечаю.
— Нашо она мне, голая. Пошли еще бабок. Может, липа?
Оказалось, нет. Действительно меняют.
— Вот теперь бьем всем кулаком на север! — приказал Батько Билашу.
Подогретая за день земля, слабый снежок курились туманом. Он поднимался все выше, и в этом молоке повстанцы, сломя голову, ринулись на только что занятые позиции свежей бригады. Красноармейцы не успели оглядеться, не имели ориентиров и растерялись. Половина их была постреляна, изрублена. Более тысячи сдались в плен. Дальше та же участь постигла и бригаду кавалеристов.
Вырвавшись из западни и пройдя ночью около сорока верст на северо-запад, махновцы достигли села Конские Раздоры. Здесь им почти без боя попали в руки еще и обозы тех дивизий, что окружали Андреевку. Оружие повстанцы взяли себе, остальное раздали крестьянам.
Когда Фрунзе доложили об этом, его чуть кондрашка не хватила. Что за наваждение! Замысел-то был обсосан до мельчайших деталей. А негодяй опять ускользнул. И всё войско увел! Как объяснить Ильичу? Не просто увел — взял пленных, имущество! Жуткий цирк! Победителя, генерала Врангеля… клоуном выставил!
Постучав кулаком по столу, Михаил Васильевич присел и написал сгоряча: «Прорыв на север главных сил Махно, окруженных вплотную нашими войсками в д. Андреевка, удался исключительно благодаря преступному отношению к сторожевой службе бригад…»
Подобная наивность не была свойственна Фрунзе, но гнев и сделанные ранее хвастливые заявления не позволяли серьезно взглянуть на случившееся. Он продолжал: «Всех начальников, независимо от их служебного положения, и их военкомов, виновных в непринятии соответствующих мер и халатном отношении к своим обязанностям, предать суду Ревтрибунала».
Текст этого, явно истерического, приказа передали. Начальника дивизии Николая Ефимова допрашивали и вскоре, по-видимому, не без протекции Троцкого, приняли… слушателем академии Генштаба! Не пострадали и другие.
Кадровые офицеры посмеивались над штатским Фрунзе. Главком Каменев окрестил его последнюю операцию как «Андреевский конфуз». Они оба, однако, и мысли не допускали, что это уже не гражданская война — открытая агрессия. Ведь украинское советское правительство, пусть и приехавшее из Москвы, не имело даже формального договора с Россией о вооруженном вмешательстве.
Ветер швырял в лицо крошки чернозема, смешанного со снегом, и секретарь Совета революционных повстанцев Петр Рыбин, что ехал на штабной тачанке, кутался в одеяло. Но степная метель все равно залепляла глаза, холод лез под полушубок, за шиворот. Бугры, куда они то и дело выкатывались из балок, были голыми, без единого кустика. «Лысина же! Как они тут ютятся?» — удивлялся Петр, с детства привыкший к совсем другим, затишным северным деревням. Там, казалось, и снег помягче, и пурга не столь свирепа. Юг называется. Да тут хуже, чем на полюсе!
Последние дни были кошмарными. Из Конских Раздоров армия повстанцев потянулась в Федоровку, где и заночевала. Перед рассветом, однако, ударили орудия, поднялась паника. Кто наступает, откуда? Бес его разберет. Петр еле успел одеться, вместе с другими бежал по кладбищу, споткнулся, упал на свежую, черную могилку. Потом, правда, затихло. Батько взял инициативу в свои руки. Красных потеснили, даже пленили их полк. Но подоспели новые карательные части с броневиками. Косили уже партизан, которые улепетывали, потеряв знамя, пушки, обоз.
Местность была хорошо знакомая командирам, сёла — свои, коней меняли на ходу, и это позволило оторваться от преследователей. А их, как говорили в штабе, собралось вроде в десять раз больше, чем махновцев. Ринулись в Донбасс. Там чуть отдохнули, покуражились и назад. Опять заняли Федоровку. Но покоя не нашли. Разведка донесла, что ночью будет налет. Штатскому Рыбину казалось — это уже всё, конец! Комиссары озверели, загнали их, обложили, как волков.
Батько и здесь нашел-таки хитроумный выход. Оставил на окраине села захваченную накануне тяжелую гаубичную батарею, приказав бить напропалую.
— А куда целить-то? — спросил бывший фейерверкер.
— Да в белый свет, як в копеечку, — усмехнулся Махно. — Пали, и всё!
Армия же, около трех тысяч конников и тачанок, в ночной метельной кутерьме подалась к Гуляй-Полю, где ее ну никак не ждали. Глупо ведь бежать в район, запруженный карателями. Глупо! На том и строился весь расчет. Вдруг разведчики принесли тревожную весть: навстречу валит Интернациональная бригада.
— Глядите в оба! — потребовал Батько. — Главное — не столкнуться. А там — хай ищут ветра в поле!
Слева, во мгле, действительно мерещилось что-то. Оттуда вынырнули всадники.
— Какая часть? — прокричал передний.
— Свои, товарищ! Пятая Кубанская. Подъезжай!
— Вы сбились. Федорово назад! — попытался объяснить командир венгерского эскадрона, но вмиг был обезоружен. Взяли и его спутников, подвели к Махно.
— Пойдете, мадьяры, с нами? — вроде так спросил он. Ехавший сзади Рыбин точно не расслышал. Венгры, видимо, отказались. Попробуй тут сориентироваться, если минуту назад был убежденным большевиком. Пленных раздели, еще раз спросили:
— Пойдете с нами? Нет?
— Нет! — и их порубили.
А во тьме всё громыхала оставленная для приманки гаубичная батарея. К ней и спешили интернационалисты. Обнаружив обман, они вступили в перестрелку… с буденновской дивизией, что вошла в село с другой стороны!
Повстанцы же убегали из кольца окружения. Под утро в глухом хуторе Левуцкого их разведка заметила дым костра. Там грелись часовые, охранявшие штаб Петроградской бригады красных курсантов. Вспыхнула перестрелка. Когда Петр Рыбин подъехал, пленных уже вывели на улицу. Светало. Кукарекал петух.
— Ты кто? — сидя в тачанке, спрашивал Нестор Иванович одного из пленных, подтянутого, в темно-коричневом френче.
— Я комбриг генерал Мартынов.
— Царский чин, что ли?
— Именно так.
— А почему служишь большевикам?
— Это мой сознательный выбор, — с достоинством отвечал пленный.
— Батько, та цэ ж вин, мабуть, и стрэляв Сэмэна Карэтныка! — воскликнул Алексей Марченко. — Ты, Мартынов, был в Мелитополе?
— Да, был, — не скрывал генерал.
— А кто у вас комиссар? — спросил Алексей.
— Я… Военком бригады Дгэбуадзе, — из толпы пленных выступил здоровяк в белой нательной сорочке. Смотрел исподлобья, сурово.
— Не забыл моего друга Каретника? — Марченко со звоном выхватил саблю из ножен.
— Помню. Достойно вел себя перед смертью. Не суетился. Курил.
Сидевшая рядом с Махно Галина сказала:
— Уймись, Алеша. Это… пленные.
Марченко оглянулся, увидел и Феню Гаенко, что тихо примостилась в тачанке, и промолчал. Вокруг шумели повстанцы. Рыбин не мог понять: чем кремлевские вожди так одурачили многих, даже царского генерала, что он воюет против рабочих и крестьян? Петр подошел к пленным и, ткнув пальцем в грудь Мартынова, задал ему вопрос:
— Вот ты, ваше высокоблагородие, наверно знаешь толк в делах чести? Не то что мы — быдло трудовое. Ответь, за что ты убил командующего Повстанческой армией? Он же ваш союзник, вместе Крым брали!
— Я выполнял приказ! — отрезал генерал.
— А если его дали негодяи? Фрунзе обманом заманил Каретника в Мелитополь. Слышал?
Мартынов не отвечал.
— А ты, военком, знал? — напирал Рыбин. Глядя на него, Галина не могла не признать: «Оцэ пропагандист так пропагандист!»
— Нэт, — буркнул Дгэбуадзе.
— Болваны вы стоеросовые! — подвел итог Рыбин. По характеру он был мирный, рассудительный работник, член общества трезвости. Так бы и возился с металлом в России ли, в Америке, но обостренное чувство правдыматки (и где оно только берется у русского человека?) гнало по миру, втянуло в профсоюзы, в политику. Извалявшись в ее грязи, Рыбин подался к махновцам. Здесь во всяком случае не требовали от него вранья, и он был доволен.
— Надо уходить, Батько, — напомнил Виктор Билаш. — Это же штаб, а их бригада за бугром. Вот-вот налетят!
— Что скажешь, Василевский? — обратился Нестор Иванович к председателю комиссии антимахновских дел, которая одна имела право выносить приговоры.
— Всё ясно. Подлецы! — ответил Григорий.
— А ты какого мнения? — спросил Махно жену, члена комиссии.
— Тут не может быть двух мнений.
Батько поднял и опустил палец. Лев Зиньковский с охраной отвели пленных в огород и расстреляли. Только командиров. Рядовых раздели и отпустили. Потом, кстати, их судили уже свои. Не пощадили.
Обойдя Гуляй-Поле с юга, повстанцы на рысях устремились мимо него, на север. Прошли Рождественку, где Захарий Клешня заскочил на минуту в свою хату, обнял Олю, детей.
— Оставайся, батько! Куда ж ты? — просила жена.
— Не-е, я счас уже ротный. Словят — аминь! — отвечал Захарий, передавая ей золотое кольцо, снятое с генерала. — Ждить. До вэсны буду, — и он запрыгнул на тачанку, помахал на прощанье шапкой.
Их по пятам преследовали шестая дивизия буденновцев, интернационалисты, красные курсанты, войска внутренней службы, заволжские стрелки, богучарские гусары. Но после метели след махновцев затерялся. Местные жители не горели желанием помочь. В той же Рождественке каратели задержали на улице бабу.
— Не видела бандитов? — спросили. А это была Оля.
— Як же, бачыла.
— Куда они пошли?
— А он туда, — и показала совсем не в ту сторону, где скрылся муж.
Повстанцы заночевали в селе Заливном. Штаб решал, что делать дальше. Все были одного мнения: нужно бежать из родного района. Мало того, что в каждой хате стоит красноармеец. Так еще и уши объели селянам. Но куда путь держать?
— Давно не были на правобережье Днепра, — сказал Батько. — Давайте погуляем. Поднимем и те края против тиранов.
— Там же расквартирована почти вся буденновская конармия! — удивился Федор Щусь, неизменный помощник командующего.
— Вот и хорошо. Не ждут! — поддержал Нестора Ивановича Билаш.
— А мосты? — попросил уточнить Алексей Марченко. — Их стерегут пуще глаза.
— Перейдем по льду, — заверил Махно. — Есть у меня один лоцман, если жив. Он все речные пороги ладонями перещупал. А кроме того, вон Лева разнюхал, где-то в тех местах отряд Чалого скрывается. Соединимся. Согласны?
С третьими петухами снялись и покатили по солончаковым буеракам. Нигде не останавливаясь, пересекли железную дорогу Москва — Симферополь и прямиком уже достигли Терновки, что на Днепре. Там Батьку ждал найденный разведчиками лоцман Яков Пивторак.
— Здоров, друг! — сказал ему Нестор Иванович и даже руку пожал. Рыбин еще не слышал, чтобы он так называл кого-нибудь и с любопытством разглядывал незнакомца. Ничего особенного, мужик мужиком: высок, худ, с обвислыми усами. «Значит, раньше отличился или оказал Батьке знатную услугу», — догадался Рыбин. Дальнейший разговор ему был непонятен.
— Жив Ненасытец? — спросил Махно.
— А куды ж вин динэться? — отвечал Пивторак.
— Но Днепр-то замерз.
— А-а, вы про цэ. Дед-порог, единственный, не боится морозов, даже самых лютых. Гремит!
— Выходит, Яша, есть на свете силы, никому не подвластные? — с затаенной надеждой выпытывал Нестор Иванович. Для него это было очень важно. Дороже всего. Оно как бы оправдывало и освящало их почти пропащее дело. Этот же вопрос мучил Махно еще с тех пор, как умер сынишка, первенец, чистейшее существо. Кто виноват? Если есть Бог, разве он допустил бы такое? Или рок превыше всего?
— Есть те силы! — уверенно подтвердил Пивторак, имея в виду провидение.
— Спасибо тебе, лоцман. Ты не только в скалах ориентируешься. Порадуй тогда нас еще: переведешь завтра утром войско на правый берег?
Яков догадывался, что неспроста его разыскали в глухом селе. Но просьба была уж очень заковыриста. Пороги не терпят панибратства. Поодиночке мужики рискуют. А чтобы кони, брички…
— Такого ще никто нэ пробував, — сказал Пивторак. — Ни Станислав — князь, ни татары, ни гэтьманы, ни цари. Цэ трудно, Батько. А для вас… зроблю. Хто скупаеться — нэ обижайтэсь. И сокола бэрить соби.
Рядом с Яковом переминался гнедой жеребец — загляденье!
— Это еще зачем? — удивился Махно. — Наоборот, я перед тобой в долгу.
— Та цэ нэ мий подарок — мэльныка. Помните? Гроши у його вкралы ваши хлопци. Вы йих пострилялы. У нас до-овго помнят, справедливость!
Нестор Иванович покачал головой и усмехнулся в усы.
— Что-то не так? — забеспокоился лоцман.
— Коню нет цены, и слова твои теплые, Яков. Спасибо! Да не привык я к подаркам. Ни от судьбы, ни от людей. Алеша! — подозвал он Марченко. — Ты первый кавалерист. Бери жар-птицу. Когда смогу ездить — вернешь.
В Терновке и затаборились, предварительно проверив берега. Был обнаружен и побит дивизион буденновцев. Пленные рассказали, что неделю тому они окружили отряд Чалого. Повстанцы отстреливались до последнего и все полегли, кроме атамана. Где он делся — неизвестно.
Утром Яков Пивторак повел войско на переправу. Лед был толстый. Но чтобы лошади, тачанки, пушки не провалились на подмывах, эти опасные места ночью укрепили сеном, соломой и тщательно залили водой. Так делали еще запорожские казаки.
Первым для пробы поехал Алексей Марченко на гнедом жеребце. Лоцман запротестовал, перекрестился и хотел сам рисковать, но Махно остудил его:
— Вдруг потонешь. Кто путь укажет?
— Хай будэ так, — согласился Пивторак. — Дэржить дистанцию!
Справа и слева на белой реке возвышались гранитные скалы. Идя рядом с тачанкой Батьки, Яков ласково называл их по именам, словно старых друзей:
— Оцэ бачытэ, Поляк. А то Курочка. Дальше Кобылка.
На правом берегу Нестор Иванович обнял проводника, и они трижды поцеловались. Рыбин уже этому не удивился. Без таких помощников, думалось, от их войска давно остались бы рожки да ножки.
Месяц гонялись мы за Махно, а существенных результатов не достигли. Состояние крайней раздраженности охватывало меня. В течение десяти дней войска фронта разгромили многотысячную регулярную армию Врангеля, а здесь те же части не могут справиться с какой-то бандитской шайкой. Нам было стыдно смотреть друг на друга, с трудом подходил я к аппарату, когда вызывал командующий.
Казалось, вот-вот Махно удастся поймать, но вместо победного рапорта поступали новые неприятные донесения.
С. Буденный. «Пройденный путь».
Выскочив на правобережье, повстанцы устремились на запад, в сторону Умани, по хорошо знакомым местам, где когда-то громили генерала Слащева. Куда он делся, жив ли, эмигрант? 1Нынче доставалось уже буденновцам, которые после Крыма отдыхали, мечтали скорее попасть домой. Махновцев они не опасались. Подумаешь, сбор блатных и шайка нищих! Припрём к первому же бугру и заколбасим! Так полагал и лихой начдив Пархоменко.
Однако на совещании в штабе армии Буденный был вне себя:
— Знаменитые сабли, понимаешь, а ушами хлопаете! Гниду не можете поймать! Скакнула она к второй бригаде. И что же? — Семен Михайлович от возмущения даже не сдержал отрыжку. — Антимонии с подлецом развели, дипломаты… в три креста и полумесяца… Махно атаковал. Бригада засверкала пятками, потеряла всю артиллерию, обоз. А бандит вошел в Ново-Украинку. Под красным флагом. Военком-дура обрадовался. И что же? Выкосили целый полк! Советскую власть к черту разогнали! Это что за бардачина? — грозно спрашивал командарм.
— Не вожаки у нас, а вертозадые б…! — подпевал ему член реввоенсовета Ворошилов, с которым Семен Михайлович жил теперь семьями в конфискованном особняке.
— Я вцеплюсь в гада мертвой хваткой! — вызвался Пархоменко. На его груди поблескивали два ордена Красного Знамени. — От меня этот Махно не уйдет. Куда он сбежал? В звенигородские леса? Там ему и аминь!
Александр Пархоменко, подобно Нестору, закончив два класса приходской школы, погонял волов у богатых сельчан. Потом дед взял его в Луганск, где внук продавал воду по копейке ведро, был дворником, слугой, поступил на завод, познакомился с рабочим-клепалыциком Климом Ворошиловым. Тот рекомендовал его в партию большевиков и научил стрелять из револьвера. Начались стычки с полицией, разбой, аресты, и загремела революция. Тут уж хваткий Александр почувствовал себя в родной стихии. Вместе со старшим братом Иваном организовал красную гвардию в Луганске, был ранен, стал особоуполномоченным штаба армии, которую возглавлял в Царицыне Ворошилов. Приехал Сталин и назначил Пархоменко в ЧК при реввоенсовете. Александр Яковлевич позже громил атамана Григорьева и лично застрелил анархиста дедушку Максюту. А тут позор: брат Иван изменил! И подался не куда-нибудь, а в шайку Махно!
Об этом узнали в первой конной, где служил теперь Пархоменко. Сами же казачки едут с барахлом, с коврами по седлам, суки, а поглядывают на него свысока. Он сорвался (и раньше не очень сдержан был), начал бухать из нагана, прострелил щеку гонористому комиссару и попал под трибунал. Ворошилов, друг ситцевый, сразу отвернулся. Дали вышку! А выручил кто? Сталин! Мало того, вскоре порекомендовал Александра Яковлевича… начальником дивизии! Так-то. И не ошибся. Дюжий Пархоменко и командовать умел, и, бывало, одним махом разваливал кадета от ключицы до седла. Не зря же любят начдива в эскадронах: весел, широк душой и телом, весь — порыв!
До него доходили слухи, что и Махно не лыком шит, увертлив, хитер, как лис. Но кто говорил? Битые! У страха глаза велики, вот и разводят антимонии. Пархоменко улыбался, идя по следу повстанцев. Нашли тоже мне героя! Соплёй перешибем!
Тем временем махновцы угодили в расположение отдельного корпуса Червоных казаков. Те ринулись навстречу. Играли трубы, сверкали сабли, и не было никакого сомнения, что, увидев разъяренную лаву, «воровской сброд» в панике побежит. Но повстанцы не торопясь начали обтекать фланги конницы и сечь ее из пулеметов. Червонные казаки дрогнули, побросали «зброю», многие остались лежать на поле. Урок был суровый, и они держались теперь на расстоянии, надеялись на внезапный удар дивизии Пархоменко, что катила с юга.
Разведка донесла ему: Махно спал в Лукашовке. Александр Яковлевич приказал бригадам срочно сняться и растребушить логово. Сам же, как всегда, отправился чуть пораньше вместе с командующим группой войск Богенгардом, комиссаром дивизии Сушкиным, начальником штаба Мурзиным и начальником связи Сергеевым. Падал пушистый снежок, лошади бежали резво. Только наступил новый, 1921 год, и настроение было приподнятое. Широкоплечий Пархоменко на голову возвышался над остальными. Ему вдруг вспомнился забавный случай.
— Люблю ехать впереди, — громко начал он, усмехаясь. — Когда брали Перекоп, мы вот так же вкатились в одно село. Глядим, от церкви улепетывают верующие, какие-то всадники. Что такое? Дед повстречался: «Хлопцы, да тут же белые!» А со мной штаб лишь и разведка. Гори оно огнем! Кинулись мы в рубку. Закончили, возвращаемся. Глядь — невеста! Вся в белом, но… с поднятыми руками. Сбоку офицер, тоже сдается. А дружки несут над ними золотой венец. Сзади же… наши хлопцы со штыками. Ну, хохоту было! Поистине, любовь слепа — целую дивизию не заметили!
— И куда же вы их, молодоженов? — весело поинтересовался Богенгард, сидевший рядом. Начдив не успел ответить, как из леска, что темнел невдалеке, показались всадники.
— Кто такие? — окликнул их Пархоменко.
— Свои! — озвался усатый, что ехал первым. Это был Алексей Марченко. Неожиданная встреча его не смутила.
— Назовите часть! — повысил голос начдив.
— Восьмая кавдивизия товарища Примакова, — последовал ответ, и всадники стали обтекать тачанки. Богенгарду еще третьего дня сообщили, что червонные казаки преследуют махновцев. Значит, всё в порядке.
— А вы кто? — в свою очередь спросил Марченко.
— Я командующий группой войск по борьбе с бандитами, — заявил Богенгард.
| — Тогда не шевелитесь! — Алексей выхватил револьвер, а его адъютант запрыгнул в тачанку, выбросил на снег кучера и схватил вожжи. В мгновение ока красных командиров разоружили и поехали к леску. Пархоменко всё надеялся, что вот-вот выручат. Дивизия же сзади, рядом! Потому он и не сопротивлялся.
Снег все падал, а из-за темных деревьев показались основные силы махновцев. Тачанки с пленными подкатили к штабу.
— Вот, Батько, сцапали красных генералов! — доложил Марченко. Он не мог забыть, как буденновцы гнали, рубили их под Тимошовкой после выхода из Крыма.
— Где они зазевались?
— Да тут рядом, на дороге.
— Ану, подойдите сюда! — услышал Пархоменко высокий звенящий голос и понял, что это и есть сам Махно.
Начдив спрыгнул на заснеженную землю и смело шагнул к тачанке Батьки.
— Здоров был, Нестор! Я Александр Пархоменко.
Сидящий на ковре вовсе не казался малого роста. Он молча, пристально смотрел на красного командира. Под боком куталась в платок, видимо, любовница или жена (то была Галина).
— Ты застрелил дедушку Максюту, славного анархиста. В Екатеринославе. Помнишь? — не здороваясь, спросил Махно. Его окружала охранная сотня. Мимо них ехали и ехали повстанцы, устало поглядывая то на Батьку, то на пленных. Впереди послышалась пальба.
— Да, чего скрывать. Я его кончил, — отвечал Пархоменко. — Но и мой старший брат — анархист. Вот, письмо прислал.
Начдив добыл из внутреннего кармана листок, но видя, что Махно не проявляет к нему интереса, спрятал назад и продолжал:
— Иван счас в рядах антоновщины, в России. У них там вроде тоже сила собралась. Зовет к себе, гори оно огнем!
— Ну, и что же? — не понял Батько. Его беспокоила нешуточная перестрелка за леском. Вспомнилось, что Иван Пархоменко самовольно увел свой отряд сразу же, как узнал о союзе повстанцев с Советской властью. «Этот такой же хамелеон», — подумалось.
— Могу вам пригодиться, — с достоинством сказал Александр Яковлевич. Он все еще надеялся на внезапный прорыв своих, и надо было выиграть время. Богенгард и комиссар дивизии Сушкин с презрением глядели на Пархоменко. Вот тебе и дважды орденоносец!
Отправляясь в этот рейд, махновцы послали к буденновцам тайных агентов. Комбриг Маслаков ответил, что готов к выступлению против комиссаров. Но нужно подождать, пока и другие командиры созреют. Потому Батько так пристально разглядывал Пархоменко. Все-таки свой, украинец.
А впереди за леском уже вовсю гремели пулеметы. Это полк выздоровевшего Фомы Кожина взял в оборот авангард красной дивизии. Куда там клонится чаша весов? Вдруг в осатанении прорвутся, чтоб выручить начальство!
Махно поднял и опустил указательный палец. Пленных тут же перебили.
Пока все это происходило, сзади подоспели червонные казаки. Отступая, повстанцы вытеснили дивизию Пархоменко из села Бузовки и в который раз попали в полное окружение. По высоким берегам речки Горный Тикич засели красноармейцы и перекрыли все выходы. Был как раз тот случай, о котором не уставал повторять Фрунзе: берите их в кольцо и беспощадно уничтожайте! Град пуль и снарядных осколков обрушился на махновцев. И погода — хуже не придумаешь. Снег прекратился, выглянуло солнце. Всё как на ладони!
Сидя в тачанке, что хоронилась за хатой на окраине, Батько подозвал Василия Данилова.
— Видишь ветхий мосток? — спросил совершенно спокойно.
— Ага.
— За ним пулеметы бачыш?
— Ага.
— Так вот, чтоб от них… мокрое место осталось. От пулеметов!
Василий убежал к пушкам. Батько обратился к Марченко:
— Изготовь своих соколов. Полетите во-он туда первыми.
Артиллерийский огонь подавил часть пулеметов, что темнели наверху, и через мосток неудержимо пошла кавалерия. Перепрыгивая через трупы лошадей, кричащих раненых (здесь в суматохе погиб и бессменный адъютант Григорий Василевский), махновцы по гололеду выметнулись наверх, порубили, постреляли ближайшее оцепление и вырвались на простор.
Ошеломленные красные успели захватить лишь хвост армии — под тяжестью орудий мосток рухнул. Лазарет и обоз остались в селе и были в злобе уничтожены.
Спустя три дня повстанцы по льду перешли Днепр и устремились на Полтавщину.
Надо ежедневно в хвости в гриву гнать (и бить, и драть) Главкомаи Фрунзе, чтобы добили и поймали Антоноваи Махно.
Ленин — Солянскому.
Всюду искрились снега: на полях, в балках, по крышам полусонных на вид хат, в опустевших панских поместьях. Аршинову даже не верилось, что где-то еще теплится жизнь. К тому же убаюкивала езда на тачанке. Колеса скрипели, скрипели, словно спрашивали: куда же гоним? Зачем? Зачем? Полулежа на сиденье, Петр Андреевич изредка открывал глаза. Ресницы заиндевели. На обочинах все так же сверкал снег. А сзади, между седыми гривами лошадей, виден был черный Батькин кожух и рука то поднималась, то резко опускалась. «Что-то доказывает Галине Андреевне. Какой неуёмный! — лениво удивлялся Аршинов. — И откуда такие берутся?»
На Полтавщине их пока не беспокоили. Правда, появилась было знакомая восьмая дивизия червонных казаков, срочно переброшенная сюда по железной дороге. Но, имея горький опыт встреч с повстанцами, бой не приняла и вскоре отстала. Впрочем, редактора это мало волновало. Под головой у него покоился чемодан с еще не допечатанным положением «О вольных Советах», кипой газет, листовок и приказов Махно. «Когда же я примусь за них? — беспокоился Петр Андреевич. — Ведь живая история движения. Кровоточащая. Кто ее напишет, кроме меня? Кто?»
Проезжали подслеповатый, весь в сугробах хуторок, и почему-то вспомнился заковыристый матрос. Как же его? Петренко? Нет. Петров? Да нет. Петриченко, вот как! Степан, кажется. Летом встречались где-то в этих краях. «Не матрос я, а военмор!» — уточнял он с детской гордостью. «Что, есть разница?» — усмехнулся Аршинов. «Ну, вы даете, штатские. Огро-омная! Знаешь, как у нас поют? Послухай:
Был в пехоте водоносом, Теперь служит он матросом, Пол-аршинный носит клеш И твердит всегда: «Даешь!»Петр Андреевич заинтересовался, помахал длинными ресницами. Степан продолжал: «Таких шалопаев у нас называют «Иван-мор». А я революцию заварил, с корешами, конечно. Ленин без братвы кто? Всего лишь картавый оратор! Послабее Маруси Никифоровой». — «Ты и ее видел?» — уже удивился Аршинов. Эта встреча многое обещала. Не такой он простак, Петриченко. «Выступала у нас в Кронштадте. Бой-баба! Хм, спроси лучше, кого я не знаю. Старший писарь линкора «Петропавловск», ого-го, многих повидал!» Любопытный малый. Всё выпытывал, отпускник: «А чего вы тут добиваетесь, анархисты? Какие они, вольные Советы?» Аршинов дал ему листовки. «Вот я коммунист тоже, — сказал военмор. — Не большевик, хотя в их партии. Нагляделся тут на продотряды. Разбоем занимаются, последнюю крупу выгребают у стариков. Это и есть комиссаро… держание?» Редактор даже сейчас улыбнулся: «Не держание, а державие». — «Одна сатана!» — осерчал тогда Петриченко. Где он обитает, гонористый крепыш?
Что-то случилось. Войсковая колонна поломалась. К Батькиной тачанке подлетали верховые. Разгоралась пальба. Впереди серела, похоже, насыпь железной дороги и нечто черное изрыгало гром. «Да это же бронепоезд!» — догадался Аршинов. Повстанцы колыхнулись в одну, потом в другую сторону. Рвались снаряды, метались всадники. Заметив среди них Феню Гаенко с наганом в руке, Петр Андреевич покачал головой и понял, что они снова попали в капкан.
Его, штатского, спасало то, что держался поближе к охране Батьки. Вышло это вроде само собой. Когда без вести пропал гравер и наборщик Иосиф Гутман, Аршинов один редактировал листовки, газету «Путь к Свободе» и выпускал их. Потеря такого соратника была бы невосполнимой. Да и печатный станок с набором, что лежал в его тачанке, ценился дороже любой военной амуниции. Потому Махно еще на правобережье приказал начальнику охраны Трояну: «Береги моего учителя, Гаврюша, пуще глаза!»
Заслышав выстрелы бронепоезда и вой осколков, редактор съежился в бричке. Она хоть и без пулемета, но обита железом и оберегала от любой напасти, кроме, конечно, прямого попадания снаряда. Поглядывая на согнутую спину ездового, Петр Андреевич больше всего опасался… не выполнить святой долг — написать историю махновского движения. Кому еще это по силам? Кто был в самой гуще великой борьбы за Свободу?
А Батьке в это время доложили, что они опять окружены. Справа рыщут ''разъезды кавалерийской дивизии, стремящейся отомстить за смерть Пархоменко. Слева налегает сводный отряд Котовского. Впереди же, на крутой насыпи, грохочет бронепоезд.
— Как ускользнуть? — быстро спросил Махно Льва Зиньковского.
— За этой рощей — переезд. Но туда ж не сунешься. Посекут!
Батько кусал нижнюю губу, не сдерживая волнение. Был уверен: оно, прозорливое, подскажет.
— Откуда ты взял, что дивизия Пархоменко? — спросил разведчика.
— А вот удостоверение, — Лев подал листок. — Мои хлопцы захватили их командира взвода.
Нестор Иванович повертел бумагу, почитал, усмехнулся. Перестрелка нарастала.
— Данилова сюда! — приказал.
— Ва-ася! — закрутился на коне Троян. — Кто видел Васю?
— Он вроде там, около пушек.
Снабженца разыскали. Батько подал ему удостоверение.
— На, читай. Ну, еще раз. Внимательно! Понял, кто ты теперь есть?
Василий смотрел с недоумением.
— Гони к бронепоезду и предъяви документ командиру. Скажи, что он дурак! Шмалит по своим. А на самом деле махновцы… во-он там, скажи, где сейчас маячат червонные казаки Котовского.
Данилов расплылся в улыбке. Такая авантюра была ему по душе.
— Понял, Батько. Дайте только шапку со звездой. Если не кокнут по пути, то надуем!
Он уже поднял нагайку, чтобы огреть коня, когда Махно поинтересовался:
— А сёдла какие бывают?
— Хм, твердые и мягкие, — отвечал Василий.
— Ох и пустомеля! Сразу видно, что снабженец. Ляпнешь такое — кинут под поезд. Запомни: седла есть аглицкие, драгунские и казацкие. Понял?
— Я же теперь ахвицер, Батько!
— Ну, лети.
На бронепоезде заметили одинокого всадника, что приближался. Опасности он не представлял, и его не тронули. Данилов поднялся по ступенькам, крича:
— Что ж вы творите, суки! По своим лупите! — и подал удостоверение командиру.
Тот ничего не мог вразуметь.
— Карусель какая-то! Мне же приказали бить по тем, кто рвется к насыпи! — оправдывался он.
— Да то наши! — вскипел Василий. — Ты что, ослеп? А бандиты во-он, видишь. У нас кони устали, даже копыта в крови. Начдив просит тебя шарахнуть по анархии ураганом, пока проскочим переезд.
— А зачем вам туда? — все еще сомневался командир.
— Высшая стратегия. Хрен их разберет! — врал Данилов напропалую. — Начдив у нас друг самого Фрунзе. Лупите!
Пушки бронепоезда ударили по червонным казакам, а махновцы тем временем на рысях переходили железную дорогу. Покачиваясь в тачанке, Аршинов думал: «Вот и порядок. С Батькой — нет, не пропадешь. Жаль, что Алешу Марченко убили. Лучшего кавалериста. Эх, жаль…»
С возмущением узнав об очередном своем конфузе, Фрунзе решил сменить тактику. Лучшие красные охотники обкладывали берлогу хитроумного шатуна Махно, и всё — впустую! Хватит. Теперь вдогонку за ним пускали зверовую стаю — корпус латыша Нестеровича с заданием: «Вцепиться в банду и гнать до полного ее изнеможения, дабы окончательно покончить с главным повстанцем Украины». Летучие отряды создавались также в Киевском и Харьковском военных округах, в первой конной и четвертой армиях!
Нестор же Иванович посоветовался на ходу с командирами и резво повел своих от Полтавы на север, где по слухам базировались два крупных ополчения: Христового и Бутовецкого, посланных сюда раньше. За день по балкам и буеракам преодолели шестьдесят верст и, как обычно, перерезав провода связи, заночевали в селе Борки. Тут-то, кажется, Аршинов и встречался летом с матросом Степаном Петриченко. За ужином Петр Андреевич напомнил об этом Батьке:
— Он служит в крепости Кронштадт. Может, послать туда нашего человека? Пусть поднимают братишек. Чем черт не шутит?
— Кого, например? — заинтересовался Махно.
— Да вот хоть Щуся — тоже военмора.
Тот сидел напротив, подкручивая длинные тонкие усы.
— А что, я тут уже не нужен? — обиделся Федор. Побитое оспой лицо его покраснело.
— Ну почему? — спросил Нестор Иванович, усмехаясь. — Ты только представь себе: раскачать сердце революции — Кронштадт! Во заплясали бы в злобе Троцкий с Лениным.
— Нет, я не военкор, а черномор, — набычился Щусь.
— Да шутим, шутим, — успокоил его Аршинов. — Идея же недурная?
— Ох и фантазеры! — вступил в разговор Леонид Христовой, отряд которого сегодня влился в армию. Атаман был грузен, медлителен, с толстыми губами, обветренными досиня. — Нам бы самим выкрутиться. Чув я, Шуба коло Путивля огрызается. Его еще взять. А там и в Россию махнуть, до Антонова, богатого оружием.
— Толково мыслишь, — одобрил Батько. — Вот за это и выпьем вашего сахарного спирту, хай бы ему бес. Заодно помянем славного кавалериста и друга свободы Алеху Марченко…
Но утром на них навалился корпус Нестеровича. Ему дали подойти поближе, охватили фланги. По центру влупила повстанческая артиллерия. Две красные бригады в панике бежали. Их преследовали верст двадцать. Потом, отдохнув еще ночь в Борках, отправились на поиски отряда Шубы, свежих лошадей, фуража, еды. Каратели держались на почтительном расстоянии.
Разыгралась метель. Ни полушубок, ни валенки не спасали Аршинова. Кутаясь в одеяло на сиденье тачанки, он краем глаза видел, как скрылся во мгле боковой отряд Трофима Вдовыченко. Пусть мечутся теперь красные в поисках Махно! Бывало уже не раз. Это испытанная тактика.
Найти атамана Шубу не удалось, и махновцы завернули в Курскую губернию, богатую лошадьми. Корпус Нестеровича отстал. Плохо одетые и обутые красноармейцы обмораживались, некоторые и замерзали насмерть. Повстанцы же, а их осталось около трех тысяч, попарились в баньках и благодарно угощали хозяев спиртом. Те за чаркой сообщили, что Антонова недавно вроде бы разбили.
В городке Короча, как и в других местах, были раскрыты склады с хлебом, мясом, изъятым продотрядами. Жители всё растащили. Пока суд да дело, обворовали и церковь, унесли золотые подсвечники, а также иконы в серебряных окладах. Верующие со слезами прибежали к Батьке. Он поручил Зиньковскому немедленно разобраться. Вскоре выяснилось, что сотворил это… испытанный командир Харлампий Общий! Его призвали в комиссию антимахновских дел, которую после гибели Григория Василевского возглавляла матушка Галина. Заранее ясно было, что Харлашке не сносить дурной головы. Поэтому ночью он подговорил свой полк, недовольный рейдом в чужие края, и увел его вместе с Захарием Клешней на Украину.
Аршинов же попросил Нестора Ивановича:
— Отпустите меня за границу. Там я спокойно напишу историю нашего движения.
Махно тяжело вздохнул. Столько потерь! Вот и учитель покидает.
— Ну, что ж, — сказал. — Бродячая жизнь не для вас, Петр Андреевич. Поезжайте. Хоронить нас, конечно, рановато. История… впереди. Но пусть мир узнает, какой ценой покупается свобода… Лева! Есть у нас золотишко?
— Припасено, — отвечал Зиньковский.
— Отсыпь редактору пару килограммов. Хватит на издание книги?
— Благодарю. Как же я буду без вас? — сокрушался Аршинов…
Распрощались в Короче и с Петром Рыбиным — секретарем совета, который уехал в Харьков для подпольной работы. Там он позвонил председателю Совнаркома Украины Раковскому и в сердцах, по-рабочему высказал всё, что думает о нем и о Ленине. За то был арестован и расстрелян.
Батько Правда протопал на подвязанных войлоком культях к забору, помочился в снег и прислушался. Кто-то выл. Да так высоко, потом глухо, с тоской и надрывом, что прямо хватал за сердце. «Волк, — определил Правда. — Ишь, сытый. Развелось их. Трупы грызут. Чего ж не хватает? На что жалуется?»
Здесь, под селом Каменкой, уже на Украине, до самого вечера кипел бой. Летучий корпус Нестеровича, хотя и потерял за время преследования повстанцев более двух тысяч штыков и сабель, все равно не отставал. Замерзавшим красноармейцам из Латвии, Заволжья, Литвы внушали, что надо непременно до весны искоренить кулацкое отребье и уголовников Махно. Тех, кто вслух сомневался, ставили к стенке. Наиболее стойким вручали ордена. Большинство же без рвения продолжало привычную военную работу, мстя за гибель товарищей и мечтая скорей попасть домой. Фрунзе пообещал Нестеровичу, который пал духом, сменить его новыми частями, и они появились: вторая, девятая кавалерийские дивизии, пехота, шесть бронепоездов.
Измотались и махновцы. В лазарете батьки Правды, чудом уцелевшем при бегстве из Бузовки, уже не было ни одного медика. Раненых перевязывали тряпками, оставляли в хуторах, поместьях, а то и с липовыми документами направляли в госпитали… красных. Видя это и теряя надежду на успех борьбы, повстанцы все чаще дезертировали. Армия таяла. «Держимся на страхе, — считал Правда. — Куда денешься? Дома словят и прихлопнут. Хорошо, что подвалил к нам свежий отряд Волоха».
Выглянула луна, и в ее неверном свете батько еще послушал волков. Первому подвывали жалобно-просяще или угрожали до жути. И враз умолкли. В тишине калека заметил след падучей звезды, и до слез стало жалко себя. Ну кому нужен без ног? Если завтра все разбегутся — Взвоешь! А ведь жениться хотел, сватался… и напился, дурак. Невеста сбежала. «Где ты, Мотря? — думалось. — Кого обнимаешь, греешь? Свобода! Пошла она волку под хвост. Вон они, вольные, как жалуются!»
В ночи зародились вроде другие звуки. Правда прислушался с тревогой. Разведка поймала кого-то? Не похоже: топот не скорый, осторожный. Батько на всякий случай достал револьвер. Вдруг каратели! Надо хоть предупредить своих. За последние дни хлопцы так ухайдокались, что попадали без сил.
В село по-воровски, тихонько въезжали верховые. По неясным теням Правда определил, что их не больше эскадрона.
— Стой! Палить буду! — крикнул он из-за забора.
— Это свои!
— Назовись!
— Пархоменко я! — зычно озвался кто-то из передних. Конь его прижимался к забору.
— Имя давай! — потребовал Правда.
— Иван я. Не узнаешь? Сосать тебе волчицу!
— Чи з того свиту, чи шо? — не поверил батько, вспоминая, как тот бросил войско, еще когда союз с красными подписали.
— Спите, куры! Ни одного разведчика. Ты кто? — спросил Пархоменко. Правда узнал его по басовитому голосу и назвал себя. Иван спешился, протянул руку через забор. От нее пахло сырой кровью.
— Здоров, полуночник! Всё культыгаешь?
Батько руки не взял, побоялся. Может, Пархоменко приехал мстить за гибель брата? Дернет, бугай, и прибьет.
— Откуда ты взялся?
— Долго рассказывать, — Иван убрал руку.
Тут к ним подошел санитар из лазарета, разбуженный шумом.
— Мотай, Илья, в штаб, — велел ему Правда. — Скажи, приблудился Иван Пархоменко. Хай встречають. Поняв?
Санитар убежал.
— Да ты, Правда, никак струсил? — удивился ночной гость. — На тебя не похоже.
— Поскачешь на костях — задрожишь, — отвечал батько.
— Едем, командир. Спать до смерти охота! — послышались недовольные голоса.
— Не рыпаться, бабахну! — предупредил Правда. — И второе. Меня ж возьмите. Вы шо думаете, без чарки обойдется?
Прибыл дежурный по штабу Лонцов-Кочубей, что когда-то командовал бронепоездом. Улицу перекрыла пулеметная сотня.
— С добром явился, Пархоменко? — спросил Кочубей. — А то у нас разговор короткий!
— С добром.
— Тогда поехали к Батьке.
Заходя в хату, высокий Иван нагнулся, увидел за столом членов штаба. Они вроде еще и не ложились спать. Горели керосиновые лампы, пахло соленьями. Рядом с гостем стал Лев Зиньковский, готовый в любой момент сграбастать его.
— Явился, дезертир! — угрожающе сказал Махно, не поднимаясь. — И сколько же ты хлопцев привел?
— Полуэскадрон.
— Чи не войско! Гаврюша, — обратился Батько к Трояну, — проследи, чтоб развели по хатам, накормили людей и коней. Садись, Иван. Выпей чарку и докладывай.
— Цэ я його пиймав! — улыбнулся Правда, тоже умащиваясь к столу и наливая себе в кружку.
— Слухаем тебя, — Нестор Иванович глядел на Пархоменко по-ястребиному.
Но тот не смутился. Закусывал огурцом и говорил жестким баритоном:
— Союза с кремлевскими диктаторами я не желал и не желаю. Им наша воля, что волчья сиська. Вас тогда приманули, чуть не загрызли. А мы ушли. Подались в Россию. Там тоже хватает обездоленных. В Воронежской губернии набралось у меня до десяти тысяч штыков. А тут слух: какой-то Антонов вздыбился. Гонцов к нему послали. Я от вашего имени действовал, Батько.
— Что-то не верится, — ехидно заметил Кочубей. — Самому, небось, захотелось в гетманы!
— Послухаем, — одернул его Махно. — Продолжай, Иван. Кто такой Антонов?
— Был начальником милиции. Крепкая жила. При царе сидел за идейный разбой, освободила Февральская революция. Но вот беда — эсер, требует Учредительного собрания. Заключили мы с ним лишь военное соглашение. Антонов остался на Тамбовщине, а я пошел назад. Воронежцы заколыхались, особенно зажиточные. Я кинул лозунг: «Каждый имеет право на продукты своего труда».
Им понравилось. Моя группа возросла до тридцати тысяч…
— Ох, и брешешь! — встрял Правда, наливая себе снова в кружку.
Пархоменко покосился на него пренебрежительно и продолжал:
— Комиссары, сосать им волчицу, принишкли. Ненадолго. Пригнали бронепоезда, полевые части. Полная оккупация, как и здесь. А народ устал…
— Эх, безымянный ты, Иван, — вздохнул Правда.
— Это почему же?
— А так. Не батько — сельский атаман.
— Зато я ни в какие союзы с Троцким не вступал! — духарился Пархоменко.
— Знаешь, что положено дезертиру? — все так же холодно поинтересовался Махно. Его беспокоил не этот хвастливый бегунок. Дело прошлое. Мучил распад армии.
— Таковым себя не считаю! — огрызнулся Иван и, большой, усатый, недовольно подвигал плечами.
— Ты не хорохорься, — посоветовал ему горячий Трофим Вдовыченко, позванивая под столом серебряными шпорами. — Чув про свого брата Сашка?
— Начдив у красных, орденоносец. Ну и что? Яза него не отвечаю.
Члены штаба поняли, что Иван еще ничего не слышал.
— Нету его! — как-то злорадно сообщил Правда.
— Ты… что? — Пархоменко повернулся вправо, влево, не веря услышанному.
Махно опустил голову и смотрел исподлобья, сурово. У него убили четырех братьев, и он сполна испытал, что это такое. В гнетущей тишине прозвучал ровный голос начальника штаба Виктора Билаша:
— Он прилетел со своей дивизией, чтобы порубить нас. А мы его взяли в плен, твоего Александра, и расстреляли.
Пархоменко судорожно глотнул.
— Где? — спросил хрипло. Лицо его вмиг посерело, ясно было, что он никому этого и никогда не простит.
— На правом берегу Днепра, — отвечал Билаш. — Наших там сотни полегло в окружении.
Иван шумно вздохнул. Батько Правда подвинул к нему свою наполненную кружку. Пархоменко взял ее, тряхнул головой и молча выпил.
— Ну что ж, — сказал. — Рано еще к Богородице. Будем биться!
На следующий день его полуэскадрон влился в кавалерийский полк редеющей Повстанческой армии.
Т. Склянский!
Наше военное командование позорно провалилось, выпустив Махно (несмотря на гигантский перевес сил и строгие приказы поймать), и теперь еще более позорно проваливается, не умея раздавить горстку бандитов… И хлеб, и дрова, всё гибнет из-за банд, а мы имеем миллионную армию. Надо подтянуть Главкома изо всех сил.
Ленин.Лично он не был жестоким человеком. Он не любил, когда ему жаловались на жестокости Чека, говорил, что это не его дело, что это в революции неизбежно… В личной жизни у него было много благодушия. Он любил животных, любил шутить и смеяться, трогательно заботился о матери своей жены, которой часто делал подарки…
Ленин — империалист, а не анархист. Все мышление его было империалистическим, деспотическим.
Н. Бердяев. «Истоки и смысл русского коммунизма».Разгневанная людской злобой зима двадцать первого года словно с цепи сорвалась. Сутками сеяло и веяло, мутило и крутило. Дороги, особенно по балкам и низинам, позаметало, и в сугробах тонули колеса бричек, ноги лошадей. Закутанная до глаз Гаенко верхом подъехала к штабной тачанке, где сидела подруга.
— На своций зэмли пропадаем, Галочко, — прошамкала Феня заиндевелыми губами. — Бильшэ нэ можу так. Давай останэмось.
Галина взглянула на мужа. На нем лица не было. Худой, сгорбленный, он сделал вид, что ничего не слышал. Катили по заснеженной холмистой степи на юг.
— Не лезьте в запретный мир, — изрек Махно строго.
Армия совсем истощилась. На нее наседал свежий кавалерийский корпус, трепал обозных, вылавливал разведчиков, и повстанцы, их лошади еле тащили ноги. Запоздало приметили колонну, что надвигалась. Ни принять бой, ни уйти от нее на рысях не хватило сил. Окрысились пулеметами в селе и ждали, что будет. А верховые приближались.
— Свои! — послышалось. — Та свои ж!
Это был отряд матроса Бровы из Самарского леса, что под Екатеринославом. Мало того. Он привел… целую бригаду буденновцев во главе с Маслаковым, который руками подковы разгибает! Казак бережно заключил Батьку в объятия и шумел:
— А что я обещал? Придём! Вот и мы. Факт! Ну, здоров, Махно!
Радость была великая. Если сами буденновцы одумались, значит, погуляем еще по степям, покажем комиссарам, где раки зимуют! Собрались в хате на большой совет, выпили по чарке.
— Другие казачки пока колеблются, — гремел Маслаков. — Но они тоже с нами. Дай срок, Батько. Дай!
Галина слушала недоверчиво, лишь пригубив рюмку. Факт-то факт, да из ряда вон. Красные не раз перемётывались, но только пленные. А сейчас, когда положение совсем аховское, добровольно явились, и не кто-нибудь — гвардейцы власти! С чего бы это?
— Нам нечего терять. Хуже все равно не будет! — с усмешкой говорил силач. В юности он объезжал диких лошадей. Как-то неукротимый кабардинский жеребец вырвался из загона и полетел в раскидистую Ставропольскую степь. Маслаков смотрел на него, золотистого, и завидовал: вот так молодец! Сам бы убежал, но куда? А тут революция порвала все путы. Вахмистр царской армии — «черная кость» — с азартом сколачивал красные отряды в бригаду и бесстрашно водил ее против любых «превосходительств». Когда же приехал в отпуск по ранению и увидел дома чекистов, продотрядовцев, что грабили станичников, и новых шишек в очках — понял: опять ярмо накинули, марксистское. И хотя ему, как и Буденному, светила блестящая карьера, но в упряжи — Маслаков восстал.
Под стать комбригу был и матрос Брова, широкоскулый, кряжистый усач, отряд которого не смогли одолеть за три года ни австрийцы, ни белые, ни красные. Он между прочим спросил:
— А вам такой… Алексей Чубенко… не знаком?
За столом оживились. Многие знали его, старого анархиста, «дипломата». Год тому Алеша угодил в ЧК, и с тех пор о нем не было ни слуху ни духу.
— Жив? — обрадовался Виктор Билаш. Он вспомнил, как впервые попал в Гуляй-Поле и как радушно принял его тогда в гостинице Чубенко. Еще на двери мелом было написано «нач. штаба». Когда же это? Вроде сто лет назад!
— Сбежал ваш Алёха, — загадочно сообщил Брова.
— Из чеки, что ли? — не поняла Галина. Единственная, к тому же привлекательная женщина за столом, заинтересовала Маслакова. Он разглядывал ее, прикидывая: «Чья же это краля? Любовница, атаманша или жена?»
— Когда вы заключили союз с правительством, всех анархистов же выпустили, — говорил Брова. — Из Бутырской тюрьмы Алексей пробрался к нам в лес.
— Что ж молчал? — удивился Махно. — Мог бы, дипломат, хоть весточку подать! Может, в одной и камере бедовали?
— Не знаю, — отвечал матрос. — Чего-то опасался, наверно. У меня начальником штаба крутился и… сбежал, как только мы собрались к вам.
— Похоже, настучал Алеха в чека на нас, — определила Галина. Работая в комиссии антимахновских дел, учительница скоро разочаровалась в людях. За редчайшими исключениями, они оказались трусливыми, продажными, льстивыми и мелочными. Это печальное открытие, а также необходимость карать изменили весь ее облик. Карие глаза потемнели, губы сжались плотнее, суровее. Она теперь избегала ярких украинских нарядов и ходила твердо, не торопясь.
— Да-а, настучал дипломат, — согласился Батько, вздыхая. Сколько товарищей потеряно, и не только в бою. Некоторые изменили, подались к красным и дерутся как бешеные псы. Но, в отличие от жены, Нестор Иванович считал, что это — выродки. А народ чист и предан воле. Правда, доказательств того находилось все меньше и меньше.
— У нас есть просьба, — как-то странно, неуверенно начал Маслаков. — Даже не знаю… Может уважите?
— Не тяни жилы! — потребовал Махно, чувствуя подвох. За столом притихли. Что потребует бывший буденновец? Уж не командовать ли всем войском пожелает?
— Отпустите нас на Кавказ. Дайте мандат на формирование армии.
— Да ты что? — опешил Билаш, протянув руки ладонями вверх. — Еле-еле наскребли силу, а ты… бежать! У нас и так хоть караул кричи!
Тут заговорили наперебой. Это была если не измена, то явная глупость. Вот, оказывается, для чего они пришли. На свободу Украины им наплевать. И опять же: переколотят комиссары всех поодиночке!
— В Сальских степях нас примут как родных, — продолжал Маслаков. — Пишут мне, что там тоже голод. Пустые амбары, подметенные продотрядами. Пока ходим, буденновцы взбунтуются. Факт! Тогда и нагрянем к вам во всеоружии!
— Зачем же тебе наш мандат? — усмехнулся Василий Куриленко, заместитель Батьки.
— Э-э, Махно всюду знаменит, — с уважением сказал комбриг. — А тем более у нас, где целые станицы украинские. Я и сам Маслак. Это уже «ов» прицепилось. Так что с мандатом Батьки мы будем не дезертирами, а законным войском!
Разочарованные повстанцы долго не соглашались отпустить казаков. Но в конце концов уступили. Не держать же силой? Да и где она?
Под утро снова налетел красный корпус. Перестрелка была недолгой. Махновцы бежали к старому, знакомому Дибривскому лесу и там, за Волчьей, пленив полк 42-й дивизии, затаборились. Отдохнуть им не дали. По тому берегу речки рыскали буденновцы, вопили:
— Маслак-предатель, выходи!
— Не спасет тебя Махно!
— Эй вы, трусы, бандитские рожи!
Не стерпев издевательств, комбриг повел своих в жестокую рубку. Где-то там пропадал и Нестор Иванович. А Галина с Феней сидёли в хате, в Больше-Михайловке. На душе было тревожно.
Еще до рассвета муж Фени — Пантелей Каретник и новый адъютант Батьки Иван Лепетченко ушли с тайным поручением. Никто не догадывался об этом, даже Лев Зиньковский. А жены знали, что унесен на хранение двадцатифунтовый ящик с драгоценностями. Не нужно было много ума, чтобы сообразить: близится конец этой войны и золото припасается на черный день.
— Нэ можу бильшэ, — Феня заплакала. — Дэ мойи диты? Дэ хата? Дэ…
— Нэ падай духом, подруга. Воно попустэ! — пыталась бодриться Галина. Уж ей-то, жене Батьки, председателю следственной комиссии, вовсе не светила никакая надежда…
Ночью снялись. Оставаться нельзя было. Карателям, конечно, сообщили, где находятся повстанцы, и сюда торопились чекисты, интернациональные полки, бронепоезда. Батько повел своих к Гуляй-Полю, и в одном из сел Галина увидела удручающую сцену. Хлопцы просили фураж у крестьян. Те разводили руками:
— Нэма ничого. Всэ ж забралы. Всэ!
Тут столько войск прокатилось туда-сюда. Но Нестор услышал и возмутился:
— Вы кому брэшэтэ? Спасителям!
— Та дэ ж його взять, Батько? — сокрушались мужики. — У нас, шо, прорва?
— Пускайте пыль в глаза продагенту, дядькы, а не мне, селянину. Есть у вас фураж! Но мало. Так и говорите, что последнее — жалко.
— Голод же будэ, Нэсторэ Ивановичу, — упорствовали мужики.
— А комиссар вам лучше? — вскипел Махно. — Торгуетесь, покупая волю. Своя шкура дороже, да? Сдерут же ее со всей Украины вместе с последней шерстью. Запляшете еще, холуи голопузые, да поздно будет!
Скрепя сердце, дядькы покормили лошадей, и повстанцы отправились дальше. В следующем селе, где заночевали, опять спрятали клад. Галина видела его: золотые монеты, дневник Батьки, карта военных Действий и бывший договор с Советской властью. Оставлялось все это, наверно, для потомства (Прим. ред. — До сих пор не найдено).
— Феня очень просит отдохнуть. Нам с ней, — заметила Галина в пути. Муж пристально посмотрел на нее из-под воспаленных век, вздохнул, взял за колено.
— Потерпите, голубки. Найдем тихий угол. Вы же для меня… — он не находил слов.
— А ты, Нэстор, шукай долю там, — жена махнула рукой на запад.
— В Галичине, что ли?
— Можэ, й там. Подумай…
Этот разговор они продолжили, когда укладывались спать. Накануне Брова и Маслаков уговорили-таки Батьку вручить им мандат на организацию Кавказской армии. Бумагу отпечатали, приляпали печать и разошлись по хатам. Только Нестор с Галиной забрались под одеяло, как затрещали выстрелы. Это в который раз налетел третий конный корпус. Бой кипел уже на улице, когда Махно со своими вырвался в поле. Оказалось, что казаки ушли раньше, а с ними — отряд Пархоменко и разведчики Кочубея. Армия распалась, и к Азовскому морю, в Ново-Спасовку, с Батькой прискакали сто человек. Раненый Трофим Вдовыченко попросил:
— Извините, хлопцы, но я… всё. Кранты! Подлечусь где-нибудь в хуторе.
— А не опасно? — забеспокоился Нестор, думая о Галине с Феней.
— Что? Сам леший не найдет! — отвечал Трофим.
— Тогда забери с собой и девчат, — предложил Махно. — Жаль мне их. Замучились голубки.
— Кого, кого, а дам — пожалуйста! — Вдовыченко, несмотря на боль, лихо подкрутил усы. Ни он, ни другие не предполагали, что видятся с ним в последний раз. Галина обняла мужа и разрыдалась.
— Чего ты? — сказал Батько. Левую щеку его тронул нервный тик. — Я ж заклятый. Скоро вернусь, и в чемодане всё есть. Бери.
Галина сквозь слезы разглядела, как замелькали на февральском снегу напряженно-кривые задние ноги коней и вскоре отряд скрылся за околицей. «Отак и моя доля», — подумалось.
Тут проявилась стихия мелкобуржуазная, анархическая… Эта контрреволюция, несомненно, более опасна, чем Деникин, Юденич и Колчак вместе взятые.
В. Ленин. Из доклада на X съезде РКП(б).
В то самое время, когда вождь произносил эти слова, над «колыбелью революции» — Кронштадтом кружили аэропланы и сбрасывали бомбы. Они рвались на улицах, в гавани, на льду, вздымая фонтаны воды. А дальше по заливу темнели цепи отступающих красноармейцев, пятна павших. По ним злорадно били крепостные, корабельные орудия, пулеметы.
Старший писарь линкора «Петропавловск» Степан Петриченко, высокий, взъерошенный и худой, тот самый, что летом встречался на Полтавщине с Петром Аршиновым, стоял у распахнутого окна железобетонного форта и с горечью смотрел на ледяную равнину. Час назад он водил по ней братишек в атаку. Красноармейцы, те же рабочие и крестьяне, особенно не упорствовали.
— Что же вы, суки! — кричали им кронштадцы. — На кого прёте? На своих же!
И около двухсот наступающих, в основном бывшие махновцы, сдались в плен. Другие побежали назад, к Ораниенбауму.
Эта бойня угнетала Степана. Он знал, что крепость никто и никогда не мог взять. Выстоит она и сейчас. «Зачем же губят народ? — думалось. — Вот оно, зверское мурло комиссародержавия! Загребли власть нашими руками, а теперь даже поговорить не желают эти Ленины с Калиниными».
Неделю тому председатель ВЦИКа приехал сюда, чтобы узнать обстановку и выступить перед забродившей массой. На Якорную площадь пришли с оркестрами, песнями матросы линейных кораблей, слесари судоремонтных мастерских, докеры, солдаты гарнизона — более десяти тысяч. Они были призваны сюда из центральной России, Урала, Сибири, Украины и знали, что всюду голод, непосильная разверстка. На вмерзших в лед кораблях холодно и паёк — пшик. В Питере бастуют работяги, а на околицах заградотряды отбирают любую еду. Зачем все это творится? На площади ждали с надеждой, что ответит Калинин Михаил Иваныч, хоть что пообещает.
Встреченный аплодисментами, в неизменных пальто и кепке, он заговорил о славных матросах — гвардии революции.
— Слыхали мы эти песни! — шумнули из толпы, где стояли старослужащие, кто в семнадцатом брал Зимний, телеграф.
— О разверстке давай!
Калинин не смутился. Опытный оратор, он умело крыл царя, Керенского и Деникина с Врангелем. Сегодня, однако, сам представлял власть и, потрясая жидкой бороденкой, защищал ее. А на площади ждали совсем других, не звонких — суровых слов.
— Брось, Калиныч! Тебе-то тепло! — кричали военморы.
— Долой продотряды!
— Где господин Раскольников?
— Война закончена — порядка нет!
Ветер дул с моря и относил в сторону слабый голос председателя ВЦИКа. Его оправдания никто не хотел слушать. Семь лет отбухавший тут Степан Петриченко, вчерашний коммунист, стоял рядом на трибуне, и ему было стыдно за Калинина. О чем тот лепечет, если командующий флотом Федор Раскольников заказывал на камбузе для себя и жены Ларисы Рейснер лапшу с мясом, а братве совали ржавую селедку! Новые господа заняли особняк, прислугу завели. Матрос что же, глуп и слеп? За что бились? Приехал и отец Ларисы, приват-доцент, стал начальником политотдела, хотя вокруг шумели, что масон же, едрена вошь! Это… народная власть?
Михаил Иваныч замолчал, оскорбленно поджав губы. Он был здесь едва ли не самым пожилым. Ему исполнилось сорок пять лет. Из них два потрачено на учебу в начальной школе, три — был слугой у помещика, остальные годы — крестьянский труд, урывками работа на заводах и… тюрьмы, ссылки. Иваныч мог бы тоже спросить эту оглупленную массу: «А за что же я боролся?»
Слово взял Петриченко. Рядом с ним Калинин казался подростком. Степан поправил вьющуюся шевелюру и сказал зычно:
— Братва! Я не буду перед вами размазывать кашу. Послухайте лучше резолюцию, принятую на кораблях: «Ввиду того что настоящие Советы не выражают волю рабочих и крестьян, немедленно сделать перевыборы… Свободу слова и печати для трудящихся, анархистов, левых социалистических партий… Свободу собраний и профессиональных союзов… Упразднить всякие политотделы… Снять все заградительные отряды…»
«Вот оно что. Вам поперек горла стоит наша партия! — надулся Иваныч, слушая матроса. — Сами, коты, желаете верховодить? Это уж дудки!» Он еще допускал, что Ленин, съезд слегка изменят политику. Ее и надо менять. Но перевыборы… Ишь, чего захотели, горл охваты — в теплые кресла! Мы вам покажем!»
— Кто поддерживает резолюцию? — зычно спросил Петриченко. Взметнулся лес рук. Против проголосовали только Калинин, председатель горсовета Васильев и комиссар Балтфлота Кузьмин. Это было открытое возмущение власти. Всех троих караул отказался выпустить из крепости. Так вспыхнула первая искра бунта. Военморы погасили ее.
Калинин уехал, позвонил Ленину, и появилось:
Правительственное сообщение о событиях в Кронштадте
Новый белогвардейский заговор. Мятеж бывшего генерала Козловского и корабля «Петропавловск»… Начались события, ожидавшиеся и несомненно подготовлявшиеся французской контрразведкой.
Эту ложь подписали В. Ульянов и Л. Троцкий. Моряки поняли, что власть озверела, и на следующий же день во всех частях и на кораблях прошли выборы в «делегатское собрание». Оно создало временный ревком. Возглавил его Степан Петриченко. Всё еще не верилось, что большевики поднимут руку на трудящихся. В ревкоме не было ни одного офицера. С кем же, спрашивается, воевать? Приезжайте, товарищи ленины, разберитесь, отменяйте свои дурацкие заградотряды (их вскоре и убрали), продразверстку (ее и отменили). Нет!
Петроград объявили «в осаде». На Кронштадт срочно бросили войска. Готовясь к докладу на съезде, Ленин с нетерпением ждал победного рапорта. Сообщили же о позорном поражении. Красноармейцы не хотели убивать своих братьев.
В черной бурке и шапке Нестор Иванович стоял на берегу Молочного лимана. Торосистый, а дальше голый лед предательски блестел до самого горизонта. Тут им на восток не проскочить. Хлопцы было сунулись да провалились. Еле их вытащили. Сзади лежал такой же Утлюкский лиман. А красные сунут с севера. Куда бежать? Только в мышеловку: по этому полуострову к Азовскому морю. А там что же, лечь костьми?
— В конце вроде коса была на тот берег, — заметил разведчик Пантелей Каретник. — Я с дедом в детстве купался.
— Так была или есть? — сердито спросил Махно. — Перейдем?
— Не уверен. Море изменчиво, подобно бабе, — вздохнул Пантелей, думая о Фене Гаенко. Рядом переминались другие командиры. Батько оглянулся. На берегу собралось все их заморенное воинство — человек триста. У красных же отдохнувшая Интернациональная бригада и на подходе вроде конная дивизия.
— К морю! Воно покажэ, — решил Нестор Иванович, и на усталых лошадях, потрепанных тачанках они медленно покатили к последнему приюту на полуострове. Вокруг темнели голые холмы, продутые морскими ветрами и прокаленные морозами. То же и по всей плодородной Таврии. Озимые погибли. Сеять почти нечем. Быть голоду, и народ замер в оцепенении.
Две недели тому повстанцы уже хотели рассыпаться. Ради чего мыкаться? Но неожиданно налетели на красный кавдивизион. Каратели сложили оружие. Среди них оказались и вчерашние махновцы. Их отвели в сторону.
— Бабахнуть сволочей? — осведомился Зиньковский.
— Не-е-ет! — Батько, весь белый от возмущения, вскочил на коня. После ранения в ногу он впервые сел верхом и выхватил саблю. — Пу-уля для них… слишком ле-егкая смерть, Лева. Не доста-анет, не пройме-ет душу! — и он зарубил первого попавшегося изменника. Другие в ужасе кинулись в разные стороны. Их настигали, секли безжалостно, озверело. — Все-е предатели получат по заслугам! — орал Махно.
С десяток бывших повстанцев остались на месте, плакали, просили:
— Мы с тобой, Батько. Будем служить! Пожалей!
Он глянул на них полубезумными темными глазами, буркнул:
— Живите, рабы!
Бросив их, отряд на свежих лошадях подался на север. В каждом крупном селе, однако, его поджидали красные части. Потому одну из них — бригаду, знакомую еще по «Андреевскому конфузу», атаковали прямо на марше. Командиров постреляли. Бойцы, которых было до двух тысяч, сдались в плен, не желая рисковать. Кое-кто вступил в отряд. Иных раздели, отпустили на все четыре стороны. Не успели они разойтись, как из балки вихрем вылетел конный корпус. Повстанцы побежали, теряя раненых и убитых. Ночью решено было перебраться по льду Днепра на тихое правобережье. А здесь, как делали это и раньше, оставили Василия Куриленко и других вожаков для сбора новых отрядов.
В гибельной гонке по степям Нестор Иванович чувствовал с тоской и сладостным восторгом, что он, верно, характерник. Откуда это — не знал и даже опасался вникать. Зачем? Оно, дивное, редко кому доступное, само появилось, когда его собирались повесить и не смогли. Потом оно уже никогда не пропадало. А сколько же славных хлопцев исчезло? Вот Гаврюша Троян, Семен Каретник, Гриша Василевский, Петя Лютый… Эх, самый близкий друг. Как там у него:
Гэй ты, батьку мий, стэп шырокый, поговорымо ще з тобою…Где Петя и беседует ли со степью? Где Галочка с Феней бедуют, голубки? А мать? Живы ли? Да ради чего же столько страданий? Ради воли? Но казалось, по злой же воле вся Украина и запружена чужими войсками. «Нет, нет, этого быть не может! Судьба и свобода — родные сестры. Им ли враждовать? Или так тебе только хочется?» — сурово размышлял Махно, когда отряд его на правобережье возрос до тысячи бойцов и ринулся, сломя голову, по весеннему льду назад, к насиженным местам. Днепр недовольно гудел, прогибался под тяжестью орудий и тачанок. Не все добрались до левого берега. Ох-ох, не все. Сколько проклятий было и слез!
Теперь они, загнанные, снова попали в ловушку. Влекутся к Азовскому морю, к последнему приюту, что ли? Судьба, судьба — мачеха свободы. «А может, земляки не жаждут ее? — в который раз спрашивал себя Нестор Иванович, печально поглядывая на черные холмы, иссеченные ветрами. — Может, им твердая власть милей? Чтобы мирно плодиться и тихо улетать в мир иной. А такие, как ты, лишь мутят воду?» Эта противная ему, анархисту, догадка все чаще закрадывалась в сознание. «Кого же тогда освобождать? Они вон, повинуясь карательной силе, уже перемётываются к ней, вчерашние несокрушимые. Рубить мо-ожно. Да что же толку? — мучила думка. — Всех не искрошишь. И за что? За слабость? Выходит, воля — то привилегия избранных? Да нет же, нет! Все шумят о ней. Так в чем же секрет?» Ответа не было.
В селе Кирилловке, на самом краешке суши, выпили по кружке самогона, закусили нежной осетриной. Красные пока где-то замешкались. Копили силы? Были уверены, что отсюда уж махновцам не выскользнуть?
Хозяин, у которого остановились члены штаба, смуглый, пузатый рыбак, сказал прищурившись:
— Не горюйте, хлопцы. Проскочите по косе. Вона отдиляе Молочный лиман од моря.
— А глубина там какая? — спросил Виктор Билаш.
— Есть и вода, — отвечал рыбак. — Курице по яйца. Ледком взялась. Чепуха.
Отряд собрался на высоком, обрывистом берегу. Справа серело подо льдом море, слева — столь же бескрайний лиман. А между ними тянулась в тростниках узенькая, обманчивая коса. Ютится ли она дальше или теряется в глубине — никак нельзя было определить.
— Поедешь с нами, хозяин, — приказал Махно, — и если врешь…
— Та вы нэ сумливайтэсь, — опешил тот.
— Башку жалко? Тогда сразу режь правду! — предупредил и Лев Зиньковский. — А то потом нечем жалеть будет.
— Вы шо, хлопци? — обиделся рыбак. — Я ж от души. У мэнэ тут симья, лодки, сети. Пошли!
По крутому глинистому спуску отряд скатился в тростники и затерялся в них. Коса была довольно широкая, но чем дальше — всё более оголялась, порой превращаясь в утлую полоску, покрытую льдом. Становилось жутковато. Что ждет впереди? Ану, если промыв! А сзади уже каратели!
В тревоге прошли с километр, когда тишину нарушил странный звук.
Он нарастал, и повстанцы увидели в пасмурном небе аэроплан. Покачивая крыльями, тот требовал показать условный сигнал. Махновцы лишь ускорили бег. Аэроплан развернулся, снизился, и летчик опустил пару бомб. Они взорвались на льду, в стороне. Лошади шарахнулись, их еле сдержали. Не было ни клочка суши, чтобы рассыпаться, и отряд в страхе скакал вперед. Аэроплан с ревом пронесся еще несколько раз, уронил новые капли бомб, покалечил коней и скрылся в той стороне, куда бежали повстанцы.
— Вдруг там ждут? — забеспокоился Виктор Билаш. Они с Батькой и проводником ехали на одной тачанке.
— Такая муть хуже пули, — нервно отвечал Махно.
Наконец за тростниками показались рудо-желтые обрывы противоположного берега, где вроде темнели хаты.
— То Стэпанивка, — сообщил проводник. — Я вам уже не нужен?
Батько пожал ему руку.
— Прыгай и дуй домой. Если появимся — готовьте коней.
— Обязательно! На кого ж нам, хозяевам, надеяться? — сказал рыбак, соскакивая в тростники. Отряд еще немного проехал, остановился. Было тихо. Лишь в море потрескивал лед и над головами шуршали метелки растений. В Степановку послали разведчиков. Они скоро возвратились, и старший, Пантелей Каретник, доложил, устало усмехаясь:
— Хоть тут повезло. Нэма никого!
В селе повалились без сил и уснули. А утром оказалось, что вновь окружены. Хорошо еще, снег растаял и красные броневики беспомощно урчали в грязи. Обойдя их, отряд рассеял наседавшую кавалерию и пошел на север. Хотели заночевать в селе Анновке, но там ощетинилась пехота. В стычке потеряли десятка два хлопцев и рванули к Михайловке. Осмотрелись, а на другом конце села… красные! Без боя те и махновцы кинулись в поле. В такой суматохе, перепалках минуло несколько дней и ночей.
Как-то с налету был схвачен охранный эскадрон с полевой радиостанцией. Ее обслугу впопыхах стали допрашивать о расположении войск, о секретных переговорах командиров. Между прочим радист упомянул мятеж в Кронштадте и что возглавляет его вроде матрос-хохол.
— Та то ж наш хлопец! — воскликнул Нестор Иванович, обращаясь к Федору Щусю. — Помнишь, о нем толковал Аршинов?
— Да я и сам знаю Степана Петриченко. Мы же с ним просолены до селезенки!
Махно призадумался.
— Слушай, Федя, а не подать ли весточку? Вот станция ж под рукой. Их поддержим и о себе заявим.
— Думка добрая, — согласился Щусь, подкручивая длинные усы.
— А что, если матросня и Питер уже захватила? — оживился Виктор Билаш. — В семнадцатом же смогли. Представьте: они прут с севера, мы с юга!
— Тогда пиши, — велел Нестор Иванович.
В эфир полетела радиограмма: «Срочно! Всем! Всем! Всем! Для восставшего Кронштадта. Держитесь, мы с вами. Приближается час соединения свободных казаков с кронштадтскими героями в борьбе против ненавистного правительства тиранов. Командующий повстанческой армией Украины Батько Махно».
Текст приняли в Бухаресте, передали в Польшу. О нем узнали в Кронштадте. Его напечатали газеты Франции, Германии, Турции. Мятежная крепость дала благодарный ответ махновцам. Но им было уже не до радио…
То ли по ошибке, то ли с тайным умыслом пленные кавалеристы сообщили, что в Гуляй-Поле стоит лишь потрепанный полк и бойцы ждут не дождутся повстанцев. Нестор Иванович давно хотел навестить мать. Хлопцы тоже рвались домой. Без глубокой разведки они влетели в родное местечко и напоролись… на третий конный корпус!
Это редчайший случай Батькиной беспечности. Как говорится, и на старуху бывает проруха. Теряя убитых, раненых, обоз, махновцы бежали в направлении Дибривского леса. Каратели преследовали их по пятам, и в одной из яростных контратак, словно мстя неприкасаемому за самонадеянность, пуля настигла-таки Нестора Ивановича и пронзила бедро. Он свалился с лошади. Охрана его подхватила. Но кто-то из повстанцев вскрикнул:
— Батько убит!
Страшная весть быстро распространилась, и отряд теперь уже улепетывал без задних ног. Все давно привыкли, что Махно — вековой дуб, и если он рухнул…
Двенадцать верст везли его на тачанке, не перевязывая. Не до того было. Еле успевали отбиваться. Батько лежал на железном поддоне, истекая кровью. Рядом приютился Лев Зиньковский с ручным пулеметом «Люйс».
К ночи разыскали фельдшера и, наконец, забинтовали раненого. Он терял сознание, что-то шептал. Вокруг собрались члены штаба. Каждый чувствовал, что это — непоправимо. Без Батьки какая же армия, какая свобода? Он, горячий, хваткий, коварный, порой мудрый, несдержанный или пьяный, был той катушкой, на которую наматывались все нити их борьбы. Одно его имя, как магнит, притягивало новые и новые силы.
Только сейчас каждый командир доподлинно постиг, кем был для него Нестор Иванович. Каменная стена! Что бы ни случилось, всегда можно прийти, посоветоваться, пожаловаться, просто чарку опрокинуть. Он и матом пошлет, и обнимет за плечи. А завтра-то как? Куда рыпаться?
Чтобы не тревожить больного, Виктор Билаш взглядом попросил всех удалиться.
— Отдыхай, Батько. Мы скоро будем, — сказал начальник штаба и тоже вышел на улицу. — Давайте ко мне в хату. Посоветуемся.
Впервые за последнее время они собрались без Махно. Чадила керосиновая лампа, стучали ходики с коротким штыком вместо гири.
— Все тут равные, — начал Билаш, — и рассусоливать некогда. Кто первый?
Командиры вздыхали, курили. Никому не хотелось говорить горькую правду.
— Может, ты, что ли, Петр?
Широкоплечий смурной Петренко подвигал обвислыми усами.
— Надо, хлопцы, спрятать Батьку где-нибудь. Хай подлечится. Я остаюсь при нём. Со всеми желающими. А остальным… Язык не поворачивается сказать… Но надо, хлопцы, временно рассыпаться. Давайте напишем приказ, покажем Батьке.
С этим все согласились и утром разъехались. Не покинули Махно лишь Билаш, Петренко, охрана, писаря да кучера. Что поделаешь: вольному воля. За ними сразу же увязалась красная кавалерия. Спасаясь от нее, повстанцы отмахали 120 верст. Надеялись отдохнуть в Стародубовке, а там… тоже враги. Подались дальше к Азовскому морю, когда в поле показались…
— Свои! Василий Куриленко! — радовались хлопцы и услышали… треск пулемета. Изморенные бегом кони начали подсекаться, падать. На пределе сил остатки эскадрона пытались уйти. Но их настигали.
Лежа в тачанке, Махно слышал, как свистят сабли, трещат кости. Рубка шла совсем рядом, и было ясно, что это — конец. За Батькой на двухколесной бедарке катил Виктор Билаш. Патроны были расстреляны. Он увидел под ногами окованный ящик: «Армейская касса!» К счастью, без замка. Виктор откинул крышку, загреб золотые монеты, бумажные деньги, серебро и бросил на дорогу. Еще и еще раз. Кавалеристы осадили коней, стали хватать добро. Почему бы и нет? Куда эти дохлые махновцы денутся!
Навстречу ехал крестьянин на подводе. Лев Зиньковский остановил его, на руках вмиг перенес беспомощного Батьку, уложил. Тут подоспели хлопцы из охраны с пулеметами. Один крикнул:
— Миша я, из Черниговки! Спасайтесь, Нестор Иванович! Мы их задержим!
Подвода покатила дальше. Сзади слышно было, как стучат пулеметы, рвутся гранаты. Давая Махно уйти, хлопцы дрались до последнего…
Повстанческая армия в который раз исчезла, и, пока мужик сеял, не было о ней ни слуху ни духу.
В те же дни на мятежный Кронштадт кинули огромные войска. Красноармейцы отказывались идти против своих же, объясняя это ледобоязнью. Таких «трусов» расстреливали перед строем. За этим рьяно следили прибывшие сюда делегаты X съезда новой «элиты» — Клим Ворошилов, Павел Дыбенко, Владимир Затонский, Андрей Бубнов…
Штурмующие с опаской шли по мартовскому льду.
Появились раненые. Лучше всех я запомнила первого, которого перевязывала. Ему оторвало руку, кровь била струей и заливала мне халат.
Е. Драбкина.
Попав под артиллерийский огонь, шесть подвод вместе с возчиками ушли под лед.
С. Подольский.
Колонны бойцов поредели, в полках на 50 процентов.
П. Дыбенко.
Крепость пала. Тысячи военморов бежали в Финляндию. Среди них был и председатель ревкома Петриченко'.
На сырую крышу соседнего дома сел скворец. «Где он взялся?» — поразился сумрачный Петр Петренко, выглядывая в чердачное окно. Поодаль стояли тоже каменные, добротные дома немецкой колонии, где теперь хоронились остатки отряда Махно — все, кому удалось унести ноги. «Давно ли бились с бюргерами? — вздохнул бывший Георгиевский кавалер. — Сейчас же они прячут нас, ведут разведку. А голодранцы — с красными. Чудеса!»
— Ну что там заметно? — спросил Виктор Билаш, лежа на сене. Рядом валялись три пулемета «Люйс».
— Весна, хлопцы! Шпак прилетел! — сообщил Петр.
— Дорогой запахло! — весело озвался Василий Данилов. — Не зря Ваня Долженко драит сапоги.
Привалясь к теплому буравку, Махно не обращал внимания на эти разговоры. Рана помаленьку заживала, и он писал. Что сочиняет, никто не знал. Понятно, не приказ. Долго ли его настрочить? А Батько молча возится уже который день.
Снизу поднялась широкая крышка-ляда, и показалась лысая голова Льва Зиньковского.
— Просят обедать, господа. В степи я проверил. Пока тихо.
^ Спустя двадцать четыре года его арестовал отряд «Смерш», и Сте пан умер в лагере.
Затворники по одному стали спускаться с чердака, мыли руки. На кухне суетилась дородная белокурая немка в цветастом переднике. Стол был накрыт голубой скатертью. На блюде красовался подрумяненный гусь. В графине темнело вино. Появился и хозяин, тощий, наголо выбритый, в поддевке и с газетой.
— Добрый день, — проговорил озабоченно, никому не подавая руки.
Все начали рассаживаться.
— Здоров, здоров, Юхим, — подмигнул ему Данилов. — Ну, что там творится, в большом мире?
Хозяин сел к окну, оставив место во главе стола для Махно. Того еще не было.
— Много всякого, — вздохнул Иоахим, хорошо понимая, чем грозит ему это укрывательство. — Вам, например, объявлена амнистия.
— Кем? — холодно спросил Билаш.
— В Харькове состоялся съезд Советов. До 15 апреля любой повстанец может сложить оружие, и ничего не будет. Вот, смотрите, — колонист протянул Виктору «Известия».
Тот пошуршал газетой, скривил правый угол губ.
— Благо… детели! — процедил сквозь зубы. — Нашлись верховные жрецы. А кто их помилует? Завтра же поставят к стенке!
— Я Батьку счас позову, — его адъютант Иван Лепетченко, щуплый, смазливый, выскочил в коридор.
— Так тут же и про вас, хозяев, написано, Юхим, — продолжал Билаш. — Вот оно: «Борьба с куркулями и бандитами — это фронт такой же государственной важности, как и бывший белогвардейский».
— И про нас, — упавшим голосом согласился колонист, касаясь листьев герани. Ее запах распространился по всей комнате. — Но нам и амнистии нет. Землю забирают. Из Екатеринослава приезжал мой друг, тоже немец. Его детей взяли в заложники, угрожают расстрелять, если найдут припрятанное зерно. А сеять как?
Тут, опираясь на палку, вошел Махно.
— Что повесили носы? — спросил и присел к столу.
Билаш коротко рассказал, подал газету.
Та-ак, добивают, значит, нас послушники марксова учения, — осклабился Нестор Иванович. — А ведь поймают дураков на эту удочку. Зависть и жадность у нас сильны. Отнимешь у куркуля четыре мешка — один твой. Верно, Юхим?
— Каждому свой ум, — осторожно отвечал немец, касаясь пальцем лба. — Вас же могут заверить в лояльности. Как это по-русски? Кто старое помянет — тому глаз вон. Наливайте!
Он явно намекал, что славяне-то споются. Ведь недавно заключали союз. А как быть им, чужим колонистам? Батько же, закусывая, думал совсем о другом: «Еще Аршинов когда-то предупреждал, что никто, в том числе и «мудрый» Ленин, не ведает, каким шершавым боком развернется будущее. Амнистия! Жульё обещает. Сто раз обманывали. Да есть ли хоть что-то святое на Руси?»
— Ты, хозяин-умница, хочешь быть свободным? — спросил вдруг Нестор Иванович.
— О-о, конечно.
— А как же власть?
— Без нее нельзя, — отвечал Иоахим.
— Вот тебе и на! Разве ж они совместимы?
— Несомненно, — немец почесал за ухом. — Нужно лишь чувство меры. Чтоб чиновник от нас зависел, а не мы от него.
— Вот-вот, тут и зарыта собака! — оживился Махно. Товарищи смотрели на него с удивлением. — Как же ее откопать, Юхим?
— Каждому — своё. Я ращу хлеб. Пусть думают политики.
Над этой загадкой Батько бился несколько лет, искал и не находил золотую середину. Есть ли она? Сейчас он был убежден, что есть. После обеда на чердаке прочел, наконец, написанное. Соратники слушали внимательно, никто не перебивал. Но как же они были разочарованы!
— Что за блажь, Нестор? И это «Новая Декларация»? — нарушил молчание Виктор Билаш. — Тебе нужна власть? За какого же беса мы уложили в сыру землю тысячи хлопцев?
Махно не ожидал такого отпора, открыл рот, чтобы возразить, но вскочил Иван Долженко, помощник начальника штаба, записной оратор.
— Вы утверждаете: «Диктатура труда». Чем же она лучше диктатуры пролетариата? По-вашему, «вольные Советы будут работать под руководством инициативных анархических групп». Где это видано? Мы что… займемся политикой?
— Да погодите, — пытался объяснить Нестор Иванович. — К социализму надо еще на пузе доползти. Не всё сразу…
— Каша! Овсянка с горохом, — подал недовольный голос и Петр Петренко. — Не обижайся, Батько, но ты же прямо Бонапарт!
Узколицый, нервный Долженко заходил по чердаку в надраенных сапогах.
— Осторожнее, Иван, провалишься, — предупредил друга Билаш.
— Хай бы мне лучше провалиться сквозь землю! — вскричал Долженко. — Это же… в его тетради… бред сивой кобылы!
В раздражении Махно потер нос, кусал губы. Ближайшие соратники не щадили его. Он кинул последний козырь:
— Мы хотим победить или болтать о свободе?
— Зачем ты так? — обиделся Зиньковский. — Нашел пораженцев.
Нестор Иванович нетерпеливо мотнул головой.
— Пустое мелешь, Лёва! В бою мы не раз отступали. Потом гнали врага. Верно? А в политике жаждете лбом стену прошибить? Нет сегодня воли без управления.
На улице буянило весеннее солнце, и петух голосисто звал кур.
— Не путайте, Батько, грешное с праведным, — заявил Иван Долженко. — Свободу мы ни на какую власть не разменяем. Это исключено! Да нам и не позволят.
Все, кто собрался на чердаке, знали только черную работу и войну. Что ждет их завтра, в мирное время? Об этом не хотелось думать, хотя совершенно ясно: ототрут в угол более грамотные вертихвосты. Так зачем же сегодня соглашаться с Махно?
Он тяжело вздохнул: «Ну, что ж. Я не теоретик и не претендую на эту роль. Устали хлопцы. На новую горку им уже не вскарабкаться. Эх, жаль, и только!» Нестор Иванович взял тетрадь и, горько усмехаясь, разорвал ее на клочки.
О «Новой Декларации» больше не вспоминали. Батько тем не менее продолжал писать. Его спрашивали:
— Про что калякаете?
— Стихи сочиняю.
— Во-о, Пушкин нашелся! — шутили отдохнувшие, повеселевшие хлопцы. Их уже манил вольный простор.
А Махно всё переделывал на разные лады вирши Пети Лютого:
Ой ты, батько мий, стэп шырокый, дэ обнимэмось мы з тобою?Тайный голос нашептывал, что их лодка скользит уже к последнему порогу. Будут победы, и славно погуляют еще на воле. Но большую судьбу за хвост нет, не поймать. Голос ее труб затухал. Не поняли это хлопцы, эх, не вняли…
В крайне осторожных скитаниях из колоний в хутора минул апрель. Отцвели абрикосы, вишни, заневестились и яблони, когда появился долгожданный гонец. Прислал его атаман Глазунов. Сибиряк, он бил Колчака, получил орден Красного Знамени, служил в карательной дивизии и осенью перешел к махновцам. При распылении сил остался в плавнях Днепра и теперь, по теплу, желал присоединиться к Батьке. В начале мая прибыл.
— Еле вырвался! — докладывал Глазунов. — Осталось, едрена вошь, всего тридцать сабель и пять пулеметов.
— Зато каких! — подбодрил его Махно. — Прошли огонь, воду и медные трубы. Им же цены нет!
Он говорил это уже с тем азартом и силой, что так привлекали людей. Сибиряк с благодарностью обнял Батьку и поцеловал.
Через пару дней заявился с хлопцами Иван Херсонский — рабочий из Николаева. После чарки спросил:
— Ты, небось, дуешься, Нестор Иванович, на Харлампия Общего?
— А как же! Сволочь, ограбил церковь тогда, в Курской губернии, убежал от кары и целый полк увёл!
— Напрасно строжишься, — опустил голову Иван. — Общего зарубили. Мы шли к тебе, попали в ловушку. Почти весь полк лег костьми.
Махно вздохнул.
— Жаль Харлашку. Лихой был джигит. А это кто с тобой? Вроде знакомый.
— Э-эх, Батько, стареешь, — огорчился Херсонский. — Ану приглядись. Он же тебя спасал три года назад!
— Неужто Захарий? — не мог узнать его Махно, настолько тот зарос и заматерел. — Петрович? Ну, здоров! — они обнялись.
— Я неистребимый, — обрадовался Клешня. — Нэ дають помэрты продагэнты. Всэ забралы, и од мэнэ пощады нэ дождуться.
— Орёл! — похвалил Батько. — Да мы теперь разгоним любую дивизию! Ну что, члены штаба, в поход? Стыдно нам прятаться!
Что такое поэт? — Человек, который пишет стихами? Нет, конечно. Поэт, это — это носитель ритма.
А. Блок. «Дневник». 1921 г.
Слуха у меня не было, и любовь моя к музыке осталась слепой и беспомощной навсегда.
Л. Троцкий. «Моя жизнь».
Галина с Феней в косынках и широких крестьянских платьях пололи огород. Было тихо, солнечно. Над маками-самосейками гудели пчелы.
— Ой, погано, — сказала Галина, не разгибаясь. Подруга уставилась на нее. — Зэмля, як каминь. Голод будэ.
— Пессимистка, — усмехнулась Феня. — Еще всё впереди: дожди, грозы!
За огородом, в дремотных тростниках, голубела речка Берда, и оттуда со связкой рыбы шел дедушка Максим, у которого скрывались беглянки.
— Хватит вам кланяться. Пишлы! Уху варыть, — звал он.
Галина подняла голову и затаила дыхание. К их заброшенному хутору из пяти хат направлялись всадники. Сердце ёкнуло: «Нестор!» Но он летел бы соколом, а эти еле ползут. «Неужто чекисты? Кто-то выдал!» — мелькнула страшная догадка.
— Глянь, подруга, — шепнула Галина.
Феня распрямилась, посмотрела из-под руки, мазнула черным пальцем по щеке.
Дедушка подошел, улыбнулся.
— Вы вроде носами рыли капусту!
Но тут залаяли собаки. Хозяин тоже увидел незваных гостей, что приближались к хатам: верховые, подводы.
— Кого цэ черт нэсэ? — сказал озабоченно и засеменил во двор. Женщины нагнулись и продолжали ковыряться в земле.
Впереди отряда (было в нем не больше эскадрона) ехал военный в фуражке со звездой, гимнастерке и галифе.
— Ты кто, дед? — строго спросил он, спрыгивая с коня.
— Пасечник. Максым.
— Бандитов, случаем, не пригрел?
— Бог миловал. А вы, я бачу, красни?
— Зверев я. Не слыхал?
Судя по говору, командир был не местный, из России. Скуластое неприветливое лицо его запылилось.
— Чув про вас, чув, — кивал дедушка.
— Давно обитаешь на отлёте?
— Та вжэ рокив, мабуть, сорок. Пчел пасу.
Их обступали красноармейцы: всё молодежь, лет по двадцать или чуть больше.
— А кто это у тебя, старикан, в огороде? — поинтересовался один из них, белокурый, с перевязанной рукой. Смотрел недоверчиво.
— Дочки помогают по хозяйству.
— Ану зови! — приказал Зверев.
Галина с Феней пришли, стояли потупившись.
— Что ж вы, бабоньки, такие, фу-у, грязные? — усмехнулся командир. — Этот Максим на вас верхом, что ли, ездит? Мироед, небось?
— Вин добрый. Бидняк, — отвечала Галина, не поднимая глаз. Боялась выдать себя ненавистью.
— Трудящихся мы любим, — сказал Зверев. — А бандитов и толстосумов, как гнид, к ногтю! Ану, ребята, пошарьте в доме и вокруг. Оружие имеешь, дед?
Красноармейцы с винтовками наперевес побежали к хате, к сараям. Старик тоскливо проводил их взглядом, говоря:
— Якэ оружие, командир? Бэрданка була, и ту чэчэнци-каратели забралы. А у мэнэ ж пасика. Охранять надо.
Феня из-под полуприкрытых век следила за солдатами. «Найдут или нет карабины и гранаты? — беспокои лась с дрожью. — Куда им, молокососам. Ну, еще встретимся!»
— Говоришь, давно в этих краях? — обратился Зверев к Максиму. — Стало быть, всех знаешь в округе?
— На память не жалуюсь, — бодрился дедушка.
— Та-ак. Пока они ищут, мы проверим твою честность. Ану, топай сюда, — командир направился к подводам. Галина с Феней тоже пошли с ними. Там лежали мешки с зерном. Рядом ютились раненые.
— Узнаёшь? — Зверев указал пальцем на усатого мужика, что с перевязанной шеей покоился на сене. Галина глянула и обмерла. То был Трофим Вдовыченко — неустрашимый командир Азовского корпуса, последнее время скрывавшийся в соседнем хуторе. Видал его и дедушка, недавно встречались.
— Цэ хтось чужый, — глухим голосом отвечал пасечник.
— Ты, рухлядь, что… считаешь меня оболтусом? — злобно зыркнул Зверев. — Да его же здесь каждая собака нюхала! Отстреливался, гад, до последнего и в себя пулю всадил. Нам повезло — дышит. Не будь ты древним, дед — вот слово большевика — шлепнул бы тебя на месте за ложь. А так… патрон жалко.
Тут подошел старший красноармеец, производивший обыск, доложил:
— Ничего нет.
— Ну, пчеловод, молись, что припасы у нас на исходе! — рыкнул Зверев. — Этот бандит — Вдовиченко. Слышал? Вместе с сообщником двенадцать моих молодцов ухлопал. А ты… Бедняк, называется. Дерьмо ты несознательное! По коням!
Отряд покинул хутор, а его обитатели всё смотрели вслед карателям, опасаясь, что возвратятся.
— Пропал герой, — вздохнул дедушка Максим. — Редкой справедливости земляк. Помню его еще пацаном.
— Куда повезли Трофима? — спросила Галина. — Не иначе, як в Александровск. Там теперь центр губернии.
— Туда, туда, — кивал пасечник. — Ой, та в мэнэ ж рыба в капусти валяется! Пишлы жарыть и мэдовухы выпьем за його здоровья. Жывый же пока.
Галина чистила окуней, плотву и всё думала о Вдовыченко. Она видела уже тысячи убитых в бою, умерших от тифа, расстрелянных по приговору комиссии антимахновских дел, и сердце ее огрубело. Больные рубцы оставила в нем смерть отца, потом брата, и вот сейчас на очереди Трофим — железный воин. «Если таких теряем, — думалось, — то это всё. Последняя надежда — Нестор. Но где он? Весна кончается».
Когда сели за стол и выпили терпкой медовухи, дедушка повеселел, загоцррил погромче:
— Счастливые мы, девки!
— Та шо ж доброго? — не поняла Феня.
— На солнце смотрим, на виноград вот рядом. И чоловикы у вас е, диткы. Правильно?
Подруги переглянулись. Никто в округе не знал, кто они такие. Но Максим догадывался: по намекам, по гонору, который нет-нет да и проявлялся.
— Чьи вы — то не мое дело, — махнул рукой дедушка. — С пчелами хватает задушевных бесед. А еще когда я был дома, в Ново-Спасовке, под Рождество Христово приползла до нас сосед очка, тоже молодуха. Чую, хто-то скребется в двери. Думав, можэ, собака. Открываю — ой, Боже, — Настя лежит на снегу. А светло так, месячно. Втянул ее в хату, гладь — платье в крови. Обмыли мы ее с жинкой, перевязали, в постель уложили. Она плачет, еле голос подает. Накануне нагрянули до нас чекисты. «Де твой муж-махновец?» — требуют. Откуда Насте ведомо? У нее младенец на руках. «Обоих в расход!» — приказал командир, наверно, цэй самый Зверев. А бойцы свирепые: их повстанцы не щадят. Один интернационалист и гавкнул: «Еще две пули на них тратить!» — и выстрелил во младенца. Настя упала. Когда пришла в себя, сжимала мертвое тельце. Приползла до нас…
— Живая? — в один голос спросили Феня с Галиной.
— Хто зна. Давно дома нэ був. Так что мы счастливые!
Спустя несколько дней, перед рассветом, хуторские собаки подняли гвалт. Феня с наганом выскочила во двор. За кустами маячили верховые.
— Кто вы? — спросила.
— Убери псов! Свои!
Она осторожно приблизилась к забору.
— Не узнаешь меня? — послышался родной голос.
— Пантюша, ты? — воскликнула Феня, еще не веря, что прибыл муж, Каретник. Тот грузно спрыгнул с коня, толкнул ворота, схватил жену на руки и зацеловал. Из хаты уже вышли Галина и пасечник.
— Скачи до Батьки. Скажи, нашли! — радостно велел Пантелей своему разведчику, и вскоре даже в заброшенных хатах появились огни, запахло жареным мясом. Выставили караулы. Прибыл и отряд во главе с Махно — человек триста. Галина обняла мужа и плакала от радости.
— Жив, жив, — повторяла, как воробей.
Дед Максим смотрел на нее и качал головой. «Яка птыця тут хоронылась!» — думал с запоздалым страхом.
— Больше мы от вас не отстанем, — заявила Галина мужу, вытирая слезы. — Такого натерпелись…
— Угрожал кто? — спросил Нестор.
— Давайтэ до столу! — пригласил пасечник. — Голод нэ свий брат.
Расположились посреди двора, под виноградом.
— Недавно тут прошел карательный отряд Зверева, — рассказывала Галина. — Обшарили у нас все углы. А на подводе… без сознания лежал раненый… Вдовыченко.
— Схватили, — упавшим голосом проговорил Батько. — Такого гладиатора! И куда повезли Трофима?
— На север. Видимо, в Александровск, — предположила Феня.
— Надо выручать земляка! — сказал Виктор Билаш, выросший вместе с Вдовыченко в Ново-Спасовке.
— Там же войск чертова уйма, в губернском Александровске, — возразил Лев Зиньковский.
— Ну и что? — нахмурил брови Нестор Иванович, допивая кружку медовухи. — У Москвы их еще больше, а мы… на коне! Руки у них коротки. Мужик отсеялся, ждет нас не дождется. Днем выступаем.
Галина глядела на мужа с недоумением. Ну откуда в нем эта безудержность? Посидел бы на бережку, отдохнул бы с удочкой в дремотных камышах. Вон и левую ногу почему-то не сгибает.
— Ранен опять? Болит, милый? — она нежно коснулась покалеченного бедра. Нестор так отвык от ласки, что поперхнулся, скрипнул зубами.
— Прости, Галочка. Зажило, — он украдкой обнял ее за талию, чтобы не видели командиры. Они все истосковались по уюту, по самым простым радостям, а конца этому озверению не было.
— Можэ, хватэ? — шепнула Галина. — Пошли к Петлюре или в Галичину. Подлечишься, объединимся с братьями.
— Не-ет, рано. Еще поклюем тиранов, погуляем на родном просторе!
Тов. Фрунзе
18/V. 1921 г.
Теперь главный вопрос всей Советской власти, вопрос жизни и смерти для нас, — собрать с Украины 200–300 миллионов пудов.
Для этого главное — соль. Все забрать, обставить тройным кордоном войска все места добычи, ни фунта не пропускать, не давать раскрасть…
Вы отвечаете за все.
Председатель Совета Труда и Обороны В. Ульянов (Ленин).В революционной горячке Михаил Фрунзе не гонялся за должностями. Они сами находили его. Был командующим армиями, фронтами. Теперь заправлял войсками Украины и Крыма. Это заслуженно. К тому же был уполномоченным реввоенсовета и Совета труда и обороны Республики на Украине. Это положено по должности. Ладно. Так он еще и заместитель председателя совнаркома здесь, член ЦК и центрального исполкома. А теперь опять и главком соли! Не слишком ли? Даже при царе не видывали таких чиновников! Успевай лишь заседать и бумажки подмахивать! Невольно позавидуешь Махно, что держится от власти подальше.
О нем не раз докладывали Фрунзе: дескать, убит, исчез, короед, навсегда. Командующий не верил. Где труп атамана? Кто его опознал? А дотошный и непреклонный Ильич всё требовал расправы над бандитом. Когда подсохли дороги, крестьяне отсеялись и в это лучшее. свое время батька не появился — Михаил Васильевич, которого уже официально называли «полководцем», отрапортовал, наконец, о его уничтожении. Ответом из Москвы было письмо про соль. Оно ясно показывало, кто на Украине хозяин: не липовое правительство и не ЦК большевиков. Что они могут, болтуны? Хитрый, прижимистый хохол прячет зерно, и выход один — лишить его соли. Китайская жестокость? Да. Север гибнет от голода! Не одумается «юг России» — придется потрошить его штыком. Для того и держат тут Фрунзе с трехсоттысячной армией.
Не успели, однако, помощники разобраться с добычей соли, как появился… Махно! Правда, всего лишь с кучкой сообщников где-то у Азовского моря. Конный корпус зазевался, а Батько сжег поезд с аэропланами, пленил красных гусар и попер на север, чтобы соединиться с отрядами Куриленко, Щуся и Фомы Кожина. Те колесили по Черниговщине. Сольются — быть новой беде. Тут уж не до соли. Харьков бы уберечь! В район боевых действий стянули лучшие полевые части. Не помогло. Повстанцы объединились на Полтавщине, грабили сахарные заводы, на спирт выменивали оружие, лошадей, просто одаривали мужиков, и те, подлые, горой стояли за бандитов. А их набралось уже до пяти тысяч.
Михаил Васильевич бросил против них вооруженные до зубов истребительные отряды Жигулина, Зоммера, Бубенца, Губергрица, Григорьева. Наперерез шли дивизия Червоных казаков, вышколенные курсанты, бронепоезда. Но Махно все равно брал городки, стоял там и легко уходил. «Стожильный он, что ли?» — ломал голову Фрунзе, начисто забыв о соли, которую вождь велел тоже «обставить тройным кордоном».
Наконец повстанцев таки прищучили. Всю ночь командующий ждал вести об их полном разгроме. Лишь под утро прикорнул в салон-вагоне своего бронепоезда на станции Решетиловка, недалеко от Полтавы. Но поспать не дали. Явился заместитель — статный белокурый Роберт Эйдеман.
— Мне срочно к Михаилу Васильевичу!
— Да он же лег час назад, — запротестовал помощник.
— Дело не терпит. Буди!
Фрунзе поднялся и умывался, когда услышал:
— Махно… ускользнул опять!
— Куда?
— Где-то вблизи.
— Это не рапорт, а позор! — вспылил командующий. Он был бледен, глаза устало распахнуты. Набычившись, продолжал: — Вы что же думаете, Роберт Петрович, мне делать больше нечего? Гоняемся за прохвостом пол года, и всё впустую! Есть у меня заместитель или нет? Самому бежать в разведку?
Эйдеман стоял по стойке смирно. Что отвечать? Шальная шавка Махно мечется по клетке с разъяренными львами, кусает их и никак не дается в лапы.
— Ищите его хоть в пекле! — приказал Фрунзе.
Заместитель взял под козырек и тут же отправился в местечко Решетиловку, что неподалеку от станции. Командующий же до обеда связывался с уездами, отрядами, ничего толком не добился, и вдруг помощник принес телеграмму: «Что удалось сделать с солью? Кто ответственен за соль? Ленин». Михаил Васильевич в ярости поморщился. Какая соль? Что за вздор? Но спрашивал-то вождь!
— Ответь: «О соли сообщим позже», — проговорил Фрунзе сдавленным голосом. — А сейчас… готовь лошадей.
— Простите. Опасно! Пока не выяснили, где он…
— А я сказал — готовь!
— Будет исполнено, — опешил помощник, видя, что Михаил Васильевич не в себе. Зачем ехать вслед за Эйдеманом? Для проверки? Но Роберт Петрович никогда не обманывал! Может, начальник решетиловской милиции Маховский что-то нашептал?
Пока вяло обедали, готовили лошадей, появился заместитель. Едва взглянув на него, Фрунзе спросил:
— Не нашли?
— Оторвался от преследования, волк… — начал Эйдеман. На него жалко было смотреть. Броневик обстреляли, раздробили боковое стекло. Командующий не стал слушать.
— Поехали! — кинул начальнику милиции, выходя из салон-вагона. За ними стайкой сбежали адъютанты, ординарцы. С маузером через плечо Фрунзе, словно не заметив их, сел на коня и вместе с Маховским молча поскакал в Решетиловку.
Угасал тихий июньский день. Далеко впереди темнел холм, и за него опускалось червонное солнце. Накануне сеялся дождик, прибил пыль. Пахло васильками и карликовой пшеницей, что зеленела, а где и желтела на полях. Михаил Васильевич дышал полной грудью, не ощущая радости. Побаливал желудок. Вспомнилось, как жаловался Буденный, что его казаки объели уши селянам и уже скармливали лошадям солому с крыш. А Ленин требует еще 200 миллионов пудов хлеба! Конармия стояла в Екатеринославской губернии. Были опасения, что белые снова высадятся в Крыму. Но главное — этот Махно. Когда Буденному разрешили-таки уйти на Кавказ (там тоже бушевало восстание), по дороге он встретил Батьку. Казалось бы, вот счастливый случай покончить с ним навсегда. И что же? Удалой Семен Михайлович сам еле ноги унес! Махновцы рассеяли его многочисленную охрану и взорвали автоброневик командарма!
«Откуда у них такая лихость? — не мог понять Фрунзе, переводя коня в шаг. Допустить, что это — народная война, он, вчерашний революционер, никак не позволял себе: тогда его должности, вся жизнь теряли смысл. — Алчут свободы? Зачем? Блажь! Задурены анархистами! Или защищают добро, хаты? Почему, ну почему мы бессильны? Или у него дьявольский талант?»
Нервничая, Михаил Васильевич стал. анализировать вчерашний день. Было точно известно, что Махно заночевал в селе Крынки. К утру пути его отступления перехватили бронепоезда и верные курсанты. С севера окопалась пехота и незаможники. А Батька стоял себе в селе как ни в чем не бывало, пока туда не приблизился истребительный отряд Зоммера, усиленный другими частями. Повстанцы снялись и, поливая всё вокруг пулеметным огнем, ушли. За ними гнались, потеряли след. И сколько раз так? Красноармейцы явно не желают подставлять лбы под бандитские пули. А те дерутся с отчаянием обреченных, рыщут под носом, шакалы. А тут еще эта соль… на рану!
Солнце село за холм, и в затухающих лучах появились три всадника.
— Осторожнее! — предупредил Маховский. — Может, бандиты, Михаил Васильевич!
— Вперед! — угрюмо приказал тот и пришпорил коня.
Верховые исчезли. В сумерках на дороге показалась воинская колонна.
— Давайте вернемся! — не без страха попросил начальник милиции.
Но его спутник ничего не ответил. Когда до неизвестных оставалось метров сорок, Фрунзе попридержал лошадь и крикнул:
— Командир, доложите!
Колонна приостановилась, но никто не отвечал и не спешил навстречу. Тогда Маховский выехал вперед и потребовал:
— Доложите командующему, товарищу Фрунзе!
После некоторого замешательства раздался выстрел, и начальник милиции упал. Михаил Васильевич кинул коня в пшеничное поле, пригнулся и поскакал. По нему палили вдогонку. Лошадь осеклась и присела на задние ноги. «Это махновцы! Зарубят!» — мелькнула шальная мысль, и больно ударило в правый бок. Лошадь, на счастье, вдруг поднялась и побежала. Сзади слышался топот. За полем… Опять везение! За полем был лесок, и в его темноте Фрунзе потеряли. Он выехал к речушке, ощупал бок. Пальцы слиплись в крови. А на душе полегчало, словно смьш позор…
Когда Нестору Ивановичу доложили об этой встрече, он вспомнил безумную контратаку, где его ранили в бедро. «Фрунзе тоже ярится, мечет икру, — усмехнулся Батько. — Мы с ним из одного теста, да разной выпечки».
В сухменном, без единого облачка, небе появились аэропланы. С ревом скользнув над повстанцами, они кинули вместо бомб листовки. Одна упала прямо в двуколку. Виктор Билаш взял бумажку, заметил постылые слова «амнистия», «сдавайтесь» и уронил ее под колеса. Лень было перекинуться парой слов со спутником (он дремал рядом), больно даже смотреть на утомленные жарой, поникшие подсолнухи. Зачем эти мучения? Бились на сахарной Полтавщине, теперь влекутся в Донбасс, чтобы соединиться с отрядом Каменюка. Где он, жив ли?
Аэропланы развернулись и снова уронили что-то белое, похоже, газеты. Они парили в раскаленном небе. Спутник Билаша перекрестился.
— Ишь, антихристы! — сказал громко. Виктор скосил глаз на него. Давно уже не слышал подобных слов, и говорил их не забитый старичок или худосочный монах, а коренастый, наголо стриженый мужчина лет сорока.
Он явился к ним где-то у села Константиновки на Полтавщине. Там вскипел жаркий бой, в котором пал Федор Щусь. Хоронили его с почестями: склонили черные знамена и дали три сухих залпа. Среди зевак, что собрались в роще, оказался и этот Николай, сразу же прозванный Угодником. Он сказал на могиле такую речь, что обратил на себя всеобщее внимание: «Я верующий… христианский анархист. Сам Бог велел человеку… быть свободным! Нет выше этого тяжкого дара. И кто погибает в борьбе за него — святой!»
Билаш повидал уже всяких анархистов, но вот о христианских даже не слышал и заинтересовался странником. Тот куда-то исчез. Их опять потеснили красные. А Угодник вскоре заявился и сообщил, что Щуся… выкопали! «Ох, большой он грешник, если осквернили его последний приют», — заключил Николай. Что искалц чекисты? Чтобы выяснить это и ближе познакомиться, Виктор пригласил свидетеля в свою двуколку.
— А они пронюхали, что похороны были торжественными, решили: предан земле Махно, — рассказывал Угодник. Лицо у него крупное, но какое-то мягкое, не повстанческое, и глаза кроткие, светятся изнутри. Других таких Билаш не мог припомнить.
— Они уже отрапортовали куда следует, что нет Батьки, пропал, сердешный, — продолжал Николай. — А им не поверили, заставили вырыть труп и освидетельствовать.
— Ты-то откуда знаешь? — насторожился бывший начальник штаба. Его недавно переизбрали, и появилось время для бесед.
— Так они же меня и спрашивали: «Видел близко Махно? Это он или не он?» Говорю им: «Нет, дорогие товарищи. Не он! Этот же оспой побит, а Батько чист!» Они вызверились: «Чист, значит? Он, может, и святой, по-твоему?» Еле от них открестился, чертей!
Билаш усмехнулся. Ему все больше нравился Угодник. В нем обитала редкая, почти позабытая незлобивость, свойственная слабакам. Но Николай к ним явно не принадлежал. На этой бойне, в кровище, озверении он казался лишним, чужеродным пришельцем.
— Так ты что, и правда верующий? — спросил Виктор, когда ехали уже на юг.
— А что тут удивительного? — не понял Угодник, светя чистыми глазами. — Миллионы чтят Бога!
— То ясно, — согласился Билаш. — Но они же не называют себя анархистами!
— Слово-то в чем виновато? — воскликнул Николай. — Его путают с анархией, хаосом. А истинная свобода — мать гармонии. Важно, что у тебя в душе таится. Есть две жизни: людская и Божественная.
— Прибавь сюда еще зверскую, как у нас и у комиссаров: потрошим друг друга, — горько усмехнулся Виктор.
— Э-э, нет. Это всё человечье, только сильно искорёженное.
— Ну, а Божественное какое?
— То, что завещал Христос, говоря: «Имеющий уши да услышит». Большинство думает, что это им сказано, раз у них есть уши. Святая простота! У барана тоже уши. А слух надо выстрадать годами светлого терпения и молитвы.
Такой разговор, ни в чем не убедивший Билаша, был прерван стрельбой, броском через железную дорогу Полтава — Харьков, а затем жестокими боями, в которых погиб Василий Куриленко и опять был тяжело ранен Фома Кожин — самые отчаянные коренники. На одном из коротких привалов, собрав своих ребят, ушел в родную Сибирь Глазунов. Армия таяла, колобродила.
Но бывший начальник штаба заметил, что во время схваток Угодник вовсе не терялся. Когда к их двуколке вихрем вылетели красные кавалеристы с пиками наперевес, он весьма неумело, а отстреливался из нагана, приговаривая: «Принес вам не мир, но меч! Не мир, но меч!»
— Какой же ты Христос? — с издевкой спросил потом Виктор. — Надо было правую щеку под лезвие подставлять!
— А я тебя, человече, защищал. Свобода духа и тела нам всем дана от Бога. Но это… непосильное бремя для миллионов.
Билаш высоко поднял брови.
— Чем же мы занимаемся, по-твоему?
— Своеволием, — твердо заявил Угодник. — Проходите через искушающий опыт, чтобы постигнуть заветы.
Потому я с вами. А безухий народ уже устал и готов отдаться в лапы антихриста.
Виктор смотрел на своего странного спутника со всё возрастающим любопытством. Кто он: поп не поп, расстрига не расстрига. Кто? Николай отшучивался: «Божий агнец, отданный на заклание». Но повстанцы, и прежде всего Иван Долженко, уже с неодобрением поглядывали на Угодника. Сбивает с толку, задуривает Билаша, у которого погибло полсемьи и сердце, понятно, ищет отдушину. Лев Зиньковский даже прямо спросил бывшего начальника штаба: «Что за птица с тобой воркует?» Нахальный тон не понравился Виктору Федоровичу, и он отрезал: «Не суй свой нос, куда не просят!»
Между тем основания для беспокойства у главного охранника были. Месяц назад Билаш высказался за новый союз с красными или перемирие, чтобы спокойно уйти в Турцию на помощь вождю тамошней революции товарищу Кемалю. Махно возмутился, считая, что армия это не поддержит, разбежится. Но начальник штаба все-таки телеграфировал Фрунзе. Думка была толковая. Коммунисты за всемирную революцию. Не раз об этом заявлял и Ленин. Почему же не остановить тут братоубийство и не дать шанс анархо-коммунистам? Э-э, нет! Тогда мир услышит правду о повстанцах из первых рук! Билашу не ответили. Он упрямо повторил запрос, и эта лента с записью попала Зиньковскому. Тот передал ее Батьке. Разразился скандал. Начальника штаба переизбрали. Виктор Федорович оказался не у дел, и тогда ему подвернулся Угодник.
— Кто ты? — лениво спрашивал его Билаш, когда падали с неба газеты. — Отвечай, а то контрразведка сует нос. Сцапают как шпиона, и фамилию не узнаю.
Николай пятерней вытер вспотевшую лысину и заговорил:
— Народец у вас крутой. Вконец отчаялся. Всё могут. Да я готов. Там… лучше.
— На том свете, что ли?
— А то где. Ты вот тоже считаешь, что там… свет!
— Не уверен.
— Вот и не стращай. Из черниговских крестьян я. Отец при рождении записан Колесо. Меня взяли в духовную семинарию и при выходе нарекли Колесовским.
Пытливость привела к толстовцам. Есть и такие мирные анархисты. Слыхал, нет, Виктор Федорович?
Тот поморщился. Занимая высокое положение среди повстанцев, он давно отвык от назойливых вопросов. Да и жарко, лень думать. Угодник продолжал:
— Обитали мы трудовой коммуной. Это же и ваша мечта, верно? Славные люди, бесцерковные, но с крестами на теле и в душе. Там я встретился и со Львом Толстым. Грозный дед, привередливый, хоть и проповедовал непротивление. Я эту ложь унюхал и убёг от них. А тут война. Меня в лечебный поезд определили. Нагляделся горя неизбывного. Зачем крошат друг друга? Никто не ведал. Собираясь в кучи для брани, люди теряют последние искры Божественного света. Не так ли?
Эти слова были новы и чужды Билашу. Он рассердился:
— Что ж, по-твоему, плюнуть на свободу и заживо сложить ручки в гробу?
— Ни в коем случае! — воскликнул Угодник. — Мы просто по-разному мыслим. Вы ищете свободу в толпе, как и комиссары. Из-за этого бьетесь. Они жаждут выловить ее и кастрировать, а вы противитесь. Но ее там нет, в орде. Пустая затея!
— Что же кастрировать, если ее нет? — резонно возразил Билаш, сердито прогоняя слепня, что жужжал и жалил.
— Да своеволие же! — в свою очередь удивился Николай. — Я же вам толковал. Сейчас идет бойня не за свободу — за своеволие. Ленин обольстился им, и Махно тоже. Войны все из-за этого. Давно пора понять: человек — не светоч, а лишь то, что нужно преодолеть. И силой здесь не поможешь.
Всегда сдержанный Билаш забыл о жаре, поднялся, сел. Таких зловредных трепачей ему еще не приходилось встречать. Что он мелет? Значит, все их жертвы — псу под хвост? Вася Куриленко ради чего погиб? Трошку Вдовыченко, раненого, замучили зря? Деда за что расстреляли?
— А пролитая родная кровь? — рыкнул Виктор. — Как с ней быть, Колесовский? Простить?
Тот нисколько не смутился, смотрел так же светло, вприщур, может, и от яркого солнца. Их войсковая колонна спускалась в балку, что раскинулась у села Голодаевкй. Впереди заманчиво блеснула речушка, но было явно не до купания.
— Батю моего, смирненького, красные повесили, — кротко проговорил Николай. — Боже упаси, я не мщу. Но бесовское самоистребление никак не приемлю. Слышите?
Виктор не успел ответить, да и не знал, что сказать, когда сзади затрещали пулеметы. Колонна сломалась. По сухому бурьяну на нее набросились автоброневики, кося кинжальным огнем кавалерию, пехоту на тачанках. Повстанцы заметались в низине, пытались вжаться в кусты, прятались за камни. В свисте пуль Билаш погнал коней вперед, напропалую. Пристяжной упал. Виктор обрубил саблей постромки, заметил, что Угодник сидит как-то странно. Полетели дальше, ворвались в село. Там огонь стал потише.
— Эй, спаслись! — Билаш толкнул спутйика, но тот не шевелился. Белая сорочка на боку была разорвана и в крови.
— У-у! — взвыл Виктор и больно прижал пальцами глаза. Отнял руки, присмотрелся — мертв святой!
Броневики не решились войти в Голодаевку, где их могли забросать гранатами из-за хат. Бой примолк. Повстанцы передохнули, узнали, что отряд Каменюка, с которым надеялись объединиться, недавно был взят в кольцо, порублен и рассеян, а остатки ушли за Дон. Весть эта повергла в уныние. Таяли последние надежды. А тут еще разговоры:
— Хлопци, бачылы, яка мала пшэныця? — спрашивали крестьяне. — Засуха. Ой, голод будэ!
— Нам бы коня поменять, — просили ездовые. Им строго-настрого запретили делать это самовольно.
— Якого коня? — ехидно отвечали мужики. — Амнистия вам. Чулы? Идить сдавайтесь. И продналог тэпэр. Нова политика. Нажралысь зэрна комиссары. Подобрилы!
После таких слов рушилась сама почва махновского движения.
— Да это же мы их заставили подобреть! — горячились командиры. — А свобода? Запрягут вас в ярмо большевики!
— Шо та свобода? Йийи в рот нэ покладэш. Порядок давай! Хватэ быться! — устало возражали селяне.
Наслушавшись их, повстанцы покатили дальше на восток, за пределы Украины. Дезертирство и брожение в поредевшей армии вынудили Батьку признать:
— Нет единства. Скликаем большой совет!
Стояли в селе Исаевке Таганрогского округа. Поскольку никаких секретов не было, вынесли стол под развесистую шелковицу, и любой желающий мог забраться на него и говорить. Первым поднялся Виктор Билаш.
— Я уже не раз предлагал заключить новый союз с Советской властью…
— А она что? — спросили из толпы.
— Молчит, стерва. Значит, нам один путь: через Кавказ в Турцию, к товарищу Кемалю.
— Верно! — шумел Иван Долженко.
— Кому мы там нужны? — не соглашались, смеялись другие. — Хай Махно скаже! Батьку давай!
Билаш спрыгнул на землю, мельком вспомнил Колесовского, подумал: «Вот она, толпа. Какая ей свобода?» А на стол подсадили Нестора Ивановича. Он подождал, пока утихнут особенно ретивые.
— На Украине мы теряем почву, и только, — начал негромко. — Селяне перестали нас поддерживать. Это факт! Они покидают армию, являются с повинной. Даже в Гуляй-Поле, — голос его креп. — Надо во что бы то ни стало сохранить войско! Не сдалась Галичина. Тоже наша земля. Туда нам путь. Вдохнем ей силу вольнолюбивых сердец, и успех обеспечен!
Снова зашумели. Батько поднял руку.
— Тогда так! Отходите направо все, кто со мной. А налево те, что с Билашом!
Войско разделилось. Налево колыхнулась большая часть. Махно молча наблюдал. Некоторые не знали, куда податься, метались из стороны в сторону. Батько достал из кобуры наган и выстрелил поверх голов. Поутихло. Все смотрели на него.
— Вы сделали свой выбор, — продолжал он. — Спасибо всем за героическую борьбу! Мы хотели добиться свободы личности, самоуправления, изобилия. И это будет! Только не верьте большевикам, не бросайте оружия. Спасибо еще раз!
Он низко поклонился и спрыгнул со стола. Начали обниматься, прощаться. Многие скупо плакали, догадываясь, что расстаются навсегда.
На исходе лета 1921 года они плыли на рыбачьих лодках через Днепр ниже Кременчуга. Насупившись, Нестор Иванович поглядывал на родной, обрывистый левый берег, что удалялся. Сколько там исхожено-изъезжено дорог, сколько друзей, товарищей и надежд похоронено! В большой лодке-дубе вместе с ним сидели Галина с Феней, Петр Петренко и Лев Зиньковский. А Иван Лепетченко и Пантелей Каретник гребли. Вот они — самые близкие. Сзади в остроносом челне Махно видел Якова Тарановского — последнего начальника штаба, сотского Захария Клешню, приютившего когда-то их, бездомных мечтателей, на чердаке в Рождественке, Василия Данилова, которому уже не было привычной работы. Ни одной пушки нет. В отряде всего-то три сотни бойцов, ни за что не пожелавших покинуть Батьку.
Примерно столько же было и когда разделились с Билашом. Да по пути сюда половина полегла, новые появились из тех, кому некуда податься. Где Виктор сейчас? Прорвался ли на Кавказ? (Прим. ред. — К тому времени отряд Билаша был уже разбит. Тяжело раненного Виктора Федоровича с Иваном Долженко и кучером переправили на Кубань, где они затаились. Вскоре Иван уехал на разведку и пропал. А Билаша выдал кучер. Бывший начальник штаба попал в камеру смертников, написал подробнейшие показания и был помилован. Расстрелян в 1938 году).
Нестор Иванович смотрел на волны, что бежали и бежали друг за дружкой. Ничем их не остановить. Только ветер если утихнет, тогда — покой. Значит, угомонились вихри революции? Устали мужики, придавленные засухой и надвигавшимся голодом. Вымотались. Шутка ли — семь лет войны! Лучшие из лучших, самое бродило народа порублено, повешено, разбежалось по белу свету. Какая бы еще нация в мире выдержала такое? Австрияки, немцы припёрлись — их били, они зверствовали. Красные, за ними добровольцы утюжили Украину вдоль и поперек, опять комиссары явились, потом барон Врангель и снова чекисты, заград— и продотряды. Уму непостижимо! Махно тяжко вздохнул. Эх, Гуляй-Полюшко-Поле! Загуляло, родимое, до белого каления и цыганского пота.
Тихому теперь Дону тоже досталось, хотя, может, и поменьше. После раздела в Исаевке Батько повел своих туда. Надеялся перед Галининой подкормиться, взять свежих лошадей, найти Ивана Пархоменко или Каменюка. Напрасно! Засуха свирепствовала в Миллерово, вокруг станицы Вешенской, и рано овдовевшие казачки вопили из-за каждой «убиенной» курицы.
По слухам, Пархоменко вроде бы подался на Тамбовщину к Антонову. Кинулся к ним и Махно. Уже в Курской губернии, однако, стало ясно, что выгорело повсюду. На повстанцев пялили глаза жалкие голодающие с детьми.
— Вы откуда? — спрашивали махновцы.
— С Волги, милые. С Урала-батюшки.
Словно сама природа лишила людей сил, чтобы не продолжали бойню. Удрученный Батько полетел снова на Украину, полагая, что хоть благодатная Херсонщина при хлебе. Фрунзе в который раз пытался перехватить «бандитов», но опять опростоволосился. Они прорвались к Днепру и теперь плыли на правобережье.
Там, в селе Мишурин Рог, их встретили без радости. Митинг некогда было затевать: уже вечерело, и повстанцы валились с ног от усталости. К Батьке подошел неунывающий Василий Данилов.
— Ужин готов. Но лошадки совсем дохлые, и мужики не хотят их менять. Тачанки скрипят же, как сто ведьм. Смазать бы.
— Ну? — не понял Махно.
— Так не дают же ничего, даже подков!
— Кто?
— Кооператив незаможных селян. Он тут всем заправляет. Чекисты захапали кулаков в заложники, а середняк снюхался с голотой.
— Лёва! — позвал Батько Зиньковского. — Ану мотай с Васей в кооператив и разберись, живо.
— Может, сам попросишь, Нестор, — заменила Галина. — Все-таки труженики.
Муж зыркнул исподлобья.
— А ежели и тогда заупрямятся? Скоро каратели нагрянут! Для кого же мы корячимся? Давай, Лёва. И не церемонься!
— Правильно, Батько, — поддержал его начальник штаба Тарановский, худой, с беспокойным взглядом запавших серых глаз.
Наскоро поужинав, повстанцы разбрелись по хатам и уснули. Галина еще сказала мужу в постели:
— Нэгарно выйшло. Ой, нэ по-людски.
— Перетерпят. Что ж нам теперь — кланяться каждому голодранцу? Их же, баранов, разделили на хозяев и бездельников, чтоб завтра со всех содрать три шкуры. Уже сегодня гребут продналог даже с погорельцев!
— Ладно. Будем спать, милый.
Измученные скитаниями, они обнялись и словно провалились во тьму. Издалека, смутно до них долетали какие-то шумы, звуки.
— Скорей, Батько! Та чуетэ! — просил Иван Лепетченко, что спал на кухне, а оказался почему-то у постели Махно. Тот по привычке вскочил, второпях натягивал галифе.
— Что там? — спросил.
— Счас узнаю, — адъютант выскочил на улицу.
Часовой, ругаясь, помогал кучеру запрягать лошадей в тачанку. Двое или трое неизвестных кинулись во двор, шарахнули из ружья. Лепетченко привычно выстрелил по теням, пригляделся: один с топором, другой с вилами, третий с берданкой. «Местные, суки!» — определил. Грохотало уже по всему Мишуриному Рогу. Топая, кто-то еще бежал сюда. Когда Батько с Галиной садились в тачанку, раскатисто бабахнуло из огорода. Адъютант быстро открыл ворота и на ходу заскочил на подножку. Стреляли сбоку, вслед. Бричка неслась по улице.
— Ай, ты ж! — вскрикнул Махно.
— Что, ранен? — Галина ощупывала его. — Потерпи, потерпи. Куда? Больно?
Они летели уже по степи. Лепетченко примостился рядом с кучером.
— Опять… в ноги… Т-твою ж мать! — сдавленно прохрипел Батько.
— Сидеть можешь? — спросила жена.
— Ничего… Не впервой…
На сухом придорожном кургане остановились. Адъютант присветил. Ноги Нестора Ивановича были в крови. Галина вытерла ее, насчитала шесть ранок: дробь или картечь попала. Пока делали перевязку, подъехали повстанцы.
— Мыкола, ты тут?
— А дэ наш сват?
— Кто видел Клешню? — перекликались они. Захария Петровича не нашли. Остался в селе навечно или побежал в другую сторону — кто знает. Недосчитались тридцать шесть человек.
— Звери! Во сне напали! — возмущались покалеченные.
— Та то чепуха, — сказал в темноте Яков Тарановский.
— Ничего себе! — подал голос Петр Петренко.
— Не перебивай, слухай, — продолжал Тарановский. — Я читал, японцы воевали с корейцами. Победили, заставили ежегодно давать дань человеческой кожей, снятой с тридцати казненных. Во народ!
— Не может быть, — усомнился Петр.
— А-а, не веришь. Та то опять чепуха. Тридцать тысяч ушей отрезали у корейцев и привезли в свою столицу для отчета. Ото зверье, так зверье!
Раненых перебинтовали, и отрядец поехал дальше на запад.
— Кооператоры бузят, — говорил Иван Лепетченко. — Такого еще не случалось.
— Свои ж, собаки, свои! — возмущенно гудел кучер.
Махно молчал. Ноги больно дергало, они горели огнем. Галина сидела рядом, тесно прижавшись к мужу.
Тут и без слов ясно было, что больше освобождать некого. Селяне с потрохами сдались на милость новой власти. «Нет, не так, — пытался сообразить Нестор Иванович. — Их задурили, несчастных, и они осатанели. Чем помочь? Ох, болит!» Пылали ноги, ныла душа. Свет был не мил.
А хлопцы ехали спереди, сзади и ждали команды от Батьки, который — они верили — все равно неистребим! В нем сидит какая-то чара.
Гонимая автогрузоотрядами банда Махно, в числе около 50 чел. при одном ручном пулемете, утром 20 августа 1921 года наскакивает на первую бригаду 7-й кавдивизии (около 600 сабель), беспечно располагавшуюся без всякого охранения в хуторах Приют Надежды — Горделевка.
Воспользовавшись поднявшейся паникой, Махно захватывает 25 тачанок с пулеметами и уходит в направлении на Новый Буг.
Э. Эсбах. «Последние дни махновщины на Украине».
Это случилось, когда остатки отряда задержались на развилке глухой лесной дороги. Нестор Иванович, перебинтованный до глаз, лежал на рессорной бричке. В последнем бою пуля зацепила шею и прошила правую щеку. Галина сидела рядом с мужем, нежно гладила его руку и приложила к своему животу. Раненый не шевелился, потом широко открыл глаза, веки дрогнули, и жена увидела слезу, что скользнула к бинтам.
— Спа… си… бо, — еле прошептал он.
— Да, батько, я беременна, — тихо подтвердила Галина. — Чуешь? Оно там. Наше!
Нестор давно ждал этого. Жена, единственная, впервые ТАК назвала его — батько. Не в старом народном смысле — уважаемый и мудрый, а в прямом — отец. У него будет наследник! Теперь можно и уйти. Вот оно, мягкое и теплое, шевелится во чреве. Прав был дед Панас-ведун. Зародилось!
К ним верхом подъехал Зиньковский.
— Куда же дальше? — спросил довольно грубо. — Налево, говорят, румынская граница.
Махно поднял руку и опустил. Лев понял это как знак согласия и повел повстанцев налево, по узкой лесной дороге. После дождя пахло корьем, грибами, полынной горечью.
Галичина осталась далеко в стороне. О ней нечего было уже и мечтать. Отряд дни и ночи остервенело преследовала седьмая кавалерийская дивизия. Вчера еле оторвались от нее.
Нестор Иванович поглядывал на густые, темные кроны дубов, грабов, что угрюмо нависали над дорогой. Голова его лежала на мягкой подушке и покачивалась, как бы вторя сожалению, что не унималось в сердце. Вот пал и последний из его боевых вожаков — Петр Петренко. Мировую войну выстрадал, всю гражданскую, никогда не прятался за чужую спину. Казалось, уж он-то… Зарублен веселый матрос с крейсера «Князь Потемкин Таврический» — мятежный Дерменжи. Как же он плясал «Яблочко»! А песня какая была!
Эх, яблочко, Та куда ж котишься? Попадешь до Махна — Не воротишься!Красная пуля не пощадила и неистовую Феню Гаенко. «Прощай, подруга», — только и успела сказать ей Галина.
«Сколько полегло? — думал Махно. — Кто ж остался на Украине? За что? За волю? Где она? Или мы, хохлы, правда, бесталанны и прокляты от веку?»
Хорошо еще, что Батько не слышал о страшной кончине последнего начальника штаба Якова Тарановского. А то вспомнил бы напоследок о мучениях священника со станции Орехово, паровозную топку и адский дым за трубой. Вспомнил бы и мрачное пророчество деда Панаса: «Не ты, малый, ответишь за всё — другие! Ох, невеселая им светит звезда».
Неделю тому повстанцы заняли богатые хутора и, несмотря на протесты селян, поменяли уставших лошадей. А тут вихрем налетела седьмая дивизия. Поднялась паника. Тарановский не успел выскочить из хаты, которую окружили разъяренные хуторяне. Яков долго отстреливался, но, когда кончились патроны, был схвачен теми же, ради свободы кого воевал. Его связали и бросили… в костер. Об этом, может, не осталось бы и памяти, но обуглившийся труп нашли красные конники и… захоронили его.
Махновцы остановились на возвышенности в дубовом лесу. Вдали, за редкой зеленью, синела река Днестр. Переплыть ее не составляло большого труда. Но как быть с Батькой? Ноги же изранены, щека разорвана. И примут ли румыны каких-то партизан?
— Что скажешь? — спросил проводника лысый, устрашающе дебелый Лев Зиньковский. Он теперь был за всех командиров.
— На этом берегу, вон там, село Бурсук. Есть лодки. Та й погранична застава.
— А подальше?
— Верстах в семи отсюда Каменка с войсками, — отвечал проводник, сухой и черный, похоже, из цыган.
— Румыны как, зверствуют? — еще поинтересовался Лев.
— Не-е, контрабанду ловят. А кто так, не-е.
Ступая по блестевшим желудям, Зиньковский подошел к тачанке, где лежал Махно, объяснил положение, предложил:
— Давай, Батько, разделимся. Кто с нами на ту сторону, остаются тут. Другие хай бегут на Каменку и ударят, чтоб отвлечь пограничников. Как закипит, возьмем заставу и…
Нестор Иванович махнул рукой в знак согласия. Они разделились в последний раз. На прощанье обнимались, плакали, облепили тачанку Батьки. По его бинтам тоже текли слезы.
— Мы будем ждать!
— Подлечись и сюда!
— Вертайся скорей! — говорили повстанцы, хотя каждый чувствовал с горечью, что их вольница и с ней мятежная молодость кончились навсегда. Разлетятся сейчас по миру, а он велик, и ты в нем меньше маковой росинки.
— Прости, Нестор. Не поминай… лихом, — прерывающимся голосом сказал Пантелей Каретник — единственный из тех, кто начинал вместе с Махно борьбу за свободу Украины летом восемнадцатого года. Правда, где-то еще таился АлексейЧ убенко.
— Бросаешь нас? — прошептал Батько.
— Тут моя Феня лежит. Куда я от нее? Прости и ты, мать, — отвечал Пантелей, крепясь, чтобы не заплакать.
— Спасибо вам всем! — Галина поднялась в тачанке и низко поклонилась. — Нэнька нэ забудэ. Мы хотилы йий воли. Пока… нэ взяла.
Каретник построил своих, и они на рысях пошли в сторону Каменки, затевать последний бой.
Спустя примерно час Лев Зиньковский под красным знаменем повел остаток отряда к заставе. Часовой забеспокоился, но заметил флаг и спросил:
— Откуда, товарищи?
— На помощь вам, — ответил Лев. — Каменку атакуют. Зови начальника!
Пограничников перестреляли, и через Днестр была отправлена первая группа повстанцев.
— Если не тронут — зовите! — напутствовал их Зиньковский.
Вскоре с чужого берега замахали руками. Лев поднял Батьку и отнес в лодку. Задувал уже осенний ветерок, плескались волны. Нестор Иванович лег в носу, чтобы видеть родную сторонку. Рядом примостилась Галина, и, нищие, почти никому теперь не нужные, они поплыли в холодную неизвестность.
ЭПИЛОГ
День спустя на глухую заставу прибыл с охраной Фрунзе. Ему никак не верилось, что, несмотря на гигантский перевес сил и хитроумные ловушки чекистов, Махно все-таки ускользнул! Станешь тут верующим. Нечистая сила в нем, что ли? И не вернется? А вдруг выскочит, как черт из табакерки? Снова с позором гоняться за ним? Да сколько же можно! Эх, рубаки-простофили. Ушел, разбойник, не наказанным. Но и ловок же, бес. Молодец!
Командующий долго стоял на берегу Днестра и всё с недоверием, а может, и завистью поглядывал на недоступную ему, чужую сторону.
После его доклада вожди не успокоились, решили заполучить Батьку с помощью дипломатии. Правительства Украины и России вручили ноту румынам, в которой просили выдать «главаря преступных банд». Им довольно холодно отказали.
Тогда через границу переправили террориста Медведева, известного впоследствии разведчика. Он выследил Нестора Ивановича. Но тот, везучий или учуявший опасность, опоздал на совещание, куда пробрался убийца, устроивший погром.
Вместе с Галиной Андреевной и некоторыми соратниками Махно перебирается в Польшу. Там их садят в концлагерь, потом в тюрьму, где и родилась дочь Лена, записанная на всякий случай Михненко. Состоялся суд, оправдавший арестованных махновцев.
Умер Ленин. Многие эмигранты ждали падения режима. Напрасно надеялся на это и Нестор Иванович. Зато (в который раз!) стряслось непонятное. В апреле 1924 года литовское агентство сообщило: «Махно покончил с собой, перерезав бритвой горло». На следующий день опровержение: была попытка самоубийства, но он спасен. А в заслуживающих доверия воспоминаниях И. Метт есть такие слова: «На правой щеке у Махно сохранился огромный шрам, спускавшийся до нижней губы, след от удара, нанесенного ему женой Галиной, пытавшейся убить его спящего. Случилось это в Польше, кажется, тогда она была влюблена в петлюровского офицера. В достоверности не знаю, что явилось непосредственной причиной этого дикого поступка. Часто на людях жена всячески пыталась скомпрометировать Махно, морально его унизить. Однажды в моем присутствии она сказала о ком-то: «Это настоящий генерал, не то что Нестор».
Как бы там ни было, с помощью друзей-анархистов он перебрался в Германию, затем в Париж. Работал где придется, жена стирала чужое бельё. Так, в бедности и безвестности утекло почти десять лет.
Лев Задов-Зиньковский между тем возвратился на родину, рассказал об утаенных архивах, кладах и работал в НКВД. В 1938 году расстрелян как шпион. Клады же безуспешно искал вместе с чекистами и последний адъютант Батьки Иван Лепетченко, арестованный при переходе границы и ставший провокатором. Он слал весточки в Париж, приезжали бывшие соратники, их легко ловили. Раненый Фома Кожин умер на операционном столе. Василий Данилов тихо и долго жил в Бухаресте…
А здоровье Нестора Ивановича ухудшалось, и в 1934 году сделали операцию. «Однажды я зашла к нему в госпиталь, — рассказывала впоследствии Кузьменко. — Он был уставший, измученный, ослабевший. На мой вопрос: «Ну как?» — он ничего не ответил, только из глаз покатились слезы. Я тоже заплакала. Нам больше не о чем было говорить… Через пару дней мы его хоронили на кладбище Пер-ла-Шез. Тело его было сожжено в крематории, и урна с прахом замурована в стене».
Галина Андреевна с дочерью пережили немецкую оккупацию и радовались победе. В 1945 году, однако, их под усиленным конвоем увезли на родину. Тут матери дали… восемь лет лагерей, а Лену сослали в Казахстан. Вот что она писала: «Дорогая мамочка. Я поступила в райпотребсоюз буфетчицей. Работала один месяц. Столовую закрыли. Я заболела тифом. Посторонние люди мне приносили кушать. В октябре 1948 года поступила в железнодорожный ресторан посудомойкой. Жила в чеченской семье. Была уволена, поступила в паровозное депо, но была уволена (не было документов). Временно служила домработницей у одной врачихи… Зимой лазила по паровозам и выпрашивала уголь для топки. Меня взяли на сырзавод, работа тяжелая. Перевели в горы за 20 км. Я принимала молоко, мыла бидоны, работала свинаркой. Поступила в члены профсоюза, добилась трудовой книжки. Стало немного легче».
Лишь в 1970 году мать с дочерью получили однокомнатную квартиру в городе Джамбуле. Там же и умерли. На скромном памятнике написано: «Здесь покоятся жена батьки Махно — «матушка» Галина Андреевна и дочь Елена Нестеровна».
1985-95 гг.
НЕСТОР ИВАНОВИЧ МАХНО Вехи жизни
26 октября 1888 года— в семье государственных крестьян с. Гуляй-Поле, православных Ивана Родионовича и Евдокии Матвеевны Махно родился сын Нестор. Крещен 27 октября, о чем свидетельствует запись в книге регистрации актов гражданского состояния Крестово-Воздвиженской церкви. Он был последним, пятым сыном.
Сентябрь 1889 года— умер Иван Родионович.
1896 год— Нестор начал учиться во 2-й гуляйпольской начальной школе. «Учился я хорошо, — вспоминал он. — Учитель меня хвалил, а мать была довольна моими успехами». Сколько классов он закончил — неизвестно. По одним сведениям — два, по другим — четыре. Больше ни в какие учебные заведения Нестор никогда не поступал.
1900–1905 годы— продавал хлеб, испеченный матерью, пас чужих овец и телят, подсоблял в красильной мастерской, был чернорабочим на чугунолитейном заводе.
1906–1908 годы— член группы анархистов-коммунистов «Союз бедных хлеборобов», который возглавляли В. Антони и братья Семенюты. Ими совершены более 20 доказанных экспроприаций и несколько политических убийств. Нестор принимал в них участие и был под полицейским надзором.
Март 1910 года— «я во главе шестнадцати обвиняемых был осужден Одесским военно-окружлым судом в г. Екатеринославе и приговорен к смертной казни через повешение, — писал Махно. — 52 дня сидел под смертным приговором, после чего, благодаря несовершеннолетию в момент преступления, а отчасти благодаря хлопотам матери, смертная казнь была заменена мне бессрочной каторгой».
4 августа 1911— 2 февраля 1917 года — пребывание в Московской центральной тюрьме, известной больше как Бутырки. Здесь Махно заболел туберкулезом. Все годы провел «закованным по рукам и ногам».
1917 год.
25 марта— возвратился в Гуляй-Поле и поступил маляром на завод «Богатырь».
Весна— избран председателем крестьянского союза. Женился на Насте Васецкой, которая ждала его из тюрьмы. Их сын-младенец умер.
Август— председатель Гуляйпольского совета рабочих и крестьянских депутатов. Комиссар районной милиции, а также председатель земельного комитета. Создается черная гвардия.
Осень— в районе произведен документальный учет помещичьей земли, инвентаря, и они безвозмездно розданы крестьянам. Созданы две коммуны.
18 ноября— в Гуляй-Поле состоялось торжество, посвященное провозглашению Украинской Народной Республики. 280 жителей записались в «вшьш козаки». Махно в этом не принимал участия, но и не препятствовал проведению торжеств.
1918 год.
Март— приход в Гуляй-Поле австрийских войск и расправы над анархистами, бойцами батальона самообороны. Махно уехал в Таганрог, затем в Москву.
Июнь— встречи с анархистами-теоретиками и князем П. Кропоткиным, а также с Я. Свердловым и В. Лениным в Кремле (ни в одном советском документе последнее не подтверждено).
29 июня— возвращение на Украину.
Сентябрь— соединение отрядов Махно и Ф. Шуся в с. Больше-Михайловке, где Нестора Ивановича впервые назвали «Батько». Здесь он женился на телефонистке Тине.
Ноябрь— австрийские войска оставили Гуляйпольский район, и его заняли махновцы, совершив рейд по Александровскому, Павлоградскому, Мариупольскому и Бердянскому уездам. В их рядах насчитывалось уже до 8 тысяч человек.
Декабрь— заключен договор повстанцев с большевиками, и 30 числа взят г. Екатеринослав. Махно объявлен Главнокомандующим советской революционной рабоче-крестьянской армией Екатеринославского района. Вскоре город был отбит петлюровцами.
1918 год.
3–4 января— съезд повстанцев в г. Пологи. Отряды объединены и переименованы в полки, решено создать единую тыловую базу. Начальником оперативного штаба избран В. Билаш.
Конец января— первый союз махновцев с советской властью. Все повстанческие полки вошли в состав Красной Армии, сохраняя выборность командиров. Казачьи войска Краснова объединились с армией Деникина, создав Вооруженные силы юга России.
18 февраля— Махно назначен командиром 3-й Заднепровской бригады одноименной стрелковой дивизии, начальником которой был П. Дыбенко.
27 марта— Заднепровская бригада взяла портовый город Мариуполь, сломив сопротивление белогвардейцев и французской эскадры. Как отмечалось в рапорте о победе, «стойкость и мужество полков были несказанными». Захвачено более 4 млн. пудов угля и много воинского снаряжения. Комбриг Махно и комполка В. Куриленко одними из первых в РСФСР награждены орденами Красного Знамени (документы пока не обнаружены).
Апрель— в Гуляй-Поле приехал учитель Нестора, самый уважаемый им анархист П. Аршинов и стал редактором газеты «Путь к Свободе».
10 апреля— открылся III районный съезд представителей крестьянских и рабочих Советов, штабов и фронтовиков, в котором приняли участие делегаты от 72 волостей. Принята резолюция против диктатуры большевистской партии, против ЧК и продотрядов.
30 апреля— Гуляй-Поле посетил командующий Украинским фронтом В. Антонов-Овсеенко, телеграфировавший в центр: «Никакого заговора нет. Сам Махно не допустил бы… Карательные меры — безумие. Надо немедленно прекратить газетную травлю махновцев». Бригада переименована в дивизию.
7 мая— поднял антисоветский мятеж командир дивизии Красной Армии Н. Григорьев, взявший перед тем Херсон, Николаев и Одессу. Он надеялся на поддержку Махно, однако не получил ее. К концу мая восстание подавили.
19 мая— конница генерала А. Шкуро прорвала фронт на стыке дивизии Махно и 13-й дивизией Красной Армии. Создалось тяжелейшее положение.
25 мая— Совет рабоче-крестьянской обороны Украины во главе с X. Раковским принял решение о «ликвидации махновщины в кратчайший срок». Л. Троцкий требовал «захватить дерзкого партизана Махно и доставить на суд и расправу».
27 мая— Нестор Иванович в телеграмме командованию отказывается от должности начальника дивизии. Все его командиры, однако, заявили Ленину и Раковскому, что никому иному подчиняться не будут. Троцкий пишет статью «Долой махновщину».
12 июня— в бронепоезде К. Ворошилова арестован оперативный штаб повстанцев во главе с Я. Озеровым. Их обвинили в разложении войск, предательстве и расстреляли.
Июнь— соратники уговаривали Нестора Ивановича выступить против советской власти. Он отказался. 55-тысячная дивизия распалась. Батько с кучкой соратников ушел на Херсоищину, где встретился с григорьевцами.
27 июля— в селе Сентове махновцами убит атаман Н. Григорьев.
17 августа— части Красной Армии под командованием А. Калашникова, В. Билаша и «железный» полк М. Полонского перешли на сторону Батьки в районе станции Помощной. Здесь же, в с. Песчаный Брод, он женился на Галине Кузьменко.
Август— к повстанцам приехал секретарь анархической конфедерации «Набат» В. Волин, впоследствии возглавлявший реввоенсовет, написавший декларацию «О вольных Советах».
1 сентября— в с. Добровеличковке Херсонской губернии создана Революционная Повстанческая армия Украины, состоящая из четырех корпусов. Командующим избран Махно.
20 сентября— в Жмеринке заключен договор между Украинской Народной Республикой, которую представляли С. Петлюра и Ю. Тютюнник, и Повстанческой Армией в лице В. Волина и А. Чубенко о совместной борьбе с белогвардейцами.
25 сентября— взрыв особняка в Леонтьевском переулке, где помещался Московский комитет большевиков. Теракт совершили анархисты, мстя за коварный арест и расстрел оперативного штаба махновцев.
26 сентября— под Уманью, у с. Перегоновки, Повстанческая армия разгромила корпус белого генерала Я. Слащева и устремилась в родные места. «Операции против Махно были чрезвычайно трудными, — вспоминал полковник Дубего. — Особенно хорошо действовала конница».
Октябрь— армия повстанцев составляла около 100 ООО человек. Были взяты: Александровой, Бердянск, Никополь, Мариуполь, Синельниково, Лозовая… В это же время войска Деникина продвигались к Москве. Их тылы, склады, связь оказались парализованными. Под угрозой была даже ставка в Таганроге. Это повлияло на весь ход гражданской войны и, возможно, истории XX века. Однако ни белые, ни красные по вполне понятным причинам никогда объективно не оценивали роль Махно.
9 ноября— взят Екатеринослав и объявлен «вольным безвластным городом». Под натиском отступающих белых он оставлен 8 декабря. Свирепствовал тиф.
1920 год.
9 января— Всеукраинский ревком снова объявляет Махно вне закона. Уставшие, больные повстанцы разбредаются по домам. Отдельные отряды безжалостно уничтожаются красными. Все, кто остался с Батькой, переходят на нелегальное положение.
Весна и лето— армия повстанцев возрождается, и комиссары, несмотря на все усилия, не могут ее уничтожить. Она совершает дерзкие рейды по Украине.
28 августа— в бою под Изюмом Махно ранен в ногу и лишь 3 сентября прооперирован в Старобельске.
1 октября— подписано последнее соглашение между правительством УССР и Повстанческой армией. Оно было вызвано успешным наступлением барона Врангеля, дошедшего до Александровска.
Октябрь — ноябрь— разгром Врангеля при активном участии Повстанческой Армии, насчитывавшей 10 000 штыков и сабель.
24 ноября— Командующий южным фронтом М. Фрунзе издает приказ: «С махновщиной нужно покончить в три счета». На выходе из Крыма поставлены заградотряды.
Конец ноября— возглавлявший махновцев в Крыму С. Каретник обманом вызван в Мелитополь и расстрелян. Повстанцам все-таки удалось вырваться в степь, но их окружили под с. Тимашовкой и почти всех уничтожили. В Гуляйполе возвратились около 200 человек.
Декабрь 1920 — сентябрь 1921 года— Повстанческая Армия вновь возродилась, десятки советских дивизий, бронепоезда, аэропланы никак не могли справиться с ней. Причем, не в горах или лесах — на открытых степных просторах Украины и России! И только усталость, засуха и голод одолели махновцев.
6 сентября 1921 года— израненный Нестор Иванович Махно с женой Галиной и оставшимися при них соратниками переправляются через Днестр и покидают Родину.
20 сентября 1921 года— нота правительств РСФСР и УССР правительству Румынии о выдаче Махно вместе с его соучастниками «как обыкновенных уголовных преступников». Был получен дипломатичный отказ.
11 апреля 1922 года— Нестор Иванович с женой и 17 бывшими повстанцами перешли в Польшу, где их посадили в концлагерь. Опять последовала нота об их выдаче, и снова получен отказ.
1922 год— пребывание в тюрьме, где Галина Андреевна родила дочь.
28 мая 1923 года— в Варшаве начался суд над Махно. В ноябре его оправдали.
1924 год— Нестор Иванович перебрался в Германию, где был посажен в крепость.
1925 год— побег из крепости и приезд в Париж. «Я обретаюсь ныне среди чужого народа, — писал он, — и среди политических врагов, с которыми так много ратовал». «Он вязал туфли, сапожничал, работал по устройству декораций в киностудии, потом при одной французской газете. Писал Нестор свои воспоминания», — много лет спустя рассказывала жена.
1929 год— вышла книга Махно «Русская революция на Украине».
6 июля 1934 года— в госпитале после операции умер Нестор Иванович Махно. Похоронен на кладбище Пер-ла-Шез рядом с парижскими коммунарами.
1936 год— во Франции издана вторая книга воспоминаний Махно «Под ударами контрреволюции». Обе увидели свет в Украине лишь в 1991 году.
Осень 1936 года— колонна республиканских войск в Испании названа именем Махно.
Осень 1997 года— в Гуляй-Поле впервые открыта мемориальная доска, посвященная единственному знаменитому земляку.

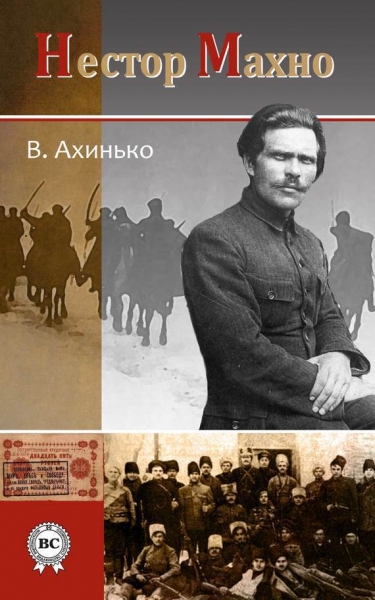


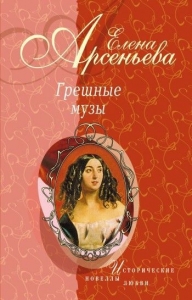




Комментарии к книге «Нестор Махно», Виктор Максимович Ахинько
Всего 0 комментариев