Иван Ольбрахт Никола Шугай
Предисловие П. Клейнер
В январе этого года общественность Чехословакии отметила семидесятилетие со дня рождения одного из своих крупнейших современных писателей — Ивана Ольбрахта.
За литературную и общественную деятельность Ольбрахт (род. в 1882 г.) удостоен высокого и почетного звания народного художника Чехословакии.
На всем протяжении своего творческого пути Ольбрахт стремился к правдивому изображению жизни родного народа. В ранний период творчества (сборник рассказов «О злых нелюдимах» (1913), романы «Тюрьма темнейшая» (1916), «Удивительная дружба актера Есения» (1919) писатель обнаружил тенденцию к психологизму и индивидуализму. Общественные явления служили только фоном для повествования.
Однако реалистические традиции передовой чешской литературы помогли Ольбрахту встать на путь реализма. Герои его произведений действуют на широкой арене общественной жизни.
Большое значение для творчества Ольбрахта имела его активная работа в Коммунистической партии Чехословакии и ее центральном органе «Руде право». Исключительно благотворное влияние на Ольбрахта оказало его знакомство с произведениями Горького и поездка в 1920 году в Страну Советов. Результатом этой поездки явилась книга «Очерки о современной России».
В двадцатые годы Ольбрахт создал ряд произведений, в которых с большой художественной силой отразилась политическая действительность Чехословакии того времени. Особенно показательна в этом отношении широко извечная советскому читателю книга Ольбрахта «Анна пролетарка» (1928). Как отмечал Готвальд, роман «Анна пролетарка» является «новой вехой в истории нашей национальной культуры: с ним полноправно вступил в чешскую литературу новый герой общества — рабочий класс, борющийся за руководящее место в народе и за осуществление своих социалистических идеалов».
Во время немецко-фашистской оккупации Ольбрахт принимал участие в нелегальном движении сопротивления. Он руководил окружным национальным комитетом в южной Чехии.
* * *
Значительное место в творчестве Ольбрахта занимают произведения, посвященные Закарпатской Украине.
После распада Киевского государства Закарпатская Украина попала под власть венгерского королевства; в 1867 году она вместе с Венгрией вошла в состав образовавшейся Австро-Венгерской монархии. В течение долгого времени Закарпатье было колонией венгерских феодалов и капиталистов, а его население подвергалось жестокой эксплоатации.
Под прямым воздействием Великой Октябрьской социалистической революции и последовавшей за ней венгерской революции (1919) народные массы Закарпатья поднялись на борьбу против своих угнетателей. Повсеместно трудящиеся захватывали помещичьи земли; в ряде городов и сел организовывались Советы рабочих, крестьянских и солдатских депутатов. Трудовое население решительно высказывалось за воссоединение с Советской Украиной в едином государстве. Однако по Сен-Жерменскому договору 1919 года Закарпатье усилиями империалистов Франции, Англии и Америки было включено в состав буржуазной Чехословацкой республики.
В 1939 году, после оккупации Чехии и Моравии гитлеровскими войсками, Закарпатская Украина стала добычей венгерских фашистов. В 1944 году Советская Армия-освободительница изгнала из Закарпатья немецких и венгерских захватчиков. Его население воссоединилось с украинским народом и вошло в братскую семью народов Советского Союза.
Передовая общественность Чехословакии всегда с сочувствием следила за жизнью и борьбой трудящихся Закарпатской Украины. В конце 20-х и начале 30-х годов, когда весь капиталистический мир охватил жестокий экономический кризис, голод и безработица в Закарпатье приняли угрожающие размеры. В это время в знак солидарности с трудящимися Закарпатья его посетили видные писатели Чехословакии: С. К. Нейман, В. Каня, К. Чапек, И. Ольбрахт и др.
Ольбрахт много раз в течение 1930–1935 годов приезжал в Закарпатье и подолгу там жил. Он исколесил почти весь край, хорошо изучил жизнь народных масс, их социальное и национальное положение. В результате этого изучения в 1931 году писатель создал книгу очерков «Страна без имени», переизданную в 1935 году под названием «Горы и столетия», сборник рассказов «Голет в долине» (1937), роман «Никола Шугай, разбойник» (1933).
Роман Ольбрахта «Никола Шугай, разбойник», получивший в 1933 году чехословацкую государственную литературную премию, был переведен на двенадцать языков, в том числе и на русский.
В основу произведения положены подлинные события, связанные с жизнью закарпатского крестьянина Николы Шугая. Дезертировав во время первой мировой войны из австро-венгерской армии, Шугай вынужден был скрываться от жандармов. Защищаясь, он убил нескольких преследователей и с тех пор путь к мирной жизни был для него навсегда отрезан. Лишенный возможности мирно трудиться, Никола вместе с несколькими односельчанами начал совершать смелые набеги на богачей и ростовщиков, грабить их и мстить за обиды, причиняемые бедноте. Беднякам Шугай помогал и этим снискал их расположение и поддержку. В 1921 году вместе с братом Юраем он был предательски убит.
Еще при жизни Шугая весть о его смелых делах, рассказы о его любви к беднякам и ненависти к богачам распространились по всему Закарпатью. Народ создавал легенды о храбрости и силе Шугая, о его доброте и справедливости, о зеленой веточке, которой он якобы отгонял жандармские пули. Многочисленные легенды о Шугае послужили Ольбрахту канвой для романа. Основной идеей произведения является мысль о никогда не прекращающейся в народе борьбе за лучшую жизнь.
Рисуя обобщенный образ «разбойника», олицетворявшего стихийное сопротивление народа, Ольбрахт показал Шугая как продолжателя дел легендарного бунтаря Олексы Довбуша. Связь двух героев народных сказок и легенд писатель особенно ярко подчеркнул в мастерски переданной им поэтической легенде о Довбуше. Однако Ольбрахт справедливо не показал Шугая вождем народных масс. Он бунтарь-одиночка, типичный «благородный» разбойник, который у богатых брал, а бедным давал и мстил за свою беду и горе простого люда.
Ольбрахт изобразил Шугая не только храбрым разбойником, но и обычным крестьянином. Это нисколько не снизило эпического величия образа Шугая, а сделало его более жизненным. Читатель видит в нем удалого разбойника и тоскующего возлюбленного, способного на безумно смелые поступки ради встречи с любимой, заботливого и нежного брата, великодушного и доброго к беднякам, беспощадного и жестокого врага богачей.
Писатель справедливо показал обреченность своего героя и тем самым подчеркнул историческую неизбежность поражения стихийного выступления одиночек.
Роман не свободен и от ряда противоречий. Так, правдиво раскрыв причины гибели Шугая, Ольбрахт проводит ошибочную мысль о том, что «разбойничество» — это «единственный знакомый крестьянам способ самозащиты». Утверждая, что идея социальной борьбы никогда не умирала в народе, Ольбрахт ограничился изображением только стихийного сопротивления масс, несмотря на то, что в те годы в Закарпатье уже развертывалось организованное революционное движение. Не противопоставив стихийным выступлениям организованное сопротивление народа под руководством первых коммунистических ячеек, Ольбрахт тем самым обеднил идейное содержание романа.
Неубедителен в книге и эпизод с рабочими, поднявшими забастовку под лозунгом: «Да здравствует Никола Шугай! Никола Шугай поведет нас!» Этот факт не был типичным для движения пролетариата, самого сознательного и передового класса общества.
Несмотря на ряд недостатков в книге, чешскому писателю удалось показать привлекательный образ народного «мстителя за вековые муки и притеснения простого люда», поэтически воссоздать легенды о Шугае, нарисовать запоминающийся образ Эржики — жены Шугая. Правдиво очерчены и второстепенные персонажи произведения: брат Шугая Юрай, доктор, сержант Свозил и другие. Реалистически описан своеобразный быт Закарпатья, его сложные социальные и национальные отношения.
В романе автор мастерски соединил реализм со сказочной фантастикой, почерпнутой из богатого источника народной поэзии. Книга содержит в себе элементы легенд и сказок, отсюда — эпический стиль повествования, гиперболизация образов. Необходимо отметить также и подлинно народный язык произведения, богатый меткими пословицами и поговорками, яркими сравнениями.
Крупный художник и публицист, Ольбрахт в настоящее время отдает свой талант делу борьбы трудящихся народно-демократической Чехословакии за построение социализма, за мир.
П. КлейнерГЛАВА I В шалаше над Голатынем
Когда автор этой повести собирал на родине Николы Шугая поверья о неуязвимом этом муже, который у богатых брал, а бедным давал, — у автора не было оснований не верить людям серьезным и почтенным, утверждавшим, что неуязвимость давала Шугаю веточка трилистника. Никола отмахивался ею от жандармских пуль, как хозяин отгоняет роящихся в июле пчел.
В лесном этом и гористом крае еще и теперь случаются такие дела, что, услышав о них, мы недоверчиво усмехаемся лишь потому, что у нас их не бывало уже сотни лет.
В этом крае гор, громоздящихся на горы, пещер и ущелий, где в сумраке вековых лесов родятся ключи и истлевают древние клены, есть еще и сейчас зачарованные места, откуда не выберется ни олень, ни медведь, ни человек. Там утренние туманы медленно ползут по кронам елей наверх, в горы, как шествия мертвецов, а облака, плывущие над ущельями, — это злые псы с разинутыми пастями. Они сходятся за горой, замышляя недоброе.
А внизу, в узких долинах рек, в селеньях, зеленеющих кукурузными полями с желтыми пятнами подсолнухов, живут вурдалаки. Едва сядет солнце и на землю падет сумрак, они, перекатившись через колоду, оборачиваются волками, а к утру — опять людьми. Здесь в лунные ночи скачут на конях молодые ведьмы, и кони эти — их мужья, которых во время сна превратили в коней коварные жены.
Колдунью здесь искать недалеко, она не за семью горами, не за семью реками, — вон она на пастбище сыплет соль на три коровьих следа, чтобы пропало молоко у буренки.
Можете навестить и добрых колдуний в их хижинах и отозвать их от прялок, чтобы они заговорили вам змеиный укус или, выкупав хворое дитя в отваре из девяти трав, сделали его здоровым.
В душном затишье дремучих лесов здесь живет еще старый бог земли. Он обнимает долины и горы, играет с медведями в густых зарослях, шалит с коровами, отбившимися от стада. Он любит звук пастушьего рожка; он гуляет по верхушкам старых деревьев, пригоршнями пьет воду из ручья, кивает вам ночью из костра на выгоне, шелестя листвой, прокатывается по кукурузному полю и качает желтые шапки подсолнухов. Древний языческий бог Пан, покровитель лесов и стад, он и знать не хочет того пышного спесивого бога, что живет в золоте и парче за пышными иконостасами, или брюзгливого старца, скрывающегося за потертыми завесами синагог.
Однако россказни о чудесной веточке Шугая — это неправда. Это люди болтают, а было оно иначе.
Так сказал мне пастух с пастбища над Голатынем. И, поворачивая над огнем вертел с грибами, он рассказал мне о роковом случае, который решил судьбу разбойника Николы Шугая. О таком случае приятно слушать зимним вечером, сидя у печки в теплой избе. Это настоящая быль, хотя и просятся здесь на язык слова «знамение» и «чудо». Но не годятся они. Взяты эти слова из церковного обихода и означают что-то небывалое, чему надо удивляться. А в случае с Николой Шугаем нет ничего небывалого и удивляться нечему. Ибо в этих краях все знают, что в кукурузе живут земляные девы, а в топких стремнинах — злые русалки. Это всем известно не хуже, чем то, что хлеб зреет в июле, а конопля — в сентябре. И всякий знает, что человек погиб, свалится ли он с плота в пучину половодья, или ненароком ступит на место, куда колдунья вылила остатки своего нечистого зелья.
У костра, высоко вздымавшего к вечернему небу дымные языки пламени, в кругу пастухов, начал голатынский пастух свой рассказ о Николе Шугае. Дождь, мерный и теплый, не дал ему закончить, и он продолжал свою повесть на сене, во тьме шалаша.
Докурив свои трубки с замысловатыми бронзовыми крышечками, пастухи мерно дышали во сне. В крышу барабанил дождь, а за деревянной перегородкой, где спал скот, то из одного, то из другого угла слышалось легкое звяканье — нежное и мягкое, точно журчанье ручейка по гальке. Это животные чуть шевелились во сне, тихо звякая бубенцами. Необычный этот звук придавал особый отпечаток всей ночи, — казалось, что кто-то прячется по углам, тайно подслушивает и тихонько поддакивает.
Вот он, этот рассказ о неуязвимом Шугае, о разбойнике Николе Шугае, который у богатых брал, а бедным давал и никогда никого не убил, кроме как защищаясь или из справедливой мести. Ибо таковы правила чести всех разбойников в тех землях, где народ еще любит их и делает своими героями.
Дело было во время войны, где-то недалеко от фронта. Неделями толкались здесь дезертиры, прячась от полевой жандармерии и уверяя офицеров 52-го полка, что ищут 26-й, а офицеров 26-го, — что никак не могут найти 85-й Балашагиарматский. Среди них были Шугай и его приятель — немец-машинист из Трансильвании. Скрывались они в избе какой-то бабы. Баба была некрасивая — хуже некуда, а ее глиняная лачуга с высокой соломенной крышей торчала, точно кочка на поле или высокая шапка, а под ней спрятано грязное яйцо, из которого наверное не вылупится ничего путного.
Были у бабы две дочки — глупые волосатые девки, у которых ноги были покрыты блошиными укусами. Но дело было в глуши, а солдаты ведь не очень-то заботятся о красоте, — больше о том, чтобы позабавиться между двумя взрывами гранат. Ну, и спутались, конечно, с девчатами. Ходили с ними пасти коров и в лес за дровами, а ночью лазили к ним на сеновал.
— Ты, русин! — как-то за ужином сказала баба Шугаю. — Ты будешь славным мужем в своем краю, будут тебя бояться войска и генералы. — Она накладывала себе из миски соленых огурцов с луком и говорила так, точно речь шла о колесе или о тесе для крыши. — Хочу, чтобы ты взял в жены мою дочь Вассу.
«Чтоб ты ослепла! — подумал Шугай. — Пронюхала ведьма обо всем, плохи дела».
Но сказал:
— А почему бы и нет? — И добавил с надеждою: — А что, если меня завтра пристрелят?
Баба ни слова в ответ.
— А ты, немец, — продолжала она, проглотив кусок, — ты будешь самым богатым человеком в своей земле. Женись на моей дочери Евке.
— Угу! — сказал немец. — Лишь бы уцелеть в этой заварухе.
По лицу его было видно, что такие разговоры ему не милей, чем бельмо на глазу.
Солдатики, конечно, и не думали о женитьбе. Никола уже тогда любил Эржику, а у немца тоже была на родине краля. Приятелям хотелось только прятаться да пить-есть вдоволь. У бабы им жилось неплохо.
Стало им препротивно на душе. Евка громко чавкала, набив рот огурцами и луком, а Васса деревянной ложкой чесала в затылке, под косой ее кусала вошь.
— …Но если меня обманете, беда вам, трикрат горе, — продолжала баба, и эта угроза была тем страшнее, что баба произнесла ее равнодушным тоном, глядя куда-то на стену.
— Ну вот еще! — буркнул немец, чтобы сказать что-нибудь.
Шугая вдруг охватило очарование этой тишины и вечернего полумрака. Точно там, вдали, у него дома, кто-то вырезал кусок родины и перенес его сюда, к этой лачуге с соломенной крышей. А дома осталось на том месте пустое пространство, зачарованный круг, где будут бродить заблудившиеся медведи, олени и человек. Шугай явственно ощутил родные запахи гнилого дерева и смолы, что вливались сюда через узкие оконца хатки.
— Дайте мне ваши миски, — сказала баба.
Она ушла с солдатскими мисками и через минуту вернулась с каким-то зельем в них.
— Нате, выпейте.
Зелье не было ни горьким, ни сладким, ни вкусным, ни противным.
— Теперь не тронет вас никакая пуля, никакой снаряд. Ни из ружья, ни из пистолета, ни из пулемета, ни из пушки.
Это было похоже на колдовство. У Николы пробежали мурашки по спине. В тот вечер они рано пошли спать и ночью не лазили к девчатам. А перед сном долго шептались на сене.
— Чорта с два! — сердился немец. — Что она вправду думает поймать нас на такую сказку? Пускай рассказывает ее таким же глупым бабам, как она сама, а не нам, старым солдатам. Осел я был, что дал себя обдурить и не высказал ей это все в глаза. Да еще пил эту дрянь.
Надо сказать, что сердился он всерьез, несмотря на то — или именно потому?.. — что какой-то внутренний голос твердил ему: а ведь было бы хорошо, если бы все это оказалось правдой.
— Удерем, — сказал Шугай.
— Верно! Дня через два навострим лыжи.
На чорта им эта баба!
Однако прошло несколько дней. Как-никак здесь был мир и покой, точно жили они за сто верст от войны и за сто лет до нее. Никто сюда не ходил, и ребятам не хотелось обратно в пулеметный ад под русскую шрапнель. Чудесная безопасность — самый лучший дар на свете, даже если у вас нечиста совесть. Приятели опять ходили с девками на пастбище и в ольшаник.
Как-то рано утром оба они были на дворе. Никола обстругивал ручку косы, а немец сидел под забором и играл на губной гармонике. Хозяйка вышла из избы, приставила к амбару лесенку и полезла за чем-то на сеновал. Порыв ветра поднял бабе юбку, и приятели увидели престранную вещь: бабий крестец порос шерстью и переходил в хвост, как у козы.
Немец, глупый немец, который знал только свои машины и разные там циферблаты и ни во что — не верил, покатился со смеху. Но Шугай смутился. Ведь он был из Подкарпатья[1], а там еще живет бог. Никола Шугай был земляк Олексы Довбуша, славного атамана, что с семью сотнями удальцов семь лет разбойничал по краю, у богатых брал и бедным давал, и не могла его взять простая пуля, а только серебряная, над которой было отслужено двенадцать молебнов.
И Никола Шугай сразу сообразил, что перед ним ведьма, баба-яга, колдунья.
— Погубит нас! Убьем ее… — прошептал Никола.
— Э, к чему? — отмахнулся немец.
Однакож что для солдата какая-то баба?! Наубивали сами немало и убитых людей нагляделись вдоволь. Почему не угодить товарищу? Тем более что у немца с бабой есть свои счеты за посягательство на его здравый смысл.
Наутро пристукнули они бабу и дали тягу. Побродили еще по краю и вернулись в свой полк. Опять стреляли, таскали мертвых и раненых с поля, нюхали дымную окопную вонь и подтягивали животы от голода. Мечтали, как и все солдаты, о какой-нибудь чистой ране, которая принесет немного вреда, но зато избавит их на несколько месяцев от фронта, а может быть, и совсем вернет домой.
О том, что была где-то какая-то баба с дочерьми Евкой и Вассой, приятели и думать забыли.
Как-то раз шли они дозором по дубовому лесу. Трое суток назад была жаркая битва. Четыре часа подряд ревели пушки, сквозь мутный пороховой дым и тучи песка сверкали молнии артеллерийского огня. Русские три раза кидались в атаку, потом была контратака, кругом грудами высилось дымящееся пушечное мясо, и, когда затих весь этот ад, у солдат с трудом хватило сил перевести дух и удивиться, что они остались целы и невредимы.
Теперь, после трех дней затишья, опять началось оживление у противника и приготовления в наших окопах. Значит, опять начнется музыка сначала. Спрятаться? Куда? Удрать? Из окопов не очень-то удерешь. В плен? Ни за что!
— Слушай, Шугай, — сказал немец, шагая между деревьев, — с меня хватает, я сыт по горло. Подстрели-ка меня.
С таким делом надо обращаться к верному товарищу. Самому это сделать трудно, придется стрелять через буханку хлеба, иначе порох опалит края раны, и, вместо избавления от окопов, угодишь под военно-полевой суд.
— Ты этого хочешь?
— Хочу, — кивнул немец.
Он уперся рукой в ствол ближнего дуба. Его белая ладонь походила на бумажную мишень, на которой упражняются новобранцы.
Шугай отступил на несколько шагов и прицелился. Хлопнул выстрел. Эхо прокатилось по лесу.
Солдаты удивленно переглянулись. В чем дело? Промах.
— Эх ты! — обозлился и удивился немец.
Шугай молчал. В этот миг на него снизошло что-то огромное, чему нет названия. Было это нечто потустороннее. Все кругом притихло и потускнело, точно под дыханием смерти. Смутный великий страх объял Николу Шугая.
— Еще раз. Подойди ближе.
Что это явилось Шугаю? Смерть? Судьба? Бог?
— Не дури, стреляй! — слышит Шугай далекий, точно из-под земли голос. Рука товарища бела, как бумажная мишень, бела какой-то жуткой, невиданной белизной.
Шугай прицелился, как во сне. Был он отличным стрелком. Таких один-два на бригаду. Майор, бывало, подбрасывал монету, а Шугай попадал в нее на лету.
Шугай надавил спусковую скобу. Он услышал, как вдалеке затих звук выстрела.
— Что ж ты делаешь, скотина! — вскричал немец, сердито глядя на свою белую ладонь. — Стрелять не умеешь! Бог весть, что там подумают, услышав здесь этакую пальбу.
Шугай не отвечал. Он вскинул ружье на плечо и молча зашагал прочь. Немец пошел за ним, ругаясь сквозь зубы.
Вдруг Шугай оборотился. Лицо его было бледно, глаза необычно блестели, голос прозвучал властно:
— Теперь ты.
— Я? в тебя? — сказал немец. — Ну, ладно.
— Только не отходи далеко.
— Куда стрелять?
— Хватит, стой. Стреляй в грудь.
— Ты спятил!
— Нет, не в грудь. Целься в голову.
— Осел!
Товарищ, конечно, не стал стрелять ни в грудь, ни в голову. Он нацелился в плечо. Хороший прицел, дистанция двенадцать шагов, можно ли промахнуться на таком расстоянии? Нет!
По лесу снова прокатился выстрел. Шугай спокойно стоял у могучего пня и смотрел куда-то мимо товарища, точно все это его не касалось, и мысли были заняты совсем другим.
— Да что же это? — побледнев, пробормотал оторопелый немец. Он вертел в руках ружье, осматривая мушку.
— Пошли, — сказал Шугай.
И они зашагали дубравой мимо редких старых пней, между которыми были большие просветы, зеленые сверху и синие снизу. Все было какое-то странное, лес казался иным, чем минуту назад. Солнце уже клонилось к западу, но лес сиял. Явственно виднелась каждая морщинка коры, зелень листвы точно стала свежее, ноги вязли в невиданном раньше мху. Треск ломавшейся под ногой ветки, прежде заставлявший вздрогнуть, теперь звучал ясно и весело. Противник казался далеко-далеко. Да был ли он вообще? Была ли война?
Друзья молча шагали рядом. Только к вечеру, уже в поле, близ окопов, немец сказал:
— Значит, ты веришь в эту чепуху? — Он пытался придать своему голосу дерзкий тон, но слова его звучали неуверенно.
Шугай и бровью не повел.
Еще много недель тянулась мерзкая жизнь в лагерях и окопах. И пока другие солдаты, глядя на летящий снаряд, гадали: «Если упадет вон там в поле, за дикой грушей, — вернусь с войны живой», — наши приятели глубоко в сердцах таили свою судьбу, никогда не обмолвившись о ней друг другу. Шугай — потому, что об этом говорить не полагалось. А немец не хотел лицемерить перед собой и товарищем.
Потом они расстались и больше не встретились никогда. Немца откомандировали на службу связи, роту сменили, и она отошла в тыл, а потом на другой участок фронта, и, как часто бывает на войне, люди потеряли друг друга из виду.
Но жена Шугая Эржика, старый отец его Петро и свекор Иван Драч, перенесшие немало гонений, и все друзья Шугая, которые теперь, через одиннадцать лет, уже не боятся признаться в дружбе с ним, охотно подтвердят вам, что Никола частенько вспоминал о немце и не раз говорил, что хотел бы еще встретиться с ним.
Так рассказывал пастух в шалаше над Голатынем.
ГЛАВА II Колочава
С одной стороны узкой долины — вечно покрытый облаками пик Стримба и вершины Стременош. Дальше — Тисова, Дервайка и Горб. С другой — Бояринский верх, Пир-гора, Красивая и Роза. Кругом одни горы. Сланцевые и песчаниковые породы смяты, изломаны, прогнуты и вознесены к облакам. Горы, холмы, снова горы, перерезанные пропастями, пещерами, ущельями, в которых едва пройдет шеренга из четырех человек, тысячи родников и горных ключей, чьи воды стремительно бегут по валунам, а в тихих заводях стоят зеленые, как изумруд. Здесь с ревом прокладывает себе путь река Колочавка. И там, где течет она среди расщепленных скал, сливая свои воды с Тереблой, — уже течет, а не мчится, прыгая по камням, гордая своей победой над горами, что отдали ей в долине русло шагов в сто шириной, — там лежит деревня Колочава.
Под осыпающимися скалами бежит река. На другой стороне — дорога. А между ними — деревня, такая длинная, что, когда путник, не знающий этих мест, идет по дороге мимо изб и еврейских лавчонок, потом вдоль лугов и садов и опять мимо домиков и изб, у него, смотря по характеру, нарастает раздражение или тупая покорность, ибо после часа, после двух и трех часов ходьбы ему все еще отвечают, что он в Колочаве, в, Колочаве у Негровиц, в Колочаве на Горбе, в Колочаве-Лазе.
Впрочем, имя Николы Шугая связано только с Колочавой-Лазой. О ней и будет речь.
Колочава-Лаза обстроена лучше всех, есть в ней даже католический костел. Шоссе здесь переходит в улицу, огороженную с обеих сторон забором и посыпанную речными ракушками и галькой, которая приятно хрустит под ногой. Вдоль улицы тянутся изгороди — тын, местами плетень, местами даже настоящий дощатый забор. В нем сделаны калитки и перелазы, то есть места пониже, где с помощью двух лавочек или просто больших камней человек или собака — но не скот! — легко перелезают через забор.
За заборами — дворики, избы, а между ними и рекой Колочавкой — сады. Летом Колочава вся в цвету, смесь зеленого, красного и желтого. Зеленый — это конопля и грядки картофеля, вьющиеся бобы расцветают кровавыми каплями, а сотни подсолнечников, зреющих по краям грядок, отливают золотом. Желтизной же поздним летом светят цветы рудбекии, бог весть из каких панских садов занесенные сюда. Высокие стебли рудбекии вьются по заборам и обнимают кресты на распутьях, массивные кресты из двух бревен с грубо намалеванным Иисусом.
Живут здесь русины[2] — пастухи и лесорубы — и евреи — ремесленники и торговцы. Бедные евреи и состоятельные евреи. Бедные русины и совсем нищие русины.
Правда, католик ни за какие блага на свете не отведает в пост скоромного, а еврей лучше умрет, чем выпьет вина, к которому прикоснулся гой, однакоже за столетия обе стороны уже привыкли к этим взаимным странностям, и религиозная ненависть чужда им. И если русин подсмеивается над евреем за то, что тот не ест свинины, обедает в шапке и по пятницам зря жжет дорогие свечи, то это самая добродушная насмешка. И если еврей презирает христианина за культ казненного человека, презрение это носит весьма отвлеченный характер. Заглядывают один к другому и в религиозные дела и в кухню с одинаковой легкостью. Часто заказчик-русин, приехав с утра пораньше, к ремесленнику-еврею, застает его еще за молитвой. Хозяин спокойно выходит к гостю в своем молитвенном облачении, желает ему доброго утра и начинает обстоятельно торговаться о цене за оковку телеги, починку сапог или вставку стекол. Всевышнему не к спеху, и он подождет.
Повседневными мелочами связана жизнь евреев и русинов. Заходят они друг к другу занять немного кукурузной муки или яиц, рассчитаться за корм для скота, за извоз, работу и прочее. Но не дай бог перейти за грань этой повседневности. Тут сразу объявятся два различных склада ума, два темперамента и два враждебных и злых бога.
Это, разумеется, относится лишь к бедным евреям — ремесленникам, извозчикам, мелким торговцам и людям, которые вообще живут неведомо чем, Что касается богатых евреев — Абрама Бера и Герша Вольфа (но не Герша-Лейбы Вольфа!), — их одинаково ненавидят и евреи и русины.
Хлеб здесь не сеют, ибо тени гор все утро покрывают деревню, и весна приходит поздно. Кругом, кроме приусадебных садов, одни леса и пастбища. Однако жить есть чем. Весной мужики снимают косматые овечьи кожухи, берут на плечи топоры и вместе со снегом спускаются с гор в долину. Они шагают по тропинкам через еще не оттаявшие лесные прогалины, и лезвия топоров на их плечах блестят в ярком солнечном свете. Они идут к подрядчику, и тот везет их в Галицию, Трансильванию, Боснию или Герцеговину. Подрядчик частенько удирает с артельными деньгами, он всегда заодно с хозяином, он обкрадывает артель на харчах, на деньгах, на плате за проезд, и мужики, выведенные из терпенья, частенько бьют его, и все же к июлю все возвращаются домой с пачкой кредиток по двадцать крон, зашитых в поясе.
А пока мужики в отсутствии бабы сгоняют своих овец на цветущую лужайку и устраивают праздник случки.
Девушки на этих праздниках скромны. А замужние бабы, слегка под хмельком, поют и визжат под музыку двух скрипок и турецкого барабана. Главный пастух со знатоками прикидывает, сколько каждая овца даст молока за лето, и уводит огромное стадо далеко в горы.
Потом отводят на пастбище и рогатый скот. Бабы окапывают деревья в садиках и ждут мужей. Те возвращаются в начале июля. Закончив сенокос на ближних склонах гор, где трава рано готова для покоса, мужики, взяв на плечи уже не топоры, а косы, идут в венгерские поля работать из «десятины». Когда кончается жатва, они возвращаются вместе с батраком своих венгерских хозяев, который довозит им до самых хат их долю — мешки пшеницы и золотого кукурузного зерна.
Осенью и зимой тоже никто не бьет баклуши. Работают на лесопилках, на рубке леса, гонят плоты по Теребле до самой Тиссы, а оттуда в Венгрию. Заработка хватает на еду, остается и на табак, и на водку, и бабам на кумачовые платки, черные передники и бусы.
Неплохо жилось и евреям.
И вдруг началась война, чтоб ее чорт побрал. Уж не топоры, не косы понесли хлопцы на спинах, а ружья.
В одиночестве коротали дни свои жены. Правда, так бывало и раньше, но разве то было одиночество?
Ясные дни казались омраченными огромной темной тучей, под которой трудно вздохнуть полной грудью.
О мужьях нет никаких известий, мало кто из них умеет писать.
И, стоя в церкви перед чудотворной иконой девы Марии, никто из женщин не был уверен, что молится не за полуистлевший в могиле скелет.
Однажды пришел из города старый почтарь Шемет, принес и прочитал по складам листок, на котором среди отпечатанных строк было вписано имя Андрея Иваныша и еще какие-то слова о поле брани и защите престола.
И значило это, что муж мертв и никогда уже не вернется домой.
Ах, господи боже ты мой! Но было это все-таки лучше, чем когда муж возвращался безрукий, безногий или слепой. Точно прибавлялось еще одно дитя в доме, а ведь на печи и так слишком много притулилось этой мелюзги, которая слезала лишь затем, чтобы пищать и протягивать руку за ломтем кукурузного хлеба. А где его взять? Урожая со своего огорода хватало едва до рождества, а мешки с кукурузой уже никто не подвозил к дверям. Хуже того — приходили с жандармами какие-то казенные господа, сгоняли стада с пастбищ, уводили последнюю скотину, лишая деревню даже молока и сыра, а платили бумажками, на которые ничего нельзя было купить.
Голод настал. У детей пухли животы, у матерей не было молока для новорожденных, этой единственной памяти об отпуске мужей. Был такой голод, что хотелось выть и убивать.
«Король победит, он наградит своих верных подданных за все лишения», — провозглашали с кафедр католические попы. И бабы молились за то, чтобы уж поскорее победил венгерский король. Но венгерский король был разбит наголову.
«Царь освободит вас, — шептали православные попы. — Он даст вам мир и свободу». Ах, типун вам на язык! Каждый сулит свободу, а никто не даст горсти кукурузной муки. Каждый обещает мир, — но потом, когда победит. Все-таки молились и за царя. Скоро загремел и царь. Пришли войска, вешали и уводили людей. Деревня надеялась уже только на силы небесные. Бабы ходили к гадалкам, приносили портреты из газет и открытки с изображениями императоров, гадалки бормотали над ними непонятные заклинания, прокалывали иголкой голову и сердце и возвращали владелицам, которые потом вешали их коптиться в трубу. Франца-Иосифа[3] удалось уморить таким путем. Но что толку? Панов и адской нечисти, которая с ним заодно, была такая сила, что не одолеть и гадалкам.
Женщины уже ни во что не верили, ни на что не надеялись.
Такие времена в старину рождали великих разбойников. Черных молодцов. Справедливых мстителей. Добрых к беднякам, беспощадных к барам. Но было это встарину, не теперь. А что теперь? Бабы махали кулаками перед дверями нотариуса, который отнимал у них скот и обманом лишал земельных наделов, шумели в лавке Абрама Бера при выдаче продуктов и грозились:
— Вот погодите, вернутся мужья.
Но сами они не верили этим угрозам. Мужья были трусы. Почему не защищались они, когда у них отнимали последнее, почему не взяли топоры, не пошли убивать, когда их детей истребляли голодной смертью? Почему позволили гнать себя на бойню, точно скотину, жались, повиновались, трепетали перед начальством, а приехав в отпуск домой, валялись на кроватях, упиваясь бездельем и сознанием того, что в них никто не стреляет, да хвастались своими геройскими подвигами?
Был ли среди них хоть один, кто не желал молча выносить весь этот гнет?
Никола Шугай вернулся. Удрал с войны. Домой, в горы. Ибо только о горах стоит скучать.
Колочава, Колочава! Какое приятное слово! Точно тает на языке!
Никола стоял на ночном шоссе, вдыхая молочные запахи Колочавы. Тьма была непроницаема, как камень. В ней светилось несколько желтых пятнышек — окна. Точно прожилки колчедана в угле. В тишине раздавались глухие удары мельничного жернова, которые слышны только ночью. Из хаты в хату прошла девочка, неся на лопате тлеющие уголья. Они бросали отблеск на лицо и грудь ребенка, больше ничего не было видно.
Колочава, Колочава! Удивительно, насколько все здесь было словно частью Николы. Воздух, которым он дышал, эта тьма с золотыми квадратиками, это освещенное детское лицо, мелькнувшее в темноте. А глухие удары мельничного жернова выходили прямо из сердца Николы.
Никола Шугай шел домой. До избы отца, Петра Шугая, недалеко от деревни, час ходьбы по дороге к Сухарскому лесу.
Подошел, стукнул в окно. Показалось лицо матери. Чего надо? Пошла открывать. В одной рубашке застыла против него на пороге. Оба улыбались, глядя друг на друга. Как пришел сын, откуда — это можно было не спрашивать: ружье на плече сказало все.
— Отец на войне?
Отец был дома. Шрапнель перебила ему ногу, несколько пуль застряло в плече. Теперь он в отпуску. Скоро опять в окопы.
— Детям ни слова, маменька.
Мать Николы еще рожала. В избе спало пятеро, а над материнской кроватью, в люльке, сделанной из выдолбленного чурбана, качался шестой — младенец.
— Куда Эржика ездит в ночное?
— К ручью.
На пороге появился отец в солдатских штанах. Поздоровались.
— Пошел в зеленые? — спросил отец, намекая на дезертирство Николы. «Не так уж это и плохо», — подумал он про себя.
Для Николы нашелся черствый ломоть кукурузного хлеба. Вздохнув, мать высыпала в его солдатский мешок часть скудного запаса картошки. Никола пошел выспаться в стог на опушке леса.
А потом три ночи сторожил Эржику. Птичку Эржику. Рыбку Эржику. Розовую черноволосую Эржику, от которой пахнет вишней. Эржику, за которой можно пойти за тридевять земель.
С вечера Никола прятался на опушке в зарослях папоротника и ждал. Наконец дождался. Увидел ее. Но Эржика была не одна, вместе с нею пасли лошадей Калина Хемчук, Хафа Субота и какой-то паренек, в котором Никола признал Ивана Зьятынко. Молодежь разложила на лужайке костер, притащила два бревна; одно сунули в огонь, на другое если.
Что тут делает Иван?
Малорослые лошадки паслись, низко наклонив длинногривые шеи. Приближаясь к лесу, они чуяли Николу, поднимали головы, подвижными ноздрями вбирали воздух и ржали. Люди у огня оглядывались, боясь, что кони чуют медведя. Но кони были спокойны.
«Почему Ивана еще не забрали в солдаты? — думает Никола, и его охватывает раздражение. — Ведь он всего на год моложе меня, семнадцать ему уже стукнуло».
Никола мрачно глядит из тьмы в круг у огня. Посмей только ты, Иван, дотронуться до Эржики, застрелю тебя под самым ее носом. При этой мысли сердце Николы начинает тревожно биться.
Но Иван обхаживает Калину, и через минуту они оба исчезают во тьме, с притворной деловитостью покрикивая на коней, что, впрочем, не обманывает никого.
Никола лежит на животе и наблюдает за обеими девушками. Ему хочется вскочить, перемахнуть эту сотню шагов, погнаться за перепуганными девчатами, поймать свою любимую, крепко обнять ее, не отпускать… Но Никола прижимает голову к холодным листьям папоротника, подбородок к груди. Нет! Нельзя. Нельзя попасть в зависимость от Хафы Суботы.
Ожидание превращается в боль. Лицо Эржики, озаренное огнем, каждое ее движение вселяют грусть. А давно ли — еще несколько недель назад — чего бы он не дал за то, чтобы увидеть этот ночной костер.
Что, если придет медведь? Вот было бы здорово! Никола уложит его в двух шагах, а она даже не будет знать, кто ее спаситель. Но медведя нет. Может быть, Эржика пойдет в лес за хворостом? Никола вздрагивает от этой мысли и явственно ощущает вишневое благоухание любимой. Но нет, Эржика не пойдет за дровами. Костер обеспечен на всю ночь, в нем горит огромное бревно, оно будет тлеть и обугливаться до завтра.
Всю ночь бодрствовал Никола вместе с пастухами, видел, как под утро они завернулись в одеяла, улеглись в траву и задремали, вытянув босые ноги к костру. И еще одну ночь просторожил Никола. На третий день вышел встретить Эржику к самой деревне, чтобы поговорить с ней раньше, чем она соединится с остальными. В вечернем сумраке увидел ее на шоссе, верхом на лошади. Эржика сидела по-женски, боком, уперев босую ногу в лошадиную шею, подложив какую-то пеструю ткань вместо седла. На ней было пять ожерелий из красных кораллов, рубашка из грубой конопляной холстины и передник с расшитым поясом, несколько раз обернутым вокруг талии. Было ей шестнадцать лет. В черных волосах Эржики алели цветы шиповника, и была она прекрасна. За ней трусил второй конь.
В полумраке Никола загородил ей дорогу.
— Ох! Ну и струхнула я! Это ты, Николка?
Никола вскочил на другого коня, стиснул его ногами.
Душа в нем взвилась, и закипела кровь…
Потом они стояли на краю леса, держась за руки. Никола сказал:
— Я здесь останусь, Эржика.
— Оставайся, Николка.
И ее глаза, похожие на темные лесные заводи, стали еще глубже.
Вдали показались Калина, Хафа и Иван верхом на лошадях.
— Эржика! Эржика! — кричали они, прикладывая руки к губам.
С тех пор Никола Шугай скрывался в лесах и лощинах. Для человека, который умеет обходить дурные места, где в скалах или черных болотах водятся русалки и злые духи, лес — самое надежное место на свете. Лес не выдаст. Буреломы и пещеры, ущелья, широкие пространства, заваленные вывороченными деревьями, где из гнилых стволов поднимается непроходимый кустарник, — здесь не проберется даже олень. Хотите поймать Николу? Вырвался из рук воробей, — поймайте мне его, люди добрые!
Лес стоит безмолвный, дремучий, полный запахов тления. Никогда еще не обманывали Николу эти запахи, всю жизнь вселявшие в него чувство безопасности. Никола спал в заброшенных шалашах или в оборотах на горных полянах.
Оборог — это местная постройка, она придает своеобразие всей Верховине, как фабричная труба — промышленному центру, готическая башня — старинному немецкому городку или минарет — Востоку. Оборог — это четыре шеста, вкопанные квадратом. На них надет деревянный щит в виде крыши. Эту крышу можно укреплять колышками выше или ниже, в зависимости от того, как велик стог сена, сложенный в обороге. А между сеном и крышей достаточно места для доброго ночлега, там тепло и укромно, как в норе горного зайца. Ну-ка, обыщите десять тысяч оборогов на горных лугах Верховины!
Так жил Никола Шугай. Не было пастуха, который отказал бы ему в крынке молока на кукурузную кашу. Отец носил ему на зимовку хлеб, а Эржика крала дома кукурузную муку, ибо Драчи жили зажиточно. Поджидая ее в лесу, Никола постукивал обухом топора о ствол дерева, давая знать, где он. Мало беспокоило Николу, что за ним рыщут жандармы. Когда пастухи в шалашах говорили ему об этом, когда ему с испуганными — такими красивыми! — глазами твердила это Эржика, Никола смеялся. Пускай рыщут. А вздумают стрелять — посмотрим, кто первый отведает пули.
Жандармский вахмистр Ленард Бела прямо бредил Николой. Его снедала честолюбивая мечта вернуть королю этого беглого солдата. Да и по службе это было долгом вахмистра: Шугай был первый дезертир в его округе, а ведь дурной пример заразителен.
Обыски в доме Шугаев ни к чему не приводили. Напрасно хитрый вахмистр скормил кулек конфет шугаевым ребятишкам, зря запугивал старую мать. Снова таскать Петра Шугая на допросы не имело смысла. Бить фронтовика-ветерана вахмистр не решался, а от Петра Шугая не дождешься другого ответа, кроме: «Не знаю, не видел, не слышал, ей-богу ничего не знаю». Об Эржике вахмистр не имел представления, она умела молчать. Но пастухи с окрестных гор кое-что болтали, и вахмистр запугивал и соблазнял их одновременно. Приведут ему Николу — получат на водку. Не приведут — тотчас в рекруты и на фронт.
В эти дни Ленард Бела был похож на охотника за рысью. Целыми днями торчал он в горах, искал следы на топких местах, обшаривал заброшенные шалаши, высиживал на верхах с полевым биноклем. Прокараулив весь вечер, он всегда был полон надежд на завтрашний день, а ночью ему тоже мерещилась поимка Шугая.
Однажды вахмистр увидел Шугая. На горе Красивой шел Шугай через луг. Кому не знакомо волнение охотника, когда он впервые подойдет на выстрел к дичи, которую давно преследует?..
Догонять Шугая лесом было уже поздно, и Ленард, целясь в ноги, послал ему пулю. Шугай обернулся, скорее с любопытством, чем с испугом, постоял немного, дав вахмистру возможность выпалить еще раз, и быстро двинулся к лесу. Бледный вахмистр яростно и бессмысленно стрелял ему вслед.
Эх, позор! Такие неудачи делают охотника несчастным, лишают его сна, заставляют снова и снова осматривать мушку ружья и патроны, упражняться в стрельбе по мишени, поддаваться суевериям, хранить про себя неудачу и терзаться тайными упреками.
Преследование Шугая стало страстью вахмистра Ленарда. В один дождливый день, заключив из донесений пастухов, что Шугай скрывается в пустом шалаше у ручья, Ленард переоделся женщиной. Надел холщовую рубаху с передником, на ноги — чувяки, голову повязал черным платком, на шею повесил стеклянные бусы и отправился в лес. Через плечо у него был перекинут мешок, точно он нес пастухам в горы кукурузную муку или соль для овец. За ним на расстоянии следовал деревенский стражник.
Никола издалека заприметил бабу. Увидев, что она идет напрямик к шалашу и уже не дальше как в сотне шагов, Никола вышел с ружьем.
— Стой, не то застрелю!
Но баба шла дальше, махая рукой, точно говоря — да что ты дуришь, парень, у меня к тебе дело есть.
Подойдя к Николе, баба выхватила револьвер, ударила Николу рукояткой по переносице, прыгнула на него, вырвала ружье, оглушила прикладом… Из леса выбежал стражник, и вдвоем они так избили пленника, что тот перестал сопротивляться.
Оглушенного и связанного повели его в Колочаву. Ленард снова переоделся в свою форму, которую перед тем спрятал в лесу, в узелке, и шел теперь за Николой, расплываясь в самодовольной улыбке. Счастью его не было границ.
На следующий день Шугая отвезли в Хуст, а оттуда поездом в Балашагиармат.
А что там? Венгерскому королю в ту пору было совсем не до подвигов своих честолюбивых вахмистров. Солдаты были ему нужнее на фронте, чем перед военно-полевым судом и в гарнизонных кутузках. На это хватит времени и после войны, если виноватый, вылезая из кожи, чтобы заработать прощение, не искупит тем временем своей вины геройской смертью. И Шугая снова отправили в полк. И снова дал тягу Шугай из маршевой роты. Удрал с новой винтовкой и боевым запасом патронов. Удрал, недолго думая, не рассуждая, как молодой волк, который вырвется из неволи и бежит, вытянув хвост и раздувая ноздри, куда ведет его безошибочный волчий инстинкт. В горы! К Эржике!
В дремучих лесах и горных лощинах вновь началась охота на волка. Только сил охотничьих стало больше, да еще горячей взыграла у жандарма охотничья страсть. Вахмистр Ленард раздобыл из города подкрепление. В одном из самых глухих, недобрых уголков Сухарского бора жандармы выследили Николу.
— Не стреляйте! — крикнул Шугай, увидев перед собой жандармские султаны. В ответ загремели выстрелы. Никола спустил курок. В черном болоте остался лежать с простреленной головой молодой жандармский сержант.
С этого дня началось превращение Николы в разбойника Николу Шугая. В широком крае от Тапеса до Стиняка и от Каменки до Хустской равнины нет хижины, где отказали бы ему в ночлеге или в миске кукурузной каши.
Он единый осмелился восстать. Он — Никола Шугай, герой Никола. За ним — правда, а у всех других — лицемерие и ложь. Пока все мужики со здоровыми кулаками не уйдут вслед за Николой в горы, пока не расправится народ со всеми жандармами, судьями, нотариусами и толстосумами-лавочниками, до тех пор не будет конца мучениям народным.
Удирай, Никола! Бей, стреляй, Никола! Убивай за себя и за нас. А коли придет тебе конец — ну что ж, один раз тебя мать родила, один раз и помирать.
Настал мир. Но, господи боже мой, разве это мир? Да за него ль так исступленно молились бабы перед иконами?
Какой-то бес вселился в людей. А может, объявилась где-нибудь новая комета? Или та, старая, еще не потеряла силу? За что валятся на нас все эти беды? Нет и грехов таких ни у великих, ни у малых мира сего, которыми заслужили бы они все те напасти, что посылает на нас господь.
Давно уже пора опять начать ездить в долину Тиссы за золотым зерном кукурузы, за мешками пшеницы, из которой пекут белые караваи. Давно уже пора в горы, а оттуда на плотах стрелой вниз, к Теребле. А мужики все еще не могут угомониться. Никто не знает толком, что делается на белом свете. Поп и староста Герш Вольф врут каждый по-своему.
В конце октября, когда Колочава уже лежала под снегом, начали возвращаться домой мужья. Кто с винтовкой, кто без нее, все заросшие, завшивевшие, злые. Им тоже мир виделся иначе. Не думали они, что первым чувством их жен будет боязнь лишнего едока, который прибавится в жалком хозяйстве, где весь весенний запас — это урожай огородной картошки и бочонок капусты. Только теперь увидели мужья все то, на что во время побывок лениво закрывали глаза. Хлев пуст, в оборогах ни копны сена, дома пусто — ни щепотки соли, ни горсти муки, только немного картошки да капусты, которых едва хватит до пасхи. Теперь беда захватила и мужей, озлобляя их все больше. В деревне шло глухое брожение.
Неожиданно кто-то привез новость: сельский нотариус Мольнар сбыл на сторону партию обуви, которую должен был по твердой цене продать населению. Это была правда. Нотариус обнаглел. Он привык к легкой наживе и позабыл, что солдаты вернулись домой, что фронтовая солидарность и готовность к действиям еще не оставили их.
Новость упала среди солдат, как граната врага. Вечером все сошлись у Василя Дербака. Набилась полная изба.
— Нас обкрадывают! — кричали злые голоса. — Ну нет! Кто они? Мы были на войне, мы дохли в окопах! А они четыре года били баклуши да крали. Мы им покажем, что мы теперь дома.
Сместили старосту Герша Вольфа. Выбрали нового — Василя Дербака. Выбрали себе командира — ефрейтора Юрая Лугоша. Завтра рано собраться всем, и пусть каждый приведет товарища. Нотариус Мольнар — первый злодей. Герш Вольф — второй. Лавочник Абрам Бер — третий.
Наутро собрались. У многих были топоры, и кое у кого штыки, немало револьверов, у иных винтовки и сабли. Привычным походным шагом подходили бородатые служаки в изношенной военной форме, возбужденно бежали молодые парни, с нетерпением ожидая, какой пример покажут им старшие. Бабы пугливо собирались в кружки. Теперь, перед самым делом, решимость вдруг оставила их. Они робели, как невесты перед долгожданной радостью. А вдруг что-нибудь выйдет неладное?
Командовал Юрай Лугош, опоясанный длинной унтер-офицерской саблей:
— Ша-агом ма-арш!
В Колочаву на Горбе! На нотариуса Мольнара!
По дороге к домику нотариуса была жандармская караулка. Даешь караулку! Вломились туда по-фронтовому, без лишнего шума и гама. В караулке было пусто. Вахмистр Ленард еще вчера знал о сборище у Василя Дербака. Утром, когда ему донесли, что мужики сходятся с оружием, вахмистр вместе со всей командой предусмотрительно удрал в город. В караулке осталась винтовка. Бунтари ее забрали. Потом методически и деловито побили всю обстановку. Бабы, возбужденные треском ломаемой мебели и звоном стекла, глядели на мужей сквозь зияющие оконные рамы. Какие серьезные, работящие лица у мужиков! Никогда еще жены не видели их такими. Так вот, как он выглядит, бунт! Хоть бы вы вложили в свое дело побольше жару, мужики!
В одноэтажном особнячке нотариуса Мольнара — паника, как на пожаре. О бунте узнали, только когда толпа уже громила караулку. Нотариус торопливо натягивал белые шерстяные исподники и армяк своего кучера, его жена надевала грубую холщовую рубашку и овечий тулуп. Заплаканная служанка обертывала ей ноги онучами. Детей закутали в попону, и по снегу, через огороды и ледяную воду Колочавки, бежали в лес на другой берег.
Солдаты вломились в пустую канцелярию нотариуса. В глаза им бросился большой стальной сейф. Деньги! Там, наверное, пропасть денег, ведь нотариус платит пенсию вдовам убитых солдат во всех трех Колочавах. На сейф обрушились топоры. Но их острия отскакивали от стальных стенок. Удары обухом лишь сбивали лак, оставляя чуть заметные вмятины. Солдаты отталкивали один другого — постой, ты не умеешь, ну тебя к бесу, дай я. Каждому хотелось испробовать свою силу. Ах, задери его чорт! Не поддается! Взломать его. Тащите сюда лом покрепче.
Тем временем бабы громили квартиру нотариуса. О, это не была хладнокровная солдатская работа! Лица у баб пошли красными пятнами, сердце бешено колотилось в груди.
Секунду они стояли, пораженные невиданным великолепием квартиры.
— A-а! Вот оно! — взвизгнула Евка Воробец и пихнула ногой какой-то столик с вазочками и фарфоровыми статуэтками. Столик загремел. Нужен был только первый шаг. С визгом ринулись бабы на обстановку. Крушить все эти мягкие кресла и диваны, зеркальные шкафы, гардины, дорожки и столики для цветов, все, что куплено на их деньги, в чем их слезы и кровь, из-за чего они недоедали четыре года и хоронили умерших от истощения ребят.
Трюмо и зеркальные шкафы разлетелись в мелкие дребезги. В кухне загремела полка с посудой. Бабы принялись за мебель. Они задыхались от ярости, кричали, не слушая друг друга. Каждое платье и шелковое комбине разъяряло их еще больше. Они рвали одежду на клочки и выбрасывали в окно на головы тех, кому не удалось попасть в дом.
С радостным визгом несколько баб притащили перину и, распоров ее, выбросили в окно. Осенний ветер закружил пух.
Рояль? А! Это та музыка, из которой раздаются песенки. Слыхивали их, проходя мимо! Давай сюда музыку!
Роялю подбили ножки, инструмент загудел, бабы забарабанили по нему ногами.
С квартирой было уже покончено, а в конторе солдаты все еще маялись с сейфом. Стальной шкаф лежал на полу, весь ободранный, с сотнями зарубок и вмятин от топоров. К кузнецу его! Он расплавит на горне! Нет, в огонь нельзя, там бумажные деньги.
Наконец привезли сани, погрузили на них сейф, и несколько человек повезли его к избе нового старосты Василя Дербака. Там сейф бросили в придорожный снег.
К вечеру ефрейтор Лугош повел свой отряд обратно. Глаза у баб горели точно после любовных утех, нервы были возбуждены от пережитого. Теперь они шли на старосту Вольфа, на Герша Вольфа, перед чьей лавкой выстаивали днями в длинном хвосте, а когда, наконец, подходила очередь, им объявляли, что кукуруза вся вышла. Отпускал Вольф кукурузу только тем, кто носил ему кур и яйца. Целыми ящиками посылал он продукты своей родне в Будапешт и Воловое. Кукурузу, что назначена была для продажи крестьянам, сыпал курам и откармливал ею отменных гусей.
Шли теперь и на Бера. На Абрама Бера, у которого всегда были припрятаны изрядные запасы продуктов. Но, продавая их, кровопийцей был Абрам Бер. Выманивал у крестьян все полотно, всю шерстяную пряжу, овечьи тулупы, ягнят, кур. За мешок кукурузной муки требовал, чтобы взял должник в свой хлев его, Бера, корову и кормил ее всю зиму. А сена было мало, сена нехватало, тянули его с деревни власти на военные нужды. И, вспоминая все это, женщины чувствовали, как вновь напрягались, точно струны, их усталые нервы и в жилах стучала кровь. Хотелось лететь — таковы были нетерпение и ненависть. Бабы злобно оборачивались на мужей, шагавших по дороге размеренным воловьим шагом.
Разгромили лавку старосты Герша Вольфа и его квартиру. Сам Герш удрал со всем семейством. На складе нашлось много кукурузы, гусиного сала, муки, несколько банок картофельной патоки, цикорий, какие-то ткани. Толпа шумно делила товар, к лавке сбежались дети и разносили добро по домам.
В подвале мужики обнаружили бочонок вина, а в сарае под дровами — две четверти спирта. Все это было выпито не от боевого запала или от радости, а просто от жажды. Потом все отправились к Абраму Беру. Этот тоже удрал. Его дом разгромили торопливо, без подъема, всем не терпелось поскорей взяться за раздел запасов муки, бобов, кожи и тканей. При дележе было много шума и брани. Командир Лугош, привыкший к подобным же сценам у полевой кухни, начальственно покрикивал на спорщиков, оттаскивал их друг от друга и увесистыми тумаками прекращал ссоры.
Потом пошли на Мордуха Бера, Вольфа, Иосифа Бера, Калмана Лейбовича и Хайма Бера. Разгром их маленьких лавчонок прошел спокойно, без шума. Владельцы в ожидании стояли у вывесок с должной мерой испуга на лицах, но без выражения невыносимого отчаяния, которое, быть может, удержало бы мужицкую руку. Толпа пощадила их жилье. Кстати, и пожива с них была невелика, а в жилых помещениях ничего не было припрятано, мужики это знали.
Над стариком восьмидесяти одного года, винокуром Гершем-Лейбой Вольфом, крупнейшим землевладельцем в Колочаве, смилостивился всевышний. Да и как мог бы он, защитник и покровитель народа еврейского, не услышать бесконечные молитвы, на которые так щедры люди в черный день. Услышь меня, о Иегова, бог иудейский! И бог услышал. Он дал совет старому Гершу: выйди навстречу недругам своим, будь гостеприимен со злодеями. И послушался Герш-Лейба Вольф. Велел женщинам выкатить на дорогу две бочки вина.
В стогу за домом спрятан бочонок спирта. Тащите его сюда тоже.
К вечеру, когда толпа приблизилась к корчме Герша-Лейбы Вольфа, вышел старый Герш навстречу. Стал лицом к командиру и старосте и сказал громко, так что слышали все:
— Я старый человек, много видел на своем веку и знаю, что все меняется на свете. Отдаю вам всю свою землю. Завтра, послезавтра или когда хотите поеду в город, в управу, и перепишу ее на ваши имена. Товаров у меня, сами знаете, нет. Зачем же громить? Зачем слушать плач детей, невинных младенцев? Все, что у меня есть, — все здесь перед вами. Прошу вас смиренно — угощайтесь на здоровье.
Ох ты, старый, хитрый лис! А правду ли ты нам тут поешь? Запасы то в доме есть! Однако мужики уже знали по опыту, как мало достается каждому при дележе. К тому же все устали, погром больше не радовал. Бочки выглядели заманчиво. Хотелось отдохнуть.
Толпа расположилась табором на дороге. Развели костры. Старый Герш вынес из корчмы все кружки, а женщины всю трефную посуду. Началось пиршество. Удачный день да будет закончен наславу.
Из окон дома Герша Вольфа его дочери и жены внуков со страхом смотрели на толпу у костров. Что-то будет, когда эти люди перепьются? Что-то будет с их патриархом? С тем, кто вышел защищать семейное добро.
Длиннобородый седовласый старец бесстрашно ходил в толпе, ни одним взглядом не выдавая своей тревоги. Он улыбался, заговаривал, был обходителен с бедной еврейской молодежью, которая тоже подошла угоститься — не вином, нет, хоть спиртом с водой. Как бы он их турнул отсюда при других обстоятельствах!
Вид толпы у огня развлекал малолетних внучат и правнуков Герша-Лейбы Вольфа, большеглазых девчушек и мальчуганов в бархатных шапочках, с черными, рыжими и светлыми пейсами. Они рвались к окнам, не понимая всей серьезности положения.
Ой, ой, ой, ой! Как свинья, напился гой, Он напился, нализался, А потом плетей дождался. Ой, ой, ой, ой, Так тебе и надо, гой!Матери торопливо затыкали им рты и гнали в кровать.
В этот день люди видели в деревне Николу Шугая.
— Пойдем с нами, Николка.
Махнул рукой Никола Шугай.
— Мне ничего не надо. Я рад, что домой попал.
Поглядел на деревню, на разгром в домах Герша Вольфа и Абрама Бера и вернулся в отцовскую избу. Был, точно рысь, Никола, — рысь, которая за добычей выходит одна, одна борется и одна умирает, от пули или от слабости, где-нибудь в кустах.
Ночью, у костров перед корчмой Герша-Лейбы Вольфа, стряслась беда. Перепившиеся мужики отнимали друг у друга винтовку, добытую в караулке. Грянул выстрел, и два человека — Иван Маркуш и Данила Леднай — рухнули наземь. Толпа разом стихла. Потом взметнулся тревожный говор. «Что теперь будет?» — пронеслось в голове у побледневшего Герша Вольфа. Дочери и жены внуков схватились за головы у окон. «Смилуйся над нами, бог Израиля!» Через мгновение, выглянув на улицу, они увидели, что Герш протолкался к пьяному старосте, что-то втолковывает ему, потом говорит с командиром и приказывает еврейским парням унести мертвых.
Ах, что за человек этот наш дед! Что за мудрый старец!
Люди повалили за парнями, несшими трупы. Неясный говор. Толпа редела. Через минуту остались почти безлюдные костры и темные пятна крови на истоптанном снегу. Благодарение тебе, господи боже, за то, что никому из шальных баб не вздумалось с перепугу закричать, что стреляли из вольфова дома, и никто из мужиков не напился до бесчувствия, которое возбудило бы в толпе мысль об отравленном вине.
Продрогший и измученный, Герш Вольф вошел в дом. Женщины окружили его, но он устало поднял желтую старческую ладонь и молча прошел в свою каморку. Перед тем как лечь, поговорил с богом, вознес ему горячую молитву. В четверг или в субботу в синагоге услышит всевышний творец великую хвалу, какой уже давно не возносил старый Герш Вольф, «Хашем ис бурех». Довлеет дневи злоба его. День окончен.
Назавтра большинство деревни отсыпалось. Кузнец Израиль Розенталь, огромный, черномазый, как уголь, детина в кожаном переднике, попытался было открыть сейф, валявшийся перед домом старосты. Лупил шкаф что было сил своей кувалдою. Хоть бы что! Из кружка обступивших его любопытных каждый долбанул по разу. Облупившийся сейф с погнутыми стенками, с сотнями зарубок на них остался лежать в придорожном снегу.
На следующий день перед церковью был общий сход. Он утвердил старостой Василя Дербака и командиром отряда Юрая Лугоша. Больше толковать и постановлять было нечего. Была, впрочем, назначена наружная охрана, которой поручили смотреть, чтобы никто ничего не выносил из деревни, а каждое новое лицо сперва приводили к командиру. Но из этой затеи не вышло ничего путного. Вновь приходившие были свои же ребята, вернувшиеся с фронта, и когда Лугош пытался осматривать их мешки, они упирались, ругались на чем свет стоит, а капрал Мишка Дербак (сын нового старосты), заросший, осунувшийся и измученный трудной дорогой — он пробирался от самого Тироля — устроил у Лугоша настоящий скандал, выхватил револьвер и хотел пристрелить командира, с которым у него еще на фронте были какие-то личные счеты.
Самоуправление просуществовало только один день. Нотариус Мольнар и вахмистр Ленард удрали за тридцать километров в Воловое. Но Абрам Бер и Герш Вольф выбрали другой путь, покороче — они отправились в Хуст, где была военная комендатура, и рассказали, в чем дело.
Комендатура долго не рассуждала. Снарядили роту пехоты. Командование было поручено молодому лейтенанту Менделю Вольфу, сыну старосты Герша Вольфа. На пятый день от начала бунта, ранним утром, еще затемно, рота вступила в деревню.
Падал снег.
— Начинай! — крикнул лейтенант солдатам. — Не жалей этих босяков, ребята. Начинай! Завтра привезут вино.
Он им покажет, кто он такой и что значит грабить добро, которое предстоит унаследовать ему, поручику Менделю Вольфу.
Солдаты разделились на группы. Лейтенант не мог отказать себе в удовольствии лично навестить командира Лугоша и старосту Дербака. Он и четыре солдата вытащили Лугоша из кровати и били до тех пор, пока окровавленный человек не повалился на пол. На него вылили два ведра воды, связали и увели. Потом отправились к Василю Дербаку. Тот проснулся от звона оконных стекол, в которые просунулись дула винтовок. В дверь замолотили. Жена открыла. Сонный Василь Дербак подскочил к дверям. Перед ним стояли два солдата и лейтенант.
— Доброе утро, пан староста. Позволил себе нанести вам визит! — И лейтенант погасил папиросу о нос хозяина. Отбросив окурок, он выхватил револьвер и долго целился в Дербака, наслаждаясь этим мгновением. Потом с размаху дал ему две оплеухи, велел связать и увел.
— Вперед, пожалуйте, господин староста.
Солдаты тем временем бушевали в избах. Били всех, кто попадался под руку. У кого находили оружие, хватали и уводили. Одежду, посуду, продукты, свои и отнятые у лавочников, выкидывали за порог.
Рота пробыла в Колочаве два дня. Лейтенант «навел порядок». Прежде всего он открыл маленьким ключиком сейф, все еще валявшийся перед избой Василя Дербака, и вынул из него бумаги и деньги — больше трехсот тысяч крон. Все это он забрал себе, а сейф отправил обратно в контору нотариуса. Вещи, которые солдаты повыбрасывали из мужицких изб, лейтенант велел собрать в сарай; лавочники потом разберутся, где чье. Двадцать местных парней, русинов и евреев, лейтенант соблазнил жалованьем и организовал из них «народную гвардию», дал всем ружья и велел унтер-офицерам обучить их строю.
На третий день вернулись нотариус Мольнар и вахмистр Ленард с жандармами. Последний принял командование «народной гвардией».
Вот это другое дело, теперь все в порядке!
Вскоре для «гвардии» не стало работы. Однакож вахмистр Ленард, раньше чем распустить эту команду тунеядцев и бездельников, затеял с ними еще одно дело, для которого давно ждал удобного случая.
Шугай! Старая страсть вахмистра! Не будет спокойного сна у Ленарда, пока не добудет он Шугая, которого уже столько раз упускал из рук.
Ноябрь разбудил охотничий пыл. Выпавший свежий снежок — радость всех охотников — манил к вылазке за дичью. Ленард пронюхал, что Шугай живет в отцовской хижине, часах в трех ходьбы от деревни, в верховьях реки, у Сухарского бора, на просеке у полянки.
Добраться туда было нетрудно, снег неглубок, а вдоль Колочавки идет тропинка.
— Пошли, ребята, — сказал вахмистр своей гвардии, — зададим ему перцу.
Тронулись в путь.
По дороге зашли в избу старого Шугая, связали ему руки и взяли с собой. В старом бору перед хижиной остановились перевести дух. Ленард издалека поглядывал на хижину посреди заснеженной полянки, отдавал последние приказания, готовился к бою. Гвардейцев он расставил цепью, сам стал в центре, на правом и левом фланге — жандармы.
При взгляде на белую снежную гладь без единого кустика у гвардейцев захватывало дух. Неужто они должны быть мишенью для Шугая за две сотни шагов?
Но ослушаться или удрать нехватало решимости. А может быть, там и нет Николы? Над крышей, правда, вьется дымок, но это еще ничего не значит: толстое бревно может тлеть в очаге двое суток.
«Пусть-ка пристрелит парочку из них, — думал вахмистр Ленард. — По крайней мере будут знать, за что им деньги плачены».
Он связал руки Петру Шугаю цепью, подтянул ее так, что у пленника выступил пот на лбу, и намотал конец цепочки на руку.
Вперед!
Преследователи выбежали из леса и в несколько прыжков миновали полузамерзшую речку.
Вахмистр хотел единым махом подскочить к хижине, но это оказалось не так-то легко, ноги вязли в снегу.
Прикрываясь телом Петра Шугая, погоняя его, вахмистр продвигался вперед, тщательно следя, чтобы его пленник не метнулся в сторону или не упал на землю, открыв его выстрелам Николы.
Осаждающие не сводили глаз с хижины. Все вдруг увидели Николу, он выскочил в окно с ружьем в руке и большими прыжками кинулся в лес.
— Стой, стой, стой!
Лес гремел выстрелами. Цепь стреляла. Радость преследования унаследована нами от далеких предков. Николу, уходившего большими прыжками, провожала бессмысленная пальба гвардейцев и тщательно нацеленные выстрелы жандармов.
Никола исчез в лесу.
— Вперед! За ним! — кричал Ленард, потряхивая, как уздечкой, цепью, которой был связан старый Шугай. Спотыкаясь, задыхающиеся люди бросились вслед за Николой.
Из лесу вдруг загремел гневный и ясный голос Николы:
— Что вам от меня надо? Зачем не даете мне покою?
— Стой, стой, стой!
Было ясно, что Никола на самом краю леса, за одним из старых буков. Затрещал ружейный огонь. Ответных выстрелов Николы не было слышно. Но что это? На снегу недвижимы двое — Ицко Шафар и Олекса Хабал. Ицко лежит навзничь, из горла у него фонтаном бьет кровь, обагряя истоптанный снег…
Гвардейцы растерялись. Стрельба прекратилась, палили только жандармы.
Ясный, грозный голос гремел из лесу:
— Бегите, не то перестреляю всех до единого!
Гвардейцы не заставили повторять приказ. Они стрелой мчались назад по старым следам. Напрасно кричал на них вахмистр Ленард.
Видя, что дело проиграно, вахмистр резким рывком цепочки повернул Петра Шугая, притиснул его к своей спине и, полунеся-полутаща его за собой, тоже отступил из леса.
Петр, корчась от боли, бессмысленно кричал:
— Стреляй, Никола! Не бойся, стреляй!
Из-за отцовской головы виднелась макушка Ленарда. Два раза прицеливался Шугай — и оба раза опускал ружье.
Жандармы исчезли в лесу за рекой.
Опять наступило морозное безмолвие. На поляне два тела: Ицко, мертвый на алом от крови снегу, Олекса, раненный в грудь, силится подняться, опираясь на руку.
— Никола!.. Что ты со мной сделал, Никола!
— Зачем не даете мне покою! — взревел еще раз из лесу Никола.
Колочава ждала возвращения гвардейцев. Бабы волновались, считали часы. Их нетерпение достигло предела, когда ребятишки из Сухара прибежали с новостью, что жандарм нанял там сани и велел им выехать навстречу отряду. Кого привезут? Господи боже, неужто Николу?
Подъехали сани. Остановились у караулки. Жандармы вынесли два трупа. Женщины глубоко вздохнули. Так. Бей их, Никола! Сокол, Никола! Молодец, Никола! Ах, почему наши мужья не такие! Всегда затевают что-то и никогда не доведут до конца…
Облава на Николу Шугая была последним делом народной гвардии. Вскоре ее распустили. Но и владычество вахмистра Ленарда длилось недолго. Что-то не видно в деревне жандармов, удивлялись люди и узнали, что нет в Колочаве Ленарда и его молодцов, а где они — неведомо. Исчез и нотариус Мольнар. Проходя мимо его дома, колочавцы видели сквозь вновь застекленные окна избитый, потрескавшийся сейф. Теперь он был пуст. Никто не знал, почему уехал Мольнар. Впрочем, лавочники были в курсе дела: в Венгрии начиналась революция, и Ленард с его молодцами были там нужнее. Колочава жила без начальства. Жизнь шла своим чередом. Без начальства было ни хуже, ни лучше, чем с ним.
Потом, в один зимний день, когда на улице стоял трескучий мороз, возница в овечьем тулупе подвез к дому Абрама Бера двух человек, закутанных в шубы. Одного из них колочавцы узнали — это был торговец из Брагова. Другой был неизвестный молодой человек. Кто он? Может быть, торговец, и ему нужны рабочие руки? Сейчас, в такую стужу? Что-то больно хороши кони. А вот и Абрам Бер в шубе, в фетровых валенках ходит с молодчиком по деревне. Повел его по дороге из конца в конец, потом вместе осмотрели мостик над Колочавкой, вскарабкались на косогор, над деревней и стали глядеть вниз.
Молодой человек был румынский офицер. На следующее утро Колочаву заняло румынское войско. Румыны остались в деревне.
Господи боже, что за новую беду послал ты нам! Румыны брали сено, брали скот, брали последнюю корову из хлева. Взамен давали какие-то бумажки, по которым, мол, заплатят чехи — потом, когда будут здесь. Румыны врывались в избы, хватали девушек, а на шоссе останавливали проезжих:
— Эй, дядя, деньги есть?
Если денег не было, били по зубам.
Господи Иисусе Христе, избавь нас от такого мира. Верни лучше войну. Тогда за убитых мужей хоть платили пенсию.
Почему вернулся в деревню Никола Шугай? Почему не захотел он быть лучше других? Почему запрятал винтовку в стог, как и другие мужики, что по-детски хвастаются: к весне опять вернусь и убью кабана или оленя, как только сойдет снег.
Нет, Никола Шугай — это не Олекса Довбуш. Ради женщины покинул свои горы Никола. Ради запаха спелых вишен, которым благоухала Эржика. Зажил у отца Никола и, кроме церкви по воскресеньям, никуда не ходил. Точно не мог насытиться теплом большой деревенской печи, точно в жизни не желал иного, как забавляться с детьми да, оттаяв теплой ладонью кружок в заиндевевшем окне, смотреть на снежный хоровод вьюги. Стал Никола заурядным колочавцем. Еще и хуже, пожалуй, потому что не без удивления смотрели на него односельчане. Разбойник, разлучившийся со своим кистенем. Трусливый, беглый солдат.
Однажды после воскресной службы вошел Шугай в избу старого Ивана Драча.
— Кум Драч, отдай мне Эржику.
Было это слишком неожиданно. Эржика покраснела и выскочила из избы. Старый Драч, не зная, что сказать, немного опешил. В избе был его сын Юрай, приятель Николы, чуть постарше его. Он недавно вернулся с войны и еще донашивал, как и Никола, солдатскую форму.
Встал Юрай, вышел навстречу Шугаю.
— Тебе, разбойнику? Лучше брошу сестру в Тереблу.
— Кого я ограбил?
Больше ничего не было сказано. Побледневшие парни молча горящими глазами глядели друг на друга. Было тихо. Еще минута — и напряжение выльется в схватку. Солдатская форма напоминала об убийствах, о смерти. Но запах спелой вишни вдруг коснулся ноздрей напрягшегося Николы и овладел всем его существом. Пожал плечами Никола и повернулся к дверям.
— Не дадите Эржики, Драчи, спалю вам хату.
И вышел, выпустив с собой огромное облако пара.
При румынах Николу опять посадили. Однажды утром пришли солдаты и увели его. Постарался об этом Абрам Бер. Он обратил внимание военных властей на опасного человека, который, что ни говори, трижды убийца.
Сделал это Абрам Бер не из дружбы к румынам или стремления наладить с ними хорошие отношения, — что, впрочем, тоже не мешало, — а потому, что были у него свои особые, весьма замысловатые планы по отношению к Петру Шугаю. И Абрам Бер не поленился запрячь сани и проделать пятичасовое путешествие в Воловое, чтобы поговорить с высоким начальством о Шугае. Начальство выслушало Бера, побеседовало с ним, осведомилось, сколько еще, по честному говоря, можно содрать с Колочавы хлеба и сена, а когда посетитель ушел, господа сказали друг другу:
— Стоит ли в таком голодном краю держать нахлебника? Пусть-ка в его воинских проступках разберутся чехи, когда будут здесь.
И через две недели Николу выпустили. Абраму Беру не оставалось ничего другого, как значительно морщить лоб и перебирать руками бороду. Это значило — надо ждать. Когда будет конец этому ожиданию, о господи?
Никола получил Эржику. Ибо страх старого Драча оказался сильнее, чем ненависть его сына Юрая.
Никола сколотил еще одну широкую кровать, похожую на большие ясли с высокими ножками, выстлал ее сеном и овчиной и поставил в задней горнице отцовской избы. Потом волоком по снегу навозил из лесу больших бревен, чтобы к лету построить свою избу. Справили свадьбу.
Правую руку Эржики обвязали платком, на голову надели ей венчик с блестками и белыми звездочками. Пятьдесят святых на иконостасе молча созерцали новобрачных. Свадебный обряд тянулся страшно долго. «Господу богу помолимся!» — возглашал поп. «Господи, помилуй!» — отзывался дьячок.
Под конец поп сунул в губы молодым деревянный крест, покропил водой из жбанка и сложил им руки под епитрахилью. Перед николовой хатой они прошли под двумя связанными караваями хлеба, и мать осыпала их овсом, а младшая сестренка Николы покропила водой из разукрашенного ведерка. Танцовали под заунывную скрипку, на стол был подан кабаний бок (кабана подстрелил старый Шугай. Эх, где вы, королевские лесничие?..). Пили только воду. Поздно вечером в горнице дружки сняли с Эржики венчик. Эржика попрощалась с ним тройным поцелуем. То же самое сделал Никола и передал венчик эржикиной матери. Потом он трижды накидывал на Эржику бабий платок, два раза она бросала его обратно. На третий раз приняла. Дружки повязали его Эржике на голову по-бабьи. И вот Никола Шугай — заправский колочавец. Та же у него, как у всех, надежда жить до старости, пока не прихлопнет его стволом в лесу или не измелет под плотом в стремнинах Тереблы. Будет у него много детей и мало кукурузной каши, много горя и мало коротких радостей.
Снег еще лежал на южных склонах гор, а на северных уже расцветала мать-и-мачеха. Проведал Никола, что румыны рубят лес, где-то далеко у Вуцкова, и платят деньгами, а не квитанциями. Дома кончалась последняя кукуруза. Натянул Никола косматый бараний тулуп, закинул через плечо топор и пошел наниматься на работу. Перебрался через холмы на юге, миновал две речки и лесом спустился вдоль ручья к Вуцкову. Земля дышала весной, горный ручей пенился и летел под уклон, заливая пороги.
Никола подошел к залитой солнцем лужайке. Из-под земли выбивался серный источник. Летом местечковые еврейки таскали сюда корыта и, согревая в них воду источника накаленными в костре камнями, купали свои ревматизмы.
На лужайке было пятеро подростков с лошадьми. Они развели костер и выжигали кусты можжевельника, которые мешали расти траве. Весна разогрела им кровь, сделала их буйными, как того жеребенка, на котором гарцовал один из них.
Маленький коренастый мальчишка погонял лошадей, щелкая длинным бичом на коротком кнутовище. Он влез на пень и ловко махал бичом над головой. Звуки коротких ударов, точно выстрелы, разносились вокруг.
— Я Шугай, я Никола Шугай! — кричал мальчишка.
Никола замедлил шаг и усмехнулся. Это было скорей удивление, чем радость. Так вот какова была его слава! Вон куда долетела!
Он сошел с тропинки и подошел к пареньку, уклоняясь от уверенных взмахов длинного бича. Нахмурил брови и гаркнул:
— Гу! Я Никола Шугай и сейчас тебя съем.
Мальчик опешил, но, заметив веселые искры в глазах Николы, осклабился. Сбежались его приятели.
— Он говорит, что он Шугай! — воскликнул мальчуган с бичом.
Пастухи захохотали и, отступив на безопасное расстояние, дразнились:
— Шугай, Шугай, Шугай!
— Настоящий Шугай, — улыбнулся Никола.
— Так дайте нам миллион, если вы Шугай, — сказал мальчик, сидевший верхом.
— А где же ваша веточка? — спросил другой.
— Какая веточка?
— Вы не знаете, что у Шугая есть веточка?
— Нет.
— И что он отгоняет ею пули?
— Нет.
— Ну, так мало же вы знаете.
И мальчуганы опять захохотали. Никола усмехнулся и молча пошел прочь.
— Шугай не такой бирюк, как вы! — крикнул вслед мальчуган на коне, стиснув колени и готовясь пуститься наутек, если Никола обернется. А маленький коренастый кричал:
— И усы у него побольше!
Но Никола не оборачивался.
— А где ваша веточка? — еще раз закричал один из мальчиков, а остальные, приложив ладони к губам, орали:
— Одолжите нам веточку! Дайте нам зеленую веточку, Шугай!
Никола миновал полянку и шел лесом.
Так вот как велика его слава!
В такт шагам рождались воспоминания, выстраиваясь в шеренгу, шагая в ногу с Николой. Может, и верно хранила его зеленая веточка? Дети правы. Сколько раз уже стреляли в него на фронте и здесь. Есть ли такой род оружия, который судьба не пробовала бы на нем?
Под Красником из его роты уцелело трое, а он даже не был ранен. Из блиндажей Стохода он выбрался один-одинешенек. А Красная! Черная трясина! Сухарский бор! Есть ли на свете человек, который уцелеет под таким градом пуль? Нет, это не случайность! И еще одно, самое удивительное: он всегда знал, что останется невредим. И под Красником, и у Стохода, где всякая надежда казалась безумием, и в сотне иных мест, и на Красной, и в Сухарском бору. Он знал, что он будет невредим. Что его не тронет ни одна пуля — ни из ружья, ни из пушки, ни из пулемета. Что это, дар? Да, это был дар! Холод прошел у него по спине при этой мысли.
Давно не было слышно крика мальчишек…
Видно, и вправду может Никола стать Олексой Довбушем. Видно, и вправду зря променял он на бабу славу свою. Зарыл свой дар глупо и бесцельно, не сумев извлечь из него ничего, кроме убогой нищенской жизни.
Никола Шугай замедлил шаги. По мягкой земле он шел тихо, совсем неслышно. Слева мутный ручей бурлил на камнях. Разве можно жить так бедно и убого, когда имеешь в руках волшебную веточку! Или годится она только на войне, а теперь ее сила иссякла?
ГЛАВА III Никола Шугай
Еще минуту Абрам Бер помолился в каморке, беседуя с богом, своим властелином и приятелем. Потом вошел в лавку. Лавка Абрама Бера невелика, весь товар можно купить за три сотни и унести на спине.
Абрам Бер размышлял. Дела у него были запутанные, сложные, немало надо мудрости, заботы и изворотливости, чтобы все распутать, наладить и снова увязать в должном порядке. Левый угол рта у Бера приподнят, левая ноздря тоже, левый глаз прищурен, лоб сморщен. Пальцами Абрам Бер перебирает бороду, точно на арфе играет. Все лавочники в Колочаве испокон веков стоят так после молитвы перед своими лавками, и у всех дела запутаны до невозможности, полны сложных проблем, которые можно решить десятком разных способов, а можно и не решить вовсе. Ибо торговля — это не только добывание денег: это философия, политика, это многосложная жизнь, весь ее смысл и страсть. Дела торговые посылает нам господь, создал он их в утешение своим детям. А потому нет большей радости, чем заниматься торговлей.
«Плохи дела, — думает Абрам Бер. — Опять новая власть. Чехи. Порядок? Мог бы быть порядок, да нету. Чехи пришли, а кто их знает, какие они? Может, такие, а может, этакие. Президентом выбран профессор, пишет всякие там ученые книги. Но скажите, пожалуйста, что смыслит профессор в торговле? Говорят, он написал книгу, разоблачил басни о ритуальных убийствах. Это в защиту Анели Груза и того бедняги Гильснера, которого только теперь выпустили из тюрьмы. Ну, это хорошо. И все-таки не будет добра. Человек ничего не знает наперед. Впрочем, ясно, что придется жить с чехами. Ничего не поделаешь. Хочешь жить — живи с кем приходится. Все-таки с ними спокойнее, чем в Польше или в Румынии. А в Венгрии… Ой, ой, ой!
Но с кем пойдут чехи? С голодранцами или с нами, приличными людьми? Поймут они, что торговцы — это надежная опора власти? Вдруг да не поймут? Или поймут, но нескоро, через два, три, десять лет? Этакие тугодумы! А пока каковы дела? Ох, не говорите! Торговля — никуда. Скота нет, хлебом не расторгуешься, вот разве спиртом. Ой, ой, ой! Попробовать разве спекульнуть землей? Ну и дела! Когда сгинет, наконец, Никола Шугай? Разбойник, негодяй, чтоб ему пусто было!» Абрам Бер еще больше скривил рот. Шугай! Загвоздка с Шугаем была почище других. Дело обстояло так. Уроженцы этого горного края уже не жили, как раньше, в одной империи.
Край отошел по частям к Польше, Венгрии и Чехословакии. Глупо, конечно, ставить людям границы перед носом, однако хороший коммерсант должен использовать и это. Надо учесть такое обстоятельство: узкие полоски садов, огородов и лугов все время дробятся на еще меньшие. Отец выдает дочь и выделяет ей под коноплю несколько квадратных сажен земли. Умрет отец — и его землю делят сыновья. Крохотные наделы разбросаны по всей долине, и крестьяне, чтобы как-нибудь объединить свою землю, выменивают эти клочки друг у друга, доплачивая коровой, парой овец или штукой конопляного холста. Мена эта происходит, разумеется, без участия нотариуса или земельной управы: на визит к ним нет ни времени, ни денег. Сговор идет по-соседски, по-дружески. И в земельных книгах управы земля числится не за сегодняшним владельцем, а бог весть за каким его предшественником, который зачастую живет сейчас в Польше или в Венгрии. Трудно ли Абраму Беру съездить в Воловое, заглянуть в книги и все это выяснить? И вот Абрам Бер уже пишет письмо в Венгрию и в Польшу своим агентам. И те отправляются к какому-нибудь Михалю Хемчуку или к Дмитрю Вагерычу и говорят:
— Послушай-ка, есть у тебя землица в Чехословакии в Колочаве?
— Эх, — скажет Хемчук или Вагерыч, — откуда быть земле? Видишь ведь, что хожу в дровосеках. Мне там когда-то досталась после отца земелька, помню — еще ходили мы в управу и писали в большой книге, да я уступил ее сестре и шурину, а теперь у той земли и вовсе другие хозяева. Кусок продали, кусок сменяли. Обо всем там спроси в Колочаве, там знают.
— Погоди, — говорит тогда агент. — Я-то знаю. Но теперь с этой новой властью хлопот не оберешься. Так вот, не подпишешь ли ты бумагу, что продаешь мне свой надел?
— А что мне за это дашь?
— Что дам? Ну, дам три злотых.
Хемчук или Вагерыч ворочает мозгами. Хоть убей, ничего не понять! А впрочем, почему бы не продать то, что ему уже не принадлежит? Если этот человек хочет ни за что дать ему деньги, зачем же отказываться?
— Дай пять злотых.
— Побойся бога, — кричит агент. — За что? За твои три креста, которые мне еще придется заверять у нотариуса. Не хочешь, не надо, найду другого.
И, разумеется, агенты получают надел за три злотых или за пятьдесят венгерских крон, а перепродают его Абраму Беру за двести крон чехословацких. А Абрам Бер со всеми документами является в земельную управу и записывает землю на свое имя.
Так было и с сенокосными угодьями старого Петра Шугая.
Лицо Абрама Бера становится еще более озабоченным. Сами посудите: двести крон — это сумасшедшие деньги за вещь, которую вы неведомо когда получите. После дождичка в четверг? Когда рак свистнет? Ох, ох, ох! Конечно, лужки можно продать еще кому-нибудь. Пусть потягается с Шугаями чужой человек… Нет, нельзя продать. Лужки как раз граничат с собственными лугами Абрама Бера. А с лужками Абрама Бера река Колочавка выкинула нехорошую штуку: весной разлилась она на трое суток, а когда опять вошла в старое русло, чудные луга Абрама Бера, цена которым, ей-богу, не меньше шестидесяти тысяч, были сплошь занесены валунами и галькой. Теперь там не вырастет даже верба. Нет, шугаевы лужки надо заполучить, такой случай в другой раз не представится.
Старому Шугаю Абрам Бер не побоялся бы сказать, что шугаевы лужки уже не шугаевы. Но как быть с младшим? Глазищи у него — что разбойничьи ножи, а удавить человека для такого головореза — сущий пустяк. Ох, господи! Каковы-то окажутся чехи?
«Эге-э-э, куда это бежит Исаак Гершкович с мальчишкой Дейви Менцелем? Тоже хорош гусь, этот Исаак Гершкович! Хитрая голова! Сколько овчин он сбыл интендантству на драгунские тулупы, ого-го! Сколько денег заработал, гром его разрази!.. Но куда он так спешит, словно его бьют по пяткам?»
— Э-э-э? — осведомляется Абрам Бер, когда Гершкович и Дейви пробегают мимо, осведомляется одним междометием, без слов, осклабившись и растопырив пальцы.
Но Исааку Гершковичу явно некогда. Он на ходу машет рукой, мол, не до разговоров сейчас, и бежит дальше.
«Э-э-э! — говорит сам себе Абрам Бер и смотрит им вслед. — Что же такое случилось у этого пройдохи?»
С Исааком Гершковичем и вправду кое-что случилось. Он и Мендель бегут в караулку, и там Исаак, волнуясь, все рассказывает вахмистру.
Сегодня, 16 июля, Гершковичу был срок получить на Долгих Грунах, общественном выгоне, где пасутся овны со всей округи, сезонный удой своих шести овец — семьдесят литров овечьего молока или соответствующее количество брынзы. Желая получить кошерный сыр и опасаясь, чтобы пастухи не делали его руками, в которых только что держали свинину, или не опоганили сыр еще как-нибудь, Исаак решил сам присмотреть за работой и отнести наверх закваску — кусок телячьего желудка, приготовленного по всем правилам талмуда. И вот вчера он положил в мешок кукурузной муки, которую должен был принести на харчи пастухам и овчаркам, захватил деревянные ведерки для сыворотки и попросил своего племянника Дейви помочь ему отнести все это. Помолившись на дорогу, они вышли после полудня. Путь на Долгие Груны неблизкий, надо пройти Сухарским лесом, потом по тропинке вдоль Заподринского ручья, пересечь выгон, где пасутся табуны, и итти то крутому берегу Тиссы. В общем добрых пять часов ходьбы. Гершкович решил переночевать на пастбище и наутро вернуться в Колочаву.
Пастушеский шалаш на Долгих Грунах очень прост: косая крыша из ветвей, а перед ней плетень, чтобы овцы по ночам не приходили облизывать носы спящих. На плетне надето несколько деревянных подойников.
Вечером Гершкович и Дейви сидели с пастухами у костра. Они поужинали пшеничным хлебом, сыром и луком, а потом смотрели на огонь и на звезды. Вдруг собаки что-то почуяли и с яростным лаем бросились в сторону. Грянул выстрел, за ним другой. Гершкович увидел, как перекувырнулся один из псов.
— Всемогущий Иегова! — воскликнул Гершкович и бросился ничком на землю. В ночной тиши хлопали выстрелы, их умножало лесное эхо. Прижавшись к траве, уткнув нос в холодную землю, Исаак шептал скороговоркой: «Бог Израиля, бог Израиля, бог Израиля, еврей взывает к тебе!»
— Вставай! — прогремел над ним чей-то голос. Исаак повиновался лишь после того, как повторный вызов был подкреплен увесистым пинком. Рядом стоял Дейви, бледный, как сыр, перед ним двое молодцов. Пастухов и след простыл, они разбежались. На молодцах было старое солдатское обмундирование, а лица закрыты до глаз платками. Один разбойник был без шапки, черные волосы спущены на лоб, в руке винтовка. На другом было военное солдатское кепи с наушниками, спущенными и застегнутыми под подбородком, как солдаты делают зимой, чтобы не мерзли уши. При свете костра Исаак заметил шагах в двухстах еще троих молодцов, они лежали и целились в него из ружей.
Разбойник в кепи ногой разбросал костер, чтобы было поменьше свету.
— Руки вверх! — приказал он. Но у Гершковича даже руки не поднимались.
— Что у вас в шалаше?
— Сыр… — стуча зубами, ответил Гершкович.
— Он нам нужен. А ты иди домой!
Другой разбойник заметил добротную обувь Гершковича.
— Разувайся!
И отнял сапоги.
Потом разбойники пошли в шалаш и взяли там брынзу и бочонок овечьего творога-урды. Когда они несли бочонок мимо костра, у того, что был в кепи, сполз платок с лица, и Гершкович узнал Николу Шугая.
«Никола Шугай?..» — думал вахмистр.
Возбужденный Гершкович продолжал рассказывать о пережитых страхах, о том, что разбойники отняли у него восемьсот крон, и еще раз напомнил о сапогах.
Вахмистр размышлял. Никола Шугай? Он хорошо знал об этом парне со слов Абрама Бера, который настаивал на аресте Шугая. Но Шугай вел себя тихо, не доставлял жандармам никаких хлопот, и вахмистру было неясно, следует ли прежние поступки Шугая расценивать, как отважную схватку с венграми или как тройное убийство. Вахмистр ограничился тогда рапортом в жандармское управление.
Сейчас другое дело. Предписания о поддержании порядка в Подкарпатье весьма строги. В Словакии идут бои[4], в Венгрии коммунисты у власти[5]. Возникновение разбойничьих шаек совершенно недопустимо! Вахмистр примет жесткие меры.
Однакоже событие у шалаша разыгралось не совсем так, как его расписал Исаак Гершкович. Никакой пес убит не был, никакие трое молодцов не целились в Исаака. На Долгих Грунах были только Никола Шугай и Василь Кривляк, который позднее сознался в Хусте.
Но если эти две ошибки можно отнести за счет страхов Гершковича, которому с перепугу все это действительно показалось, то насчет восьмисот крон, это уж чистое вранье, хотя и без злого умысла. Дело в том, что сам Гершкович попал в довольно сложное положение: назавтра ему нужно было заплатить Менделю Блутрейху семьсот с лишним крон в результате долгих подсчетов собственных и чужих долгов. Исаак же никак не мог отдать эти деньги, потому что они были нужны ему на покупку кожи. Мендель, конечно, страшно озлится и не поверит Гершковичу, даже когда тот присягнет следователю, что был ограблен Шугаем (ибо Мендель, как и всякий еврейский лавочник в Колочаве, уверен, что Иегова понимает только по-еврейски и не станет тратить время, слушая разговоры на каком-то чехословацком суде в Хусте), но все же разве может торговый человек упустить такую возможность?
— Заметил Шугай, что вы узнали его? — спросил вахмистр.
— Великий боже, нет! Тогда бы он меня убил.
— А рассказывали вы кому-нибудь о происшествии?
— Нет. С Долгих Грун я прибежал прямо сюда, только заскочил к зятю занять сапоги, но там взрослых не было дома, а детям я не сказал ни слова.
Вахмистр решил несколько дней понаблюдать за Шугаем, может быть удастся накрыть всю шайку.
— Ладно, — сказал он, — никому об этом ни слова. А ты, — гаркнул он на Дейви Менцеля, — если будешь болтать, посажу тебя под замок.
Дейви не понимал, почему так кричит вахмистр.
В ближайшие два дня вахмистр не заметил ничего подозрительного. А на третий день Шугая опять арестовали.
Взяли его наверху, на лужках, где он вместе с Эржикой ночевал на сенокосе. Никола и Эржика спали на сене под крышей оборога. Голова Эржики лежала на плече Николы, а он уткнулся лицом в ее волосы. Жандармы разбудили их. Солнце уже всходило над горами. К полудню Николу, связанного и злого, втащили в караулку. Недолгое ожидание. Затем явился вахмистр.
— Кто был с тобой на Долгих Грунах? — спросил он.
— Есть было нечего… Все голодают… Кукурузы ни зернышка… Сыру нет… Капусты тоже. Не подыхать же с голоду, — бормотал Никола.
— Об этом я тебя не спрашиваю. Кто были эти четверо с тобой?
Шугай удивленно взглянул на жандармов.
— Со мною был только один. А кто — не скажу.
— Ага. — резюмировал вахмистр. — Вот ты каков, деревенский рыцарь. Ну-ка, наденьте ему опять «браслетки».
Когда Шугая связали, вахмистр размахнулся и ударил его по лицу.
— Так кто были те четверо, а? — рявкнул он.
Никола втянул голову в плечи и хотел боднуть вахмистра, но один из жандармов схватил его сзади. Посыпались удары.
— Кто были те четверо?
Никола скрипел зубами, лягался, отбивался локтями. Три раза его бросали на пол, три раза он поднимался опять. Несколько ударов бичом, наконец утихомирили его. Николе связали ноги и привязали его к стоявшей тут же швейной машине вахмистровой супруги. Хорошо зная Николу Шугая, жандармы не решились запереть его в холодную при караулке: строение было расшатано осенними бурями, румыны не позаботились о починке.
Известие полетело по шести сотням дворов, теснящихся на двенадцати квадратных километрах гор и склонов по берегам Колочавки.
Шугай? Никола Шугай? Не удалось, значит, Эржике драчовой обуздать его, привязать к своей юбке? Николу поймали! Ах, чорт подери! Удерет Никола от чехов, как удрал от венгров и румын. Удерет в горы и будет бить своих врагов.
Абрама Бера совершенно ошеломило известие. Как, что, где, когда? Да славится имя твое, господи! Наконец-то! Завтра или послезавтра можно пойти к Петру Шугаю и сказать ему, что лужки больше не его, а Абрама Бера.
Что это был за голос в ночи? Чей это был голос?
……………………………………………………………………..
У жандармов все не было времени отвести Николу в Воловое, и он уже вторую ночь сидел на полу, привязанный к швейной машине. Боль от ударов бичом прошла, прошли и нестерпимые судороги в ноге. Утихла первая дикая ярость. Все тело тупо ныло и казалось чужим.
На трехногом столике светила керосиновая лампочка, в окно глядели звезды…
На походных койках храпят трое жандармов. Никола оставил попытки освободить руки или дотянуться зубами до узлов, — занятие, на которое возлагал большие надежды и которому посвятил всю предыдущую ночь. Все было напрасно, — только еще больше разболелось тело. Взгляд его блуждает по ружьям, развешанным на стене. Вид затворов, поблескивающих в свете лампочки, действует усыпляюще. «Удастся мне удрать?» — эта мысль целиком захватила Николу. «Удеру!» — отвечает он сам себе в сотый раз, и усталое сердце бьется спокойнее.
Опершись головой о железную станину швейной машины, Никола засыпает свинцовым сном. Каждое ничтожное движение причиняет ему боль во всем теле — и все же нет сил проснуться. От реки доносится тихая музыка ночи: тупые удары мельничного жернова. Никола сквозь сон слышит этот звук, как из призрачной, недостижимой дали. Он спит, ясно чувствует, что спит. И вдруг в тишине раздается голос:
— Будешь невредим!
Звонкий, удивительно ясный и отчетливый голос, точно выкованный из металла.
Никола вскочил. Веревки впились ему в тело. Невыносимая боль. Упал на пол. Что это было?
На койках храпят жандармы, никто даже не пошевелился. И снова, точно из безмерной дали, оттуда, где стучит мельничный жернов, раздается:
— Будешь невредим!
Никола таращит глаза на лампочку.
Что это за голос говорил с ним? Что за чудесный голос?
Ему кажется, что деревянный мельничный жернов вдруг очутился здесь, в караулке, толчет рядом с ним шерстяную ткань.
Никола не спал до утра.
Что это был за голос?
На дворе рассвело, в комнате затрещал будильник, жандармы встали, убрались, позавтракали, делая вид, что не замечают пленника. Потом Николу развязали, не надолго вывели на двор и связали опять. Жандармы разошлись один за другим. Сторожить Николу остался младший жандарм Власек.
Скоро полдень. Власек сидит у стола, спиной к Николе, курит и что-то пишет в толстой книге. Глаза Николы перебегают от дверного ключа к оконным задвижкам, скользят по ним. Задвижки отливают бронзовым блеском.
Снова работает мысль Николы. Он весь полон ощущений ночного голоса.
Он будет невредим, наверняка будет невредим. Ведь он выбирался и из худших положений. За него зеленая веточка. С ней ни одна пуля не тронет — ни из ружья, ни из пушки, ни из пулемета. Но как удрать? Силой? Пока что это невозможно. Мольбами? Вот еще дурость! Друзья помогут? Это возможно только по пути в город. Неужели ждать Волового или Хуста? Там его положение будет во сто раз труднее. Нет! Надо сделать еще одну попытку.
Младший жандарм Власек, который сейчас как раз с ним, подходит для этой цели. Почему — Никола сам не знает. Но вчера, глядя на Власека, он вдруг решил, что это так. Может быть, взгляд Власека или его манера смеяться произвели такое впечатление. Никола сам не задумывался над этим.
— Я не нищий, — вдруг произносит Шугай. — У меня скотина есть. Если продать, можно выручить тысяч шестьдесят.
Младший жандарм не счел нужным даже повернуть голову.
— Чехи у нас недолго пробудут, — после паузы продолжает Никола.
Жандарм курит папиросу и знай пишет в книге. Слышно, как в тишине скрипит его перо. У жандарма широкая спина, на ней гладко натянуто зеленое сукно мундира.
— Были у нас немцы — убрались восвояси. Были румыны — нету и их. И венгры ушли…
Власек, не оборачиваясь, выдирает из тетради лист бумаги — какой резкий звук! — и заносит на него слова Шугая.
— …Через несколько недель уйдут и ваши, и никто не спросит, что сталось с Николой Шугаем.
Тишина. Слышно, как кровь стучит в артериях. Дымится папироса Власека.
Так приблизился роковой час жизни Николы. Но сам Никола не знал этого, он ждал только минуты, которая решит — быть ему привязанным к швейной машине или выбраться на солнце, на волю. В полдень Эржика принесла еду. Жандарм повернулся к ним, положив ружье со штыком на колено. Шугай, как и накануне, отказался от кукурузной каши, взял связанными руками крынку с молоком и пил. Между глотками он тихо говорил, в упор глядя на Эржику:
— Продай обеих коров… своих… Абраму Беру продай… Отец пусть продаст лошадь… Гершу Вольфу… Быстро! Сейчас же!.. Одолжи сколько можешь и неси сюда… Отдай жандарму. Быстро, слышишь?
Эржика ушла, и жандарм опять уткнулся в книгу.
«Слышал он или не слышал? — думает Никола. Сердце его часто бьется. — Успеет Эржика обернуться, пока Власек здесь один?»
Эржика успела. Принесла тридцать тысяч и положила их возле жандарма на стол. Власек был слишком занят, чтобы взглянуть на пачку кредиток или на Эржику.
Эта тишина была просто невыносима. Июльское солнце бросает в окна широкие снопы света. Жандарм лениво закурил новую папиросу. Ее дым плывет в воздухе прямыми струйками. «Сколько тут может быть? — размышляет Власек, косясь на деньги. — Двадцать пять? Тридцать? На вид не очень-то много. За эти деньги сейчас можно купить корову. Нет, скажем, две коровы». Власек наклоняется, точно ищет что-то в нижнем ящике, и, навалившись на деньги, сует их в карман.
Кто докажет, что он взял взятку? Да и вообще пусть она провалится — служба в этакой дыре.
Власек встал и с безразличным видом поглядел на Шугая.
— У тебя все руки опухли. Погоди, я тебя развяжу, потри себе суставы.
Он снял с Николы веревки и вышел. Никола отвязал себя от машины, потянулся, так что потемнело в глазах, и выскочил через окно в сад. Жандарм вскоре вернулся, уже точно зная, сколько денег в пачке. Окинув взглядом комнату с раскрытым окном, Власек поглядел на письменный стол, там лежал листок с крамольными изречениями Шугая. Чиркнув спичку, он сжег листок и размял пальцами пепел. Потом сел и стал дожидаться бури — возвращения вахмистра. Будет несладко! Плевать! Ему нужны эти деньги. Мол, вышел по нужде, в доме никого, Шугай и удрал. Будет расследование? Выгонят со службы? Плевать!
Бегство Шугая осталось служебной тайной, и ни о чем не ведавший Абрам Бер, часа через два после тревоги в караулке, отправился к Петру Шугаю сообщить ему, что на лужках у Колочавки в этом году будет косить уже не Шугай, а он, Абрам Бер. Предприятие это было небезопасное, и Абрам Бер хорошенько помолился перед уходом и по дороге еще несколько раз обращался к богу. С бьющимся сердцем подошел он к избе старого Шугая. Дети сказали ему, что отца нет дома, он наверху, на пастбищах. Это было недалеко, и Абрам Бер направился туда. В лесу, за поворотом реки, на перекрестке двух тропинок, где вместо мостков через Колочавку переброшен еловый ствол, Абрам Бер изведал ощущения лотовой жены, когда она, оглянувшись, увидела Содом и Гоморру, пораженные огнем небесным: на стыке тропинок стоял Никола Шугай с ружьем на плече.
— Боже! — прошептал Абрам Бер, превращаясь в «соляной столб» и явственно ощущая, как кровь стынет у него в жилах.
Шугай взглянул на него исподлобья и вдруг поспешил навстречу.
Абрам Бер затрясся.
— Скажите жандармам, что теперь уж не видать им меня. Живым не возьмут! — крикнул Никола, резко повернулся и зашагал к лесу. Его движения были, как всегда, легкими, походка быстрой.
Абрам Бер еще с минуту оставался «соляным столбом». Он уже не пошел на пастбище к Петру Шугаю. Спас его-таки великий господь! Абрам Бер пустился в обратный путь. Долго он еще чувствовал слабость в коленях и шел нетвердой походкой. Домой Абрам Бер добрался уже в сумерках. Вошел мрачный. В лавке горела лампа с большим абажуром, спускавшимся с потолка. Она заливала желтым светом середину помещения, углы оставались в полумраке. Собралась здесь также еврейская молодежь: парни и две девушки. Они сидели на ящиках, опершись о бочки и прилавок, и развлекались, вмешиваясь во все разговоры. Жена Абрама Бера обхаживала покупателей, а семнадцатилетняя Аннель, последняя — слава богу! — незамужняя дочь, стояла против какого-то мужика в широком поясе и, поддерживаемая хором подруг, упорно доказывала ему, что никак нельзя уступить товар — косу, которую крестьянин все время испытывал пальцем «на звук», — на полкроны дешевле.
Абрам Бер молча прошел через лавку. Он был недоволен этим сборищем, но ничего не сказал и только сердито взглянул на какого-то обнаглевшего юнца, усевшегося на прилавке. Тот соскочил как ошпаренный.
Абрам Бер ушел в свою комнатку. На небе сияли три звезды, было время читать вечернюю молитву. Поправив шапочку на голове, Абрам Бер оборотился лицом в угол и начал молиться.
— Слава господу нашему, царю вселенной. По слову его наступают свет и тьма, в неизреченной мудрости он открывает небесные врата, чередует годы и времена и, по воле своей, расставляет звезды на небосводе.
Сегодня Абрам Бер с особым упованием произносил слова молитвы, ибо яснее, чем когда-либо чувствовал близость бога. Он знал, что Иегова заботится о нем. Слава всевышнему, который бережет свой народ! Хвала царю царей, тому, кто извечно мыслит о благе иудеев, вседержителю, который знает, что на поколениях Израиля покоится его звездный трон и что молитва каждого верующего умножает его силу и славу. Сколь мудр господь, ибо он своевременно отослал Петра Шугая на выгон и, сведя по тропинке Николу Шугая с рабом своим Абрамом Бером, спас последнему жизнь!
Абрам Бер стоит лицом в пустой угол, у дивана. Ничто ему не мешает и не отвлекает, мысль его сосредоточена на молитве. Бер покачивается взад и вперед, сгибается, бормочет, напевает и прищелкивает пальцами.
Весь вечер нельзя было упомянуть о встрече в лесу. Это значило бы выдать секрет всей деревне. Даже за ужином в доме толпились эти развязные юнцы («Ох, хорошо ли смотрит мать за Аннелей?») и вечно голодные дочки кузнеца, которые к Аннеле ходят в надежде на поживу из кухни. Только ночью в постели сказал Абрам Бер жене: «От великой опасности спас меня сегодня господь бог». — «Да святится имя его!» — набожно откликнулась пани Эстер.
Выслушав с расширенными глазами рассказ мужа, она подняла над одеялом пухлые руки и, закатив глаза, повторила еще раз: «Слава богу!»
Перед сном Абрам Бер прочитал еще одну молитву.
— Во имя Иеговы — бога Израиля. По правую мою руку — Михаэль, по левую — Габриэль, передо мною — Ориэль, а за мною — Рафаэль, а над головой моей — благость господа бога.
Потом, вспомнив еще что-то, ткнул пальцем засыпающую жену.
— Дочери не говори ни слова. Испугается. О том, что Шугай удрал, и так все скоро узнают. А то как бы чего не вышло.
Или вышел из-под земли мушкет славного разбойника Олексы Довбуша? Тот мушкет, что перед смертью зарыл он глубоко в горах. Каждый год поднимается кверху старинное оружие, подвигается на малую долю вершка, и когда засияет в утренних лучах весь мушкет, как весной на полянке подснежник, объявится на свете новый Олекса Довбуш, славный разбойник, который у богатых брал и бедным давал, сражался только с барами и никогда никого не убивал, кроме как обороняясь или из справедливой мести.
Да! Вырос из земли довбушев мушкет. В лесах бушует Никола Шугай. От Каймонки и Попади до самой равнины Тиссы, от Гропы и Климова до Стоя кружит Никола Шугай быстрым, длинным, оленьим шагом. Кормят его в шалашах и горных хижинах. За миску кукурузной каши платит по-царски Никола Шугай, а потом ложится спать в стогу, или под деревом и смеется по утрам, стряхивая с себя росу. Наверху, на Греговище, там, где стоит на шоссе деревянный крест из двух бревен, грабит Никола почту, что идет из Волового. Не прячет больше своего лица Никола Шугай. Без оружия, в горных ботинках с обмотками, в потертой солдатской форме выходит он на дорогу и поднимает руку.
— Стой, я Никола Шугай!
За ним четверо молодцов, лица завязаны платками. Двое наводят винтовки на подводу, и если кто-нибудь из путешественников отважится выглянуть, дула обеих винтовок нацелятся ему между глаз. Все выходи и руки вверх! Каждый отдавай все, что есть, только бедняков знаем и не тронем.
В узком ущелье Тереблы грабит Никола возы, что едут на ярмарку в Хуст. Вот тащится переполненная людьми подвода. Владелец шагает около с кнутом в руке. Спросите-ка его: «Эй, хозяин, а сколько человек ты берешь на подводу?» Не поняв иронии, возница приветливо ответит:
— А сколько влезет на воз. Лезьте и вы, коли можете.
Подвода напоминает гроздь роящихся пчел, колеса скрипят, кони бредут еле-еле.
На мостике через речку стоит пустая телега без коней. Перед ней четыре или пять парней в масках, двое с ружьями. Среди них безоружный человек с открытым лицом. Он предостерегающе прикладывает палец к губам и широкими решительными шагами направляется к подводе. Все это вселяет страх. Подвода останавливается. Никола Шугай делает знак рукой — все с воза. Он не произносит ни слова, но в этом повелительном жесте — тайна, судьба…
Все беспрекословно подчиняются. Безмолвно и медленно Шугай поднимает руки, и люди, точно зачарованные, повторяют его движение. Потом он кивает первому из стоящих, и тот покорно подходит. Теперь все идет быстро. Звучная оплеуха. Никола ощупывает карманы пленника. Марш в канаву! Лечь ничком! Второй человек. Удар, осмотр карманов — и в канаву! Третий! Лавочники, кулаки, американские эмигранты, после войны возвращающиеся с долларами, — их Никола обирает с особенным удовольствием. Через минуту в канаве лежит длинная вереница неподвижных людей. Возница с кнутом стоит на шоссе и ошалело таращит глаза.
Товарищи Шугая оттаскивают с мостика телегу и становятся за спиной своих пленников.
— Все в подводу! — кричит Никола Шугай громовым голосом, и этот звук еще страшнее, чем безмолвие вначале. Все вскакивают и бегут к подводе.
— Ходу! Живо!
Возница ударяет по лошадям, те вытягивают шеи, несутся чуть не на-рысях. Вслед подводе двое разбойников целятся из ружей. Отъехав на солидное расстояние, ограбленные начинают кричать, возмущаться. «Американцы» стреляют в воздух из браунингов, — тщетно! никто не слышит эту запоздалую браваду, — и делают вид, что хотят вернуться и отобрать у разбойников свои доллары. А Никола тем временем ждет новую подводу… Грабеж повторяется во всех подробностях. И когда вторая подвода уезжает, Никола Шугай, во главе своей шайки, широкими мерными шагами уходит в лес.
Иногда кто-нибудь встречает Николу в Сухарском лесу. Он не изменился с тех пор, как жил у отца, — такой же черноглазый, темноволосый, с усиками, небольшим подбородком и крутым лбом. На нем широкий пояс, расшитый цветной кожей, — он защищает грудную клетку, — узкие штаны, чувяки с ремешками, несколько раз обмотанными выше лодыжек, и холщовая рубаха с пестрыми стеклярусными пуговицами. Оружие Николы — два ружья: одно на плече, другое на ремне за спиной, как у кавалеристов. На прикладах обоих ружей ножом выцарапан крест.
Встречного Никола Шугай иногда расспросит о деревне и о жандармах. Иногда пошутит и улыбнется. Иной раз ни с того ни с сего одарит детей или старуху деньгами. Если Николе встретится на шоссе или у брода кто-нибудь из особо почтенных колочавцев — поп или учитель, — Никола учтиво побеседует с ним, осведомится о здоровье жены и детей и скажет на прощанье: «Сделайте мне одолжение, пан учитель». — «Какое, Никола?» — «Скажите жандармам, что видели меня здесь. Пускай погоняются, мне — потеха».
Но иногда он проходит молча и торопливо, хмурый, безучастный ко всему.
Однажды три еврея шли верхом на пастбище, несли соль скоту и муку пастухам. Откуда ни возьмись Никола, точно из-под земли вырос. Молча глядит на путников. Побледнели евреи, бормочут молитвы.
— Эй, Шелом Нахамкес, опусти руки и глянь на меня. Слушай, завтра продают с торгов корову Эржики. Вот деньги, купи ту корову, я за ней когда-нибудь приду.
И уж будьте покойны — ни за одной коровой во всем крае не будет лучшего ухода и присмотра, чем за этой.
Порой грабит Никола, порой нет.
«Эх, кабы скорей миновать Заброд, — думает Берка, он же Бернард Хан, еврей из Горба, — там уж, верно, не повстречаюсь с Николой». И Берка настегивает лошаденку.
Но Никола не заставляет себя ждать. Впереди, в сотне шагов, появляется он, подняв руку. Хан соскакивает с телеги, вся кровь бросилась ему в лицо, на душе решимость отчаянья.
— Ты не возьмешь мои деньги, Никола Шугай. Я еду покупать детям обувь, — выразительно говорит он, стараясь, чтоб голос его звучал твердо.
— Покажи, сколько у тебя денег? — приказывает Никола.
Хан вытаскивает истрепанную записную книжку, раскрывает ее там, где положены кредитки, но отступает и в порыве отчаянья прижимает книжку к груди.
— Не отдам!
— Дай сюда! — сердито кричит на него Шугай. Вырвав блокнот из рук Хана, он перелистывает страницы.
— Сколько у тебя ребят? Пятеро?
— Семеро.
— Маловато будет твоих денег, Берка. Совсем мало. Вот тебе еще. Купи им сапожки получше.
И Никола кладет в блокнот несколько зеленых сотенных бумажек.
— Как зовут твою меньшую?
— Файгеле.
— Кланяйся ей от меня.
Иногда Никола появляется внизу, в одном из трактиров Хуста. На нем господское платье и макинтош. Неузнанный никем, он сидит под электрической лампочкой, попивает пиво и слушает, как говорят господа о подвигах разбойника Николы Шугая. Незримо присутствовать — одно из величайших удовольствий. Через час Никола Шугай покидает трактир. Под пивной кружкой кельнер находит листок. На нем написаны единственные два слова, которые Шугай выучился писать в бытность свою в полку — «Шугай Никола».
Гости вскакивают, кидаются к пустому столу, точно на нем можно обнаружить какие-нибудь следы, перечитывают листок, отнимая его друг у друга, волнуются…
Ночью Шугай спит в конюшнях, что на горе Темной. Он приносит сладкой водки немецким коровницам и пляшет с ними танец «коломайку».
Утром в долине Мокранки Никола ограбил чешского инженера, отобрал у него бинокль и деньги, а через час обобрал нотариуса из немецкого селения. В полдень Никола объявился под Соймой, на мелком месте реки Рики, где с любимой собачкой купалась супруга окружного начальника из Волового. Глядит Никола, ухмыляется, крутит ус.
— Вы пригожая барынька, ей-богу. Но моя Эржика лучше. Я Никола Шугай.
Супруга начальника в синем купальном трико стоит по колено в воде, не зная, что делать и что сказать.
Шугай смеется.
— Кланяйтесь мужу, госпожа начальница!
И уходит размашистым шагом.
Жандармы в полном унынии. Жандармы в бешенстве. Они избили Эржику, избили старого Петра Шугая, Ивана Драча и малолетних братьев Николы. Посадили приятелей Николы, а заодно и тех, кто мог бы дружить с ним. На Колочаву, явно помогавшую разбойнику, наложена контрибуция в тридцать тысяч крон.
Не будет порядка и уважения к новому государству, пока хозяйничает в крае Шугай, пока создаются вокруг него легенды, пока сотни любопытных глаз злорадно созерцают безуспешную борьбу жандармов с разбойником, пока от Вигорлата до Говерлы имя Шугая на устах у всех и говорит о нем как о молодце и герое.
Колочавские жандармы понимают это не хуже, чем высшее начальство там, в Ужгороде, и потому бесконечные приказы, инструкции, напоминания, сыплющиеся из Главного жандармского управления, только раздражают колочавского вахмистра. В Колочаву стянуты жандармы из окрестных деревень, теперь в команде больше тридцати человек. Они заняли школу, разместились на сеновале у Калмана Лейбовича, весь день дымят табаком в его корчме, мусорят пивными пробками, наполняют воздух запахом смазных сапог. Командиром соединенного отряда назначен капитан, а на развенчанного вахмистра возложена миссия знакомить новых людей с местными условиями и обстановкой. За все это вахмистр глубоко ненавидит Власека. Он подал в дисциплинарную комиссию рапорт, изложив в нем самые худшие подозрения. С неприязнью глядят на Власека и остальные жандармы, хотя Власек — хороший товарищ и веселый парень. Как-никак, это он виновник того, что им приходится торчать в этом разбойничьем гнезде и маяться на дурацкой службе в горах.
— Всех подозрительных — сразу же в кутузку! — с места в карьер распорядился капитан.
Аресты идут во-всю. Не трогают только Шугаев, ибо капитан уверен, что в крайнем случае он использует Эржику как приманку. Зато обыски у Шугаев — три-четыре раза в ночь. Потом несколько ночей жандармы не появляются, — авось Шугай подумает, что им надоела бесплодная возня, — и опять обрушиваются на Шугаев. Трижды за ночь вон из кроватей, тщательный обыск, допрос, угрозы, штык, направленный в грудь. Колочавцы такой народ — если их не доведешь до последней крайности, не вымотаешь нервы, — они не заговорят.
Уже сидят в тюрьме Матей Пацкан, Мишка Дербак — сын старосты, Иван Дербак и многие другие. Понадобится, посадят всю деревню, никого не помилуют! Но эти люди, каждый шаг которых за дровами в лес или на охоту, или за ягодами — преступление или, по меньшей мере, нарушение чужих прав, умеют молчать. На суде в Хусте они врали дерзко и вызывающе, не стараясь даже скрыть, что врут.
Как вышло, что при этих повальных арестах уцелели Василь Дербак-Дербачек и его сын Адам Хрепта? Василь Дербак-Дербачек был человек не подозрительный: владел он доброй избой, хозяйство у него было крепкое и никаких сомнительных дел за ним не числилось. Нельзя же подозревать каждого, кто не ночует дома. В этом крае люди только и делают, что уходят в горы, на пастбище.
Однажды мальчуган-пастух принес жандармам винтовку, найденную в лесу во мху. Винтовка не заржавела, были видны следы недавней чистки. Жандармы положили ее обратно в мох и пять дней караулили в лесу. На шестой поймали Адама Хрепту. Первоначальным намерением жандармов было не арестовывать, а только выследить владельца оружия, но так как Адама они не знали в лицо, а он лишь взглянул на винтовку и пошел прочь, его арестовали.
— На медведей? Это ты расскажи малым детям, братец.
Адама обыскали, нашли триста крон. Заработал? А не угодно ли сказать — где?
В избе Василя Дербака-Дербачка, — его самого не было дома, — сделали обыск. Не нашли ничего. Адама посадили в темную.
Адам Хрепта был внебрачный сын Дербачка. Жил он с семьей отца, и никого из своих детей так не любил Дербачек, как этого пригожего русого парня, который напоминал ему молодость и единственную радость в жизни. Воротясь с пастбища, Дербак-Дербачек узнал о случившемся. Ошеломленный, он сказал себе: бежать в караулку, просить, молить!
Эх, глупая затея! Видано ли, слыхано ли в Колочаве, чтобы жандармы поддавались на уговоры?
И все же Дербак-Дербачек добился успеха. Два с половиной часа продолжался допрос. За такое время выйдет на свет многое, даже если человек предпочтет умолчать о главном и вынужден ломать голову, как бы не запутаться и не завраться.
Дербак-Дербачек не рассказал всего. В особенности он остерегался выдать Игната Сопко и Данилу Ясинко, которые о нем знали не меньше, чем он о них. Однакоже Дербачек сказал достаточно, чтобы жандармский капитан сообразил, какой обмен предлагает ему этот человек.
Посадить отца и сына всегда успеется, — решил капитан, — а пока что будет выгодней использовать их в своих целях. Вопрос о Шугае слишком серьезен, от него многое зависит и для капитана лично.
— Ладно, так и сделаем. Пускай Адам Хрепта идет восвояси. Выпустите его!
Дербак-Дербачек и Адам вышли из школы, превращенной теперь в жандармскую караулку. Адам — улыбающийся и счастливый, Дербак-Дербачек — хмурый и разбитый.
Умозаключения капитана были правильны. С Шугаем дело обстояло просто. Никаких из ряда вон выходящих случаев, никаких таинственных сообщников и загадочных союзников. Родной дом и любимая женщина. На них надо ловить Шугая. Так и будет. Ясно, что Шугай скрывается здесь, вблизи Сухара. Его навещают отец и жена. Отлично.
— Не трогайте их несколько дней, — сказал капитан вахмистру, имея в виду ночные обыски у Шугаев, — и наблюдайте за домом.
На лужайке между избой Шугая и Сухарским лесом стояли два оборота, метрах в трехстах друг от друга и на таком же расстоянии от жилья. В одном из них засели жандармы. Пришли они поздно вечером и не знали, что в другом обороте уже целый час спят Эржика и младшая сестра Николы — Анча. Обе они предпочитали осенние туманы ночным налетам жандармов.
Туманным утром, когда обе они вылезли из оборога, кругом раздались крики:
— Стой, стой, стой!
Они с перепугу бросились бежать. Загремели выстрелы. Жандармы решили, что одна из женщин — переодетый Шугай.
Во весь дух пронеслись они через полянку и влетели в лес. Несколько секунд они шли, тяжело дыша. Вдруг у Эржики подкосились ноги, голова ее начала клониться, и она упала на торчащий пень.
— Ты что, Эржика?
Анча видит, что Эржика побледнела как смерть и ее белая рубаха вся в крови.
— Господи Иисусе! Подстрелили Эржику!
Но Анча ошиблась. У Эржики выкидыш.
Анча кидается в лес. Бежит к полянам и пастбищам, где может сегодня спать Никола.
— Никола! — с отчаянием неустанно кричит Анча. — Никола! Никола!
Жандармы сперва кинулись было вслед, углубились в лес, но одумались. Бессмысленно! Три человека в дремучем лесу, кого они поймают? Повернули назад, злые и недовольные. С опушки они увидели, как Петр Шугай с женой и три старших сына глядят по сторонам — что случилось? Потом Петр опять пошел к оборотам. Жандармы накинулись на них. Потащили старика к избе. Младшие мальчики с плачем бежали сзади. Четырнадцатилетний Юрай вступил в драку. Дважды бросали его оземь. Дважды вставал он и, как волчонок, оскалив зубы, с горящими глазами, снова кидался на врагов. Жандармы скрутили ему руки и потащили за собой.
Петра Шугая поставили к стенке. Один из жандармов приставил ему штык к груди, другой начал бить.
Избитый Юрай ничком лежал в траве и выл.
— Где Никола? Где Эржика? Куда удрали?.. Забьем до смерти!
В эту минуту из лесу раздался крик. Страшный, нечленораздельный рев. Никола! Он стоял на опушке. Жандармы обернулись, схватились за ружья, но было уже поздно. Прогремел выстрел. Один из тройки рухнул на землю. Двое, заскочив за угол избы, исступленно палили в сторону леса.
В тот же вечер изба Шугаев вспыхнула, как охапка хвороста, и сгорела в несколько минут. Больную Эржику успели вынести. Это была месть жандармов. Так расправлялись они в Сибири с деревушками, где был убит кто-нибудь из их ребят[6]. Страх! Нагнать побольше страху.
Что в самом деле, для того ли уцелели они под русскими, сербскими, итальянскими, немецкими, австрийскими пулями, чтобы здесь их убивали? Для того ли сражались в сибирских просторах и в скалах Доломита, чтобы погибнуть в этой разбойничьей деревне?!
На третий день были похороны убитого сержанта. Нет, не похороны то были, а смотр бранных сил перед лицом врага, боевой парад в сибирской деревне; словно опять среди безмолвного ее ужаса очутились былые солдаты. Из Хуста пришла рота в полном вооружении — отдать павшему легионеру последний долг. Ее глухой тяжелый марш мимо плетней и заборов Колочавы напоминал о войне. И в воздухе точно разлилась война, над долиной, казалось, нависла тяжкая, темная туча, под которой трудно было вздохнуть полной грудью. Из школы вынесли украшенный гирляндами гроб. Резко прозвучала команда. Рота и жандармы салютовали мертвому товарищу. Точно дальняя канонада, загрохотал барабан — и замолк.
Прячась за заборами и окнами Колочавы, мужики со страхом глядели на черно-золотые облачения ксендзов, на форменные сюртуки чиновников, на всю эту толпу господ, которые могут одним росчерком пера стереть Колочаву с лица земли. Угрюмые шеренги жандармов, медленная поступь колонны, хруст гальки и гравия под ногами — все это было страшно и напоминало о голоде. Из церкви доносился звон единственного колокола. Он грозно плыл над деревней, как ночной тревожный набат.
Колочава молчала.
И только старые евреи стояли у дверей своих лавок. Они понимали значение этой демонстрации сил и, помня о самом главном, не поддавались эмоциям. Кривя губы, они твердили про себя: «Э-э, плохо дело! Посадили бы Эржику и выпустили бы товарищей Николы. Ибо не лучшие, а худшие стороны души губят человека…»
Седовласый патриарх Герш-Лейба Вольф нашел этот афоризм где-то в книгах моисеевых, и еврейские торговцы согласились с ним. Тактику жандармов они считали неправильной.
ГЛАВА IV Олекса Довбуш
Разбойники! Черные братья! Когда улыбнется им молодецкая судьба, когда благоприятствует эпоха, создают они королевские династии. Но чаще болтаются их тела на виселицах. А еще чаще кончает разбойник свою жизнь, уткнувшись головой в мох, в луже крови, сраженный в упор выстрелом в спину.
Но слава этих неудачников больше королевской. Ибо убитые — это наши, это люди с наших гор. Именно потому, что не создали они династий, не стали чужаками, а приняли на себя мирское бремя и муку, решились на то, о чем всегда мечтают люди гор, но не отваживается никто из них: мстить за кривду, убивать бар, отнимать у них награбленное, жечь и громить то, чего нельзя унести, тешить себя местью и страхом врага и самому бояться собственного будущего. Разбойниками грезит во сне народ, который никогда не изведал радости коллективной мести.
Гляньте вон на тот плоский камень. Он служил столом на пирах Олексы Довбуша. Здесь у колодца сходился Довбуш со своими ребятами. Под этой столетней елью делили они добычу, вон там танцовали дикий «аркан», выстроившись гуськом, обняв друг друга за шеи, распевая, притопывая, выкидывая коленца… Вон в ту сторону шел Олекса Довбуш на панский замок и сжег его, хитростью выманив стражу. Здесь стояла корчма, где навестил Довбуш богатую свадьбу ростовщика и вернулся с мешком денег и драгоценностей. А там лежит трижды проклятая деревня Космачи, — где жила его вероломная Дзвинка. А дальше Черная гора, где вместе со своими сокровищами похоронен Олекса Довбуш.
Не верьте тому, что выдумали о нем паны. Не верьте тому, что написано в книгах. Все это для того, чтобы затмить славу Довбуша. Не жил Олекса Довбуш в половине XVIII столетия в Польше. Не жил он в смутные времена бранных схваток императора Августа со Станиславом Лещинским[7], вскоре после мятежей в Венгрии и во время тяжелых внутренних распрей в Румынии, воевавшей тогда с Россией. Не разбойничал Олекса Довбуш семь лег в краю, кишевшем беглыми солдатами, где жили в горах мужики, бежавшие с земель Иосифа Потоцкого, готовые лучше итти на виселицу, чем сносить тяготы солдатчины и бесконечные поборы княжих старост и приказчиков. И неправда, что был застрелен Олекса Довбуш Степаном Дзвинкою в деревне Космачи, куда пришел добыть приданое для своего друга. И год 1745 — пустая барская выдумка. Олекса Довбуш не жил ни в каком году. Он жил тысячу, сто лет назад, живет сейчас, будет жить завтра, ибо Олекса Довбуш — это не один человек, это весь народ. Олекса Довбуш — это порыв народной мести и острая жажда справедливости.
Как же, однако, было дело с Олексом Довбушем?
Было оно так.
Слабым, бедным, неказистым и глупым пастухом был Олекса Довбуш. И был он таким, дабы — говоря языком грамотеев и проповедников — воочию показать, что по воле божией каждый из нас, робких, покорных и бедных, может совершать большие дела.
На все заработанные деньги купил себе пастух Довбуш дрянной пистолет и, припадая на одну ногу, бродил по деревням, на потеху и веселье бегавшим за ним ребятишкам. И если бывал бит кто-нибудь из пастухов, то в первую очередь Олекса Довбуш. Люди его ни во что не ставили.
Но господь бог наградил его великой силой. За Тиссой на Черной горе есть страшная пропасть, и нависла над ней скала. Жил в этой скале чорт, и тот чорт дразнил бога. Сядет на краю и ругается. Бог в него — молнией. А чорт — прыг в дыру. Гром ударит в скалу, отобьет кусок камня — а чорту хоть бы что. Опять вылезает и опять дразнится. Господь бог снова метнет в него молнией. А нечистый опять — шмыг в дыру. Тянулось это довольно долго.
Увидел однажды эту игру Олекса Довбуш, стал спиной к молнии, нацелился в чорта из пистолета да как стрельнет. Чорт провалился в пропасть и глубоко ушел в землю, только дым заклубился на том месте.
Над Довбушем стоит архангел Гавриил.
— Очень ты угодил богу, Олекса Довбуш, что сжил со света дьявола. Проси у бога, чего хочешь.
Призадумался Олекса Довбуш.
— Люди меня ни во что не ставят. Хочу доказать, что многое смогу сделать им на пользу. Пусть даст мне господь бог такую силу, какой на свете нет. Чтоб побеждал я врагов и карал обидчиков. Чтоб никто не мог меня одолеть и не брала меня никакая пуля.
И когда вернулся он к другим пастухам, а они смеялись над ним, разбросал их, как щенят, Олекса Довбуш.
С тех пор стал вождем пастух Довбуш. Стоял за правду и карал кривду. Крут был с господами, а к народу ласков и милостив. У богатых брал и бедным давал. С полсотней молодцов, что собрал вокруг себя, жег замки злых панов и дома чиновников. Нападал на богатые корчмы, наливал себе и ребятам водки, остальное выливал на землю. Выбрасывал на улицу вещи, что заложил у корчмаря трудовой люд, — бери всяк свое.
Однажды ограбил он поместье в Богородчанах, вынес оттуда мешки золотых. Положил их на спины хлопцам, взял свой атаманский жезл с топориком и продырявил мешки. Шли разбойники, трясли мешки, сыпались дукаты, бедный люд сбегался и подбирал.
Потише стали господа, боялись Олексы Довбуша.
Жил Олекса на Кедроватом. Там его парни вырубили в скале кресло для атамана. Сидя на нем, распоряжался Олекса Довбуш. Затевал набеги на румын и турок, добывал золото от нехристей и привозил домой. Кому была нужда в деньгах — приходил к нему и получал. Что оставалось — прятал Олекса в скалу и велел молодцам так закрыть ее, чтоб никто никогда не добрался. Так и было сделано. Теперь строят там железную дорогу, целые горы взрывают на воздух, а тех скал все равно не найдут и не откроют. Лежит там золото, серебро, драгоценные каменья, оружье, заботливо смазанное. Если открыть скалу, засияет тот клад на целый свет. Но лежит клад и ждет нового Довбуша. Глубоко закопал свое ружье Олекса Довбуш. Медленно, медленно поднимается оно, каждый год не больше чем на маковое зернышко, но когда выйдет целиком на божий свет, появится в мире новый Олекса Довбуш, воитель за правду, мститель за кривду, панам на страх, народу на радость и утешение.
Посылали против Довбуша войска, разгонял их Олекса, как цыплят. Проведал, наконец, сам император, что есть молодец в его земле, которого одолеть никто не в силах, и велел Довбушу приходить в столицу мириться. Но задумал монарх втайне провести Олексу, и когда подошел тот к Вене, выслал против него император все свое войско и велел убить Довбуша, а сам глядел из окна. Отскочили пули от Довбуша, полетели обратно на войско, поубивали всех до единого. Испугался царь, велел остановить стрельбу и помирился с Довбушем. Дал ему большую грамоту с печатью — о том, что имеет право Довбуш свободно разбойничать по всей земле, только войско не трогать. Три дня и три ночи угощал Довбуш императора и его двор и семь лет потом разбойничал в стране. И пока был он жив, легко жилось бедному люду.
Погубила Довбуша баба, этот вечный враг мужчин, чортово племя, из-за которого столько зла на земле. Разнежился с бабой Довбуш, забыл про свое дело и пропал ни за понюшку табаку.
Дзвинкой ее звали, была она замужем и жила в Космачах. В часы любовных утех выведала Дзвинка великую тайну Довбуша и трижды поклялась божьим именем, что никому не выдаст. Неуязвимого Довбуша могла сразить серебряная пуля. Ту пулю надо было положить в миску с яровой пшеницей и нанять двенадцать попов отслужить над ней двенадцать молебнов. Рассказала об этом Дзвинка своему мужу Степану.
Собрался Довбуш с ребятами в поход на Кутский замок.
— Завтра чуть свет будем на ногах, братцы, сегодня надо пораньше лечь. Заночуем в Космачах, повидаем Дзвинку.
— Олекса, батюшка наш, не ходи в Космачи, видели мы вчера дурной сон.
— Хлопцы мои, молодцы, ай вы сдурели? Забейте в ружья по две пули и стойте под горой. А я пойду спрошу, покормит ли нас ужином пригожая Дзвинка.
Пришел к хате Дзвинки.
— Спишь, кумушка, иль не спишь? Угостишь ли нас ужином?
«Не сплю, — думает Дзвинка, — не сплю, тебя слушаю да ужин готовлю. Славный то будет ужин, всему народу на удивление».
— Спишь иль не спишь, Дзвинка, сердце мое, дашь ли приют Довбушу?
— Не сплю, тебя слушаю, а ночевать разбойника не пущу. Степана нет дома, и ужин не готов.
— Отвори — или хочешь, чтоб я двери выломал, сука?!
— Не открою!
Осерчал Довбуш, приналег на дверь, а Степан на чердаке уж забивает в ружье серебряную пулю.
Трещат двери, поддаются запоры. Испугалась Дзвинка, шепчет Довбушу:
— Олексушка, сердце мое, не ходи! Все это нарочно, заставил меня муж. Он тебя стережет на чердаке.
Но уже распахнулась дверь, выстрелил Степан серебряной пулей. Метил в сердце, попал в левое плечо. Брызнула олексова кровь. Лежит он окровавленный перед хатой. Далеко его товарищи.
— Эх, Степан, убил ты меня из-за бабы!
А Степан отзывается из-под крыши:
— Было б тебе не ходить к ней, не болтать свою тайну. Баба ведь не надежней, чем соломинка посередь стремнины.
Где его разбойнички, где его черные хлопцы? Крикнешь — не услышат, свистнешь — не узнают.
Но нет, крикнул Довбуш — и услышали разбойники, свистнул — и узнали молодцы своего атамана. Примчались к нему.
— Олексушка, батюшка наш, не послушал ты нас, не убил ее окаянную.
— Как же было убить, когда люблю ее всем сердцем, ребятушки. Идите и спросите ее, любит ли и она меня?
А Дзвинка плачет:
— Кабы не любила его, чисто бы не ходила. Чисто бы не ходила, злата-серебра не носила.
— Ой вы, хлопцы мои, молодцы, тяжко мне. Унесите меня отсюда. Положите меня под буком, прощусь с вами да умру, как положено разбойнику.
Положили его под серебряным буком.
— Олексушка, батюшка наш, окаянную-то убить аль застрелить?
— Не убивайте и не стреляйте ее, ребятушки. Спалите избу, а ее самое не трогайте.
Плачут разбойники.
— Олексушка, отец наш, куда пойдем без тебя, к чему приложим силы молодецкие, как будем грабить замки панские? Куда нам податься, посоветуй, в Румынию или к венграм?
— Не ходите, ребята, разбойничать, идите по домам хозяйничать. Оставляю вам три груды золота. На одну меня похороните, другую Дзвинке отдайте, третью меж собой поделите. Забросьте свои топоры разбойничьи, не проливайте больше человечьей крови. Кровь не вода, проливать ее негоже. Не ходить уж вам по свету, не разбойничать, нет у вас атамана. А теперь возьмите меня на Черную гору. Там я любил, там и умереть хочу. Стоят на горе две пихты — то сестры мои, стоят два клена — то мои братья. Меж них и похороните меня, ребятушки.
Отнесли его хлопцы на Черную гору. Там помер Довбуш, и там погребли его в тени диких скал, на неведомом месте рядом с кладом; если открыть клад, засияет он на весь мир.
Любит господь бог Довбуша, отметил его и после смерти: в тот самый день — не раньше, не позже, — когда падает на могилу Довбуша первый луч солнца, пронизав тенистый полумрак скал, начинается пасхальная неделя, праздник крещеного люда.
О напряженной атмосфере в Колочаве в день похорон жандарма не знали другие жители гор. Знали они только, что Никола Шугай жив, что живет он в лесах. А в лесу человек, как рыба в воде: каждый знает, что он там, и никто не знает, где именно. В прохладных глубинах воды и леса есть что-то таинственное, волнующее охотника, рыбака и путника.
Осенними днями под мягким солнечным светом сидят бабы перед избами. Кружат веретено и, слюнявя палец о нижнюю губу, прядут толстую нить. Была раньше у баб, бог весть почему, любимая тема: змеи. Отзвук ли она древних религий, или библии, или просто бабьих снов? Но уже не болтают на эту тему бабы: о заклинателях, которые вызывают змей свистом и выпускают их из рукавов тулупа; о том, что в день благовещения вся подземная тварь вылезает на свет божий; о счастье, которое приносит дому змея; о мести гадов, когда дети родятся со змеиными головами и чешуей…
Говорят сейчас бабы об Олексе Довбуше, о разбойниках Довже и Пинте, — о том Пинте, кого солдаты мучили, прикладывая к телу раскаленные монеты. Бабы зовут старух, которые еще помнят, как все это было. Те слезают с печей, похожие на ведьм, и, дымя короткими трубочками, выходят на завалинку и начинают рассказывать. Говорят и о Николе Шугае. О неуязвимом Николе. О герое и отважном любовнике.
Никола в горах. Жандармы устраивают на него облавы, цепи стрелков окружают Николу со всех сторон, засыпают пулями, а он стоит на камне да помахивает зеленой веточкой и исчезает, когда ему вздумается. Идет к своим кладам, где-то в далеком горном глетчере, в пещере, что краше любого храма. Дорогу к ней не знают даже лучшие друзья Николы, и ходит он туда, привязав к ногам оленьи копыта, чтобы не оставлять человечьих следов. И опять возвращается, кружит по краю, грабит почту, вырастает перед носом богатеев, торговцев, господ: «Я Никола Шугай». От этих слов пот прошибает людей, трясутся у них колени, и сами собой открываются кошельки. Побитые, они безропотно дают загнать себя в канаву и лежат там рядком, точно ступеньки стремянки. Ха-ха! Слыхано ли что-нибудь забавнее этого?
А знаете вы о случае с бароном? Живет этот барон где-то далеко в Чехии, а здесь купил себе охотничий заповедник и нанял двух лесников, чтоб берегли оленей. И вдруг прошел слух: объявился медведь в округе. У Андрея Колобишка задрал коня и сожрал только мозг.
Начали лесники подкармливать медведя. Понемногу отучили его добывать себе пищу, и стал медведь ходить на опушку за мясом. Известное дело — медведь от этого так разжирел и обленился, что можете молотить его палкой, он только ворчит и скалит зубы, а от жратвы не отойдет.
Вырыли лесники для своего барона охотничий окопик, прикрыли его досками, все приготовили и телеграфировали: извольте приезжать, господин барон, дело верное.
Наехали господа на трех автомобилях, с вином, с закусками, с походным котлом. Ну, прямо военная экспедиция! Взяли лошадей, восемь человек прислуги и отправились на медведя. В горах была у барона охотничья сторожка. Подошли к сторожке, уже видать ее между деревьев, — глядь, что там такое краснеет на дверях? Прибавили шагу охотники. Господи боже, что это? Похоже на мясную лавку. Пустились барон с лесниками во весь дух. Подбежали и остановились, занялся дух. Медведь! Прибит к дверям сторожки. Одна туша без шкуры. Никола Шугай уже все обделал, чтобы избавить господ от работы. Ха-ха!
Марийку Иванышеву из Точки знаете? Ее изба стоит высоко, против Камьонце. Дело было вечером. Глянула Марийка в окно, видит — кто-то идет к ним. Кто бы это мог быть? Прохожий? Время позднее, чтоб выходить сейчас в путь. Пресвятая богородица, да он с ружьем! Крикнула мужа. Тот взглянул и обомлел. «Марийка, это же Никола!» А Никола входит в дверь, здоровается:
— Господу богу слава!
— Во веки веков, — отвечает Марийка, а у самой душа ушла в пятки.
Стоят все трое, глядят друг на друга. Никола усмехается. Наконец расхрабрился Иваныш.
— А вы кто такой, землячок, будете?
Улыбнулся Никола, сверкнул зубами.
— Нешто не знаете, кум? Знаете!
И потом:
— Убил я оленя, тут недалеко. Помогите-ка мне его донести, сложите мясо в бочки с рассолом или выкоптите кусок, приду к вам как-нибудь на оленину.
И верно: заходил раза два-три. А к Цилии Хавей приходил кушать кабана. А у Хафы Гурдзан увидел, что хоть шаром покати в доме, и дал детям денег. А немецким дояркам на Темной носит ликеры, пастухов на Стременоше одаривает конфетами. Что для Николы сотня крон, что ему тысяча? Пойдет в свою пещеру и возьмет сколько нужно.
Целый день можно рассказывать о Николе. Знают его все от Говерлы до Вигорлата. Кто встречал Николу переодетого мужиком, кто охотником, попом, солдатом, бабой. Даже людям с самым маленьким воображением, никогда не видавшим Николу, случалось под вечер слышать в сумерках печальный звук свирели на опушке леса. Это Никола играет и грустит по Эржике.
О Николе хорошо рассказывать дома в сумерках, когда в печи кроваво тлеют уголья, а старухи на лежанках докуривают свои трубочки, набитые табаком и ореховым листом.
— Эй, дети, не балуйте, Никола под окном услышит! И дети на печи вглядываются во тьму. Никола представляется им сказочным героем, по спинам пробегает дрожь страха и восхищения. Может, и впрямь Никола стоит под окном? Может, он нагнулся там и слушает, что о нем говорят. Если его встретить, наверняка даст конфетку и пригоршню золотых!
А кто друзья Николы?
По воскресеньям собираются в Колочаве парни со всех горных хижин. На них косматые овчинные тулупы с очень длинными рукавами. Парни толкутся перед церковью, здороваются друг с другом, заводят речь о Шугае. Приятно услышать новые подробности о том, как Никола ограбил панов, которые гоняют их, колочавцев, в город и не хотят платить по квитанциям, что давали румыны. Никола обобрал ростовщиков, не впрок им пошли нажитые денежки. Хорошо делает Никола, что убивает жандармов, чтоб им пусто было. Тех жандармов, которые десятками тащат колочавцев в кутузку, шарят по избам в поисках оружия, штрафуют за каждое полено из леса и за форель из речки и вечно лазят в картофельное поле, — нет ли там табачных посевов.
Видите вон того мордастого, в городской одежде и зеленой охотничьей шляпе? Вон он прохаживается перед церковью и ни с кем не перекинется словом. Это артельщик — скотина и проклятый вор. Он всегда заодно с нанимателем. Он обворовывает дровосеков, обманывает их на заработке, на деньгах за проезд, на провизии. Такой же неграмотный мужик, а как задается! Сигару воткнул в зубы. Сколько раз ему разбивали эти зубы взбешенные дровосеки.
Люди в косматых тулупах не оборачиваются на артельщика, только провожают его глазами. Ха-ха, ишь как насупился, хоть и старается держаться как ни в чем не бывало. Никола отобрал у него все денежки по дороге из города!
Но кто же из этих парней — друзья Николы? Здесь они, здесь! Перед иконостасом вместе со всеми крестят лбы — господи, помилуй! Конечно, мы их видим каждый день, здороваемся с ними. А они — николовы друзья, они разбойничают, скрыв свои лица синими платками. Кто же это, который из них? Эта тайна волнует колочавцев не меньше, чем глубины вод и леса или рассказы о змеиных королях.
Вопрос о сообщниках Николы занимает и еврейскую молодежь Колочавы. Сынки лавочников, из милых детей превратившиеся в неуклюжих верзил, никогда не отличались особенным трудолюбием. А теперь, когда торговля, извоз и мастерские их отцов в застое, они совсем бьют баклуши. Целый день шляются в гости друг к другу. Сидят на порогах лавок, качаются во дворе на оглоблях, валяются на стружке и досках в сарае столяра Пинкоса Гластера, от нечего делать помогают кузнецу Израилю Розенталю раздувать горн и суют носы во все кухни в надежде поживиться съестным или папиросой. Бранятся, подтрунивают друг над другом, о чем-то горячо спорят. Конечно, о Шугае. Скажите, пожалуйста, где Шугай меняет доллары? Ага! А куда он дел тот ящик велюровых шляп, который взял с почтовой кареты? Ну? А куда девает сахар? А куда делись две штуки тканей Герша Вольфа? Абрам Бер? Ой, что вы, кто же говорит об Абраме Бере? Никто не скажет ни да, ни нет. Мы только спрашиваем: куда Шугай дел доллары, и ткани, и сахар, и шляпы? Наверное, съел? О-о! Шугай — это голова.
«Абрам Бер?.. — размышляют молодые бездельники, сидя на досках, пересыпая в пригоршнях пыль и вспоминая Аннелю, дочь Абрама Бера. — Неужели Абрам Бер, паршивый выскочка, чей отец пришел сюда из Польши полураздетым бродягой? Чтоб он развалился на вот такие кусочки, этот Абрам Бер! Все хочет для себя. Верно пословица говорит: богатому чорт и люльку даром качает, а бедному и за деньги не станет.
Ну, а с каких денег Петр Шугай ставит новую избу? Нигде не одалживал, ни у Герша Вольфа, ни у Абрама Бера, ни у Герша-Лейбы Вольфа. А где взял Федор Буркало на корову? А с каких денег Абрам Хрепта покуривает папироски, если у них в семье никто не работает? А? Знаете что: есть тут у нас в деревне восьмилетний Ицка Коган из Майдана. Родители его послали сюда учиться в хедере, — у них, в Майдане, нет ни одного реббе. Мальчишка живет у Герша-Лейбы Вольфа, а столуется во всех еврейских семьях. Вы его спросите. Этакий сопляк все знает, потому что перед ним не таится никто. Спросите его, не возит ли старый Исаак Фукс по ночам доски? И не спрятано ли что-нибудь под этими досками? Кругом одни разбойники, ей-богу. Разбойники и убийцы. Но хуже всех Абрам Бер. Живем, как в лесу — один жрет другого, но Абрам Бер сожрет всех, вот увидите».
Старые евреи ежедневно твердят все молитвы, какие только у них есть в запасе: утреннюю, перед восходом звезд и после восхода звезд, перед сном, перед едой, после еды, перед тем как напиться и после этого. А когда они не молятся и не заняты своими страшно запутанными делами, рассуждают о Шугае и приговаривают: «Эх, плохое дело!»
В день приезда в Колочаву жандармского майора к нему явилась депутация еврейских «отцов деревни» и напрямик высказала свое мнение:
— На Эржику Шугая не поймаете. Поймаете его на товарищей. Ибо не лучшие, а худшие стороны души губят человека. Посадите Эржику и выпустите товарищей.
Жандармский майор плохо разбирался во всей этой мудрости и ничего не ответил. Сейчас у него не было времени обсуждать такую проблему, и он попросил визитеров, чтобы один из них, например Абрам Бер, навестил его завтра.
Ночью по приказу майора в школу привели Василя Дербака-Дербачка.
— Ты нас водишь за нос, сукин сын, — сказал ему майор. — Всегда показываешь, где только что был Шугай, и никогда, где он сейчас.
— Разве я могу с гор до Колочавы долететь, как птица? А вы можете прилететь в горы?
Это, конечно, была правда. И все же майор не ошибался. Василь Дербак-Дербачек старался не раздражать жандармов (а это было не легко) и водил их по свежим следам Шугая, но тщательно остерегался выдать спящего Николу. Ибо для Василя не было ничего страшнее, чем арест Николы и его допросы. Василь верил, надеялся, что Никола убережется от жандармов, он страстно желал этого. Может быть, Никола удерет, может быть, скроется навсегда, может быть… нет, больше ничего не может быть. Чего еще ждет Никола? Уж и так трудно приходится и ему и приятелям его. А жандармы нажимают: где был вчера Шугай? Где спал? Кто был с ним? Где он сегодня? Веди нас к нему!
От этой двойной игры и двойной опасности Дербак-Дербачек измучился вконец. Невинных он выдавать не хочет, а Игната Сопко и Данилу Ясинко — не смеет. Его недалекий ум с трудом выносит такое напряжение. Дербачек не спит, похудел, выглядит измученным. Чего еще ждет Никола, почему он не выручит их всех? А уж если, угодно господу богу, вопреки всем желаниям Дербачка, чтобы Никола попался, пусть попадется им… уже безгласный.
— Слушай, — сказал Дербачку жандармский майор, — даю тебе шесть недель сроку. Времени хватит с лихвой. За этот срок ты должен навести нас на Шугая. Не сделаешь этого — посажу тебя и твоего парня. Понял? Он уже совершеннолетний, и чем пахнет дело, ты знаешь. Шесть недель можешь шляться к Шугаю, но один, без мальчишки. И будешь доносить нам обо всех, кто у него в шайке. Ясно?
Майор в упор поглядел на Дербачка, старавшегося сохранить спокойный вид. Потом повернулся к капитану.
— Господин капитан, извольте отметить дату. Ровно через шесть недель арестуйте обоих и передайте судебным органам. Можешь итти, ты!
Дербачек вышел. Голова у него трещала.
На другой день к майору явился Абрам Бер. Если Дербак-Дербачек колебался между двумя желаниями — смертью Шугая и его спасением, то для Абрама Бера этот вопрос был уже решен: да, пусть жандармы Шугая поймают, но пусть возьмут его мертвым. В остальном Абрам Бер разделял мнение патриархов деревни. Их философию он перевел для майора на язык практических советов. Посадите Эржику и выпустите товарищей Шугая, господин майор. От Эржики вам толку не будет, уверяю вас. Как бог свят! Эржика — его главная шпионка в деревне. Сама-то она, конечно, с ним не встречается. Каждый ребенок в деревне знает, что за ней по пятам ходят переодетые жандармы, и она тоже понимает это не хуже других. Пока Эржика в деревне, вся ваша работа идет впустую, господин майор. Живым вам его не взять. Найдите-ка зернышко на гумне! Для этого вам понадобилась бы половина всей армии. Нет, вы отпустите его товарищей, господин майор, пообещайте им безнаказанность, назначьте цену за голову Шугая. Мы, торговцы, тоже ее назначим. И недели через две все будет в порядке! Кто-нибудь его пристрелит, или пристукнет топором, или приведет его к вам связанным… Чтоб мне так жить, господин майор!
Ранней весной, когда под яркими лучами солнца уже чуть смякли снега и в ледяных сводах над стремительными водами Колочавки появились первые проталины, Николу Шугая точно обуяло бешенство. Он, хранитель славной традиции разбойников — убивать только защищаясь, теперь усеял свой путь трупами. Он — храбрец, всегда выступавший с открытым лицом один против целой толпы, — теперь не брезгует ночным разбоем, топором, кровопролитием. Вечером на шоссе, в каких-нибудь пятистах шагах от околицы Воловото, застрелены три торговца, возвращавшиеся на телеге с ярмарки. И как застрелены! Снайперу Николе, который никогда не промахивался ни в оленя, ни в медведя, ни в человека, изменила рука на расстоянии тридцати шагов. Торговцы были ранены в живот, и, чтобы их прикончить, Никола переехал им колесами горло. Несчастные все же прожили еще несколько часов и смогли ответить на вопросы следователя.
В избе у Буштины ночью была вырезана целая семья какого-то американского реэмигранта. На горе Розе убит и ограблен Натан Файгенбаум. Убийства, убийства! Недели не проходило без сообщения о новых жертвах. Что творишь ты, Никола Шугай?
Край объят ужасом. Соединенный отряд жандармов увеличен на шестьдесят человек. Но самые упорные поиски разбиваются о твердолобость жителей этой разбойничьей деревни. Ничего не добьешься от них. Ничего они не видели, не слышали, не знают. Никому Шугай не встречался уже много месяцев, ни в лесу и ни на пастбищах он не появляется, пить молоко на зимовки не ходит. Два каменотеса, которые во время воловского убийства еще работали на дороге, а услышав стрельбу, попрятались в канаву, распластавшись там на талом снегу, и были найдены с еще мокрыми животами, не слышали никаких выстрелов и ничего знать не знали. Девка, которая была свидетельницей нападения на шоссе, от всего отперлась. Арон Зисович, ограбленный в собственном доме и только чудом избежавший смерти, весь дрожа, сказал следователю:
— Ничего не знаю, пан. Лишился денег, не хочу лишиться и жизни.
По краю гулял разбойничий террор. У бабы, которая описала внешность одного из убийц, на следующий день сгорела изба. Что творишь ты, Никола Шугай? Жестоко мстишь, и, видно, знаешь за что.
Крылья, что ли, выросли у Николы? Ночью он грабит в Немецкой Мокре, днем убивает в Хусте, вечером поджигает в Быстром. Возможно ли это?
Посадите Эржику, выпустите товарищей Шугая, оцените его голову, — вопят «мудрецы». Это сложившееся мнение стало для них почти символом веры. В этот возглас они вкладывают всю свою силу убеждения, упрямство, страсть, жар. Они твердят свои советы на ухо жандармским офицерам, бомбардируют ими окрестную управу, пишут жалобы в Прагу. А жандармы, обозленные неудачами, допекаемые газетами, нагоняями от высшего начальства, твердолобостью колочавцев, срывают свою злобу, разумеется, на последних.
Капитан зовет Дербака-Дербачка, снова грозит ему. Но Дербак-Дербачек уперся, как баран:
— Не знаю. Не могу сказать, где он. Не видел его уже два месяца.
— Врешь!
— Не вру.
Жандармский капитан вот-вот бросится на Василя, крикнет вахмистру, велит бросить его в холодную. И тогда Дербак-Дербачек выкрикивает фразу, заставляющую всех оторопеть:
— И вовсе это не Никола!
На секунду капитан точно замер. Дербак-Дербачек высказал его собственное затаенное подозрение. Потом он бешено вскакивает.
— Врешь, врешь, собака!
Хватает Дербачка за горло.
— Врешь, врешь, врешь!
Отпустив Дербачка, он бегает по комнате.
— Откуда ты знаешь? — капитан останавливается против Василя и, не дождавшись ответа, опять начинает бегать из угла в угол.
Слова Дербачка звучат неправдоподобно, немыслимо, и все же Дербак-Дербачек выразил его собственные, капитана, мысли. Ибо в самом деле — не выросли же крылья у Шугая! Как иначе может он утром грабить здесь, а к вечеру за семьдесят километров. Быстрота эта уже давно казалась подозрительной капитану. Итак, значит, кто-то работает под шугаеву марку? Какой скандал! Мало было хлопот с одним бандитом, потом с целой их шайкой, теперь, пожалуйте, весь край грабители и убийцы. Ужас, ужас!
Допрос Дербачка начинается сначала. Капитан садится на стул.
— Откуда ты знаешь?
— Никола никого не убивал… кроме жандармов, — торопливо говорит Дербак-Дербачек под пронзительным взглядом офицера.
— Я тебя спрашиваю — откуда ты знаешь, что все эти преступления совершает не Шугай?
— Мне никто не говорил. Но я знаю. Никола никогда не промахнется ни в зверя, ни в человека. Он не стреляет в живот… не рубит топором… не ломится в дом по ночам.
— Где Шугай?
— Два месяца о нем ничего не знаю.
— Жив он?
— Не знаю.
— Кто же все это творит?
— Не знаю. — Василь и в самом деле не знал. И когда капитан, сам измучившийся вконец, два часа изводил его угрозами, а потом начал все сначала, Дербак-Дербачек закричал:
— Ну, тогда посадите меня и Адама! Сажайте меня сейчас! Думаете, мне меньше страшна николкина пуля, чем ваша кутузка? Вся деревня знает, что вы меня сюда водите по ночам! Было б мне провалиться сквозь землю, когда я в первый раз сунулся к вам! Не знаю ничего, ничего, ничего!
«Посадить или нет? — колебался капитан. Его охватила мелкая дрожь напряженного возбуждения и усталости. — Ужас, ужас! Целые полчища разбойников!» Капитан нервно провел рукой по лицу.
Дербак-Дербачек был готов ко всему. Его уже ничто не пугало. Во время допроса его вдруг осенила смутная мысль, сейчас уже принявшая отчетливые очертания. А жив ли Никола? Может быть, его давно нет в живых. Во всяком случае, его нет в этих краях. Наверно, удрал. Скрылся навсегда. Спасся от жандармов. Господи Иисусе Христе, сделай, чтоб это было так, чтобы Никола никогда не вернулся!
Нет, тщетны были надежды Дербака-Дербачка. Жив был Никола Шугай. Никуда не удрал он, а жил в Зворце.
Зворец — поселок из четырех дворов на горе Стримба. Избы стоят в полукилометре друг от друга, и долина скорее похожа на ущелье: она так узка, что четыре человека, взявшись за руки, могут загородить ее, и так глубока, что жители видят солнце только семь часов в сутки. Траву с горных склонов приходится летом возить на санях — по утренней росе или сразу после дождя, — а зимой туда не может вскарабкаться ни лошадь, ни человек.
Странными путями попал сюда Никола. Старая Алена, мать Дербака-Дербачка, напоила его чем-то недобрым. Давно это было, еще зимой, когда Никола ночевал в деревне и Эржика пришла за ним. Никола тогда не обратил внимания на странный привкус молока и вспомнил о нем слишком поздно, когда уже начало действовать проклятое зелье. А ведь Эржика остерегала его насчет Дербачков, остерегал и младший брат Юрай. Но Дербак-Дербачек всегда отпирался. — Он ходит к жандармам? Скажите, пожалуйста, кого они не таскают к себе в караулку?
Никола поверил. А Дербачиха и впрямь оказалась ведьмой. Она умела варить заколдованное питье, знала, как сглазить человека, командовала змеями, а вечером оборачивалась в жабу или в черную кошку. Люди давно об этом знали. Никола не верил — и вот поплатился за это. Ночью в шалаше на Сухаре его вдруг одолели рези в животе. Палил внутренний жар, в голове крутились колеса. Рано утром, едва Никола вышел на мороз и прошел две сотни шагов, ему непреодолимо захотелось лечь где-нибудь под деревом на снег и лежать, забыв обо всем. Напрягая трещавшую голову, Никола упорно думал, что этого нельзя делать именно потому, что хочется. В него вселилась нечистая сила. Надо с ней бороться. Никола шел, ничего не видя вокруг. Только белый снег и огненные колеса перед глазами. Но итти надо, это он знал. Как Никола добрался до Майдана — он и сам не помнит. Майданская колдунья — лучшая на всей Верховине — была дома.
— Слава Иисусу Христу, — поздоровался Никола, входя в избу. В голове у него били молоты.
— Слава навеки, — откликнулась колдунья. — Ты Никола Шугай.
Никола даже не удивился, откуда она его знает.
— Я знала, что ты придешь. Надо было прийти раньше, Никола Шугай. Уже три дня и три ночи я жду тебя.
Никола ничего не видел вокруг, только колдуньины блестевшие зрачки.
— Тебя отравила ведьма. Напоила тебя змеиным отваром.
В сознании Николы промелькнула старая Алена, ее жидкие седые космы, торчавшие из-под платка. Вспомнилась ночь, когда к нему приходила Эржика.
— Я выведу змеиный яд.
Зрение Николы странно обострилось, но он видел только колдунью, точно больше ничего не существовало на свете. Вот она набирает сковородкой из печи пылающие угли и ставит их посреди избы.
Сейчас выйдет змеиный яд. Огонь его выгонит.
Она дала ему выпить что-то.
— Молись!
Никола про себя твердил «Отче наш», а ворожея, бормоча заклинания, бегала кругом него, вертясь, точно детский волчок. Все громче звучали заклинания… Никола видел только глаза колдуньи. Его вдруг страшно сдавило внутри. Казалось, все внутренности лезут наружу вместе с душой. И вот Никола увидел, что его тошнит змеями. Маленькие и большие змейки тянутся из его рта к сковородке и исчезают во всепожирающем жару. Николой вдруг овладела безграничная слабость.
— Теперь ты здоров. Иди на чердак и ложись спать. Утром встанешь совсем крепкий.
И верно, поутру проснулся Шугай здоровехонек. Майданская ворожея — великая колдунья.
— Спасибо тебе, — сказал на прощанье Шугай и дал ей горсть денег.
— Спасибо и тебе, Никола Шугай.
Ушел Никола в лес в заброшенную хижину. В тот день убил он самую большую медведицу, какую только встречал в жизни.
— Гей! — закричал он, увидев ее шагах в трехстах на лесной тропинке. Медведица поднялась на дыбы. Никола выстрелил ей в брюхо. Зверь повалился на старый бук, царапая кору лапами.
В этот день все кругом было ясно и весело. Сердце Николы наливалось радостью.
Но слишком был силен наговор Алены Дербачихи. Снова начались рези в животе, одолела горячка. Николу бросало то в жар, то в холод. В такой холод, что не согреться было перед ярким огнем бесчисленных полен, что с натугой подбрасывал Никола в очаг. Чуть задремав, Никола вдруг вскакивал, кругом ему виделись языки пламени, казалось — горит вся хижина. Рассвет, скорей бы рассвет!
…Было это утро или уже день? Никола не знал. Он знал только, что надо итти.
— Итти, итти, итти, — бесконечно повторял Никола, шаря овечий тулуп и с трудом натягивая его. — Итти, итти, итти, — с усилием внушал он себе, выходя на мороз и точно боясь забыть это самое важное слово.
…Зворец. Никола вошел в первую избу.
— Я Никола Шугай. Приведите кого-нибудь, кто умеет писать.
Мгновение — и он остался один. В избе земляной пол. Большая русская печь. Из-за трубы выглядывают какие-то дети. Казалось — они принадлежность печи. Еще какой-то громадный бесформенный предмет заполняет избу, едва оставляя место для кровати и стола. Никола долго щурил глаза — что ж это такое, господи боже мой? Наконец разобрал — ткацкий станок!
Появился человек с карандашом и куском бурой бумаги от табака. Это, верно, тот, грамотный. Из сеней таращили глаза хозяин, хозяйка и еще какие-то люди.
— Пиши, — сказал Никола и продиктовал:
— Приезжай вылечить меня. Если кто-нибудь узнает, где я, — помрут оба твои сына. Никола Шугай.
— Отнесите в Воловое к доктору.
Никола кивнул людям, которых он видел как сквозь туман.
— Это Зворец?
— Зворец, — ответил грамотей.
— Если узнают, где я, выгорите дотла.
И Никола потерял сознание. Его последней мыслью было: «Все кончится хорошо. Бог мне помогает».
Окружному врачу стыдно. Нестерпимо стыдно. Он правит своей двуколкой, занятый невеселыми мыслями. Страшное дело! Который раз уже едет он этой жуткой дорогой? На самый верх, на Греговище, потом вниз, в долину Тереблы — четыре часа езды да еще час пешком. И все это для того, чтобы лечить бандита. Комическое положение! Тема для водевиля, для глупейшего водевиля! Но что же делать? Ну ладно: угроза разбойника мало реальна, надеяться на товарищей — гиблое дело (доктор вспоминает кое-что из собственного опыта), не такой это народ, чтобы хранить верность за гробом и лезть в опасность по приказу Николы, когда его не будет в живых. И все-таки — подумать только об ответственности, о безопасности детей и об истерике, которую закатит жена, если ей рассказать все. Ну ясно, и он заражен всеобщим психозом страха перед «всесильным и вездесущим Шугаем». Но теперь-то он знает Шугая, знает, что никто не станет за него мстить. А тогда? Как было выговорить жене это страшное имя?!
Выдать его теперь? Ого! «Господи боже, господин доктор! И вы сообщаете об этом через два месяца, — скажут ему. — Да знаете ли вы, во что обошлись казне эти два месяца поисков Шугая? А вы, должностное лицо и врач, не подали рапорта, что разбойник болеет тифом». Тьфу!
Лошадь тяжело тянет двуколку. На дороге еще не сошел снег. Где-то внизу поет на солнце жаворонок. Доктор лениво придерживает вожжи и курит сигару. У него достаточно времени поразмыслить о своем положении.
Как лечить тиф? Ну, антипирин, впрыскивания для улучшения сердечной деятельности. И, разумеется, диета. Но разве можно соблюсти диету в этом Зворце. Пожалуй, дело дойдет до того — ха-ха! — что доктор начнет возить сюда и продукты… Но этот здоровяк — ох, и крепки же Шугаи! — с его медвежьей грудью и собачьей выносливостью сердца, сам выздоровеет в конце концов. Не бегал ли он в сорокаградусном жару по снегу? Лишь бы только не вздумал нажраться кукурузной каши.
Итак, зачем же он ездит к Шугаю? Влюбился, что ли, в него? Или собрался читать отеческие наставления: мол, оставьте разбой, Никола, и сдайтесь властям по-хорошему. Какой вздор! Или: покайтесь, Никола. Все равно, что предложить каяться волку или медведю. Какого же чорта он сюда ездит? Брр! Видно, только затем, чтобы когда-нибудь засвидетельствовать перед судом алиби Шугая в таких-то и таких-то преступлениях… Как ползет эта паршивая двуколка! Годовалое дитя перегонит ее на четвереньках. «Н-но, шевелись, убогая!»
«А кто заплатит мне за эти визиты?»
Сына после праздников надо посылать в центр, в гимназию, дочке тоже нельзя торчать всю жизнь в этой глухой провинции. Деньги плывут как вода… Последний раз Шугай опять совал доктору горсть сотенных бумажек, была среди них и тысячная. Но доктор проворчал хмуро:
— Уберите, успеется.
Гм… «Успеется». А деньги бы пригодились. Взять, что ли? Деньги, вытащенные из кошелька какого-нибудь прохожего. Из этого тоже могут со временем выйти неприятности. Проклятый край! Доктор и поп не заработают вместе и ста крон. За доктором бегут, когда человек уже хрипит в предсмертной агонии. Ясно, что визит бывает бесцелен… и бесплатен.
Ну вот, наконец-то, доползли до верху. Отсюда все как на ладони. Горы, леса, зеленые ущелья. Этот край хорош только на открытках. Хлеб здесь не вызревает, разве что овес вырастет где-нибудь на склоне, да и тот жидкий, низкорослый. «Камень родит только камень», — творят здешние люди… Гм, деньги, награбленные у прохожих.
Нет! Если Шугая возьмут живым, быть большому сраму для доктора… хорошо еще, если только сраму! А денег он все-таки не возьмет. Остается надеяться, что Шугай не дастся живым.
И окружной врач все ездит и ездит в Зворец. Он дает Николе антипирин, делает инъекцию для повышения сердечной деятельности. Один раз даже привез из города бутылку коньяку, чтобы Шугай пил его с молоком. Молчит доктор, и молчит Зворец. У людей крохотного выселка, что живут посреди панских лесов, где каждый шаг в сторону — уже нарушение чужого права собственности, молчание стало хлебом насущным. Да и угроза поджога действует. А, собственно, ради чего бы им выдавать Николу? Уж сколько лет им не жилось так хорошо, как сейчас. Нужны деньги? Пожалуйста, у Токара живет Никола. Ходит в Зворец Данила Ясинко, черномазый, угловатый мужик из Колочавы. Николе нужен мясной бульон. А где взять его, если еврейский мясник в Колочаве не торгует говядиной? Итти за тридцать километров в город? Данила Ясинко делает проще: он приводит целых коров, — разумеется, не купленных. А целую корову разве можно съесть в одиночку? Ясно, что поживится и Зворец.
— Не помрешь, Никола? — спрашивает Данила, соболезнующе глядя в запавшие черные глаза на прозрачном лице товарища.
— Нет, — слабым голосом отвечает Никола.
Лежа на высокой дощатой кровати, похожей на большие ясли, он тихо спрашивает:
— Что нового?
— А ничего, — кривит душой Данила Ясинко.
— Разбойничать ходите?
Данила издает неопределенное междометие. Он умеет молчать с тем, кого любит.
— Не ходите, ребята! — Черные очи Николы мягко глядят на товарища. — А что делает Эржика?
— Что ей делать? Живет у Ивана Драча, у бати.
— Никто не пристает к ней?
— Нет, такого не слыхать.
И опять тянутся дни одиночества и молчания. Никола наедине со своими мыслями. Он, как раненый волк в кустах: ничего не хочет, только ждет, пока не оживет в нем бог леса или отлетит наверх, в кроны буков.
Окна избушки малы, по две четверти в каждую сторону. Можно только просунуть голову, а плечи уж не войдут. Это чтобы не влез разбойник. В окна виден склон горы, покрытый лесом, отблеск мартовского солнца. Разговаривать не с кем. Хозяин запряг лошадь и уехал на два дня за рапой — соленой водой. За трубой на лежанке дремлют полуголые ребятишки. Хозяйка сидит за работой, ткет шерстяную материю. Скрипит ткацкий станок, слышатся глухие, деревянные удары.
Никола отмечен милостью бога. Этот надежный дар надо ревниво оберегать, болтать о нем нельзя даже с самим собой. Безыменному, тайному тайных может повредить грубое прикосновение реальности. Тайна скрыта глубоко в сокровенном уголке души. Она — как ясная, светлая точка, что светит из пучины. Нет, ничего не случится с Николой в этой полутемной избе с зелеными квадратиками окон, со скрипом и стуком ткацкого станка. Чары Алены сильны, но еще сильнее его божественный дар. Что будет дальше? Никола не знает. Он знает только, что все будет хорошо. Он выйдет отсюда к сияющей зелени леса — там, на склоне горы. Его опять будут любить и бояться люди. Опять он увидит Эржику. И никогда не поймают его, потому что его не берет никакая пуля — ни из ружья, ни из револьвера, ни из пулемета.
Вернулся хозяин с соленой водой, ругает акцизных, которые теперь берут у источника по пятнадцати галлеров с ведра. Еще и за это платить!
Потом хозяин начинает выкладывать новости. Рассказывает об убийствах в крае, о случае на шоссе, о семье американского реэмигранта, о кровавом грабеже на Черном пастбище. Недавно по дороге в горы застрелен венгерский скупщик Насы Федор. Застрелены евреи Шварц и Абрамович, тяжело ранен и ограблен поселянин Иван Терновчук. По всему краю только и разговоров, что об этом. Даже в газетах пишут и за границей известно. Жандармов все прибывает и прибывает.
Никола напряженно слушает.
— Ищут тебя. Думают, что все это ты.
У Николы болезненно учащается сердцебиение.
— Как же так? — говорит он. — И люди верят?
— Ну, так, дурни. Верят.
Кто-то убивает под его именем. Кто-то трусливо прячется за его спиной. Кровь бросается в голову Николе, стучит в висках. Вскочить, схватить ружье, сейчас же, не медля, итти, бежать, расправиться с трусливыми убийцами. Он приподнимается на руках, но руки подгибаются, Никола падает на сено. Ему хочется выть по-волчьи…
Когда через несколько дней появляется верный Данила, таща за собой теленка, Никола смотрит на него в упор, долго и пристально.
— Разбойничаете?
— Э-э… — бурчит Данила и глядит Николе прямо в глаза.
— Слышал я, что много убивают в крае?
— Говорят, пристукнули какого-то лавочника.
— А сваливают на меня?
— Пока никого не поймали.
В полутьме избы дико вспыхивают николовы очи. В первый раз после болезни горит в них былой черно-зеленый огонь, точно это глаза волка или рыси. Снова ожил бог леса в Шугае.
— Убью их. Как бог свят, убью. Так и скажи всем.
Данила твердо глядит в глаза Николе, но на душе у него скребут кошки. Он знает, что Никола Шугай всегда держит свое слово.
Дни в избе скучны и серы. А на другом склоне горы сияет солнце, ветер качает траву. Как освежил бы он голову! По ночам душно, за окнами тихо сияют звезды.
Никола Шугай быстро поправляется. Он уже пытался пройтись по комнате, несмотря на запрет врача. Ест вопреки всем предписаниям. Много спит.
Было весеннее воскресенье. На северном склоне горы сходили последние снега, под Стримбой уже расцвели подснежники, быстро сохли проселочные дороги. Хозяева Николи, принарядившись, ушли в церковь. Никола с трудом дотащился до дверей и уселся на пороге, подставив лицо лучам солнца, глубоко вдыхая солнечные запахи. Как живительны они для людей, зверей и деревьев!
Никола глядит на зелень леса, прислушивается к шуму стремительного ручья. Ему грустно: это его стихия, а он вырван из нее. Мысли перекинулись к Эржике. В этот солнечный день все напоминает о ней. Вдруг Никола настораживается. Внизу из лесу появился человек и быстрым шагом идет по тропинке к избе. Кто это может быть и что ему надо? Никола хочет скрыться в избу. Но раньше чем он успевает подняться на нетвердых ногах, Никола узнает путника.
Через минуту они сидят, глядя друг другу в глаза, — Никола на пороге, а его брат Юрай перед ним. Юраю пятнадцать лет. Он тощ, высок для своих лет, с таким же крутым лбом, маленьким подбородком и горящими глазами, как у Николы. Братья молча глядят друг на друга, не удивляясь встрече, а бездумно радуясь ей.
— Помрешь, Николка?
— Не помру, Юра.
Юрай подсаживается поближе к брату, и они молча смотрят на горы, на сияющую долину, слушают, как шумит поток.
«Эх, опустить бы руку в воду, — думает Никола. — Почувствовать напор быстрой студеной струи. Когда же вырвусь я из этой норы и буду опять вольным, как птица?»
Все кругом благоухает солнцем, землей, водою.
— От кого ты узнал, что я здесь?
— Ни от кого, Никола.
— Как же ты нашел меня?
— Долго искал, а сегодня ночью, наконец, дознался, что ты здесь.
Как душно и жарко сегодня! Слишком душно для этого времени года. Сзади над обрывом надвигается туча, она темнеет, закрывает горизонт. Быть буре! Братья долго молчат. В этом краю люди любят молчать. Глубокие горные долины, где можно за долгие часы ходьбы не услышать других звуков, кроме шума воды, дремучие леса, — их тишину не нарушит ни птица, ни зверь, — горные пастбища, где скот бесконечно жует свою жвачку, — все это не располагает к словоохотливости. Слова здесь существуют для выражения бытовых, повседневных понятий. А чувства передаются взглядом, пожатием руки, песней свирели или молитвой.
Юрай пришел к Николе и останется у него. Когда Никола поправится, они вместе уйдут в лес. Юрай не вернется домой. В деревне свирепствуют жандармы. Днем и ночью они поминутно вваливаются в их недостроенную избу, стаскивают семью с кровати, разбрасывают вещи, издеваются. Отец тоже сбежит. Отведет скотину в горы, мать с ребятишками оставит где-нибудь поблизости, а сам уедет в Польшу или в Румынию. А он, Юрай, будет с Николой.
Никола глядит на верхушку горы. Ее заволокла темносиняя туча, страшная туча, она тяжко свисает с неба. По туче бегут белые облачка. Смешно глядеть, какие они маленькие и какие юркие. На избу уже надвинулась тень, а в долине все еще сияет солнце.
— Ты верил, что это все я убиваю?
Юрай удивленно глядит на брата. А почему не верить? Вот и он, пятнадцатилетний парень, пришел, чтобы стать убийцей.
Кто это делает? Игнат Сопко, или Данила Ясинко, или Василь Дербак-Дербачек со своим сыном Адамом Хрептой? Или все вместе, или никто из них? Юрай не знает. Он знает только, что Дербак-Дербачек — предатель, а его мать — ведьма. Что Дербак-Дербачек ходит к жандармам и наводит их на след Николы.
— Кто под моим именем убивает, того убью. Понял?
— Понял.
Чего ж тут понимать? Юрай верит в Николу. Никола может делать все, что ему угодно.
— Дербачка тоже надо убить, — добавляет Юрай.
— Может быть.
Страшная грозовая туча нависла над ними, закрыв всю гору. Видны только отдельные холмики. На туче все еще кудрявится несколько белых облачков. Стало прохладно, даже холодно. Кругом грозная тишина. Деревья не шелохнутся; охваченные жаждой, они ждут первых капель дождя. Стремительно налетел ветер. Низко склонились одинокие деревья. Туча окутала долину, видна только часть крыши над головой и трава под ногами. По крыше стукнули первые крупные капли. Молния прорезала тьму, озарив все небо. Грянул гром. Молнии засверкали там и тут. Небеса разверзлись, исторгая ливень и гром.
Братья не покидают порога. Юрай положил ладонь на колено Николы, тот прикрыл ее своей рукой. Веселыми глазами они наблюдают бурю.
В такую грозу евреи внизу в долине молятся. «Радуемся, о господи, силе твоей». А Никола и Юрай знают, в чем дело: то господь гоняет чорта. «Не убить тебе меня», — сказал чорт богу. «Убью!» — «Спрячусь в скотину». — «Убью скотину, дам людям другую». — «Спрячусь в человеке». — «Убью человека, сотворю другого». — «Спрячусь в щепку…» — и бог молчит: над щепкой, что отрублена в воскресный день, у бога нет власти…
Небо — сплошной огонь, гром гремит не переставая. Молния щелкает по траве. Хлоп, хлоп, хлоп. Видно, чорт спрятался где-то здесь поблизости.
Братьям не страшно. Всего, что приходит из лесу и с гор, не надо бояться. Бойся только того, что снизу, от людей. А гроза — это не страшно. Это не наше дело — счеты дьявола с господом богом.
Рука в руке, братья смело глядят в глаза богу земли. Сейчас одна из тех минут, когда бог земли говорит с ними и с природой. Минута, когда решается жизнь и смерть.
— Ну, что же дальше, Шугай? — доктор вопросительно приподнял брови. Сегодня его последний визит в Зворец. — На что вы надеетесь? На товарищей? Плохая надежда, продадут вас товарищи.
У Николы слегка сжалось сердце.
— Нет, денег ваших я не возьму, — доктор отвел руку Николы, полную кредиток. — Все это я рассматриваю как насилие надо мной, как принуждение, под которым я действовал. Надеюсь, что вы меня не отблагодарите болтовней о моих визитах.
И довольный тем, что нашел удачную формулу, доктор вышел с видом сердитого кредитора.
Никола остался один посреди избы. Ему было немного не по себе. Товарищи предадут его. Доктор прав. А Эржика? Предаст тоже? Ах, как он скучал сейчас по ней. Тело наливалось новой кровью, так хотелось к жене…
Предаст и она, и останется Никола один против всего света? Пусть так!
Повел плечами Никола, точно стряхнул с себя тоскливое чувство. Выпрямился, чувствуя, как крепко стоит на земле широко расставленными ногами. Сила земли вливалась в Николу. Эта сила в нем, и она не изменит. Пускай! Пускай один против целого света!
Вышел на порог. Свистнул в два пальца. Из лесу показался Юрай, он прятался там от доктора.
— Завтра уйдем отсюда, Юра.
С тех пор братья никогда не разлучались.
И снова в лесах и на горных дорогах люди стали встречать Николу Шугая. Но все реже и реже были с ним маскированные сообщники. Теперь ходили двое: Никола в обмотках и альпийских сапогах и долговязый пятнадцатилетний парень в чувяках, узких штанах и армяке из грубой овечьей шерсти, с широким поясом, что предохраняет ребра от ударов.
Колесят по краю Никола и Юрай, сегодня они здесь, завтра там; честные разбойники, не подлые убийцы, врага и друга всегда готовы встретить лицом к лицу.
Снова грабят они проезжих и почту. На дороге появляются двое: паренек с ружьем наготове и злым огоньком в глазах и спокойный Никола. С ружьем в руках он идет вперед и произносит свою магическую формулу: «Я Никола Шугай». Теперь не нужно уже устрашающих оплеух, одно имя делает свое дело, никто не смеет сопротивляться, люди знают Шугая, знает его и почтовый кучер: припрятав денежные пакеты в сапог или под седло, он сидит и усмехается, хоть не без опаски, — шиш ты сегодня возьмешь с нас, Никола.
Какая радость для Юрая быть разбойником! Как приятно тому, кто сам еще недавно трепетал от страха, теперь нагонять страх на других. Какая гордость стоять на шоссе с ружьем наизготовку и думать, глядя на бледных людей с поднятыми руками: «Захочу — пощажу, захочу — пристрелю тебя, господин чиновник, и тебя, позеленевший лавочник с вытаращенными глазами».
Как приятно щекочет самолюбие, когда сидишь с Николой в лесу, за буком, и, глядя сквозь листву на проходящих и десяти шагах жандармов, сознаешь, что их жизнь и смерть зависят от движения твоего пальца. Молитесь, собаки, Юраю Шугаю, чтоб он не сделал этого движения, остерегайтесь малейшего жеста, который разгневал бы владыку ваших животов.
Однажды, выйдя из лесу, братья сидели у шоссе за Синевиром. Долина здесь так узка, что хватает места только для шоссе и реки Тереблы. Расположившись на скалистом берегу, Никола и Юрай провожали глазами пролетавшие стремниной плоты.
— Счастливо доехать! — махали они плотовщикам.
— Спасибо! — кричали те, узнав Николу, но голосов их не было слышно. Они стояли у края и веслами направляли плоты, летевшие, точно в дьявольской гонке, там, где через несколько недель выглянут из-под воды большие камни и плетеные гати, поставленные против оползней.
— Кто-то едет, — сказал Юрай, кивнув в сторону дороги.
По щебню дороги тащился двуконный возок. На возку, в типичной позе еврея-возницы, стоит усатый человек в выгорелом драном сюртучишке. На лице у него кислое выражение, — видно, что он делит свое внимание между управлением лошадьми и какими-то невеселыми размышлениями. Потряхивая вожжами, он рысью гонит своих лошаденок.
— Это Пинкас Мейслер из Негровиц, — говорит Никола. Оба они знают, что с Пинкаса нечего взять.
— Посмотрю-ка, кому что он везет, — отвечает Юрай.
Но Мейслер никому ничего не везет, кроме собственной курицы, зарезанной по всем правилам талмуда. Он только что от резника, потому так и спешит. Сегодня пятница, надо быть пораньше дома, чтобы жена успела приготовить курицу, пока не взошли на небе первые три звезды.
Юрай выскакивает на дорогу.
— Стой! Я Шугай! — И берет ружье наизготовку.
— Смилуйся, Израиль! — вскрикивает Мейслер и, бледный как мел, закрыв глаза, хлещет по лошадям, В голове у него мелькает образ курицы и плиты.
Возок пролетает мимо Юрая.
Бац! — Юрай посылает вслед пулю.
Пинкас Мейслер выпускает вожжи и падает навзничь. Перепуганные лошади несут, щебень хрустит… Ха-ха! Вот смехота!
На шоссе выбегает Никола. Он содрогается, увидев несущихся коней и вожжи, которые волочатся по земле. Ему точно не верится. Потом его охватывает бешеная вспышка гнева. Казалось, он готов одним ударом свалить брата на землю.
— Что ты сделал… Будь ты проклят!
Юрай поворачивается с удивлением. В чем дело? Почему озлился Никола? Не все ли равно — больше или меньше одним убийством? Что ему какой-то еврей? Непонятно.
Никола быстрыми шагами направляется вслед возку, точно желая догнать перепуганных коней, которые, наверно, запутаются в вожжах и остановятся, если раньше не переломают себе ноги.
Юрай идет за ним.
Только долго спустя, когда они уже свернули с дороги в лес и молча шли в гору, похожие на строгого отца и наказанного сына, Никола сказал:
— Никогда больше так не делай, Юрай.
Сказал с досадой, но как отец, уже сменивший гнев на милость. Не мог он возненавидеть Юрая!
Поздно ночью вернулся Шугай из Негровиц, где вдове Мейслера сунул в окно четыре тысячных бумажки. Юрай спал в стоге. Никола прикрыл брата своей курткой и нежно поглядел на него.
Как радостно, что есть у него Юрай! Может быть, Никола любил только брата? Во всяком случае доверял он только ему. Мысли вернулись к Эржике. Глядя на две вершины горы Дервайки, похожие на женскую грудь, сидя на камне, у реки, катившей свои мелкие волны, Никола беспокойно представлял себе ее тело. Засыпал в стоге с мыслью о ней, о запахе вишен, а когда вечером играл на свирели, казалось ему, что Эржика стоит за спиной, слушает, и едва он кончит, подойдет и обнимет его сзади.
В солнечные дни Никола часами лежал за камнями на горном склоне над Колочавой и упорно глядел в бинокль, добытый от инженера, на избу старого Драча. Казалось — снова вернулись дни его возвращения с войны, когда на горном пастбище в лесу, ночью, подстерегал он Эржику, содрогаясь от тоски и ревности, не сводя глаз с костра, где сидела она с Хафой, Калиной и Иваном Зьятынко. Выйдет ли она из отцовской избы? Увидит он, как в переднике с подоткнутой юбкой идет она с ушатом за водой? А кто это там уже три раза прошел мимо дома?
У Николы злобно разгораются глаза. Совсем как тогда у костра. Если кто-нибудь войдет к ней, застрелит его Никола. Прицелится хорошенько и застрелит, когда тот будет выходить. Попадет и на таком расстоянии!
Да, он любит Эржику. И все-таки любовь к Юраю — что-то совсем другое. Брат принадлежит лесу и ему.
А Эржика — она вне повседневности, она точно весеннее воскресенье, или горная зарница, или — еще верней — песня его пастушеской свирели. Почему так не любит ее Юрай?
Были и товарищи, но они уже принадлежали прошлому. Дружеские связи слабели. Товарищи еще ходили к нему, когда он поправлялся, приносили овечий сыр и кукурузную муку. Когда Никола поправился, некоторые из них снова приняли участие в налетах. Игнат Сопко, Данила Ясинко, Василь Дербак-Дербачек и его сын Адам Хрепта. Остальные были в тюрьме. Но какая холодная стена выросла между ними! Глядят они в глаза друг другу — и не видят, что на душе; точно смотришь зимой в заиндевевшее окно.
Прав Юрай, который всегда злобно супится в их присутствии и не выпускает из рук ружья. Вот Дербак-Дербачек с беспокойными глазами. Он так редко ходит теперь к Николе и так часто к жандармам. А его мать — ведьма, она напоила Николу змеиным зельем. Адам Хрепта… Не он ли все шляется около избы николова тестя Драча? Сидит сейчас здесь вместе с другими разбойниками, и все они смущены, не знают, что сказать. Кто-то из них убийца семьи «американца», кто-то подстрелил трех евреев и потом добивал их колесами телеги. И все это — прикрывшись его, Николы, именем, все сваливая на него! У Николы вскипает кровь. Он в упор глядит на товарищей, переводит взгляд с одного на другого. Они чувствуют этот взгляд и отвечают ему тем же, не отводя глаз, но по спине у них пробегает озноб.
— Адам, — сказал однажды Никола Хрепте, сидя в орешнике и спокойно жуя хлеб с сыром. — Скажи своему отчиму, что на Заподринском выгоне лежит его лошадь. Юрай боднул ее штыком. Я не знал об этом. Твой отец изменник, Адам, потому он к нам и не ходит… Берегитесь вы оба.
И Никола кинул быстрый взгляд на Адама Хрепту. Тот побледнел. Поодаль на гнилом пне сидел Юрай, не выпуская из рук винтовки. Глаза у него горели, как у рыси. Только сейчас заметили остальные, что он сидит в четырех шагах от них и может в одну секунду пристрелить любого.
ГЛАВА V Эржика
Почему так не любил Эржику Юрай?
Был это первобытный страх человека перед всем, что слишком близко и незнакомо, из чего может прийти смерть. Тот страх, что велит лисице, нюхом почуявшей опасность, подобрать хвост и петлями удирать в другое место. Тот страх, что заставляет оленя одним прыжком скрыться в зарослях. Эржика была незнакома, была слишком близка и сулила опасность их жизни.
Теперь Эржика поселилась у отца в самой середине деревни. Видеться с ней было много труднее, чем до пожара, когда жила она в хате Шугая, у самого леса. Сейчас от старой избы осталось только несколько обгорелых балок, а новый дом торчал на лужайке без крыши. Петр Шугай отвел скотину в горы, пристроил там же детей и жену, а сам скрылся в Румынию.
И все таки Никола виделся с Эржикой. Ибо разве можно жить без нее? По ночам удирала Эржика из-под надзора отца и брата, выползала, точно ласка, из окруженной жандармами хаты и шла на свидание с милым. А когда два раза в неделю ходила она на выгон, за молоком отцовских коров, то умудрялась, несмотря на бдительный надзор жандармов, которые прятались в канаве и за деревьями, найти безопасное местечко, где можно было обняться на лету и нежно улыбнуться друг другу. И если долго не приходила Эржика и миновал условленный срок, Никола по ночам вылезал из оборога, где спал бок о бок с братом, и бесстрашно проникал в деревню. Он полз по земле между подсолнечниками и жердочками гороха, терпеливо лежал в конопле, определяя места жандармских постов, и змеей скользил через перелазы.
— Кровь моя!.. — шептал он в каморке, прижимаясь лицом к лицу спящей Эржики.
Разве можно было жить без этого тепла, без вишневого запаха, без ее тела, гибкого, как речная волна?
Наверное, Юрай Драч возненавидел бы сестру, не люби он ее так. Юрай уговаривал, кричал, клялся, что убьет Николу, а Эржика ходила по избе спокойная, работящая, безразличная к его ревности и думала о чем-то своем. Зачем сердиться на брата, если все равно все будет итти своим порядком? Брат ее любит и никогда не ударит. Самое страшное — возьмет, тряхнет за плечи, а это совсем не больно.
Юрай Драч караулил Эржику. Юрай Шугай сторожил Николу. Вечерами, когда по лицу Шугая можно было прочесть его намерение, Юрай подозрительными глазами следил за каждым его движением. И когда ночью уходил Никола, Юрай поднимался на локте и смотрел на него с мрачной укоризной.
Весь вчерашний день провел Никола на косогоре над Колочавой, лежа за большим валуном и глядя в бинокль на окна и двор драчовой хаты. Десять дней не виделись они с Эржикой. Ночью не удалось попасть к ней. Дверь ли в сени скрипнула, или просто была то случайность, выбежал из хаты Юрай Драч и заорал: «Кто там?» Сбежались жандармы, Никола едва унес ноги. Уже рассвело, когда он вернулся в горы, злой и несчастный. Недремлющий Юрай ждал брата, как ревнивая жена. Сидя под стогом, он грыз краюху хлеба и испытующе смотрел на подходившего Николу.
Никола не пошел спать. Поставив ружье, он тоже сел, упершись спиной в стог, и молча наблюдал рождающийся рассвет.
Юрай прервал, наконец, молчание.
— Был у Эржики?
Никола не отвечал.
— Был!
Солнце еще не поднялось над горой, появилась только светлая полоса — признак близкого восхода. На жердь стога уселась замерзшая галка и неподвижно ждала первых теплых лучей.
— Вот потому ты и бледный! Ты всегда бледный, когда приходишь от нее.
Никола слышит голос брата, мимолетно улавливает смысл его слов, но они проходят мимо, точно рядом разговаривают два человека.
— Ты, Никола, послушай меня, — говорит Юрай, и в его голосе заботливость старшего. — Олексу Довбуша тоже не брала пуля, и никто не знал, как его убить, а Дзвинка выманила у него тайну…
Над горами всходит солнце. Первые лучи больно ударяют в глаза и золотят весь край. Вершины соседних гор сияют, и свет уже стекает вниз, в долину.
Никто не смеет отнимать жену, которую дал бог. Неужто придется застрелить Юрая Драча? За что он так ненавидит Николу, ведь тот его ни разу в жизни не обидел?
Галка на шесте сидит, точно чучело.
Юрай Шугай произносит страшное слово, которое уже давно терзает его:
— Эржика — ведьма…
Сказал и потупился. Самому страшно. Напротив над черной громадой леса плывет белое облачко, одно единственное в ясном и чистом небе. Облачко — плотное, добротное, как хорошо выпеченный каравай. Оно даже не разбивается на клочья, задевая за верхушки елей.
«…Что скажет Эржика, если брата ее найдут мертвым на пастбище?»
— Знаю я, что с тобой делает Эржика по ночам. Потому ты и бледный.
Тихие и мальчишески робкие, но упрямые слова проникают в сознание.
— …Оборачивает тебя конем да ездит на тебе всю ночь.
Что он болтает, этот дурачок?
— Сделал бы ты, Никола, как хозяин из Верецек.
Хозяин из Верецек? Никола, конечно, слышал россказни об этом хозяине. Его жена была ведьма. Ночью она превращала мужа в коня. Вот однажды, по совету знахарки, муж притворился спящим, и когда ведьма склонилась над ним, чтобы начать свое колдовство, он ухватил ее за волосы и не выпускал. Глядь, волосы оказались гривой, жена — кобылицей, и он проскакал на ней всю ночь. Утром отвел ее в кузницу, дал подковать и поставил в хлев. Ушел на работу. В полдень вернулся домой обедать, глядит — на кровати умирает жена, руки и ноги пробиты гвоздями, а на гвоздях — подковы…
…Ладно, но при чем здесь Эржика?!
— А лучше всего убей ее, Никола!
Взгляд Николы блуждает по хребтам гор и сияющей голубизне неба… Что там болтает этот парень?
— Или нет, не надо, Никола, я сам.
Только теперь взглянул Никола на брата. Взглянул так, как смотрят на щенка, который хочет куснуть, но трусит. И сказал:
— Эржика ни при чем.
Весь мир залит ярким светом. Галка сунула голову под перья, потянулась и, расправив крылья, круто взлетела кверху.
Уже одиннадцать дней не видел Никола Эржику. Что-то происходит. Неужели он теряет ее? Да, что-то не так, он это чувствует. Чувствует по неуловимой разнице в ее ласках, по мгновенным содроганиям, которые может уловить только тоскующее сердце влюбленного, да и оно не уверено в их значении. Зато уверен Юрай. У него чувства почти не отделены от сознания, и он чует близкую опасность смерти.
— Куда вы годитесь, ребята! — твердил жандармский капитан. — Не может окрутить девятнадцатилетнюю бабу. А еще караулите по ночам ее постель!
Капитан упорно придерживался своего плана — поймать Шугая на Эржику.
В результате этих разговоров однажды вечером, когда Эржика, вернувшись с выгона, в полумраке доила корову, в дверях выросла темная фигура. Эржика обернулась и, испугавшись, едва не выронила подойник. По контурам фуражки она тотчас узнала гостя. Жандарм! Давно уже они не беспокоили ее.
— Как поживаете, Эржика? — сказал приветливый мужской голос. Нет, пусть Эржика не боится, он зашел совсем частным образом. Говорят, что у Эржики после мужа остались медвежьи шкуры. Он бы охотно купил одну для своего шурина в Чехии.
С минуту они разговаривали у дверей хлева. Неожиданный гость был очень мил, твердил, что нет никакого смысла обижать семью Шугая, и при расставанье хотел погладить Эржику по голове.
Это было начало. Может быть, все-таки Никола прав!
Эржика невиновна. Может быть, виною всему был Юрай Драч, который теперь сопровождал сестру даже на пастбище? Слишком долго держал он в разлуке Николу и Эржику. Может быть, виноват жандармский капитан? Или вообще никто не виноват?..
А может быть, Эржика уступила жандармскому сержанту потому, что был он большим начальством и нельзя было противиться ему открыто? Может быть, Эржика думала, что облегчит этим свою и николову судьбу? А может быть, кроме того ей нравилась рослая фигура жандарма, его курчавые волосы, белые руки с перстнем? Уже слабея и поддаваясь, она все еще отталкивала его руками, а потом долго сидела с пылающим лицом, замкнутая, почти плачущая.
Колочава — проклятое место. Вроде сибирских деревушек. Жандармы живут точно в завоеванной стране. Кругом злые, насмешливые взгляды, а с того дня, когда на Колочаву за поддержку разбойника наложили тридцатитысячную контрибуцию, по меньшей мере сотня жителей стала в душе такими же Шугаями, жаждущими крови.
Бабы в деревне пугливы, неразговорчивы, жандармов обходят за версту. Еврейские девицы очень приветливы и болтливы за прилавком, они дразняще смеются у дверей лавок, но строгие мамаши глядят за ними в оба, а где-нибудь в стороне, засунув руки в карманы и делая безразличное лицо, всегда торчит старший брат. Девушку и через улицу не проводишь, не говоря уже о том, чтобы дотронуться до нее. Что же делать молодому жандарму, если у него нет охоты целый день валяться за казармой и глядеть на облака в небе или с утра до вечера играть в карты да пьянствовать в корчме Лейбовича и Герша Вольфа?
«Сладкая! Какая она сладкая!» — думает сержант Свозил. Его волнуют эти слова. Под вечер, пока еще не расставлены патрули, Свозил пробирается задами к Эржике и повторяет эти слова, радуясь и словно извиняясь перед собой. Он тихо проходит по тропинке и ждет среди подсолнечников и вьющихся бобов, когда выйдет Эржика.
Затея, возникшая из служебного усердия, стала потребностью сердца. Свозилу хотелось бы прихвастнуть перед товарищами, но он молчит. Он собирался обрадовать капитана верными сведениями о Шугае, но и не думает об этом. Ведь так сладка Эржика! Любит она его? Он не знает. И как он ни старается внушить себе, что Эржика лишь временное развлечение, неведение мучительно для него.
Она молчалива, — ах, что за бирюки здешний народ! — слова не скажет сама; когда целует ее Свозил, молча поводит плечами, а если в минуту нежности он просит ответа, спокойно отзовется: «Люблю тебя». (Скольких трудов стоило добиться этого «ты»!) И ее ответ звучит так, как если бы она сказала: «Люблю красные бусы». Нет, даже не так, про бусы она наверняка скажет: «Очень люблю красные бусы». Кошка, настоящая кошка, которая всегда молчит и смотрит широко раскрытыми глазами, и человек, глядя в них, никогда не узнает, что творится у нее на душе. Кошка, которая всегда себе на уме, спокойно приходит и спокойно уходит, когда ей вздумается…
Но едва в вечернем сумраке, мелькнув босыми ногами, появится во дворе Эржика, блеснут ее бусы, — в широкую улыбку расплывается лицо большого курчавого черноволосого парня.
— Ах ты, моя сладкая! Вот ожерелье тебе принес. — И спешит ей навстречу, целует.
Поздний вечер, уже совсем темно.
— Пойду, — говорит Эржика, — а то брат хватится.
Сержант Свозил вдруг вспоминает что-то.
— Откуда майданская колдунья знает, что мы с тобой видимся? — спрашивает он, смеясь и гладя стан Эржики.
Откуда ей знать, майданской колдунье? Конечно, она ничего не знает. Никто не знает.
— Третьего дня я был у нее по служебному делу и заодно велел погадать мне. Напророчила мне смерть. Да еще близкую. Точно не сказала, когда умру, но по глазам видел, что знает и месяц и день. Ведь только из-за тебя это может быть… — И молодой жандарм весело смеется над пророчеством.
Эржика вдруг вывертывается из его объятий. Спокойно глядит на него непроницаемыми глазами. Хороший он, этот большой парень. Жалко его: чужой, а добрый какой, носит ей подарки. Жалко его… Если майданская колдунья сказала, так тому и быть.
— Ну что скажешь? — весело спрашивает Свозил.
— Ничего. Мне пора.
И она убегает.
Свозил стоит, опечалясь, полный ощущения ее сладости.
В ту же ночь тревога прервала его сладкие сновидения об Эржике. Во втором часу ночи в караулку прибежал Василь Дербак-Дербачек.
— Шугаи сегодня ночуют в обороте под Тиссой, — сообщил он. — На лужайке, что в молодом леску, стоит один единственный оборот. Там они и спят. Днем туда три часа ходьбы. Луг невелик, их легко окружить.
Дежурный жандарм тотчас разбудил капитана и вахмистра. Быстро одевшись, они склонились над картой. Немедленно общую тревогу! Весь отряд на ноги! Выйти еще до рассвета самым скорым маршем! Вы знаете дорогу, вахмистр?
Капитан возбужден. Жандармы, поднятые неожиданной тревогой, торопливо одеваются, подтягивая амуницию. По спинам у них пробегает холодок. Спавшие на сеновале у Герша Вольфа и Калмана Лейбовича полуодетые слезают по приставным лестницам. Во тьме движутся туманные светляки фонарей.
Соединенный отряд выступает в поход, оставив за собой ни о чем не подозревающую, крепко спящую деревню.
И вышло так, что когда в половине четвертого утра Эржика выпустила на дворик стадо гусей и собралась гнать их к ручью, она вдруг увидела сержанта Свозила. Он задержался по делу в деревне и сейчас в полном вооружении бежал рысью, догоняя товарищей. Увидя Эржику, он неловко улыбнулся и замедлил шаг. Потом остановился совсем. Сказать ей или нет? Сказал:
— До полудня приведем тебе Николу. А может статься, что и принесем.
Он опять неуверенно улыбнулся, точно не зная, обрадовал ее или огорчил этим сообщением, и, сам не отдавая себе отчета, чего же желать, поспешил дальше. «До полудня…» — мелькнуло в голове у Эржики. Да, так оно и выходит. Эржика тоже знала, где ночует Никола. Позавчера она была у него.
Оставив гусей на дороге, Эржика кинулась в избу — надеть чувяки. «А может статься, что и принесем!..» Вместе с этой мыслью в голове у нее вдруг мелькнула майданская колдунья. Жалко Свозила!
Отец и брат еще спали. Эржика быстро обулась и помчалась в горы.
В долине густым молоком лежал туман. Избы быстро скрылись в нем, было видно не больше чем на два шага вперед. Не размышляя, не задаваясь мыслью о времени, не задумываясь — будут там раньше жандармы или она, Эржика тропинками и просеками бежала в горы. В пять часов она достигла леса. Торопливо отдышалась, отерла пот со лба.
Кажется, она первая.
По тропинке Эржика пустилась лесом в гору.
Где-то рядом вдруг посыпались камни. Человек это или животное? Эржика сделала несколько быстрых шагов. Господи Иисусе! Впереди, в тумане — жандармы! Они идут справа и слева, развернутой цепью, с винтовками наперевес…
Раздумывать долго нельзя, да и не к чему. Прыгая через камни, падая и спотыкаясь, увязая в топких лесных ключах, Эржика попыталась обойти цепь справа. Тщетно! Жандармы были всюду, они бесшумно, безмолвно, зловеще-неотвратимо поднимались в гору.
Что делать, о господи? Назад, налево? Там тоже жандармы. У Эржики иссякают силы, а ведь дорог каждый миг, минуты решают дело.
До вершины уже недалеко, не больше полутора километров. С минуту Эржика преследует жандармов по пятам, тихо ступая в своих мягких чувяках. В молочном тумане мелькают жандармские каски, фигур не видно. Эржика крадется тихо, как кошка за добычей. Она переводит дыхание, и впервые после ухода из дому ее мысль начинает напряженно работать. Жандармы ее не видят.
Они хотят поймать Николу и наверняка не станут стрелять, чтобы не спугнуть его…
Прячась за камнями, перебегая от дерева к дереву, Эржика быстро догнала жандармов. Вот она уже за самыми их спинами. Выбрала направление между двумя жандармами, перекрестилась и помчалась во весь дух. Проскочила мимо жандармов, внеся замешательство в их ряды. Из-под ног у нее посыпались камни, прошумели ветви кустарника — и вот уже перед Эржикой открытый, свободный путь, и ноги сами несут ее через валуны и заросли папоротника. Бог земли помог нам, Никола!
Редеют кусты, видно озеро и силуэт оборога в белом тумане.
— Нико-о-о-ла, беги!
Она сама испугалась своего вопля, разорвавшего тишину.
От оборога отделились две тени, прыгнули куда-то вниз, исчезли в молочном тумане.
Эржика видела, как в последний момент одна из теней, пониже ростом, приложилась к ружью. Раздался выстрел. В тот же момент увесистый удар кулака свалил Эржику с ног, она упала лицом в щебень. Побои посыпались градом…
Первой в деревню вернулась мрачная четверка жандармов. Уже совсем рассвело. Жандармы несли носилки, на них лежал посиневший еще живой человек. Нет, это не Никола! Жандарм!
Колочава, знавшая о ночном походе жандармов от Герша Вольфа и Калмана Лейбовича, притаилась за дверями хат, за плетнями огородов, в зелени листьев среди алевших на утреннем солнце цветов гороха и желтых голов подсолнечника. Колочава сжималась в страхе, который она уже узнала однажды в день похорон жандармского сержанта.
Мрачная четверка прошла, но Колочава не двигалась с места. Что случилось? Это только начало, а они хотели знать все.
После долгого ожидания терпение колочавцев было вознаграждено: под конвоем провели Эржику, бледную, исцарапанную камнями, избитую жандармами. По Колочаве пробежала тревожная дрожь. Эржика шла прямо, глядя перед собой спокойными, безразличными глазами, в них не было ни боли, ни победной радости.
К полудню вернулся весь отряд. Сомкнутым строем он промаршировал по улице, хрустя голышами и щебнем. Лица жандармов были хмуры и злы.
В этой суровой колонне, в ногу со всеми и лишь чуть больше склонив головы, шли двое людей, которых с отрядом объединяла лишь военная форма. Мысли их были где-то далеко. «Прочь отсюда, скорей покинуть эти места, — думал младший жандарм Власек. — Пусть мне назначат самое строгое дисциплинарное взыскание, только бы развязаться с Колочавой… Жив еще раненый? Это уже вторая жертва!»
Мысль о взятке — эта цифра тридцать — вызвала в нем смутное воспоминание об Иуде.
Несколькими рядами впереди шагал курчавый гигант Свозил, и детская душа его плакала. За что? О господи! Разве он обидел ее чем-нибудь? Возможно ли, что она до сих пор любит убийцу и разбойника?..
Жандармы скрылись из виду.
Ну что ж, неужели больше ничего не увидит Колочава? Не поймали Николу?
Да, больше ничего. Тишина и жаркий полдень над долиной… Через час-два надо зайти в корчму и к лавочникам, там уже все будет известно.
И колочавцы — мужики, их жены в красных платочках и мальчуганы в старых отцовских шляпах и рубашонках до пят — покидают заборы и принимаются за свои дела.
Но еврейская Колочава гудела, как встревоженный улей. Еврейские торговцы таинственно шептались у дверей своих лавок, спорили, галдели, пожимали плечами и разводили руками. Евреи в черных, рыжих, русых и седых пейсах, бородатые и безбородые, в лапсердаках и в готовом платье из хустского универмага, делали свои выводы из виденного и, постукивая ребром правой ладони по левой, взволнованно твердили: «Э-э, безголовые люди! Сколько времени мы говорим им: „Посадите Эржику и выпустите товарищей Шугая!“ И все зря. Христианин неповоротлив, как вол!»
Абрам Бер не кричал, не суетился, а только покачал головой, запустив пальцы в бороду. Ой, ой, ой! Абрам Бер был почти в изнеможении, у него даже вспотели руки. Сколько он пережил с утра, зная, что жандармы на этот раз шли наверняка. Все утро Абрам Бер чувствовал себя зрителем чужой азартной игры, где ставкой была его, Абрама, жизнь. Игра эта казалась тем ужаснее, что он не мог оказать на нее никакого влияния и был вынужден только ждать. Абрам Бер дрожал от мысли, что сегодня же вечером он, быть может, будет навеки потерян для жены, для дочери, для всего, чем он жил; и вместе с тем он не мог отказаться от надежды, что станет счастливым, как ангел на небе.
Вышло ни то, ни другое. Какая мерзость!
Не выиграл Абрам Бер — не привезли мертвого Николу, не проиграл он — не привели Николу живого. Спасена, слава богу, пока что жизнь Абрама Бера. Пока что! Опять будет тянуться эта проклятая неизвестность!
Ах, зачем он связывался с Николой! Он и сам не знает, как это вышло, — видно, из страха отказать Шугаю. Конечно, Абрам Бер заработал. Много денег, целое состояние. Нажился и на обмене долларов и на товарах. Но ведь это не может длиться до бесконечности. Кто-нибудь заметит однажды, что старый извозчик Исаак Фукс возит по ночам из деревни доски, останавливается около одинокой хижины в двадцати километрах от деревни и нагружает на телегу какие-то ящики, а потом везет их в Мукачево.
А вдруг сам Абрам Бер попадется при продаже этих вещей? Или — что хуже всего — пронюхают что-нибудь паршивые мальчишки, что весь день шатаются здесь без дела, точат лясы у каждых дверей, рассуждают о сионизме и терпеть не могут Абрама Бера за то, что бог послал ему богатство и удачу.
Или кто-нибудь из арестованных товарищей Николы бросит неосторожное слово, а жандармы дознаются об остальном?
Или… ох, мало ли что еще может быть! Абрам Бер больше не хочет якшаться с Николой. Видит бог, что не хочет! Но что делать? Может быть, дать кому-нибудь десять тысяч и сказать: «Пойди, убей Николу…» Ой, нет! Боже упаси от этих мыслей.
Чего только не перепробовал Абрам Бер!
— Больше я с тобой не торгую, Никола, — сказал он Шугаю на ночном свидании за деревней. — Не годятся мне такие дела.
— Как хочешь, — отозвался Никола, — но коли выдашь меня, сгорит твой дом.
Сколько раз уговаривал его Абрам Бер: «Беги, уезжай в Америку». Разве не помог бы он Николе с превеликим удовольствием!? Доставил бы его к Натану Абрамовичу в Галиции, тот бы переправил Николу к Шлойме Вейскопфу в Кракове, Шлойма послал бы его в Бреславль к Герману Кону, а уж тот устроил бы все, что нужно, чтоб Никола попал в Америку. Право, Никола с ума сошел. Думает один воевать со всем миром. Нет, верно, и этого он не думает. Просто с ума сошел — и все тут. Ох, ох, ох, как запутана и тяжела жизнь!
Абрам Бер поехал в Тарнополь — посоветоваться с самым мудрым реббе в округе. Рассказал, в чем дело, вручил реббе тысячную кредитку.
— Может быть, мне выехать из Колочавы, реббе?
Мудрый реббе долго глядел на него.
— Бедный человек — мертвый человек, Абрам Бер, — сказал он наконец. — Сбежишь из Колочавы — спалит твой дом Никола Шугай, пропадет все твое имущество. Нет, не уезжай из Колочавы. Не допустит великий Иегова, чтоб был обижен еврей.
Слова эти ободрили Абрама Бера, но все же… А вдруг Иегова допустит! Ой! Ой! Ой! До чего тяжела жизнь!
Перед лавчонкой шумят, рассуждают, спорят евреи… Абрам Бер молчит, нервно ерошит бороду, не слушает разговоров. Нет, не привезли Николу застреленным. Какой после этого смысл болтать обо всем остальном?
В нескольких сотнях шагов от лавки Бера Василь Дербак-Дербачек и его сын Адам Хрепта нервно ходят из конца в конец огорода. Они молчат, говорить не о чем, как и Абрам Бер, они с замирающими сердцами ждали возвращения жандармов, и, когда на улице появилась группа с носилками, сердце у них словно совсем остановилось. Вытягивая шеи, они перегнулись через забор. Скорей бы, скорей увидеть лицо мертвого или раненого. Скорей бы узнать, того ли принесли, кош они ждут.
Разочарование было как удар в лицо. Ждали опять. Провели связанную Эржику. Отец и сын все ждали и ждали. Кровь напряженно билась в висках, время словно остановилось.
Наконец угрюмыми рядами прошли жандармы. И больше ничего, это конец, все надежды Василя и Адама погибли, растаяли, исчезли без следа.
Молча шагают они по тропинке, и в головах у них тяжелым камнем вопрос: такая возможность упущена, — что же теперь?
Высоко в горах, где уже не растут деревья, на траве сидят Никола и Юрай. Опасность миновала, возбуждение улеглось. Над ними ясное без тучки небо — огромный синий купол, с которого льется белый солнечный свет.
Там внизу, в долине, наверное, знойный день. А здесь безостановочно дует ветер, пригибая низкую траву и раздувая рубахи братьев.
Юрай нарвал цветов и разукрасил ими шапку.
Никола полон приятного сознания безопасности. Ружья лежат в стороне. Они не нужны здесь, на орлиной высоте, с которой все видно, как с огромной башни. Здесь их никто не достанет.
Радость разливается в сердце Николы, он точно пьет ее большими глотками, впитывает всем телом, чувствует себя птицей в поднебесье.
Глубоко внизу, в долине, в чуть заметных домиках живут люди. Они боятся господ, лгут им, выбиваются из сил, работают… На лицах у них появляются морщины, на ладонях — мозоли. Трудовая жизнь — это жизнь собаки, которую кормят и держат на цепи. В труде нет радости. Радость — сидеть на горячих от солнца каменистых берегах Тереблы и глядеть в синее небо и на зеленый лес, слушая, как бежит по порогам вода. Радость — ощущать замечательное чувство безопасности здесь на горе, в поднебесье. Под ногами у тебя весь мир, над головой ясное солнце, кругом ветер.
Счастье — любить Эржику, радость — быть главарем шайки товарищей, таких же, как и ты, черномазых и отчаянных ребят, веселых и дружных. Радость — раздавать деньги беднякам и наслаждаться чужой радостью. Радость — прожить такую жизнь, чтоб не остаться незаметным и безразличным для людей, а иметь друзей и ненавистников. Радость — когда рядом брат Юрай, у которого преданные глаза и букетик на шапке. Радость — быть Николой Шугаем.
Кругом лежат горы, покрытые зеленью лесов. На них льется серебряный солнечный свет. Река Колочавка бежит по зеленой долине мимо изб и деревень, а над ней — свод небес и жгучее белое солнце. Люблю вас, горы и дремучий бор, вы всегда скроете беглеца! Не предадут горы и не погубят, ибо Никола Шугай плотью и кровью принадлежит им.
Радость струится к нему по земле, прилетает с ветром, греет его вместе с солнечными лучами.
Юра, брат мой Юра!
Юра лежит рядом, как большой, тихий, поджарый щенок. Преданные глаза его обращены на Николу. Как бы не обеспокоить хозяина!..
— Юра, Эржика-то не виновата. Эржика — верная жена.
Нет радости, в которой не отзывалось бы это имя. Никола улыбается. Он счастлив, что может сейчас вспомнить старый спор с братом. Ему хочется говорить об Эржике — о верной, самоотверженной, ласковой, самой дорогой на свете женщине, которая сегодня ради него рисковала жизнью. Ему хочется, чтобы и брат любил Эржику. Но Юрай не двигается, он лишь глядит на Николу широко открытыми собачьими глазами и вдруг говорит кратко:
— Пойдем спалим Дербачка.
Ибо Юрай не поддается беспечности. У него в памяти сегодняшнее утро, бегство из оборога, свист жандармских пуль над головой.
Их предали и могли убить. Убить Николу. И все это из-за того, что на свете есть какой-то Василь Дербак-Дербачек и Адам Хрепта, которые хотят их гибели. А ведь Никола делал им только добро. Его убьют, если не убить тех двоих.
Вчера приходил Адам, принес урду и мешок кукурузной муки и побрил Николу. Просил денег — долю за проданные ткани. Теперь Юраю ясно, почему он так спешил. Никола и Юрай, конечно, соблюдали закон леса и не были так доверчивы, чтобы при нем устроиться на ночлег. Расстались с Адамом в двух километрах от оборога и, чтобы обмануть его, пошли в другую сторону. Но, видно, обманул их он: притворился, что идет в деревню, а сам проследил и видел, как Шугаи улеглись в оборог. Ночь была ясная, и Адам смог добраться до караулки раньше, чем пал туман.
«Дербак-Дербачек?.. — думает Никола. — Что ж, Юрай прав. Но что ему дался Дербачек? Почему не поговорить об Эржике?»
— Дербачек и Хрепта продали нас. Их надо убить, — упрямо повторяет Юрай.
Никола глядит на него и опять переводит взгляд на расстилающийся перед ними пейзаж. Внизу лежит Колочава. Домики — точно рассыпанные хлебные крошки. Что, если сгрести их руками и собрать в пригоршню? А потом дунуть и развеять по ветру? Ничего бы не случилось! Ровно ничего. Никто бы и не вспомнил, что была там какая-то Колочава. А ведь в этой Колочаве притулились и Адам и Василь Дербачек, маленькие, незаметные. Жандармы отдыхают на сеновалах… Что они могут сделать ему, Шугаю, если вокруг него горы, и солнце, и дремучий лес — и все это одно целое с ним, и он кровь от их крови, плоть от их плоти.
Никола улыбается и смотрит на брата.
— Ничего они нам не могут сделать, Юра.
— Разве ты когда-нибудь обидел Дербачка и Адама? — хмурится Юрай.
Никола смеется. Да, он сметет Дербачка и Хрепту, как хлебные крошки. Не потому, что боится, а потому, что никто не смеет безнаказанно предавать Николу.
— Эржика — добрая жена, Юра.
— Здорово есть хочется, Никола.
И верно! Парень со вчерашнего дня не ел. Никола встает, закидывает ружье за спину. Последний раз смотрит на панораму горных вершин, глубоко вдыхает воздух и силу гор.
— Идем на Сухар.
Они начинают спускаться. Солнце палит, ветер треплет ворот рубахи.
— Вечером возьмем побольше патронов и пойдем в Колочаву, Юрай.
Юрай смутно понимает, в чем дело, но он спокоен. Все в порядке. Что делает Никола — все хорошо.
В эту ночь сгорела изба Дербачка. Точно охапка хвороста вспыхнула она, и сухой без дыма огонь взвился к звездному небу. Было около полуночи. Марийка, жена Дербачка, проснулась от яркого света на дворе и от треска горящего дерева. Она ахнула и кинулась будить детей. Все выскочки из кроватей и бросились к дверям.
Двери были заклинены снаружи.
Люди бились о них телами… Напрасно.
«Никола», — мелькнуло у Василя и Адама. Ослепительный свет и рев скотины в хлеву придавали этому имени жуткую отчетливость.
— Топор! Где топор? — металась старуха мать.
Окна слишком малы — в них не вылезть.
Огонь бушевал все сильнее. Топор, наконец, нашелся в сенях. Семья выбралась из избы в самую последнюю минуту.
Хлев и изба охвачены пламенем. Дербачек бежит отвязать скотину. Двери хлева тоже заклинены стволами молодых березок, вогнанными крест-накрест.
По земле вдруг начинают щелкать пули. Кто-то стреляет издалека. Слышны выстрелы. Семья в ужасе прячется. У матери на руках младенец, другого она тянет за собой.
Из костела раздается медленный набат. От этого звука в ужасе сжимаются сердца жителей деревянной Колочавы.
В дверях изб появляются бабы в длинных белых рубашках, сонные мужья, торопливо подтягивающие брюки. Жандармы быстрым маршем проходят к пожару. Что случилось? С косогора над деревьями кто-то стреляет. Десятками пуль, целыми очередями. Все взоры обращаются в ту сторону. Где горит? У Василя Дербачка? Стрелять, значит, может только один человек — Никола.
В кругу у пылающей избы светло, как днем. На четыреста шагов виден каждый камушек, яркозеленые грядки в огороде и два соседних строения, бросающие длинные тени.
Ясный день граничит с темной ночью, резкие тени падают на головы людей, глядящих на этот странный, точно ненастоящий пожар, где никто не тушит, никто не бегает, не выносит вещи, не причитает, не взывает к богу и святым…
Тихо до жути, прямые языки пламени рвутся, к звездам. В светлый круг из мрака летят пули, они взрывают землю, не подпускают никого к пожару.
Заунывные удары церковного колокола придают всему этому оттенок сверхъестественности. Над пожаром царит страшное имя — Никола Шугай. Оно точно парит над ним, как огромный хищник с распростертыми крыльями.
Дербак-Дербачек предал. Никто не смеет безнаказанно предавать Николу.
К утру от избы Дербачка остались две дымящиеся дверные балки. В пепле на месте бывшего хлева лежат обугленные туши двух коров, от них поднимается белый пар. Набат давно умолк, стрельба прекратилась. В предрассветной тишине слышатся лишь глухие удары мельничного жернова.
Еврейские торговцы посмеиваются сердито и презрительно:
— Ах, дурни, идиоты, пустые головы. Выпустили Эржику.
Эржика не долго пробыла в спокойной белой камере тюрьмы при краевом суде в Хусте. Она съела кукурузный хлеб, что принес ей отец, несколько раз подмела пол, выслушала биографии своих товарок по камере, сочувствуя им, но не отвечая откровенностью. Несколько раз ее водили на допрос в светлую красивую комнату, где сидел чисто выбритый господин в пенсне и барышня за пишущей машинкой. Эржика садилась в кресло, спрятав руки под передник, в упор глядела на следователя и врала, нисколько не заботясь, чтобы ей верили.
На третий или четвертый раз следователь сказал ей:
— Слушайте, арестованная, ваши слова «Никола, беги» слышали минимум десять человек, а что кричали именно вы — могут подтвердить еще больше. Вы же уверяете, что совсем не кричали и бежали только потому, что испугались жандармов. Мы выяснили, что там, где вы перегнали цепь жандармов, — глухое место, где никто не ходит и поблизости нет ни одного пастбища. А вы говорите, что в такой ранний час шли на пастбище. Ваш собственный брат Юрай показал, что старался не допускать ваших встреч с Шугаем, который навещал вас даже дома и был однажды замечен им поздней ночью. А вы твердите, что не видели Шугая почти год. Как вы объясняете все эти противоречия? Говорю вам по-хорошему, арестованная: не лгите, для вас же будет лучше.
Но Эржика молчала. Следователь допытывался снова и снова, арестованная упрямо стояла на своем. Она шла на пастбище, не кричала, жандармы на нее наговаривают, брат на нее сердит, пастбище там есть.
— Дело ваше, арестованная, запишем так. Но если вы думаете, что эта ложь пойдет вам на пользу, глубоко ошибаетесь.
Следователь продиктовал барышне показания арестованной, барышня простучала по клавишам, бумага была готова, и Эржика поставила на ней три креста.
Из тюрьмы ее вызволил колочавский капитан. Капитан был в совершенном расстройстве. Когда Эржика сорвала облаву на Шугая, он впал в уныние. А когда отряд, посланный за Шугаем во время ночного пожара, не привел никого, капитан бушевал в гневе. Ах, трусы! Наверняка не хотели найти злодеев! Наверняка в душе были рады, что бандиты все время меняют места и не перестают стрелять. Видно, и они, жандармы, начинают понемногу верить россказням о неуязвимости Шугая!
Но капитан рьяно держался своего плана. Эржика — вот первая, а теперь и последняя надежда. От нее зависит удача или провал его миссии, его честь и карьера.
Капитан навестил председателя краевого суда.
— Поверьте, господин судья, жена Шугая мне просто необходима в Колочаве. Это не помешает вам продолжать следствие. Есть только два человека, знающих местопребывание Шугая, — она и Дербак-Дербачек. Дербачек теперь бессилен… Страшная деревня, господин судья, страшный край!
И Эржика снова начала по утрам выгонять гусей на речку, копать грядки, доить корову и два раза в неделю ходить на пастбище. Разумеется, на каждом километре ее пути прятался жандарм и наблюдал — не свернет ли Эржика с дороги. Эржика знала по опыту, что ускользнуть от жандармов нетрудно, но она не делала этого. Она шла спокойно, неся свои ведра и не подавая вида, что замечает что-нибудь. «Вот тут кто-нибудь прячется», — думала она. И еще через четверть часа: «А из тех кустов на меня глядит жандарм».
Обманывать жандармов сейчас не имело смысла: никто ничего не знал о Николе, даже Игнат Сопко и Данила Ясинко. Братья Шугаи, наверно, были далеко, — может быть, и правда, что их видели на румынской границе. Дома было невесело. Брат с нею не разговаривал. Ночью он тихо приоткрывал дверь ее каморки и заглядывал внутрь. В сенях у него всегда стояло заряженное ружье.
Сержант Свозил изредка видел Эржику. Вероятно, чаще, чем другие жандармы, так как изба Драчей была ему по пути.
Несколько раз, встретив ее на дворе или в огороде, Свозил готовился молча, не здороваясь, пройти мимо с обиженным и сердитым видом. Но Эржика, склоняясь над грядкой или неся ведро, не замечала его или делала вид, что не замечает. Это было невыносимо. За что? Вопрос этот постоянно терзал Свозила. Дни были полны для него стыдом, унижением, укорами совести. Он, честный солдат, который привык драться по-настоящему, лицом к лицу, должен был присутствовать теперь на допросах Герша Вольфа, Калмана Лейбовича и всех их домочадцев.
Кто предупредил Эржику?! Капитан вне себя от ярости потрясал кулаками, орал на заплаканных женщин.
Свозил вынужден был сохранять невозмутимость, когда в караулке избивали тринадцатилетнего мальчишку, которого кто-то видел входившим к Драчам в то роковое утро. Приходилось выслушивать догадки товарищей о предательстве и на вопросы, обращенные в упор, молча пожимать плечами. А в ужгородском госпитале умирал раненый жандарм Бочек… Как мечтал этот Бочек жениться, вернувшись домой…
Сержант Свозил наедине чуть не плакал от стыда. Слово «государственная измена» за время войны стало почти смешным, но самое понятие измены угнетало солдата. Измена товарищам, измена общим интересам отряда. Это слово пахло могилой и смертельным позором. Сержант Свозил задумал измену женщине. В служебном усердии, мечтая помочь себе и товарищам поскорей развязаться с этим проклятым краем, он переоценил свои силы. Льстя себе воспоминаниями о неких любовных подвигах в дни мировой войны, Свозил сблизился с Эржикой, но его натура не вынесла обмана, роли переменились, она сумела обмануть. Та, которая так вкрадчиво склоняла голову, так сладко закрывала глаза, неожиданно укусила — и укусила глубоко.
За что? Этот вопрос Свозил бесконечно задавал себе на долгих лесных обходах и во время привалов, лежа с папиросой на траве и глядя в небо. Этот вопрос и облик Эржики не давали ему спать по ночам. Возможно ли, чтобы после всего, что было между ними, она продолжала любить разбойника? Верно, это темные силы гор заставили ее против волн бежать на помощь к человеку одной с ней крови. Кто ответит Свозилу на этот вопрос?
Свозил был уверен, что уже никогда в жизни не заговорит с Эржикой, что все кончено навеки, но часто ловил себя на том, что мыслит длинными горькими фразами, обращенными к ней, представлял себе, как задает ей настойчивые вопросы, сжимает ее плечи, обращается к ней любовно и нежно…
Кто может ответить ему — за что? Никто. Может быть, кошка, которая, как и Эржика, ничего не говорит, и в глазах у нее тоже не прочтешь ничего.
Однажды, стоя в засаде, он увидел Эржику. Она прошла так близко, что можно было достать до нее рукой. Сержант оперся головой о ствол дерева, за которым прятался, и горько вздохнул. Эржика!
Во второй раз он не выдержал. Вышел из-за дерева и стал на дороге.
Эржика сразу узнала его, но не сбавила шагу. Шла прямо на Свозила, глядя на него в упор.
— Куда идете, госпожа Шугай? — произнес он строгим официальным тоном, с трудом справляясь с собой, преодолевая дрожь в голосе, но не в силах преодолеть дрожь сердца.
— На выгон, — ответила она безразличным тоном, не удивляясь его неожиданному появлению. Хотела обойти его, но Свозил преградил ей путь. Они остановились друг против друга на зеленой лесной тропинке. Рослый жандарм и девятнадцатилетняя женщина с пестрыми бусами на шее, в простой холщовой рубашке, скрывающей формы тела.
«Как она красива!» — думал Свозил.
— Эржика!
Они глядели в глаза друг другу. Что-то вдруг чуть дрогнуло в ее глазах. Что это было? Воспоминание? Насмешка? Жалость? Детская душа Свозила плакала. Голос его дрожал.
— Что ты со мной сделала, Эржика?
Он подошел к ней, протянул руки. Она вложила в них свои так просто, точно иначе и быть не могло.
— Что ты со мной сделала, девочка?
Он схватил ее на руки, и Эржика вся потерялась в его могучих объятиях.
— Сердце мое! Самая сладкая на свете!
Сам не зная, дрожит ли от радости, или от горя, он исступленно целовал Эржику.
— Куплю тебе бусы, шелковый платок куплю, женюсь на тебе, уйду со службы — и уедем ко мне домой, в Чехию.
Эржика не противилась. Совсем, как тогда, когда он впервые схватил ее в свои медвежьи объятия. Минута была слишком коротка, чтобы занимать ее разговорами или упреками. После урагана поцелуев в губы, руки, колени, — ах, как были они смешны ей и сладки в то же время! — Свозил сказал:
— Ты замешкалась, Эржика, надо поспешить, не то мой сосед придет узнать, прошла ли ты мимо меня и почему не дошла до него.
Эржика не удивилась. Молча повязала платок, поправила передник и пошла. Свозил смотрел ей вслед. Ну, обернись, родная! Нет, не обернулась.
Опять он выдал ей служебную тайну. Но сознание этого не в силах было удручить Свозила, всему его существу сейчас была чужда грусть. «Я люблю ее больше товарищей! Я женюсь на ней». И, утвердившись в этой мысли, которая прекращала обман и ложь, так долго угнетавшие его, немного выбитый из колеи собственным решением, вновь обретенной любовью и обязательством, которое он на себя брал, Свозил в смутной тревоге шагал по лесной тропинке, затягиваясь папиросой, иногда вдруг останавливаясь и говоря себе: «Да!»
С этой минуты Никола Шугай — его личный враг. Нет на свете более заклятых врагов, чем разбойник Никола Шугай и жандармский сержант Свозил. Никола будет пойман! Пусть это не удается целому отряду, он, Свозил, поймает Шугая сам! Где угодно, хоть в пекле, захватит его, но мертвым.
Жандармский капитан писал донесение в управу. Писалось плохо. Капитан шагал из угла в угол, злобно лягал все, что попадалось под ноги, грыз ногти… Он единым духом осушил стакан коньяку, сел к столу, снова встал, кинулся на койку.
Капитану не по себе. Надо лечиться. Нервы совсем никуда, голова ничего не соображает. Такое состояние не только у него, — он видит, что то же самое делается с командой. Если они еще с полгода поохотятся за Шугаем в этих проклятых горах — все окончательно спятят или сопьются. А вернее, то и другое вместе.
При поверке громовой голос вахмистра бьет капитану по нервам. Некоторых жандармов он терпеть не может. Всякая мелочь раздражает его и буквально приводит в ярость. Ей-богу, он, наверно, скоро начнет идиотски хихикать или петь детские песенки. А как он ненавидит евреев. О, если бы получить здесь диктаторскую власть! Он бы четвертовал и повесил всех евреев. Никто из них не смеет подойти к капитану. Когда капитан встречает Абрама Бера, Герша-Лейбу Вольфа или кого-нибудь еще из патриархов еврейской общины, он с нервной злостью растопыривает пальцы и дразнится, как мальчишка: «Э-э!»
Евреи мстят ему: пишут анонимки в управу и в полицей-президиум, посылают статьи в газету о том, что капитан никуда не годен, что он не смог даже уберечь служебную тайну от жены разбойника, что о дурацкой слежке за ней известно каждому мальчишке в деревне, что все колочавцы назубок знают, где по ночам расставлены жандармские караулы, что Эржика подкупила жандарма Власека тридцатью тысячами крон (пусть-ка справятся, не продавала ли Эржика в день бегства Шугая своих коров и что взяла за них), он, капитан, за все время не уличил ни одного из шугаевых сообщников, ибо озлобил против себя всю деревню, он никуда не показывается и только хлещет дома коньяк.
Но если капитана еще не свели с ума евреи, то это определенно сделает, жандармское управление. Вот как раз один из их дурацких приказов — мол, разбой в краю продолжается. Почему вы не обнаружили хотя бы сообщников Шугая?
Капитан готов смеяться. Сообщники! Если бы ему велели найти людей, которые не являются сообщниками Шугая, пожалуй, при большом старании удалось бы отыскать двоих-троих. Сообщники! Арестуйте в таком случае половину округи, начиная с младенцев и кончая старухами, которые стоят одной ногой в гробу.
Да вот хоть этот случай три дня назад. Капитану донесли, что в последнее время Шугай ночует в деревне Нижняя Быстра. У кого — неизвестно. Эти дурни лесничие и обходчики наболтают бог весть чего, а толком ничего не знают. Пришлось отправиться в Нижнюю Быстру. Извольте-ка отмахать туда пешком сорок километров. Идите все лесом, да так, чтобы вас и тридцать жандармов не видела ни одна живая душа. В деревню попадете уже в сумерки. Да не забудьте перед отходом заказать молебен о хорошей погоде! Когда они пришли в Нижнюю Быстру, дождь лил как из ведра, жандармы и капитан промокли до нитки. Ну, пришли. Что дальше? Разместил команду по избам, сам с шестью жандармами явился к старосте. Тот уступил капитану с вахмистром свою супружескую кровать, остальным жандармам постелил на полу вонючего сена. Чудный ночлег в этой паршивой блохатой деревенской лавчонке!
Утром, когда перестал дождь, они не солоно хлебавши двинулись обратно. Встретился лесник. Говорит, что слышал от дровосеков о Шугае. Он, мол, сегодня ночевал у старосты. Что-о-о? Ну да, у старосты.
Капитан назад, старосту за глотку. «Бестия, сволочь, скотина, говори!»
Так и оказалось. Едва они заснули, пришел Шугай.
— Пусти переночевать.
— Что ты, Никола, беги без оглядки, у меня семеро жандармов.
— Куда бежать в такое ненастье! Высплюсь на чердаке.
И выспался, видимо, роскошно. Жандармы внизу, а он наверху.
Капитан думал, что вытрясет из старосты душу. Схватил его за горло. Голова у старосты болтается.
— Почему не донес?! — ревет капитан.
А староста? Ухватил капитана за рукав и твердит добродушно, с ясными глазами:
— Господин офицер! Да разве можно было? У вас, верно, есть маменька, господин вахмистр женат, остальные господа жандармы тоже. Он бы перестрелял вас, ружье-то ведь при нем.
По приказу капитана, старосту отвели в кутузку.
Вы подумайте! Их семеро, а Шугай один, и он перестрелял бы их всех. Эта деревенщина с ума сошла. И капитан скоро сойдет с ума, — как пить дать, сойдет! Все сойдут с ума.
Капитан нервно бегает по комнате. Его душат ярость и смех.
— Нет! — взвизгивает он и ударом ногой отшвыривает неповинный стул. Потом выпивает две рюмки коньяку и садится писать, стараясь соблюдать деловой слог.
«…Едва достигнув леса, который начинается здесь за каждым гумном, преступник в полной безопасности, ибо, при расчлененности и малой населенности края, планомерная облава невозможна. Подчиненный мне отряд вынужден рассчитывать главным образом на благоприятный случай. В сговоре с Шугаем находится в большей или меньшей степени все местное население, каковое под влиянием систематического, упорного и организованного подстрекательства со стороны еврейских элементов крайне недружелюбно относится к представителям власти.
При таком положении вещей я полагаю, что первоначальный план — захватить бандита живым и таким путем выловить всю шайку — является нереальным. Целесообразнее будет пока что удовлетвориться устранением Шугая, что я считаю возможным осуществить единственно объявлением его вне закона и назначением елико возможно высокой награды за голову преступника.
Что касается полученного Краевым управлением анонимного письма, в коем младший жандарм Георгий Власек обвиняется в принятии 19/VII взятки в сумме тридцати тысяч крон, за каковую он якобы допустил побег арестованного Шугая, то данное обвинение при расследовании не подтвердилось. Допрошенная Эржика Шугай, ее отец Иван Драч и брат Юрай Драч заявили, что скота на означенную сумму они в то время не продавали, и в деревне никому об этом ничего не известно. Допросить семейство Петра Шугая не представляется возможным, так как все они скрылись. Рассматриваю этот анонимный донос как очередную антигосударственную инсинуацию, коими местные венгрофильские элементы стремятся подорвать авторитет республиканских властей. Личность сочинителей анонимных писем выясняю на месте. Младший жандарм Георгий Власек служит образцово и проявляет большое усердие в розысках разбойников. Ввиду того, что он является одним из самых толковых в отряде людей и, кроме того, превосходно знаком с местными условиями, прошу не изымать его из моего отряда до полного окончания расследования».
Капитан встал из-за стола, выпил рюмку коньяку и снова завалился на кровать.
«Страшно! — думал он. — Я приехал сюда вполне приличным человеком, а сейчас сущий пьяница. Старым евреям показываю на улице язык. Чорт знает что такое! О, проклятое племя! Поубивать бы их всех до единого!»
К мысли о предпочтительности смерти Шугая, впервые высказанной Абрамом Бером, приходило все больше и больше людей: Абрам Бер, Дербак-Дербачек, Адам Хрепта, сержант Свозил, а теперь и сам жандармский капитан. Все они были людьми не слова, а дела. От смерти Николы зависело сейчас слишком многое: безопасность и богатство, честь и карьера, любовь и самая жизнь. Если удастся убедить власти, что голова Шугая должна быть оценена, многое будет спасено.
Данила Ясинко и Игнат Сопко, единственные односельчане и сообщники Шугая, которые по милости Дербака-Дербачка еще не попали в кутузку, мрачны, подавлены. Их гнетет сознание того, что вокруг их атамана с неодолимой силой стягивается кольцо. Пока что только вокруг атамана. Дербаку-Дербачку и Эржике еще выгодно молчание, а Игнат Сопко и Данила Ясинко еще осторожны, они не швыряют денег, никто не догадывается об их роли. Абрам Бер напрасно старается поддеть их коварными вопросами.
Но на что надеется Никола? Сколько раз твердили они ему: «Никола, уезжай! Уезжай в Галицию, в Румынию, в Россию или в Америку. Денег у тебя хватает, заживешь наславу, а Эржика приедет за тобой вслед». Не хочет Никола. Засмеется или сверкнет глазами: «Избавиться хотите от меня?»
Зря испытывает Никола судьбу: ходит в деревню, к жене в гости, суется в трактиры послушать, что болтают о нем люди, гарцует на коне, показывает горы заезжим туристам. Точно он слеп и не видит, какая сила его окружила, точно это только его дело, а не общее, не всех товарищей, чьи жизни зависят от его безопасности. Нейдет Никола далеко от Колочавы. Известно почему: боится за Эржику. Пропадет Никола! Если сам себя не погубит, приведет его к гибели этот волчонок Юрай.
Неужто пропадать вместе с ним? Было время, когда такие мысли не лезли в голову товарищам Шугая. Это было время, когда все они только что вернулись с войны и смерть во всех ее многоликих формах была обыденна и привычна. Никто не знал тогда, что будет завтра, и каждому было все равно — сдохнуть ли с голода, или умереть от пули. Эти времена безвозвратно прошли, мир с тех пор изменился. А Никола не хочет этого видеть. Неужели они должны вверять ему свою жизнь? Их положение иное. Для Николы уже нет возврата, для них… для них, может быть, есть. Как разойтись с ним? Сказать ему напрямик: «Не гневись, Никола, только уж не придем мы тебя побрить, не принесем тебе кукурузной муки, не пойдем с тобой завтра подстерегать почту. Не для нас теперь это дело».
О, они прекрасно знают, что бы из этого вышло: Никола еще никому не прощал. Одно его слово — и они пропали. Действовать, как Дербак-Дербачек, они не могут. Слишком уж много черных дел у них за плечами. Неужто и для них нет возврата? Точно попали они в заколдованный лес, где тщетно блуждает человек и зверь, и нет им выхода…
Данила Ясинко и Игнат Сопко шагают в горы. На плечах у них топоры. В этих краях никогда не ходят в лес без топора. Топор нужен, чтобы, с размаху загнав его в ствол, подтянуться на обрывистом склоне; топором вы проложите себе дорогу в буреломе и нарубите веток на костер или на легкий шалаш от дождя и утренней росы. Топор — это инструмент и оружие, топор — это все.
Данила и Игнат идут на выгон, где пасется колочавский табун. Лесничество снова развертывает работы, нанимает возчиков, и Данила идет за своими конями, а Игнат провожает его. Полуденное солнце печет, приятели идут молча. Каждому из них кажется, что надо поговорить, ведь дело идет об их жизнях. Они немало пережили вместе, каждый знает о товарище всю подноготную. Значит, можно доверять друг другу?
Они прошли узкую долину Колочавки и теперь поднимаются в гору, вдоль порожистого Заподринского ручья.
Лес не шелохнется. В душном безмолвии только слышно, как шумят струйки воды. Даниле и Игнату кажется, что надо остановиться, поглядеть друг на друга. «Так что же, Данила?» — «Так что же, Игнат?» Но каждый боится, что у них обоих не найдется мужества ответить. В глубине души они уже давно пришли к одинаковому выводу, и каждый дал понять это другому озабоченным выражением лица, хмурой репликой или жестом и ругательством по адресу Юрая. «Но нет, что, если я ошибаюсь и у него на уме другое? — думает каждый. — Ведь это не шутка. Дело идет о жизни и смерти».
Размашистой ровной походкой шагают Данила и Игнат по крутому склону. Топоры у них за плечами. Шагают молча, не глядя один на другого. Можно доверять, а?
Вот и пастбище. Но приятелям не хочется выходить из прохладного леса на солнцепек. Они не спешат. Времени хватит, до дому три часа ходьбы. Отбросив топоры, они ложатся в тени на опушке.
На выгоне пасутся кони со всей деревни. Они тоже спрятались от солнца поближе к лесу и стоят по-двое, обмахивая друг друга хвостами.
Ясинко и Сопко лежат, поглядывая один на другого.
«Ну, начни, — точно говорят эти упорные взгляды, — скажи хоть словечко, мы с тобой думаем одно, ты можешь довериться мне, я тебе. Или нет?»
Жара. Крепко пахнет хвоей.
«Так или нет?» — щурясь, думает Данила и, наконец, набирается храбрости.
— Так что же, Игнат?
— Так что же, Данила?
— Плохи дела, Игнат.
— Плохи, Данила.
И здесь, на пастбище, в жаркий полдень, ободренные этими согласными репликами, они, наконец, объяснились. Не только словами и даже меньше всего ими. Они просто убедились, что мыслят одинаково, и почувствовали, что сейчас между ними возник сговор, заложен новый, особый союз не на жизнь, а на смерть. Конечно, они любят Николу, или, вернее, любили его раньше и были готовы итти с ним в огонь и в воду. Немало пережили они вместе с Николой, и больше хорошего, чем плохого. Немалым они обязаны его разбойничьей удаче. Данила Ясинко сейчас состоятельный человек. Когда уйдут жандармы и шум вокруг дела Шугая поутихнет (ах, когда же это будет?!), Игнат Сопко, раньше безземельный бедняк, не вылезавший из долгов, сможет выстроить себе избу и жениться на Аяче Гречина.
Но Никола упрям как бык, его не переубедишь. А с тех пор как между ними и Николой встал этот бешеный щенок Юрай, Никола совсем изменился. Стал подозрителен. Что правда, то правда: они грабили несколько раз на свой страх. Один налет был неудачен, — бр-р… какая мерзость и жуть, у них и сегодня мороз пробегает по спине… Но кто же мог знать, что этот шальной «американец» вздумает отстреливаться? Но зато, чтобы так себе, здорово живешь, в здравом уме и твердой памяти убить из-за курицы бедняка-еврея — этого у них не бывало.
И что к ним привязался Никола с этой ярмаркой и убийством трех лавочников?! Следит, допрашивает в одиночку, точно жандарм. Свидетель бог, что об убийстве на ярмарке им ничего не известно, и Дербак-Дербачек, и Адам Хрепта тоже ничего не знают. Это кто-то чужой работал под николову марку. А Никола злится, грозит виновникам смертью. Под дулом ружья этого проклятого Юрая и в самом деле не чувствуют себя в безопасности лучшие друзья Николы. Какая глупость — грозить товарищам!
И если Дербака-Дербачка жандармы принудили к измене, то как неразумно поступает Никола, доводя его теперь до крайности и отпугивая от себя товарищей! Сейчас, когда так нужны ему верные люди! И какое глупое упорство — оставаться здесь. Пропадет Никола!
Взволнованный Игнат Сопко сел. Данила лежал на боку, упершись взглядом в землю. Он смотрел на сухую хвою, по которой карабкался муравей, волочивший какую-то дохлую букашку. Потом глаза Данилы остановились на топоре. Какая странная это штука — топор… Данила точно впервые увидел его. Топорище лежало в тени, клинок сиял случайным солнечным лучом, пробившимся сквозь ветки. Топор казался раскаленным добела, узкое лезвие переливалось лучами, как алмаз…
Что будет, если Никола не падет в схватке, а возьмут его живым? Сообщники, что сидят в хустовской тюрьме, пока молчат. Молчит и Дербачек. Даниле и Игнату это наруку. Но будет ли молчать перед судом Никола, самолюбивый Никола, который знает, что милости ждать ему неоткуда, и, наверное, захочет быть повешенным только за свои, а не за чужие дела? А Юрай? Он ведь тоже не станет молчать. Что тогда?
Даниле и Игнату не по себе от этих мыслей.
Муравей тащит свою ношу через обломки ветвей. Солнце палит, кони стоят как неживые, только хвосты их в непрерывном движении. Остро отточенные топоры назойливо сияют на солнце…
Никогда не застрелить жандармам Николу. Никто не сможет этого сделать. Заколдован он от пуль. Тайну свою он не выдает, никогда не говорит о ней, на вопросы отмалчивается или улыбается, но вышучивать эту тайну не позволяет никому.
Птица не пролетела бы под таким градом пуль, под которыми стоял Никола. А он оставался невредим и, знай, стрелял сам, убивая других. Данила и Игнат видели это своими глазами.
Но помогут ли николовы чары против другой смерти, против… например… например…
Топор все еще сверкает на солнце, назойливо лезет в глаза…
Например — против топора?
Данила тоже быстро садится.
— Что же делать, Игнат?
— Что делать, Данила?
Они долго и упорно глядят друг на друга. Слово, которое у каждого на устах, так и не высказывает никто.
Колочава приговорила Николу к смерти. Другие селенья, над которыми не висел этот бесконечный, тоскливый страх, еще не знали об этом. Они попрежнему любили Шугая. За его чудесную силу, за смелость и любовь к беднякам, за грустную игру его на свирели. Потому что начал он то, на что они никогда не решались: страхом карал господ, любил угнетенных, у богатых брал, а бедным давал и мстил за всю беду и горе простого люда.
Шугай! Никола Шугай! Забыты разговоры о змеях, тех, что в день благовещения вылетают на свет божий, и тех, что живут за печкой и приносят счастье. Забыты ворожеи и вещуньи, которые табачной примочкой и наговорной силой излечивают любой укус и заколдованным кривым бруском сгоняют опухоль с ужаленного коровьего вымени. И короли змей забыты, — те, что, набросив на пень армяк, умеют особым посвистом вызвать змей и заставить их пролезать в рукава…
В деревнях уже не рассказывают поверья о добрых и злых колдуньях, о ведьмах, русалках, бабах-ягах, колдующих над тремя коровьими следами, насылающих на людей хворобу, а на поле град, а к вечеру оборачивающихся большими жабами. Ибо нет конца разговорам о Шугае, о том, кто зол к злым и добр с добрыми, о ком каждый день приходит какая-нибудь новость.
В Изках, вблизи польской границы, живет молоденькая еврейка Роза Грюнберг. Приятельницы ее необыкновенно уважают, ибо Роза знает Николу Шугая. В конце войны, после того как на фронте был убит отец Розы, она и мать переселились сюда из Колочавы. Здесь они живут у дяди и работают на него.
Когда Роза была еще ребенком, Никола Шугай приходил к ним на двор и играл с ней в жмурки и в «голубя и голубку», а летом они вместе собирали в лесу малину и чернику. Сейчас об этом знает вся деревня. По субботам, — единственный день, когда можно поболтать с подругами, — Роза сидит на лавочке перед дядиной избой, и при каждом новом известии о Шугае девушки заставляют ее снова рассказывать о его детстве. «Какие были глаза у Николы? А он красивый? Славный? Целовал он тебя, когда играли в „голубя и голубку“? Позволял тебе отец водиться с ним? А Юрая ты знала?»
И Роза горда безгранично.
Вчера она получила посылку от замужней сестры из Америки (ах, счастливая Эстер!) — большой пакет поношенного платья, а в нем пара чуть ношенных туфелек из змеиной кожи и шелковые чулки, стиранные, право же, не больше двух раз. Роза в восторге от туфелек. Но перед кем щегольнуть обновкой? Раньше, чем в субботу, это не удастся. В этот день вечером на пыльном шоссе между Изками и Келечнем гуляет еврейская молодежь, переглядываясь и улыбаясь друг другу, затевая первый несмелый флирт и щеголяя нарядами.
Роза не в силах была расстаться с туфельками, когда погнала корову на пастбище. Она взяла их с собой. Корова жевала свою жвачку, а Роза то надевала туфельки, то снимала их опять, приподнимала юбку, поворачивалась на каблучках, делала танцевальные движения и, наконец, поставила свое сокровище перед собой и вообразила, что перед ней великолепная витрина обувного магазина в Мукачеве.
Потом легла на траву и продолжала любоваться туфельками. Понемногу девушку начало клонить ко сну. «…Что это там блестит на солнце, — думала она в полудремоте, — точно коса?.. Но ведь еще не сенокос».
И Роза заснула.
Через минуту она открыла глаза, и сердце в ней упало. Рядом стоял Никола Шугай.
«Пропала корова! — мелькнуло у Розы, — и туфельки!»
В нескольких шагах от Николы стоял Юрай и еще двое разбойников спиной к ней — явно затем, чтобы она их не узнала. Все с ружьями.
— Ты… — сказал Никола и вдруг узнал ее. — Есть в деревне жандармы?
— Нет, не видела, — пробормотала Роза.
— Не врешь, Роза?
— Зачем мне врать, Никола?
Вспоминая, он смотрел на нее с невеселой усмешкой.
— Ты меня боишься, Роза? Ты?
— Почему бы мне бояться… — Роза стучала зубами. — Нет, я совсем не боюсь, Никола. — И она попыталась храбро улыбнуться.
— Убей ее, чего возиться с жидовкой, — проворчал Юрай.
— Гром всех вас разрази! — рассердился Никола. — Сколько раз мы с ней из одной миски хлебали толокно. — И он повернулся к Розе. — Ну, как живешь? Чем кормитесь? Работа есть?
— Сам знаешь, Никола, бедняка руки кормят.
Шугай перебирал листки блокнота. Там была какая-то крупная кредитка, сотенная бумажка и мелочь. Никола взял сотенную, протянул ее Розе.
— Дал бы тебе больше, Роза, да самому сейчас нужны деньги.
И они ушли в лес. Стволы их ружей блеснули на солнце.
Как удержать Розе до вечера эту великолепную тайну, самое великое событие, которое когда-либо случалось в Изках! Кругом ни души. С кем поделиться радостью? Взволнованная Роза с горящими щеками снова и снова вынимала кредитку, повторяла каждое слово их разговора, забыв о туфельках. Скоро ли сядет солнце?! Роза терзалась нетерпением, поглядывая на верхушки деревьев. Наконец солнце спряталось за лесом, и Роза, с туфельками подмышкой, пустилась домой, ивовым прутом погоняя корову.
Первому же встречному подростку она закричала свою новость, и он побежал рядом с ней, открыв рот и глотая каждое слово об этом событии, которое сейчас ошеломит всю деревню. Дома Роза повторила все снова, наслаждаясь своим рассказом, страхом дяди, испуганными глазами матери. Когда все, за немногими исключениями, было рассказано, Роза кинулась к соседям и выложила свою историю там, повторив ее слово в слово и умолчав только о деньгах. Первый раз в жизни ей неожиданно свалилась такая сумма, и нельзя было подвергать себя опасности лишиться всех тех чудесных, замечательных вещей, которые можно купить за эти деньги. Она скажет о них только матери, сегодня, в кровати.
Вечером в Изки пришло известие, которое целиком подтвердило розин рассказ: днем недалеко отсюда ограблены два торговца лесом.
Сегодня пятница, канун субботы. Скоро покажутся на небе первые три звезды. Еврейки чисто подмели избы, вымыли окна. На столах поставлены праздничные пшеничные хлебцы, завернутые в белые салфетки, в комнатах горят свечи в подсвечниках или в консервных банках — по одной на каждого члена семьи, живого и мертвого. Свечи сегодня никто не будет тушить, ибо работать в этот день — грех. Они догорят и потухнут сами, когда все уже будут спать.
Мужчины в праздничной одежде ушли молиться к старому Хаиму Израилевичу, они вернутся через час. На это время к Розе сбегаются все десять подруг и окружают ее на лавочке под светлым окном.
Ой, ой, ой! Это случается с одной из тысячи — видеть Шугая! И только один раз в жизни! Как он красив, ого! Смуглый, как лесной дуб, рот у него маленький и алый, как черешня, брови узкие, черные глаза сияют, как это праздничное окно у них за спиной.
А Юрай, злюка Юрай? Тот еще подросток, но он даже красивее Николы, если только это возможно.
Назавтра, в субботу, в другом конце края, у самой венгерской границы, рабочие на дноуглубительных работах при выдаче жалованья вступили в спор с кассиром и после бурных объяснений, тщетно требуя хозяина и угрожая его служащим, бросили работу. Выстроившись рядами, они отправились в город с плакатом на длинных жердях:
ДА ЗДРАВСТВУЕТ НИКОЛА ШУГАЙ!
ШУГАЙ ПОВЕДЕТ НАС
Накануне ночью братья Шугай шли по шоссе к Драчову. Никола хотел зайти к Михалю Грымиту, потолковать кой о чем и заодно переночевать у него.
Ночь была ясная. Высоко над узкой долиной шумливой Тереблы текла другая, звездная река — Млечный путь. Никола и Юрай шли не таясь, с ружьями за плечами. Здесь, вдали от Колочавы, они в безопасности; если и встретится патруль — будут двое на двое.
По шоссе прогрохотала телега. Братья укрылись в кусты. Кто это? Никола напряженно вглядывался в темноту. Э-э! Да это вправду он!
Рядом с телегой спокойно шагал Юрай Драч.
Вскипела в Николе кровь. Не от ненависти к Юраю — от мысли об Эржике! В телеге на соломе привязаны две бочки. Юрай едет в Шандрово за соленой водой. Значит, двое суток не будет дома. Эржика останется только с отцом. Николе явственно представились колени Эржики…
Братья дождались, пока телега скрылась из виду. Никола быстро зашагал своим длинным шагом, Юрай едва поспевал за ним. Около избы Михаля Никола сказал:
— Мне сейчас Михаль не нужен. Иди и переночуй у него. Завтра в полдень жди меня на Бояринском выгоне.
Юрай насупился.
Тридцать километров отмахал за ночь Шугай. В четыре часа он был в Колочаве. Бабы уже встали, и одна из них удивленно поглядела ему вслед. Перелезая через плетни, задами и огородами Никола пробрался к избе Драчей.
— Эржика!
Он увидел ее у калитки..
— Эржика, сердце мое!
Никола стиснул ее в объятиях и втолкнул в избу. В сенях он поставил ружье и запер на крючок обе двери.
— Где отец?
— Я одна дома, Николка. — В голосе ее дрожал смех.
— Рыбка моя! — Он увлек ее за собой к постели. Так медведь тащит в логово свою добычу. А она смеялась, глядела ему в глаза широко открытыми глазами.
Кто-то стукнул в дверь со двора.
— Эржика! — сказал голос.
Никола не слышал. Но женщины всегда разумнее и спокойнее в такой момент.
— Постой… Погоди, — прошептала она, отталкивая Николу.
— Молчи! — воскликнул Никола.
Эржика со всей силой уперлась ему в подбородок. Стук повторился. «Эржика!» Теперь услышал и Никола.
— Кто это? — прохрипел он злобно.
— Жандармы! — Эржика побледнела. — Беги!
В голове у Николы точно блеснула молния. Одним прыжком он очутился в сенях, схватил ружье.
Эржика скинула крючок, приоткрыла дверь. В просвете появилась фигура жандарма в полном вооружении. Шугай сжал руками ружье. Эржика хотела выскользнуть во двор, но гость оперся о притолоку и оттеснил ее в избу.
— Иду с дежурства, соскучился, зашел тебя проведать.
Что?! Вихрь взметнулся в душе Николы. Так не говорят жандармы с колочавскими бабами!
Сержант прошел вслед за Эржикой в комнату. Она сжалась в углу, как подбитая птица перед охотничьим псом. Свозил подошел к ней, хотел обнять. Эржика умоляюще протянула руки, сжала их до боли. Первый раз видел он, что ее глаза говорят, кричат, умоляют.
— Что с тобой?
— Молчи, ради бога!
— Что с тобой?
И вдруг он понял.
— Шугай здесь!
— Нету… — прошептала Эржика, чувствуя, что ее не держат ноги.
— Здесь! — загремел Свозил. В нем проснулся жандарм. — Где он?!
— Нету! — взвизгнула женщина, и в ней смешались желания убить его, и умереть самой, и отпираться, и сознаться во всем. — Нету!..
Сержант окинул взглядом избу. Затвор его карабина противно лязгнул.
Здесь не спрятаться. Свозил выскочил через сени к дверям и… Назад он уже не успел. За углом стоял Никола. Эржика услышала выстрел. Как гулко прокатился он между строениями!
Эржика вздрогнула. На дворе звякнуло о камень ружье, тяжело повалилось большое тело. Майданская вещунья!
За окном мелькнуло несколько бегущих жандармов. Кучка любопытных. Кто-то испуганно закричал:
— За хлев побежал, за хлев!
Грянул еще выстрел.
С улицы палили жандармы. Эржика видела в окно, как в огороде среди бобов мелькал Никола. Вот он перескочил через плетень, бежит, скрылся из виду. Эржика закрыла глаза и несколько раз глубоко вздохнула. Ей хотелось сесть и опустить голову на стол.
На улице стреляли, долина наполнилась эхом, кто-то громко командовал, опять гремели выстрелы, но все это уже утратило остроту, казалось чуждым, доходило издалека и не касалось Эржики. Ей хотелось закрыть глаза, опустить голову на стол и заснуть.
Жандармы положили мертвого товарища в школе. При взгляде на его простреленную голову они сдерживали подступавшие к горлу слезы и давали волю бешенству. Бегали по вымершей деревне, наобум палили из ружей, вламывались в избы, избивали жителей.
— Всех отправим на тот свет! Сожжем всю деревню!..
Появляясь в еврейских лавочках, жандармы держали ружья наперевес, рычали, как звери, и готовы были перебить всех.
В казарме из угла в угол бегал бледный как смерть капитан. Опять убийство! И опять допросы тщетны, от арестованных не добиться ни слова. В который уж раз? Капитан сам распорядился прекратить, наконец, «допрос» — эти побои, стуканье головой об пол, удары по ступням. Он уже не в силах был глядеть на все это, крики Василя Дербачка и Михаля были просто невыносимы. О господи боже! А с Власеком — неужели это правда?
Капитан чувствует, что силы оставляют его, он теряет разум и скоро совсем сойдет с ума. Его вдруг охватывает ярость. Почему они промахиваются, эти дурни? Или Шугай в самом деле заколдован?!
Капитан бегает по комнате, рычит, вызывая вахмистра, бросает ему в лицо несколько бессмысленных вопросов, разносит, хватается за кобуру с револьвером.
«Как бы он в самом деле не взбесился», — думает вахмистр, стоя навытяжку, не спуская глаз с капитана и гаркая по уставу:
— Не могу знать, господин капитан… Так точно, господин капитан… Никак нет, господин капитан…
Разглагольствования капитана он пропускает мимо ушей и старается только удержаться, чтобы непроизвольно не пожать плечами.
— Они должны сказать, где прячется Шугай. Должны! Слышите, вахмистр, должны! Если будут молчать, убивайте их! Всех до единого! Я отвечаю! Я приказываю! Слышите? Я велю вам это сделать! Возьмитесь за евреев, это все они, их козни! Организуйте погром, натравите на них мужиков. Бейте их, стреляйте, вешайте на осине!
«Наверно, у него сейчас пена пойдет изо рта», — думает вахмистр, не зная, отнестись к бешенству капитана как к явно нелепым служебным распоряжениям, которые для безопасности надо бы получить в письменной форме, или смотреть на них как на вспышку полусумасшедшего?
— Вы слышали, что я сказал, вахмистр?
— Так точно, господин капитан.
Вахмистр уходит, наморщив лоб. Выйдя на двор, он машет рукой. Может, подать рапорт в жандармское управление? Или завтра все будет в порядке, и его начальник не вспомнит о своих вчерашних приказаниях?
Был это один из тех страшных дней, которых немало пережила Колочава. На дворе соседей Драча навзничь лежала связанная по рукам и по ногам Эржика. Рядом с ней Петр Драч и тринадцатилетний Иосиф. Их схватили сразу же по возвращении с пастбища. Сосед Михаль Драч и его жена Василиса тоже были связаны и брошены на землю неизвестно за что. Видимо, за то, что Никола, убегая, перескочил через их забор. Все арестованные избиты. Лица у них опухли, покрылись синяками, одежда в крови.
Время — под вечер. Солнце уже перестало палить лица пленников. Во двор то и дело заходят жандармы, злые, усталые. При взгляде на пленников у них прибавляется сил ровно настолько, чтобы ударить ногой кого-нибудь из лежащих или наставить острие штыка на грудь.
— Ну-ка, где тебя проткнуть, сволочь?
Только бесчувственную Эржику оставили в покое. Сегодня утром, когда ее во дворе таскали за волосы и били ногами, Эржика увидела среди своих мучителей Власека и заголосила, мстя в его лице всем жандармам:
— Вот этому я дала тридцать тысяч!
Власек с размаху ударил ее кулаком в рот. Опозоренный перед товарищами, желая заставить Эржику молчать, он крепко бил ее по щекам. Но Эржика между ударами упрямо кричала ему в лицо:
— Взял ты… тридцать тысяч… Николу выпустил… Здесь… Год назад…
Власек осатанел. Он бил женщину изо всех сил. Эржика упала, Власек продолжал избивать, крича: «Врешь, врешь, врешь!» Но едва хоть на секунду замедлялись его удары, Эржика поворачивала окровавленное лицо и безумные, ненавидящие глаза и хрипела:
— Взял… у меня… тридцать тысяч… Николу выпустил… развязал веревки…
Ее крики подавил новый град ударов.
Даже жандармы отступили в смущении. В середине двора оставались двое — Эржика и жандарм. И все видели, что она, пленница, нападает, а он защищается. Жандармам казалось, что перед ними царапается, кусается, бьется за свою жизнь бешеная кошка.
«Власек? Неужели? Власек — виновник стольких смертей?»
Старый жандарм подошел к ним, взяв Власека за воротник, заставил встать и уставился в упор в ошалевшие глаза товарища. Видел, как ярость переходит в них в отчаяние.
— Оставь ее! — сказал старший и оттолкнул Власека в сторону.
Ну и день!
Вечером изба Драчей вспыхнула ярким пламенем.
Жандармы бегали по вымершей деревне, готовые разбить голову каждому, кто сунется тушить пожар. Но деревня была пуста и мертва. Жители даже не решились зажечь свет, а еврейские лавочки были заперты еще с полудня.
В пустой и немой темноте сильным, ровным, бездымным пламенем горела изба Драчей — свеча жандармов убитому товарищу.
Вечером Никола очутился в горах у истоков рек Тереблы и Рики над лужайкой с серным источником. Не здесь ли два года назад ребятишки кричали ему: «Шугай, одолжите веточку?» Это воспоминание мелькнуло в памяти Шугая…
Он спустился по склону к устью Рики.
Сегодня он бежал. От кого — он сам не знает, но сегодня впервые в его жизни было настоящее бегство. Куда он шел? Он не знал. Откуда? Мысль об этом глухо ворочалась в мозгу.
Итти, только итти. Одному, не видеть никого, даже Юрая. Внизу мелькнул огонек, другой, третий. Это Вучково. Никола не хочет туда; он свернул и зашагал в лес. Вот он на небольшой просеке над охотничьей сторожкой. Под ним шумит Рика. Сторожка на другом берегу, не больше чем в трехстах шагах. Никола видит высокую крышу и два окна, светящиеся красным.
Никола остановился. Над горами плывет в облаках месяц. Деревья бросают острые густосиние тени. Долина, как мертвая, синеет внизу. Только кроваво-красные глаза сторожки невыразительно глядят во тьму. Кажется, что там внутри что-то мутное, нечистое.
— Га-га! — взревел вдруг Никола. Он сам не знает, почему сделал это. Собственный голос удивил его.
— Га-га!
Лес разнес этот крик оглушительным эхом.
— Га-га! Здесь Никола Шугай! Никола Шугай!
Николе кажется, что это имя — его имя! — вырастает над верхушками леса, заполняет собой долину, поднимается к облакам.
— Слы-ши-те?! Я Никола Шугай!
В домике и в деревне царит безмолвие. Тишина в лесу хороша, она говорит о безопасности. Но тишина вблизи людей ужасна…
Бац! — раскатился по лесу выстрел Николы. Пуля пронзила крышу сторожки.
Бац, бац, бац!
— Га-га-а! Шугай! Я Никола Шугай! Не-у-яз-вимый!.. Меня никакая пуля не тронет!..
Пулю за пулей посылает Шугай в охотничью сторожку, в эту голову с красными глазами.
Окна сторожки погасли. Погасло и несколько огоньков в деревне. Никола расстреливает обойму за обоймой, выстрелы гремят, горы содрогаются эхом. Никола знает, что когда он перестанет стрелять, вновь наступит страшное, нестерпимое безмолвие…
Внизу под покровом тьмы люди вскакивают с кроватей и боязливо выглядывают в окна. Матери тащат за собой готовых расплакаться детей и зажимают им ладонями рты.
Над Вучковым бушует буря. Разгневан могучий Шугай. И в гневе своем он страшен.
ГЛАВА VI Товарищи
— Пс-с! — говорят евреи, пожимая плечами. Они только что узнали, что на-днях будут выпущены на свободу все подозреваемые и действительные сообщники Шугая. Презрительное восклицание почтенных лавочников означает: и на это вам потребовался год? Понимаете ли вы, сколько жизней могло быть сохранено, сколько спасено имущества?
После смерти Свозила Эржику, наконец, накрепко упрятали под замок. Новый командир отряда, наверно, сумеет лучше справиться с делом.
Впрочем, еврейская молодежь Колочавы перестала увлекаться делом Шугая. Мысли всех сейчас были обращены к старому соперничеству семей Вольфа и Бера, которое разгорелось с новой силой в борьбе за табачную лавочку. Скоро прискучило и это. Внимание еврейской общины обратилось к очередной сенсации: открывавшейся вакансии кантора в хустской синагоге и ожесточенной борьбе за это место, которая возникла между ортодоксальными талмудистами, сионистами и хасидами.
Однако все немало взволновались, когда в деревне появилось такое объявление (оно было напечатано на трех языках — чешском, украинском и венгерском):
НАЗНАЧЕНА НАГРАДА!
В Хустском, Воловском и других горных округах долгое время бесчинствует разбойник и убийца Никола Шугай со своими сообщниками. Банда Шугая, в особенности он сам, совершила ряд исключительно дерзких и жестоких смертоубийственных грабежей. Преступникам, пользующимся поддержкой некоторой части местного населения, пока что удается избежать правосудия.
В интересах безопасности мирных граждан предлагаю всем, у кого есть какие-либо сведения о преступниках, немедленно сообщить их ближайшему жандармскому посту или политическим органам. Лицу же, кое поможет захватить Шугая, например путем наведения полиции на его след, будет выплачено вознаграждение в сумме 3000 (три тысячи) крон.
За вознаграждением обращаться в ближайшее полицейское управление.
Начальник гражданской администрации советник Блага.Рядом висел маленький и незаметный плакат. Совет еврейской религиозной общины двух округов тоже назначал награду. Размер — тридцать тысяч.
— Ну, наконец-то! А теперь возьмитесь за ум, евреи. Ведь вы знаете, что не руки решают дело, а голова. Настал решительный момент.
Местный нотариус подвел евреев: велел расклеить объявления утром в субботу. И патриархам пришлось, не читая их, степенно проходить мимо и лишь слушать — даже не задавая вопросов! — что рассказывают об этом объявлении другие, менее набожные единоверцы. Нелегко было отвлечься на весь день от мирских дел и устремить свои помыслы ко всевышнему, ходить с просветленным лицом, не хмурясь, неторопливым, степенным шагом. Хотелось спешить куда-то, хотелось морщить лоб, усиленно размышляя, хотелось поддаться искушению и устремить помыслы не ко всевышнему и небесной царевне Саббат, но на суету мирскую и на Шугая. Впрочем, при желании и некотором опыте общения с богом можно было найти компромисс и думать о том и о другом. Например, так. Народ иудейский — любимец всевышнего, он всегда вознаграждаем судьбой, даже если этой награды приходится ждать веками. Иегова неизменно покровительствует евреям. Но, боже великий, как долго еще нам, ничтожным людям, ждать, пока ты вспомнишь, что нас терзают недруги… среди которых Шугай — не из последних. Как избавиться от Шугая? Что бы такое придумать? И где еврейская община возьмет столько денег? Ой, ой! Неужто они всерьез хотят заплатить такую сумму?
Вечером, как только на небе появились три звезды, призывая царевну Саббат вернуться к звездному трону всевышнего, еврейские патриархи собрались в комнатке Герша-Лейбы Вольфа, за окном со спущенными занавесками. Патриархи тотчас разошлись во мнениях, и каждый выкрикивал свой совет, который считал единственно правильным и ведущим к успеху.
Созовите товарищей Николы, пусть капитан пообещает им должности лесников и путевых обходчиков, пусть посулит им луну с неба. Разделите их, возбудите в них зависть, разожгите среди них соперничество, борьбу за тридцать три тысячи, ведь это много, чертовски много денег! Стрелять в Шугая никто из них не отважится, потому что они всерьез верят, что пуля отскочит от него и убьет стрелявшего, но разве нет у них топоров, разве не найти в лесу дубины? А правда ли, что старая Дербачиха умеет варить наговорные зелья?
Все было ясно. Вполне ясно.
Ясно? Нет, совсем не ясно!
Когда патриархи расселись на диване и стульях, постели и подоконниках, Берка Вольф (ну, конечно, господин Бернард Вольф не может без фокусов!) поднял вопрос о том, как следует понимать фразу: «Лицу, кое поможет захватить Шугая, будет выплачено вознаграждение в сумме три тысячи крон». Что значит «захватить»? А если разбойника возьмут мертвым? И еще вопрос: значит, можно только способствовать поимке Шугая, а самому его изловить нельзя? А убить можно? Или тут нужно читать между строк?..
Разногласия между вольфовцами и беровцами вспыхнули с новой силой, ибо в спор о Шугае был привнесен сложный вопрос о религиозно допустимом и недопустимом. Вот где можно было проявить перед всеми знание талмуда и сокрушить оппонента логикой, цитатами из авторитетов, напоминанием о колочавской табачной лавочке и месте кантора в хустской синагоге! Спорщики вскакивали с мест, выкрикивали язвительные реплики, разражались саркастическим смехом, иронизировали и, покраснев и жестикулируя, препирались между собой.
— Не вам учить меня талмуду, господин Иосиф Вольф! Вам, который по субботам, из-под полы, исподтишка торгует водкой!
— А что понимаете в талмуде вы, паршивый польский еврей, который здесь без году неделя! Мы настоящие хасиды![8] К вашему сведению: все ваши дочери ради хустских офицеров готовы перейти в христианство. Срам на вашу голову!
Страсти, наконец, так разгорелись и поднялся такой шум, что пришлось вмешаться седовласому Гершу-Лейбе Вольфу. До сих пор этот восьмидесятилетний патриарх и бровью не повел. Сейчас он медленно поднялся с засаленного дивана. Все стихли, понимая, что сейчас будет сказано мудрое слово.
Старец слегка развел руками, как кантор перед торой[9], и, воздев очи, произнес медленно, с достоинством:
— Разве Шугай у вас в руках? Кто он: вошь или блоха?
И неторопливо уселся на место.
Собрание почтительно молчало. Вот это мудрость! Старец, как всегда, прав. Поистине ничто не вносит такой ясности в проблемы, как своевременное сравнение. Его отлично поняли все присутствующие. Страсти утихли, в головах прояснилось, ход мыслей собравшихся принял единственно правильное направление. Нельзя убить в субботу вошь, ибо она не убежит и до завтра, но убить блоху можно, потому что блоха не станет ждать. Шугай еще не пойман, и, чтобы обезвредить его, придется положить немало трудов. Да, Шугай не вошь, которую можно придавить в любой момент. Когда дело касается Шугая, не следует держаться буквы писания.
Мудрость сказала свое слово. Спор был закончен.
На другой день, в воскресенье, новый жандармский капитан собрал сход. Уже с неделю отряд имел нового командира, но еще никто из колочавцев не знал, что он собой представляет. Еврейскую депутацию капитан не принял, сославшись на чрезмерную занятость. Поэтому все с любопытством ждали этой встречи. Около трехсот жителей Колочавы собрались под кленами у корчмы Лейбовича. Они стояли группами, сидели на ступеньках и под забором. В корчму к трехногим столам отважились сесть только самые почтенные. Остальные ждали, когда придет капитан. Посмотрим, что-то он скажет? Тогда можно будет одному за другим потянуться в распивочную.
Среди собравшихся прохаживались четверо жандармов, без ружей и без касок. Держались они по-приятельски, усмехались, заговаривали с мужиками о ценах на скот и на извоз, — можно было подумать, что жандармы испокон веков в самых дружеских отношениях с деревней. И что только делается!
Среди ожидающих были почти все тайные и явные сообщники Шугая, выпущенные из предварительного заключения и получившие условное наказание: Василь Кривляк, тот, что участвовал в налете на горный шалаш в Долгих Грунах, когда был унесен овечий сыр; Юрай и Никола Штайер; Мытер Дербак, после налета на почту он был опознан по рваной штанине и солдатскому ремню; Иосиф Грымит, Олекса Буркало, Мытер Вагерич. Только Эржику и старого Драча оставили в Хусте.
Были здесь и Дербак-Дербачек с пасынком Адамом Хрептой и изрядно взволнованный Игнат Сопко. Только Данила Ясинко не пришел. И правильно сделал: не обошлось без опасных разговоров. Дербак-Дербачек, увидя у забора Игната Сопко, угрожающе подступил к нему.
— Довольно я покрывал николовых дружков! — возопил Дербачек, ударив себя кулаком в грудь. — Бог видит — хватит с меня!
Игнат Сопко старался спокойно глядеть ему в глаза.
— А при чем тут я? — огрызнулся он.
Дербачек точно не слышал.
— Что для меня сделали эти милые дружки, когда сгорела моя изба? А чем помогали они мне раньше? — Дербачек, не щадя сил, лупцовал себя в грудь.
Вокруг начали собираться соседи.
— Хватит с меня! Довольно! Я убью Николу. Я доберусь до него! Я не боюсь его больше. А если я его не найду, ты мне его найдешь, Игнат!
— Почему это я?
Но Дербак-Дербачек, полный злости, досады и жажды получить тридцать три тысячи, тыкал пальцем в Сопко и твердил:
— Ты, ты его найдешь, Игнат!
Быстрым и бодрым шагом подошел молодой капитан. Толпа расступилась, снимая шапки. Усмехнувшись, капитан козырнул и дружелюбно поглядел в глаза мужикам. Что только делается!
На пороге капитан обернулся.
— В избу, в избу, соседи! — И ободряюще помахал рукой.
Он продвигал людей вперед, наводил порядок, улыбался, а потом ловко вскочил на лавку и открыл собрание.
Корчма была набита битком.
— Взаимоотношения жандармов и населения Колочавы, к превеликому сожалению, до сих пор не сложились нормально. Причина этого — обоюдное недопонимание. Стражи общественной безопасности не понимали чувств гражданского населения и трудностей, с которыми сопряжено для них приобретение привычки к новым порядкам в стране. А граждане не думали о том, какую тяжелую и опасную службу несут здесь жандармы, не понимали их естественного раздражения — да, да, раздражения и гнева, — когда столько верных товарищей было убито из-за угла низким преступником. Кроме того, жандармы полагали, к счастью, разумеется, ошибочно, что население оказывает поддержку преступнику. Со всеми этими недоразумениями должно быть бесповоротно покончено. Власти сделают все, что в их силах. Они дали отряду новые инструкции, дали всей команде примерную острастку наказанием младшего жандарма Власека, на которого поступали жалобы от населения…
«Чего врешь-то! — думают мужики. — Точно мы не знаем, что это за взятку».
— Эх, зря так сказал! — покачивают головами еврейские патриархи.
— Баранья голова! — непочтительно отзывается еврейская молодежь, расположившаяся на прилавках и ящиках.
— …Итак, граждане Колочавы должны в свою очередь забыть старые обиды и впредь смотреть на нас, как на своих подлинных доброжелателей. Взаимное понимание необходимо как воздух. Прошла война, это ужасное несчастье человечества, понемногу заживают нанесенные ею раны. Повсюду тревожные военные порядки уступают место нормальным отношениям, вновь укрепляется уважение к власти, законность, гражданский мир и благоденствие. Только здесь, в небольшой этой округе, все еще живы какие-то пережитки войны, все еще идет тягчайший бой: бой с преступлением…
Речь затягивалась. Понемногу падало оживление слушателей, вызванное мягким выговором оратора, его языком, который не был ни колочавским диалектом, ни украинской, ни русской, ни чешской речью, а всеми этими языками вместе. Люди привыкли к языку оратора и стали скучать. И пока оратор распространялся о социальной опасности Шугая, мужики думали:
«Говори, говори. Потешь себя вволю. Тра-та-та да тра-та-та… Мы непрочь посидеть здесь часок-другой да покурить трубку».
Но вот речь капитана опять привлекла их внимание.
— …Никто из вас не может чувствовать себя в безопасности перед разбойником…
«Мы-то можем», — говорят себе колочавцы.
— …ни бедняк, ни богатый, ни христианин, ни иудей. Вы сами знаете, сколько жизней погубил здесь Шугай, вы знаете, что он сжег дом собственного отца, дабы замести следы своих преступлений, что из мести спалил избу гражданина Дербака, что совершил поджог в доме своего тестя Драча, с которым не поладил при дележе добычи…
«Э, ты уже завираешься, молодчик! — думают мужики. — Хочешь нас обвести вокруг пальца? Как бы не так! Мы-то знаем, в чем дело!»
Но они сидят как ни в чем не бывало и с серьезными лицами почтительно смотрят на оратора. Старые евреи качают головами, а молодежь на прилавках уже решила, что, готово дело, оратор безнадежно провалился.
— …Только общими усилиями мы сможем обезвредить преступника. Одни жандармы не в силах изловить его, это ясно.
«Ой, ой, ой, так нельзя было говорить!» — мысленно твердят все патриархи.
— …Человека в форме всякий узнает издалека, а одинокий, переодетый жандарм может рассчитывать только на счастливую, но маловероятную случайность. Жители Колочавы видят Шугая чаще, чем мы, разумеется против своей воли: они встречают его на выгонах и в лесу, где он у них угрозами вымогает информацию…
«Че-е-го вымогает? Врешь ты все. Не вымогает, а сам раздает».
— …Он приходит к вам в горные хижины, чтобы получить ночлег в ненастную ночь… Я не буду говорить о назначенной награде…
«Ага!»
— …я обращаюсь к вашим гражданским чувствам. Обезвредьте Николу Шугая! Если он появится в вашем доме, пошлите за нами. И не расставайтесь с оружием, граждане. Властям хорошо известно, что после войны в крае осталось немало оружия, почти в каждой избе есть ружье или револьвер. Пустите-ка их в ход, граждане…
«Чтобы ты потом у нас их отобрал. Как же!» — говорят себе граждане.
— …Закон предоставляет вам самые широкие возможности. По отношению к Шугаю не может быть речи об ответственности за намеренное убийство или за превышение самообороны. Ибо каждая встреча с Шугаем — это, как, к сожалению, всем нам хорошо известно из опыта, есть безграничная угроза для жизни граждан. И тот, кто обезвредит его, в любое время и при любых обстоятельствах, будет считаться действовавшим в пределах законной самообороны. Пристрелите же разбойника, граждане!
«Ах ты, дурень, дурень! — смеются про себя мужики. — Думает, что можно застрелить Николу Шугая!»
— …Мы освободили из-под стражи сообщников Шугая в твердом убеждении, что вина их не так велика, как это представляется на первый взгляд, и что их соучастие в преступлениях — это скорее влияние послевоенной обстановки, чем преступных задатков. Мы ожидаем, однако, что они оценят эту снисходительность и искупят свою вину тем, что помогут нам изловить убийцу. Вы читали — мы назначили награду. Мы гарантируем безопасность. Больше того: каждому, кто поможет нам обезвредить бандита, мы обещаем место на государственной службе. При достаточном образовании такой человек может стать даже чиновником. Но я уже сказал вам: не стоит говорить сейчас о награде. Для вас, как и для меня, она второстепенное дело. Побуждения наши едины, — капитан возвысил голос, — это гражданский долг и уважение к законам…
Оратор закончил горячим, но несколько многословным призывом, который возбудил в слушателях живую надежду, что, слава богу, собранию скоро конец.
К вечеру колочавцы расходились по домам.
— Мишугенер! Сумасшедший! — твердили евреи. Это было их окончательное резюме.
И пока капитан, усмехаясь, отдыхал у себя в комнате, очень довольный своей дипломатической речью, мужики, скидывая белые праздничные куртки из овечьей шерсти, отвечали дома любопытным женам:
— Врал, как бог свят, врал.
— А что врал-то?
— Покорнейше нас просил, чтоб поймали ему Николку, сам, мол, не может.
И вспомнив еще о чем-то:
— А кто его поймает — того, дескать, назначат чиновником… Дурень, видать, страшный.
— А как же тридцать три тысячи?
— Сказал, что о награде говорить не стоит. Видно, с ней какой-то подвох.
«Игнат Сопко? — еще на сходе размышлял Абрам Бер, когда ему сообщили о стычке между Дербаком-Дербачком и Игнатом. — Этот незаметный мужичонка? Однако как люди бывают слепы! А я-то думал, что вижу каждого насквозь».
Абрам Бер пошарил в памяти, стараясь найти какие-нибудь улики против Игната, но не нашел.
После сходки было еще светло, и Абрам Бер сам не пошел за Сопко, а послал ему вслед какого-то мальчугана. Как узнает, куда пошел дядя, пусть приходит в лавку за конфеткой.
Скоро мальчуган прибежал с сообщением, что Сопко зашел к Даниле Ясинко.
Ага, Ясинко! Старый бахвал и драчун. Это уже другое дело. Года не прошло, как Ясинко вдруг расплатился со всеми долгами, и с тех пор был на подозрении у Абрама Бера.
Абрам Бер опять страшно взволнован. Даже щеки у него пошли красными пятнами. Сердце колотится, голова лихорадочно работает, прикидывая, обдумывая, сравнивая правду и правдоподобие. Дело ясное: если Никола не будет убит в ближайшие дни, этому не бывать совсем. Новый капитан глуп, не умеет пользоваться возможностями. Абрам Бер должен сам взяться за дело. Ясинко… Ясинко. В самом деле, этот Ясинко может оказаться подходящим человеком.
Пошел дождь. Тем лучше — по крайней мере Сопко никуда не уйдет. Абрам Бер подождал часа два, чтобы дать приятелям наговориться, затем помолился за успех дела, взял зонтик и вышел.
Приятели все еще сидели у Ясинко. Смеркалось, накрапывал дождь, в избе было темно.
Абрам Бер вошел. Не может ли Ясинко привезти ему завтра четыре воза дров?
Можно, почему нет.
Абрам Бер садится на кончик скамьи.
— Дождик-то зарядил, а?
— Зарядил.
Волнение Абрама Бера вдруг сразу улеглось, он чувствует, что сердце его спокойно и нервы в порядке. Абрам Бер выжидающе молчит. Игра идет серьезная.
— Ну, как вам нравится новый капитан?
Молчание.
— М-м, — произносит, наконец, Игнат Сопко.
Пауза. Мужики молчат, значит боятся. Кого, его? Вот глупые! Разве он пришел с враждебными намерениями? Он хочет подбодрить их, воодушевить, разъяснить то, что не удалось капитану. Он хочет помочь им, хочет, чтобы скорей созрело в них то решение, что зреет уже давно.
— Никола — дурной человек, но теперь, когда смерть у него на носу, все-таки его жалко, — раздельно говорит Абрам Бер.
Как бы хотел он сейчас услышать их голоса, увидеть их лица. Но приятели молчат, их головы едва вырисовываются во тьме, Абрам Бер чувствует, что ими владеет боязнь.
— Николу поймают, — продолжает Абрам Бер.
Данила и Игнат молчат, не откликаются ни одним словом. Но их праздничные белые рубахи, еще видные в сумерках, неподвижны, как повешенные на заборе.
Напряженное внимание, никто не шевельнет рукой.
— И поймают его живым. А это хуже всего… для него.
Абрам Бер чувствует, почти видит, как они ловят каждое его слово.
— …После сходки мы заходили к новому капитану, был серьезный разговор. — Абрам Бер встал, подошел к окну, поглядел на дождь, точно сильно заинтересованный погодой. Лиц слушателей не было видно.
— Дождь идет! — И так как никто не отозвался, Абрам Бер повторил еще раз, неторопливо возвращаясь на скамью: — Дождь!
И начал говорить. Осмотрительно, понемногу, осторожно, словно расплетая запутанную пряжу. Это не была обычная ложь. Это были поправки к психологическим ошибкам капитана и изложение вопроса в таком виде, как подал бы его сам Абрам Бер, если бы дело доверили ему. Но в душе Абрам Бер уже верил в этот гипотетический вариант как в реальнейшую действительность.
— На сходке капитан не сказал всего. Он, конечно, не думает, что жандармам одним не поймать Шугая. И насчет того, что каждый может пристрелить Николу при встрече — это тоже не всерьез. Эта крайность еще успеется, сейчас он намерен взять Николу живьем. Надо, чтобы Никола заговорил, чтобы рассказал все, что знает. И это капитану удастся. Он уже договорился с двумя товарищами Николы, из тех, кто выпущен из тюрьмы — кто бы это, кстати, мог быть? — и вместе с ними выработал план. Товарищи обещали, что в ближайшие дни захватят Шугая. Этот капитан — голова! Не то что прежний! У него есть список всех людей, у кого Никола ночует, и с ними он договорился тоже. Если сорвется дело с теми двумя, Николу ему приведут хуторяне с гор. Если только Дербак-Дербачек раньше всех не сорвет награду. Он ведь недаром грозился на сходе, что доберется до Николы. Борьба идет не на живот, а на смерть: либо Никола, либо он, и Дербачек это отлично понимает. Нет, не выскользнуть Николе. Теперь уж ни в какую, гиблое дело!
Фигуры в белых рубахах не двигаются.
— А награда немалая! — продолжает Абрам Бер. — Много денег. Ого-го! Целое состояние! Сейчас деньги опять в цене, не то что во время войны, тогда корова стоила много тысяч. За такую сумму брат брата продаст и сын отца.
Абрам Бер начал перечислять по пальцам.
— Первое — это тридцать тысяч от еврейских торговцев. Сразу же на руки, безо всякой волокиты. Деньги уже приготовлены в кассе у капитана. Второе — три тысячи, казенная награда. Затем не забудьте о тридцати тысячах контрибуции, что наложена на Колочаву. Если Николу поймают, власти, конечно, снимут контрибуцию, и деревня, разумеется, не оставит без награды того, кто избавил ее от этой кары. И, наконец, — Абрам Бер загнул указательный палец, — казенное место, что обещал капитан. Кто захочет стать лесником, будет лесником. Хочешь быть путевым обходчиком — пожалуйста. Если тебе нравится всю жизнь ничего не делать, только ходить господам за пивом и колбасой, будешь слугой в канцелярии в Ужгороде. К старости получишь пенсию. Да, много денег…
Абрам Бер минутку посидел молча. Потом поглядел в окно, — дождь уже прошел, — сказал что-то о дровах, поднялся и вышел.
В избе было тихо и душно после теплого летнего дождя. Один из сидевших зашевелился и хотел встать, но остался на месте.
— Николу поймают, Данила.
Молчание. И потом сдавленный, хриплый голос:
— Поймают, Игнат.
— Никола застрелил Дербака-Дербачка! — кричала девочка в красном платке, со всех ног несясь к деревне. — Застрелил! — сообщала она каждому встречному, пока не добралась до избы Дербачка.
— Где, где? — останавливались прохожие.
— На Черенских лужках.
Жена и сестра Дербачка заголосили. На улицу выбегали соседи.
Адам Хрепта с мачехой и теткой поспешили на лужки. Ребятишки, свои и чужие, бежали за ними по пятам. Такое событие! Мать убитого — колдунья — с порога глядела им вслед, пожевывая беззубым ртом короткую трубку.
Женщины плакали, но глаза их были жестоки и злы.
Известие было очень похоже на правду. В августе колочавцы как раз начинают сенокос, и Дербак-Дербачек с утра ушел на лужки скосить делянку, которую арендовал там у лесничества.
У торопливо шагавших родных была одна надежда: застать его еще живым.
На делянке уже собрались пастухи. Они обступили труп, остерегаясь мять траву. Лица их были серьезны и почтительны.
Дербак-Дербачек, видимо, уже несколько часов был мертв. Он лежал навзничь на охапке скошенного сена, упершись в небо остекленевшими глазами. Рядом валялась коса и брусок. Дербачек был ранен в грудь и в живот, рубаха вся пропиталась кровью.
Подошли жандармы во главе с капитаном и накинулись на людей за то, что те затоптали следы.
«Какие еще им следы? — мрачно думали пастухи, отходя в сторону. — Не видят, что ли, что человек помер? Или не знают, кто его убил? Чего ж еще надо?»
Но Колочава, узнав о ранах Дербачка, уверилась, что дело обстоит не так, как кричала девчонка и как, наверное, представляет себе жандармский капитан. Никола не убивал Дербачка. Никола никогда не стреляет дважды, он убивает человека с одного раза. Дербачка убил Юрай.
Бледный Игнат Сопко прибежал к Даниле, вызвал его на двор.
— Ты говорил с Николой после сходки?
— Нет.
— Плохо дело, Данила.
Огородами они вышли к безлюдной реке.
— Откуда Никола знает о том, что Дербачек грозился ему на сходке?! — Лицо Игната перекосилось от страха.
— А я почем знаю? Я к нему собирался послезавтра — отнести сыру и муки. Ты с ним виделся?
— Виделся. Встретил их утром, как шел к ручью ворошить сено. Наверно, они меня ждали. Но, странное дело, ни о чем не расспрашивали меня.
— А об угрозах Дербачка ты говорил?
— Нет, но он, видать, знает, и вот это как раз хуже всего.
В смятенной памяти Игната мелькнули подозревающие глаза Шугая, его вчерашний, точно случайный вопрос о Дербаке-Дербачке. Как поживает Дербачек? Верно, уж после второго предупреждения — пожара избы — не якшается с жандармами? Вспомнилась зловещая улыбка Юрая при словах брата.
— А почему ты ему не сказал? — спросил Данила.
— Побоялся. Ведь Василь говорил, что я должен найти ему Николу.
Приятели стояли на каменистом берегу Колочавки, глядя на стремительное течение и нависшие скалы. По скалам вился узенький белый водопад, словно нить с прялки.
— Плохо дело, Данила. Никола в сговоре с кем-то из старых товарищей.
— Не иначе, как так.
— Данила, Юрай пристрелит нас, как пить дать.
— Пристрелит, не иначе.
— Убьем их, а, Данила?
Произнесено страшное слово! Вымолвить его не решались они в жаркий день на горной опушке, — теперь прозвучало оно.
— Убьем, Игнат!
У обоих бешено стучит сердце. В глазах у Данилы упорным сверкающим видением стоит лезвие топора.
— Когда, Данила?
— Послезавтра. В понедельник.
Адам Хрепта уже три раза прибегал к Игнату, искал его по всей деревне, полный злобы и тоски. Образ мертвого отца с остекленевшими глазами, лежащего на охапке сена, был страшно отчетлив. В груди бурлила жажда мести. Уничтожить убийцу! Пусть его защищают все силы ада, пусть его хранят все наговорные зелья в мире, Адам Хрепта найдет и убьет его! Помочь ему в этом деле должен Игнат. И пусть не вздумает отнекиваться, не то Адам всему свету прокричит, кто вырезал семью «американца» и чьих рук дело все эти злодейства, что творились летом, когда Никола лежал больной. Адам и сам сознается во всем и про себя все скажет, только попросит у капитана отсрочки для исполнения своей мести. Он должен убить Николу — и убьет его. Как бог свят, убьет!
Адам искал Игната Сопко. Его ярость росла с каждой минутой, он чуть не бросался на людей, но никто не сердился на него. Такой день!
У церкви кто-то сказал Адаму, что Игната и Данилу видели у реки. Адам побежал туда.
Вон они. Адам направился к Игнату, готовый грозить и спорить.
— Отец тебя кой о чем просил перед смертью! — закричал он.
— Знаю, — спокойно отозвался Сопко.
— Чтоб ты нашел Николу.
— Да.
— Теперь я этого хочу.
— Да.
— Что да? — вскричал Адам, сжимая кулаки.
— Найду тебе Николу. — У Игната тоже блеснули глаза.
— Ты… найдешь?
— Да.
— Когда?
— Послезавтра. В понедельник.
Назавтра, в воскресенье, из города приехали в трех колясках господа: окружной начальник с адъюнктом и секретарем, доктор, следователь, вестовой и какие-то пражские дачники, которым хотелось увидеть разбойничью деревню.
В садике за корчмой Лейбовича поставили стол и положили на него покойника. Господа стояли кучкой и оживленно беседовали. У забора с обеих сторон шпалерами стояли жандармы. Колочаве сюда доступа не было.
Окружной врач надел белый халат, вынул из сумки скальпели, пинцеты, зонд и пилу, разложил их на доске, приготовил респиратор и намазал вазелином руки.
«Которого уже человека вскрываю я в этой проклятой деревне», — подумал он и ощутил нелегкое угрызение совести. В памяти встала темная изба с глиняным полом и средневековым ткацким станком. Потом вспомнились поездки по талому снегу, горячечные глаза Шугая и его великолепная грудная клетка… Зворец, что ли, называлось это селенье? Почему он, доктор, не привел тогда за собой жандармов? Из романтического благородства? Кой чорт благородство, ведь Никола грозил ему смертью. Трусость. Нелепая, бессмысленная трусость. Заразился общим дурацким психозом, превратившим в жупел имя Шугая. Благороден не он, а Шугай, который сохранил втайне его визиты и заставил молчать всех других свидетелей. Но что, если… — врача опять охватывает гнетущее опасение, уже не раз вызывавшее глубокие морщины на лбу, — что, если благородство Шугая кончится на суде, где он не пожелает принять на себя все эти злодеяния, совершенные в его отсутствие? Тогда Шугай, конечно, захочет доказать свое алиби его, докторскими, показаниями… Фу! Лучше бы встретить его здесь, на анатомическом столе.
Доктор осмотрел рану, исследовал ее зондом.
— Эти разбойники недурно сложены, а? — сказал судебный адъюнкт.
— Да, — сухо отозвался доктор и подумал, что бедняга Свозил был сложен еще лучше.
— Вы знаете, доктор, что слово «гуцул» по-румынски значит разбойник?
— Здесь так не говорят. Здесь говорят разбойник и еще «бойка».
— Да, да. Бойка — это, наверно, от слова «бой», а? Слушайте, а сколько тут этих Дербаков?
— Не знаю. Наверное, каждый пятый человек.
Доктор продолжал свое дело. Он вскрыл брюшную полость убитого.
— Экая мешанина в животе, — сказал он. — Кровь и кал вперемешку. — Потом осмотрел рану изнутри. В ней были полотняные волокна рубашки убитого. Стало быть, выстрел издалека. Прободение кишечника. Внутреннее кровоизлияние в брюшной полости…
Капитан наблюдал за вскрытием. В Галиции и в Сибири он видывал горы трупов, но ему было неприятно глядеть на эту возню во внутренностях мертвеца. Может быть, потому, что зеленый садик в желтых цветах и голый мертвец вызывали в нем смутные воспоминания детских страхов. А потом — ведь все это имело к нему прямое отношение, он чувствовал себя виновником смерти Дербачка.
— Ничего у тебя не выйдет, скорее спятишь здесь, — сказал ему предшественник, передавая командование отрядом. Взгляд на говорившего довольно убедительно подтверждал эти слова: после года службы в Колочаве он был отличным кандидатом в санаторий для психостеников.
— Пуля в теле? — спросил следователь у врача.
— Нет, — ответил доктор, разгребая кишки трупа, — вышла из спины, недалеко от первого бедерного позвонка. Убийство, как и в случае со Свозилом, совершено из оружия военного образца, видимо австрийской пехотной винтовки… А! Ну конечно! И нисходящая аорта задета. Потому столько крови. Убитый скончался почти моментально.
«Ну ясно! — скептически размышляет молодой жандармский капитан. — Шугай целился непременно в нисходящую аорту, его главной заботой было должным образом угодить в нее. Эх, к чему это вскрытие!»
И капитан почувствовал глухую неприязнь к доктору. Дело ясное: все эти ученые рассуждения означают одно короткое слово — смерть. Ясно и все остальное: кто-то из пособников Шугая сообщил ему об угрозах Дербачка на сходке. И ничего нового доктор не найдет в потрохах убитого. Даже пулю.
Капитана вдруг стала тяготить ответственность. Не безумием ли было арестовывать Эржику, единственного человека, на которого может попасться Шугай, и вызволять из тюрьмы, — да с каким трудом! — всю эту шайку негодяев, которые сейчас шляются по деревне, торчат в корчмах, треплют языками, якшаются с Шугаем и готовят вместе с ним новые злодейства? Ловить его они не собираются, это ясно.
А что за ужасный народ эти колочавцы! Запугивай их, терзай, уговаривай, как детей, будь с ними ангелом — все равно не выжмешь ничего. Хоть на куски их разрежь, будут верить, что у Николы есть заколдованная веточка и что старая Дербачиха — колдунья. Как же! Наколдовала она своему сыну!
Доктор закончил вскрытие и мыл руки в жестяном тазу.
— Приготовьте бумагу, господин Ширек, будем писать протокол, — сказал он секретарю.
В этот момент над забором, над желтыми цветами, появилось бледное лицо, поднялся чей-то сжатый кулак.
Господа во дворе обмерли. Секунду они переживали то, что чувствует монарх, когда в пяти шагах от его кареты поднимается рука с бомбой.
Но из руки над забором не вылетела бомба. Человек кричал, махая руками:
— Сегодня режете батьку, не пройдет трех дней — будете резать Шугая!
К окружному начальнику вернулся голос.
— Кто это? — сердито закричал он.
Жандармы уже оттаскивали человека.
— Кто это? — снова рявкнул начальник.
— Сын убитого, — сказал капитан и сделал жандармам знак отпустить Адама.
«Проклятая деревня! — подумал окружной начальник. — Этак перепугаться!»
На другой день Игнат Сопко, Адам Хрепта и Данила Ясинко отправились убивать Николу Шугая.
Рано утром Адам зашел за Игнатом. Тот, побледнев, прошел в сени за топором и в темноте трижды осенил его крестным знамением. Потом выпрямился и, подняв глаза кверху, трижды перекрестился. «Отступать нельзя. Помоги мне, о господи!»
Они вышли. Было пасмурное утро.
Двое мужчин с топорами, разумеется, не подозрительны в Колочаве. Ведь в лес не ходят без топора. А у Адама и Игната была, кроме того, работа наверху, в урочище «У потока». Отец Игната снимал там участок для покоса, недалеко от того места, где сегодня Данила должен был встретиться с Николой Шугаем. Все складывалось очень удачно: Игнат уже несколько дней работал на участке, и в том, что ему пришел помочь товарищ, не могло быть ничего подозрительного. Ясинко придет к полудню.
Стога уже были сложены, и Адам с Игнатом огораживали их плетнями, чтобы скотина не таскала сено, когда будет пастись здесь осенью.
Приятели рубили колья, вбивали их в землю кругом стогов и переплетали прутьями, принесенными из леса. Был пасмурный день. По дороге их застиг мелкий дождь, и сейчас все еще моросило. Одежда Адама и Игната отяжелела от сырости. На траве блестели капли дождя.
Адаму Хрепте не работалось молча, его нервы были напряжены и дрожали в предчувствии того, что придется пережить сегодня. Он положил топор и подошел к Игнату, чтобы услышать человеческий голос. Но Игнат был осторожнее.
— Разговаривай, — сказал он, — но работу не бросай и ко мне близко не ходи. Может быть, они следят за нами из леса.
Игнат угадал. В лесу, шагах в четырехстах от полянки, сидели Шугаи, наблюдая за работающими. Никола глядел на бывшего товарища, отец которого позавчера был убит Юраем. Конечно, Василь Дербачек был предатель. Но Никола знал, что Василь и Адам любили друг друга.
Юрай сидел, держа ружье на коленях. Почему Никола не позволяет пристрелить их? Это так удобно сейчас. Хорошего от них уже ничего не дождешься, какой же смысл щадить? Адам — их смертельный враг. Вместе с Дербачком он предавал их жандармам. Смерть отца он никогда не простит. Игнат — тоже изменник. При последней встрече он покрывал Дербачка: ни словом не обмолвился о его угрозах. Почему не обезвредить их? Будь Юрай здесь один, он не колебался бы ни минуты.
— Что им здесь нужно? — повторил он вслух.
Никола взглянул на брата.
— Положи ружье. Не видишь, что ли, городят стога? Сам знаешь, что Игнат работает здесь уже неделю.
— А Адам?
— Видишь ведь, помогает ему.
— Берегись, Никола, они пришли убить тебя.
Никола отмахнулся.
Внизу Адам и Игнат оплетали прутьями стога, не подозревая, как близко от них ружье Юрая, с лежащим на спуске пальцем.
Через час, около одиннадцати, в сетке моросящего дождя показался Данила Ясинко. Он шел, опираясь о топор, с мешком, перекинутым через плечо, — видимо провиант для Шугая.
Никола наблюдал за ним в бинокль. Ясинко подошел к стогам, обменялся несколькими фразами с Адамом и Игнатом, и все вместе, взяв топоры, направились к лесу.
Никола встал, чтобы выйти им навстречу.
Юрай вскочил.
— Никола, не ходи!
— Отвяжись, Юра.
— Не ходи, Никола… — Голос Юрая звучал умоляюще.
— Дуришь, Юрай. Ведь у нас ружья.
Никола пошел. Юрай за ним по пятам. Они спустились на опушку возле делянки. Их разделяло теперь шагов пятьдесят.
У Адама Хрепты бешено колотилось сердце.
Две группы встретились. Никола пожал руку Ясинко и Сопко, на Адама не обратил внимания. У Адама вдруг встала в памяти вчерашняя сцена в садике у корчмы: на столе обнаженный отец со вскрытым животом, вокруг господа, а на заборе он, потрясающий кулаками, стаскиваемый жандармами…
Никола разговаривает с Ясинко, Юрай стоит в стороне с ружьем наготове, не спускает глаз с трех пришельцев, с их топоров, следит за каждым движением.
— Что слышно в деревне?
Ясинко начал рассказывать о вчерашнем приезде господ и высмеивать нового капитана.
— Уйдем отсюда, Никола! — почти закричал Юрай.
Никола поглядел кругом, поднял глаза к небу.
— Ты прав, Юра, скоро пойдет сильный дождь, надо убираться под дерево.
Они направились в лес. Первым — Никола, за ним Ясинко, Сопко и Адам, последним на расстоянии четырех шагов — Юрай с ружьем наготове.
Ясинко обернулся, оглядел шествие и усмехнулся, взглянув на угрюмого Юрая.
— Ведешь нас, как жандарм с ружьем, а, Юра?
Обернулся и Никола, остановился и весело поглядел на брата. Потом обвел взглядом лица товарищей.
— А этому что здесь надо? — кивнул головой в сторону Адама.
Тот побледнел.
Юрай крепче стиснул ружье и вопрошающе уставился на брата.
— Помогал мне городить стога, так идет за компанию, — отозвался Игнат.
Веселые глаза Николы, его улыбка и чуть заметный кивок ответили Юраю: брось дурить, Юра!
Странная вереница, похожая на шествие пленных, молча тронулась в путь. Завернув по косогору, они вошли в густой орешник и остановились на лужайке.
Все еще моросил мелкий дождь. Товарищи сели. Никола с правого края, за ним полукругом Игнат, Данила, Адам, а с левой стороны, немного в стороне — Юрай. Братья, таким образом, сидели друг против друга.
Кругом был валежник и сухой лист, со стороны никто не мог бы подкрасться без шума. Никола был спокоен. Но Юрай — нет. Его охватило зловещее предчувствие, почти уверенность. Как тогда весной, когда дух леса привел его прямым путем в Зворец, к больному брату. Юрай инстинктивно чуял опасность, она была здесь, рядом, он ощущал ее каждой клеточкой своего тела. И если Никола не сознавал опасности, если он не чувствовал, как насыщен ею воздух, и у него не захватывало дыхание, Юраю приходилось быть осторожным за двоих.
Только бы выдержать! Только бы не сорваться. Когда они уйдут, можно будет отдохнуть. Завтра, послезавтра, всю жизнь. Но не сейчас!
Ясинко и Игнат начали опять распространяться о новом капитане, рассказывали, что думают в Колочаве о его глупых планах. Говорили обо всем, только о Дербаке-Дербачке никто не сказал ни слова. Но Никола, точно ему этого как раз нехватало, вдруг повернулся к Адаму и спросил в упор:
— А жалко тебе батьку, Адам?
Адам струхнул.
— Сам знаешь, что жалко.
Никола долго глядел на него.
— Ну, ничего не поделаешь, — сказал он наконец. И через минуту: — Говорят, ты хочешь жениться, Адам?
— Хочу.
— Приходи, дам подарок на свадьбу.
«Ничего ты мне не дашь», — подумал Адам.
Игнат принес в черепке воды и побрил Николу. Беспокойство Юрая достигло предела. Он ничего не видел, кроме лица брата, с которого под мерными движениями бритвы исчезала пена. Ружье на коленях стало почти живым существом, пальцы остро чувствовали холодное прикосновение курка.
«Пора!.. Сейчас! — говорил себе Игнат, водя бритвой по шее Николы. — Мы, правда, уговорились иначе, но, бог весть, будет ли еще подходящий случай».
Но, покосившись на Юрая, заметив его рысьи глаза и дуло ружья, словно нечаянно наведенное на него, Игнат благоразумно добрил Николу. Намыленное лицо ласково улыбалось Юраю.
«Боже, как бежит время! — думал Адам. — Игнат не посмел. Неужели весь день пройдет впустую?»
Нервы Юрая не вынесли долгого напряжения.
— Никола, Николушка, уйдем отсюда, — по-детски взмолился он. Глаза его жалобно глядели на брата. Но Ясинко развязал свой мешок и вынул из него съестное: брынзу, лук, белый еврейский хлебец и бутылку водки. Еда была подобрана с умыслом: закусывая водку мягким белым хлебом, быстро пьянеешь. Мужики вытащили ножи и уселись за еду. Ели, запивая из бутылки. Во время дележа продуктов пересели иначе: Ясинко и Адам подались ближе к Юраю, Игнат Сопко оказался сзади Николы. Он сидел на топоре, уперев его в землю.
Тогда и случилось. Никола нагнулся за бутылкой, Игнат слегка привстал и, осторожно вытянув топор, поднял руку, точно потягиваясь.
— Эх, отсидел поясницу!..
Молнией блеснул топор и впился в голову нагнувшегося человека.
Юрай выстрелил и вскочил на ноги. Адам схватил его сзади за плечи, Данила спереди взмахнул топором. Юноша рванулся, изогнулся назад, пытаясь вырваться. Острие топора, миновав голову, царапнуло его лоб и с размаху вошло в живот. Из огромной раны показались внутренности.
Юрай снова выстрелил и, несмотря на зияющую рану, бросился бежать.
Схватив ружье, Ясинко выстрелил ему в спину. Пуля попала за шесть шагов. Юрай упал. Минуту он дергался, царапая землю…
Убийцы бросились к Николе, готовые добить его, — если заметят хоть проблеск жизни. Но Никола был мертв. Перевернув его навзничь, они увидели уже мутнеющие глаза.
Конец… Все кончено.
В воздухе стоял горький запах гнилой листвы.
Было тихо.
Мелко моросил дождь.
Не желая никого видеть, ни с кем разговаривать, убийцы до вечера оставались в лесу. Они бесцельно бродили по тропинкам, глубоко вдыхая воздух, умылись в ручье и внимательно осмотрели одежду. Потом сидели под старым буком, советуясь, как отвечать на допросе. Уже к вечеру, когда погода прояснилась и в небе легли желтоватые вечерние краски, трое товарищей вернулись на делянку — кончать работу. Они были рады ей, работа успокаивала нервы, хотя и не в силах была отвлечь от мыслей об убийстве.
Трупы лежат на лужайке в траве и опавших листьях и мокнут под дождем!..
Приятели оставались на делянке до сумерек. Потом по берегу Колочавки спустились в деревню, нарочно не спеша, чтобы застать Колочаву уже спящей. Адама послали в Колочаву на Горбе спрятать у сестры двадцать тысяч крон. Шесть тысяч шестьсот крон приятели решили отдать жандармам. (Обыскав мертвых, они нашли у Николы золотые часы и двадцать шесть тысяч шестьсот крон в бумажнике. У Юрая было две золотых цепочки, на одной из них висел нож.)
Игнат Сопко и Данила Ясинко направились в корчму Лейбовича — ждать Адама. Они уселись за трехногим столом под приспущенной керосиновой лампой. В корчме было пусто, никто не заметил их прихода. Они не ворчали на плохое обслуживание, радуясь, что могут отдаться своим мыслям.
Дверь в жилую половину корчмаря была открыта настежь. Над столом, покрытым вышитой скатертью, сияла лампа-молния. В комнате было шумно и весело. Компания жандармов и таможенников попивала вино. Здесь же был сам Лейбович и его семнадцатилетняя дочь.
Таможенники подбили какого-то новичка угостить Лейбовича из своего стакана. Неискушенный юнец приставал, Лейбович всячески выкручивался, его дочь улыбалась, а все присутствующие ржали, зная, что набожный еврей не выпьет вина из стакана, к которому прикасался неверный.
В ярком свете «молнии» клубился табачный дым.
Ясинко и Игнат сидели в темной распивочной, глядя в ярко освещенную комнату, точно на сцену.
Наконец Лейбович заглянул в распивочную. Он сощурился и, прикрыв глаза от света, разглядел сидевших. Приятели заказали бутылку пива. Когда Лейбович ставил ее на стол, Ясинко сказал:
— Есть о чем поговорить, Лейбович.
— Ну что? — нетерпеливо отозвался корчмарь, торопясь вернуться в компанию, где дочь осталась одна с мужчинами.
— Садитесь.
— Мне сейчас некогда.
— Очень важное дело.
Голос говорившего был так серьезен, что Лейбович молча посмотрел в лицо Игнату, потом Даниле, подошел к дверям и закричал:
— Файгеле! Мать зовет! Поди-ка на кухню.
Закрыл за ней дверь и присел к столу.
— Ну, в чем дело?
Ясинко слегка помедлил, глядя ему в глаза.
— Что бы вы сказали, Лейбович, если б узнали, что Шугаи мертвы?
— Что? — прошептал Лейбович, не в силах сразу переварить новость.
— Мертвы, — повторил Ясинко. — И убили их мы.
— Что? — Калман Лейбович замер, схватившись за голову. Но тотчас прорвался его еврейский темперамент.
— Когда? Как? Где? Обоих? — прошептал он, хватая Ясинко за рукав.
Тот вкратце рассказал о событии.
— Идите и скажите об этом вахмистру, Лейбович.
Лейбович вскочил. Дошел до дверей, хотел вернуться, но, сделав над собой усилие, отворил дверь в комнату, где бражничали жандармы и таможенники.
— Выйдите на минутку, — прошептал он вахмистру и последовал за ним через черный ход на дворик.
— Шугаи убиты… Ясинко и Сопко их… топорами…
— О-о-о! — протянул жандарм. Он на секунду задумался, оценивая положение. Потом приложил палец к губам.
— Никому ни слова, Калман.
Лейбович хотел продолжать разговор, но вахмистр сразу превратился в строгого жандарма.
— Пошлите ко мне вахмистра Шроубка, — приказал он и добавил: — Никому ни слова, даже жене, ясно?
Больше года не было у жандармов других мыслей, как о поимке Шугая. Больше года гонялись они за ним, мечтая об этом дне. И вот он настал, но не радует вахмистра. Точно вдруг пропал смысл жизни. Редкую дичь подстрелил другой…
Чем дольше стоял вахмистр в темноте двора, тем значительнее становилась эта внезапная новость. Тридцать тысяч. Благодарность начальства. Карьера и слава. Длинные статьи в газетах с упоминанием полных имен… Долг Лейбовичу… Все это потеряно… Или еще нет?
Пришел вахмистр Шроубек. Жандармы советовались, прохаживаясь по дворику. Потом попросили гостей разойтись, оставив трех жандармов, нацепили всю амуницию и впятером подсели к Сопко, Ясинко и Хрепте, который уже успел вернуться. Лейбовичу велели принести несколько бутылок пива и выставили его из распивочной.
— Пейте, ребята, — сказал вахмистр. — Я плачу.
Когда все чокнулись, он спросил приятельским тоном:
— Так как же было дело, а?
Ясинко начал рассказывать, как было условлено. Игнат Сопко, мол, просил Адама Хрепту помочь ему на делянке, к ним случайно подошел Данила Ясинко, потом из леса вышли оба Шугая и позвали их в орешник. Там они вели себя подозрительно, перемигивались, что-то замышляя, и, когда Юрай поднял ружье, они втроем накинулись на братьев и убили их.
Пятеро жандармов старались закрепить в памяти каждую фразу рассказа.
— М-да… — протянул вахмистр и провел рукой по усам. Он был стреляный воробей и сразу обратил внимание, что Ясинко слишком долго расписывал работу на делянке и ходьбу через лес и слишком быстро перескочил через главное событие. Вахмистр вспомнил посулы капитана на сходе. Задавая вопросы, он про себя прикидывал истинный ход событий.
Уж можно было бросить приятельский тон. Вахмистр узнал достаточно, чтобы встать во весь рост, насупиться и грозно гаркнуть на мужиков. Но ситуация была особая, требовалось спокойствие и дипломатический ход, сделанный во-время и наверняка.
Вахмистр изготовился к атаке.
— М-да… — повторил он.
Ясинко, Хрепта и Сопко почувствовали, что тучи сгущаются.
— Дело-то было иначе, хлопцы!
Трое замерли в ожидании.
— Дело было вот как. С Николой вы встретились не случайно. В особенности Хрепта… — вахмистр мрачно усмехнулся, — тот самый Хрепта, который нам вчера объявил, что через три дня будут вскрывать Николу. С Шугаем встретились вы по уговору, чтобы опять затеять какое-нибудь злодейство. Но вам снились тридцать тысяч и было боязно, что мы захватим Николу живым, а он покажет на суде против вас. Кроме того, у него, наверное, были денежки, а? Вот как было дело, ребята. Мы вас знаем насквозь, будьте покойны.
Но это ничего. Вашей обязанностью было изловить Шугая и привести его нам. Если вы на это не решались, надо было сбегать за нами, мы бы взяли его сами. А все это дело чертовски попахивает умышленным убийством. А может быть, и убийством с целью грабежа, а? И, собственно говоря, я обязан сейчас арестовать всех вас.
Выговорив это неприятное слово, вахмистр замолчал. Поглаживая усы, он поочередно обвел мужиков взглядом.
— М-да… А впрочем, пейте спокойно, ребята. Я этого не сделаю… Может быть, не сделаю. Но о тридцати тысячах и думать бросьте. Это я вам говорю наперед. Понятно, а?
У Ясинко, Хрепты и Сопко душа ушла в пятки. Данила вынул из кармана шесть тысяч шестьсот крон. В глазах у Сопко опять стояли два мертвеца в орешнике. Ах, зачем затеяли они это дело!
— Кто еще знает обо всем?
— Никто, только Лейбович.
— А еще кто? — настаивал вахмистр. — Хрепта, ты пришел позднее. Где был и с кем разговаривал?
— Ни с кем. Ходил искупаться в Колочавке. Голова болит.
Это было похоже на правду, Адам и в самом деле был очень бледен.
Вахмистр и один из жандармов отошли в угол посоветоваться.
— Умеете молчать? — спросил вахмистр вернувшись.
— Умеем.
— Ладно. Услуга за услугу. Шугая добыли мы, понятно? Награду поделим пополам.
— Понятно.
Приятели не особенно понимали, в чем дело, но чувствовали, что так, пожалуй, лучше. Старый медведь Петр Шугай был еще жив. Подрастали николовы братья. Будет неплохо, если убийцы Николы останутся неизвестными.
Игнат, Данила и Адам опять вздохнули полной грудью. Награда, правда, уменьшилась, сильно уменьшилась. При дележе жандармы наверняка еще сверх того обманут их. Но у Адама были надежно припрятаны двадцать тысяч, а это немалые деньги.
Лицо мертвеца, маячившее у всех перед глазами, опять перестало быть страшным. Неуязвимость Шугая уничтожена, он не оживет. Его губы не заговорят никогда.
— А теперь ни о чем не беспокойтесь, ребята, и пейте.
Пили до ночи. В полночь жандармы вскинули винтовки на плечи, и все вышли на улицу.
Светила луна.
Миновав крепко спящую деревню, они вышли на опушку леса и, светя электрическими фонариками, пошли тропинкой по каменистому берегу Колочавки. Потом перешли по бревну на ту сторону и начали подниматься в гору. Ясинко вел их, как днем.
Продрались сквозь густой орешник.
— Там! — показал Ясинко.
На лужайке, шагах в десяти, на земле виднелись две тени. Пять лучей от полицейских фонариков осветили зелень влажной травы, кусты орешника и два лежавших навзничь трупа.
Вахмистр обшарил лучом лужайку и заросли орешника, ища подходящее место. Найдя, он отвел жандармов за кусты и велел стрелять по мертвым.
Началась дикая пальба. Жандармы точно хотели вознаградить себя за все промахи этого года. Залп за залпом пули дырявили трупы Шугаев.
Над орешником появились первые проблески рассвета.
Ну, готово. Слава богу! Прощай, осточертевшая Колочава!
Один из жандармов отправился в Колочаву за подводой Лейбы Ландсмана. Остальные прилегли, завернувшись в шинели, немного вздремнуть после бессонной ночи.
Теперь Ясинко, Хрепта и Сопко уразумели все. Да, так и вправду лучше. Теперь, когда их поступок был, так сказать, санкционирован свыше, им казалось, что на поляне лежат уж как будто другие мертвецы, а братьев Шугаев давно не существует, и если они — Адам, Данила и Игнат — когда-то знали этих людей, то теперь все прошлое беззаконие получило легальное разрешение, выражением которого была стрельба жандармов.
У приятелей отлегло от сердца.
Лейба Ландсман прибыл уже к утру и подъехал на своей телеге по руслу Колочавки под самый косогор. Хрепта, Ясинко и Сопко ушли в лес, чтобы не встретиться с ним. Жандармы стянули мертвых вниз и бросили их на телегу. В Колочаву, к зданию караулки, приехали уже засветло.
Сияющий капитан, герой дня, тот, кто «пришел, увидел, победил», бежит в Колочаву на Горбе одолжить у лесничего фотографический аппарат.
В садике около караулки на траве лежат два трупа. Тела положены крест-накрест, точно охотничий трофей. Ноги Николы лежат на животе брата. Затем ли это сделано, чтобы прикрыть страшную рану Юрая, или эта особая композиция потребовалась, чтобы можно было снять их на одну пластинку и вышел красивый, законченный снимок?..
Над грудью мертвых скрещены две винтовки, и меж ними на черной табличке затейливо выведено мелом:
Конец Шугаев
1916/VIII 21
Эпилог
Вот и конец истории о Николе Шугае. Что еще остается сказать?
У автора этой повести решительно нет желания теперь, через одиннадцать лет, заниматься мелкими событиями, последовавшими за смертью великого разбойника Полонинских Карпат.
Нет ничего интересного в том, что Эржика снова вышла замуж за крестьянина Илька Дербачка-Дичка (поистине, со сколькими Дербаками встречались мы в Колочаве!), что после смерти Шугая, еще в тюрьме, у нее родилась дочка Айка, которую, — видимо, желая облегчить их общую участь, — записала Эржика как ребенка сержанта Свозила. Ложь эта покажется вам просто смешной, когда вы взглянете на миловидную девочку с крутым лбом и маленьким подбородком Шугаев. Она смугла, как лесной дуб, губы ее ярки, как черешни, под узкими бровями сияют ясные черные глаза. Таким когда-то представлялся Никола Розочке Грюнберг…
Не стоит задерживаться и на том, что окружной доктор из Волового, вскрывая братьев Шугаев («Вот и твой черед пришел, Николка», — думал доктор, орудуя скальпелем, и было ему немного стыдно), разумеется, определил, что страшная рана на голове Николы и распоротый живот Юрая — результат не пуль и не жандармских штыков. Назначенной награды не получил никто. («Ого-го-го! Был бы прямо скандал и драка в синагоге, если бы пришлось собирать обещанные тридцать тысяч», — говорили себе еврейские патриархи.)
И нет никакого смысла рассказывать о многословных протоколах ужгородского военного суда по делу младшего жандарма Власека и многих других, обвинявшихся в поджоге и иных преступлениях. Все равно от всей этой канители мы не поумнеем, тем более что так и неизвестно, чем дело кончилось.
Не к чему также рассказывать о жалобах, заявлениях, ходатайствах и личных просьбах, которыми докучал земскому начальнику господину Безкиду престарелый Иван Драч, домогавшийся возмещения убытков за сгоревшую избу и скотину. Упрямый этот и глухой, как пень, старикашка (видно, от ударов, что немало досталось ему в жизни) в конце концов дождется, что его посадят на восемь месяцев за поношение власти и оскорбление должностного лица.
И совсем уже скучная материя разбираться в протоколах допросов, написанных ужасным почерком следователя хустского краевого суда. Подследственные Адам Хрепта, Данила Ясинко и Игнат Сопко, почти девять месяцев просидевшие в предварительном заключении по обвинению в умышленном убийстве, были, наконец, выпущены, ибо все время твердили, что только защищались, и хотя убийство есть убийство, но ведь и Шугай — это Шугай.
И не стоит хвалить власти за то, что они сдержали слово насчет казенного места в награду за устранение Шугая, и рассказывать о том, что Адам Хрепта стал лесником государственного лесничества, а Игнат Сопко — дорожным обходчиком. Только Данила Ясинко предпочел жить своим хозяйством, продал избу в Колочаве и купил хутор под Свалявой, который, увы, с тех пор уже выгорал дважды.
Любознательность же людей обстоятельных и солидных может быть удовлетворена изучением книги записей земельных владений, находящейся в хустском окружном суде, и одновременным ознакомлением с реестром налоговых сборов; им тогда станет ясно, что Абрам Бер уже не только юридический собственник пресловутых лужков на берегу Колочавы, но и фактический их обладатель.
Автор повести о разбойнике Николе Шугае все эти подробности считает неважными. Удар топором — пусть даже по голове самого замечательного человека — не остановит ни бега Колочавки, ни облаков, плывущих меж горных громад, ни череды дней с пестрым бременем событий.
Другое считает важным автор. Горб, Дервайка, Тисова, Стримба, Стременош, Красивая, Роза и Бояринский хребет — все эти вершины, что вздымаются над узкой долиной Колочавки и делают такими поздними ее утра, такими ранними вечера, а весну пропускают неохотно и с опозданием, эти горы, меняющие свой облик лишь в беге столетий, — не изменились еще на самую крохотную долю, которую мог бы уловить человек.
На их склонах и кручах, в их пропастях и расселинах стоят дремучие леса, темные и мрачные, пахнущие тлением. Вы нагибаетесь за упавшей веткой, чтобы сделать из нее трость, но ветвь рассыпается в труху у вас под руками, ибо десятки лет лежала она здесь, не тронутая никем. Исполинские трупы деревьев, сваленных бурей, пораженных молнией или упавших от старости, цепко держатся за свое место и глушат молодые побеги, а те, попирая былую славу стариков, рвутся к солнцу сквозь иссохший валежник, сосут своими корнями разлагающихся предков, лезут вверх и вверх, точно им не терпится скорее узнать — кто же из них, молодых, выживет, а кого мертвецы утащат с собою вниз.
Страшная тишина стоит в этих лесах, нет здесь ни певчих птиц, ни бойких зверюшек. Выживает здесь, — если не считать совсем ничтожных организмов вроде жучков, мха, грибов и плесени, о которых и говорить не стоит, — только тот, кто всегда вооружен и всегда наготове, у кого есть крепкий орлиный или ястребиный клюв, клыки, рысьи когти, медвежьи лапы или ветвистые рога — едва ли не самое страшное оружие, ибо собственник его не ищет жертв.
Высоко в горах, над дремучими лесами, близ облаков, лежат чудесные солнечные луга, покрытые цветущим ковром лютиков и анютиных глазок; великолепие этих лугов еще больше подчеркивает скудость кормовых трав для скота, что пасет здесь человек.
Здесь живет еще старый бог земли. Ледяными вихрями и весенними паводками губит он все неприспособленное и слабое, лаская тех, кто ему мил и люб: исполины-деревья, пороги рек, зверей, людей, скалы. Всех он любит одной неистовой, щедрой и грозной любовью. В жаркие полдни склоняется он над горными ключами, пьет пригоршнями студеную воду и отдыхает в листве старых кленов. Он играет с медведем в густой чаще, шалит с коровами, отбившимися от стада, и любовно глядит на человеческих детенышей, заснувших во мху, под тенью дерев.
Древний, языческий бог земли, лесов и стад, бог Пан.
Вот это и важно.
И важно еще одно. В тесных долинах, на склонах гор, где леса уступают место полянкам, и наверху, на лугах, живут люди. Живут в избах, подобных избушкам на курьих ножках или семье грибов под деревом. Мужчины пропахли ветром, а женщины — дымом изб. Все они пастухи и дровосеки, земледелием здесь не занимаются и плуг еще неизвестен.
Они — потомки пастухов, укрывшихся в эти неприступные горы от набегов татарских ханов, разорявших поля Украины. Они праправнуки мятежных рабов, бежавших сюда от плетей и виселиц вельможи Иосифа Потоцкого. Они правнуки повстанцев, поднявших оружие против непосильных поборов, которыми облагали их румынские бояре, турецкие паши и венгерские магнаты. Они отцы, братья и сыновья солдат, павших в кровопролитных войнах австрийских императоров. А самих их притесняют ныне ростовщики и новые чешские баре.
И все они в глубине души разбойники, ибо это единственный знакомый им способ самозащиты. Самозащиты, которая помогает на неделю, на месяц, на год, на два года — как Николе Шугаю, на семь лет — как Олексе Довбушу. Дорогая защита, ибо расплата за нее — жизнь. Но что с того? Разве жизнь вечна? Один раз тебя мать родила, один раз и умрешь.
В каждой капле крови этих людей живет глухая память былых обид и жгучий протест против обид нынешних. И каждый фибр их души полон жаждой свободы. Той жажды, которой был полон Довбуш. Той жажды, которой был полон Шугай. За это я люблю их.
У первых домиков Колочавы, близ дороги, недалеко от слияния Колочавки с Тереблой, поднимается крутой, каменистый пригорок, точно осколок вздымающихся над ним громад. Он гол, — ни деревца, ни кустов, только немного травы.
Пройдет мимо корова, не надолго задержится, звякнет бубенцом на шее, щипнет чахлую травку и бредет дальше.
Это колочавское кладбище. Нет у него ни ворот, ни ограды; только войдя на самое кладбище и увидев несколько хилых крестов, догадаетесь вы, куда пришли. Кресты сбиты из двух досочек, большинство из них уже превратилось в труху и сырые обломки, которые топчет скот.
Здешние люди не знают нежных воспоминаний о мертвых. «Придите, братья, облобызайте в последний раз покойного» — после этих слов попа, взмаха кистью кропильницы и возгласа дьячка: «Упокой, господи, душу раба твоего» — забота о покойнике кончена. Ты теперь далеко, покойник, не возвращайся, не ходи призраком, не вреди, среди нас тебе делать нечего.
Лежат здесь бок о бок тела Шугаев. Могилу их не укажет уже никто из жителей деревни, даже родные Шугая. Только Эржика Дербак Дичок, проходя мимо, внимательно поищет глазами, подойдет к почти сравнявшемуся холмику, постоит минуту молча и недвижно, тихо вздохнет и идет своей дорогой.
Но слава Шугая живет. В Колочаве, где помнят о нем товарищи, а ребятишки, не знавшие его, еще не доросли до первых девичьих венков и узорных хлопецких поясов, — там в рассказах о славном Шугае вы еще найдете его живой, человеческий облик. Но за пределами Колочавы фигура Николы превратилась в таинственного богатыря. О его подвигах, его метком глазе поют песни, его зеленая веточка и несчетные клады стали темой долгих зимних бесед, когда за окном метет вьюга, а в печи ярко пылают дрова.
Никола Шугай стал легендой, стал преданием о борьбе за свободу. Был он другом угнетенных и врагом господ, и если бы жил он сейчас, было бы меньше беды на свете. Эх, если бы каждый из нас посмел у богатых брать и бедным давать! Если бы и мы могли мстить за людскую кривду! Владеть бы зеленой веточкой Шугая, его кладами!
Синими ночами, когда над головой омут ледяного озера звезд, а в лесу танцуют блуждающие огоньки, пастухи, пересилив страх, трижды осеняют себя крестом и идут в лесную чащу — отметить места таинственных светляков, чтобы завтра искать там клад Шугая.
А когда спускается вечер и, поужинав, сидят пастухи у костра, вынимают они из-за пазухи свои свирели, и звуки их, чередуясь со словами песни, летят в густеющий сумрак:
Закукуй, моя кукушка, Во зеленом гае; Не видать уже в дубраве Николы Шугая…Вот и конец повести о разбойнике Николе Шугае. Мы хотели бы только вернуться к началу нашего рассказа к шалашу над Голатынем — и вспомнить, как всегда чувствовал Никола, что он одно целое с этими горами, лесами, стремнинами, медведями, стадами и людьми, с тучами и зарницами, со всем этим миром, от зерна конопли в посеве до грустной песни свирели и до мыслен, с которыми засыпает его народ. И не ошибся он, сказан: «Не умру».
Никола Шугай жив. Он живет в этих горах со своим народом. И будет жить.
Не скажем вечно, ибо слово это понятно нам куда меньше, чем нашим набожным предкам. Удовлетворимся простым словом долго. И скажем еще, что по-своему прав внутренний голос Николы и по-своему правы голатынские пастухи, которые, подразумевая лишь жизнь телесную, сузили легенду о неуязвимости Шугая до его неуязвимости для пуль, оставив, таким образом, щелку, в которую и к неуязвимому может пробраться смерть.
1933
Примечания
1
Подкарпатье — так автор называет Закарпатскую Украину. (Прим. перев.)
(обратно)2
Жители Закарпатской Украины в разное время назывались по-разному: русины, русняки, малоруссы, подкарпаторуссы. (Прим. перев.)
(обратно)3
Франц-Иосиф I (1830–1916) — император австрийский и король венгерский. (Прим. перев.)
(обратно)4
Имеются в виду бои между чехословацкой армией и венгерской Красной Армией на территории Словакии летом 1919 года. (Прим. перев.)
(обратно)5
Венгерская советская республика существовала с 21 марта по 30 июля 1919 года. (Прим. перев.)
(обратно)6
Имеется в виду контрреволюционное выступление в апреле 1918 года чехословацкого корпуса (созданного в России) против советской власти. (Прим. перев.)
(обратно)7
Имеется в виду борьба между Августом III (саксонский король) и Станиславом Лещинским (познанский воевода) за польское королевство. (Прим. перев.)
(обратно)8
Хасиды — еврейская религиозная секта. (Прим. перев.)
(обратно)9
Тора — первые пять книг библии, — мифы из древнейшей истории евреев. (Прим. перев.)
(обратно)
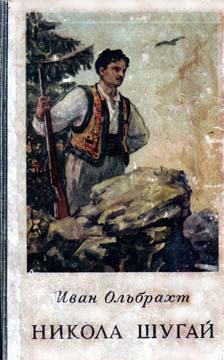
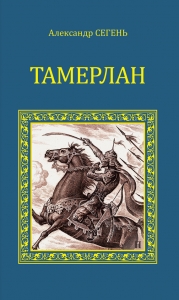


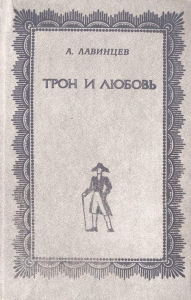

Комментарии к книге «Никола Шугай», Иван Ольбрахт
Всего 0 комментариев