Карел Шульц Камень и боль
Шульц Карел Камень и боль
КАРЕЛ ШУЛЬЦ
Камень и боль
ПЕРЕВОД И ПОСЛЕСЛОВИЕ Д. ГОРБОВА
Роман "Камень и боль" написан чешским писателем Карелом Шульцем (1899-1943) и посвящен жизни великого итальянского художника эпохи Возрождения Микеланджело Буонаротти, раннему периоду его творчества, творческому становлению художника.
ОГЛАВЛЕНИЕ
Часть первая
В САДАХ МЕДИЦЕЙСКИХ
Под львиный рев
Терпкое вино
Под звон колоколов
Кардинал Рафаэль Риарио благовествует Евангелие
Смерть шагает под дождем
Камень говорит
Дантов стих
Боязнь чего-то, не имеющего формы
В садах Медицейских
Стук в ворота
Смех фавна
Улыбается ли он
Мадонна у лестницы
Капля летейской росы
Агостино, безумный сиенский ваятель
В час рыбьих звезд
Снежный великан
Бык, зачатый от солнечного луча
Мертвый предостерегает
Печаль над садами
Старый Альдовранди
Тень охраняет, тень стережет
Змеиное ожерелье
Женщина в маске
Пути замыкаются
Бездомный бродяга
Так же, как скакал царь Давид
Большое кладбище
На лестнице Палаццо-Веккьо
Пьяный Вакх
О, quam tristis et afflicta
Ночной гость
Сикстинская капелла
Часть вторая
ПАПСКАЯ МЕССА
Повелители над безднами
По пути Сангалло
Д. Горбов. Чешский роман об итальянском возрождении
ЧАСТЬ ПЕРВАЯ
В САДАХ МЕДИЦЕЙСКИХ
О смерти тень, смирительница всех
Мучений, сердцу и душе враждебных,
Последняя, целебная обида.
Микеланджело
Сонет 78
ПОД ЛЬВИНЫЙ РЕВ
Ночь без звезд и без лунного света, набухшая тучами. Земля прогнулась под тяжестью твердой тьмы, давление которой пересоздало всю окрестность на свой лад, по иному подобию и в иных формах, чем было днем. Тьма разбросала новые дороги, дороги неверные и уходящие в неизвестное, прорыла новые впадины в долинах, превратив их в пропасти, вздула новые холмы, возвышенности без крестов и придорожных святынь, вздыбила отвесные кручи, удлинив овраги, нагромоздила стены скал, которые, однако, можно распахнуть, отодвинуть, пройти среди них и не отыскать дороги обратно, – сплошная ночь, тьма и простор без границ, в котором летели на вспененных конях три всадника. Неслышно проникали сквозь тьму, подобные призракам, и топот лошадиных копыт приглушался влажной почвой. Только передний хорошо знал дорогу, но тут и его взяло сомнение; он поднялся в стременах, однако ничего не увидел, кроме ночи.
Тьма все сгущалась. Можно было до нее дотронуться, взять ее в пальцы, как глину, помазать себе ею руки и лицо, но мгновениями стена ее опять превращалась в текучий черный водопад, затопляла трех всадников, они глотали, пили ее, кони замедляли бег, не слушаясь резких посылов и жгучих ударов шпор, вставали на дыбы, взволнованно мотали шеями и вскидывали головы, словно ища дыхания. Путники остановились. Верно, почуяли впереди топь и гибельную трясину. Они захлебывались этой тьмой. Только передний знать ничего не хотел, уговаривал ехать дальше.
Вдруг под ударом налетевшего вихря разорвалась пелена туч, – появились луна и звезды. Путники оцепенели, словно их кто-то сразу вдруг обнажил. Лунный свет не проступал перед этим по краям туч, дробя их тьму настойчивыми порывами, а подобно светящемуся белому мечу – сразу рассек черный свод небес и слетел наземь. Вся окрестность оказалась залитой его лучами, приняв прежний вид. Лица путников были наги. Свет сдернул с них маску тьмы. Теперь это были лица живых людей. Цинково-белая луна медленно плыла дальше по небу, и белила ее лучей обливали их группу на фоне леса и холмов. Первый всадник, который был все время впереди, радостно смеясь, нетерпеливо указал в пространство перед собой.
– Ave Maria! – с глубоким вздохом облегчения промолвил высокий, с перстнями на узкой желтой руке, и перекрестился. – Я уж думал, что мы в преисподней!
Тут юноша, ехавший впереди, едко и насмешливо рассмеялся, так как о преисподней упомянул архиепископ, а ехали они, напутствованные благословением его святости.
Он не стал уверять священнослужителя, что, находясь под защитою молитв святого отца, не нужно говорить о поездке в преисподнюю. Он засмеялся едко оттого что человек, украшенный перстнями и сидящий высоко на белом коне, приветствовал свет упоминанием преисподней, и засмеялся радостно – потому что видел уже в серебряном лунном свете колокольню Флоренции, стоящую в ночи над городом, как его страж, его верный, бдительный копейщик. Юноша был из Флоренции, тосковал о Флоренции.
Кровь его, утомленная ездой, снова заволновалась. Он вдыхал спящий город и, вместе с ним, вдыхал весну, флорентийскую весну, в тысячу раз более прекрасную, чем все римские вёсны, – флорентийскую весну, в которой всегда есть музыка, всегда что-то благоуханное и металлическое, всегда великолепие и кровь, пока из этого не возникнет флорентийская роза, из музыки, металла, красоты, крови и благоухания, прячущаяся в сумрак и молчаливая, трепещущая в голубом сне вечера.
Третий безмолвствовал. Он не приветствовал лунного света и не смеялся. Мускулистый, крепкий, лицо изборождено шрамами. Длинная белая борода резко выделяется на черном фоне панциря. Жесткие жилистые руки папского кондотьера крепко держат узду и меч. Он равнодушно глядит на серебристый город впереди. Города существуют для поджога или для триумфа. Слово "Флоренция" вызывало в сердцах этих людей тройной отклик, во всех трех особый. Но когда юноша, тоскующий по Флоренции, снова поторопил вперед, старик в панцире откликнулся. Еле шевеля узкими губами, но убедительным тоном. Нет, их там ждет вовсе не флорентийская роза, не весна – Prima vera, мессер Франческо Пацци, а трудная задача, возложенная его святостью. Почему не подождать здесь вооруженного эскорта, который сбился с дороги, но при лунном свете, конечно, скоро нас найдет?
Тут юноша, которого старик назвал Франческо Пацци, с раздражением поднял голову. Рубиновая пряжка на его черной бархатной шапке казалась черным пятном на черном, так как рубин – камень солнечный и остывает, гаснет в лучах луны. Губы юноши сложились в усмешку.
– Где вы родились, мессер Джован Баттиста? – промолвил он.
Окованный железом старик не шевельнулся. Глаза были холодны и тверды.
– Не знаю, – процедил он, почти не раскрывая рта.
– Не в Равенне ли? – продолжал юноша. – Говорят, там родятся самые осторожные люди на свете, оттого что их матери во время беременности…
– Довольно!
Первый путник, первым приветствовавший лунный свет словами о преисподней и восклицанием: "Ave Maria!", – обернулся к ним. Длинный сборчатый плащ заволновался от движения осыпанной перстнями поднятой вверх руки. Это был Сальвиати, архиепископ Пизанский. Суровое пергаментное лицо. Улыбка – не улыбка, а просто перемена в расположении морщин. Сальвиати, архиепископ Пизанский. Он хмур и бледен, словно видел муки чистилища и навсегда остался угрюмо-величественным. Толкуют, что и его сострадание к грешникам сурово и мучительно. Много разного толкуют о нем, во что бы ни был он облачен – в бархат или в шелк, в ризу или дорожный плащ. Сальвиати, архиепископ Пизанский. Острый взгляд его проникает в сплетения куриальной политики так глубоко, что даже кардинальской дипломатии приходится очень с ним считаться. Рука его, обильно украшенная перстнями, немало порвала пергаментов и сломала печатей, казавшихся прочней военного оружия. Вот каков Сальвиати, архипастырь из Пизы.
Сейчас он молчит. Спор между двумя его спутниками идет всю дорогу, от самого Рима. Он думает. От успеха их миссии зависит многое. Святой отец облек их своим полным доверием. Сальвиати молчит и думает. Флоренция перед ними сияет всеми оттенками лунного света – от черноватой полутени до ослепительной белизны. Флоренция. Не попадут ли они туда без эскорта, как в ловушку, которая защелкнется за ними навсегда? Архипастырь из Пизы поигрывает поводом своего белого коня и молчит.
Справа от него молчит старик в железе, Джован Баттиста де Монтесекко, верховный кондотьер папских войск.
Но Франческо Пацци, который теребит конский повод дрожащими пальцами и чье молодое лицо в этом освещении кажется вырезанным из слоновой кости, не в силах сдержать страстность своего голоса. Нужно верить, их ждут, ждут с самых сумерек, а теперь уже полночь. Он говорит быстро, сжимая руки, словно умоляя. Напоминает о длившихся целый год переговорах между семейством Пацци и святым отцом. Напоминает о всех злодеяниях Медичи. И опять возвращается к прошлому, напоминает о старости папы и его болезни, о нетерпенье Венеции, об ожидании Неаполя, о тщетных стремлениях герцога Галеаццо Мария и о ломбардской железной короне, напоминает о всех племянниках его святости, о смерти кардинала Пьера, о военных неудачах Джироламо Риарио, – мертвые и живые ждут их вступления во Флоренцию, пахнущую весной. И, не оградившись молитвой, он поклялся преисподней, он, только что посмеявшийся над архиепископом за это же самое. Взгляд его впился в неподвижное, пергаментно-жесткое архипастырское лицо. Что он выиграл от своего назначения на архиепископское кресло в Пизу, подданную Флоренции? Только новый прилив ненависти со стороны Лоренцо Медичи, подстерегающего тайно и коварно, как змея, мгновения для смертельного укуса. Орсини – его союзник, французский король – его друг, Феррара ждет его указаний, Урбинское герцогство посылает ему подарки, Болонья, Перуджия, Римини, Равенна, Форли, Фаэнца и многие другие области ускользнули из рук его святости. Только теперь святой отец Сикст надумал предпринять решительные действия против Медичи… Всего ночь отделяет их от Флоренции. Что же мы – нищенствующие монахи или грабители с большой дороги, чтобы стоять перед воротами в ожидании? Их кавалькада въедет завтра во Флоренцию в одно время с эскортом почтенного кардинала Рафаэля Риарио, которого святой отец посылает затем, чтобы именно он, самый милый его сердцу родственник, стал свидетелем и соучастником гибели Медичи. Дорог каждый час. Их ждут. А ночи короткие.
Архиепископ криво улыбнулся. Правда, весенние ночи короткие… Этот юноша рассуждает, как любовник или убийца. Их ждут. И он вдыхает аромат крови, которая есть во флорентийской весне, как в губах женщины, в лепестке розы, на остриях кинжалов. Этот юноша прав. Иной раз мгновенный решительный поступок полезней долго подготовляемой интриги и коварнейшим образом расставленных силков. Да и эта удивительная ночь с ее чередованием света и тьмы заставляет поверить, что прав жаждущий быстрого действия…
– Да ты в самом деле из Флоренции, милый сын мой? Судя по твоей порывистой восторженности, можно подумать, что из Венеции. Ты суров, мой молодой герой. Но ты прав. Настоящий завоеватель никогда долго не стоит перед воротами. Мы должны действовать, как люди, ожидаемые с последними приказами, которых нельзя доверить ни письму, ни гонцу.
Пизанский архипастырь дал шпоры своему белому коню.
Кондотьер Джован Баттиста де Монтесекко нахмурил лоб. Он был стар, но никогда еще не видел столько тьмы, как на папской службе. Служил, можно сказать, только ночью. Что стоят козни тиранов против этих унизанных перстнями желтых пергаментных рук? Преторианцы только душат, а вот эти мыслят за них и отдают приказы в ночи. Он пошевелил мечом, затупившимся на службе его святости. От самого Рима так: все время архиепископ шел вместе с этим флорентийским купцом против него. И опять в мозгу зашевелилась мысль, возникшая еще при выезде из Рима: паццо… это по-тоскански – сумасшедший. Procedamus in pace, – сказал архиепископ Сальвиати. – Последуем далее в мире…
Богослужебный призыв его приняла ночь, время чуть подвинулось вперед, они тронулись. И архиепископ мановением руки начертил в лунном свете большой крест. Эти трое везли с собой убийство…
Лоренцо Медичи слишком долго держится взгляда, будто он блюдет со своими платониками мир Италии. Нужно доказать ему, хоть на смертном ложе, что его политическая концепция безумна. Мы не дети, и пора игр миновала. А Лоренцо по-прежнему представляет себе Италию весами, на чьих чашах лежат пять держав: Венеция, Милан, Папская область, Флоренция и Неаполь. Нет, Флоренция – стрелка весов. Но на все чаши должна лечь раз и навсегда только одна держава: государство его святости – и отпадет надобность в какой бы то ни было стрелке, так как нигде уже не будет такой силы, которая могла бы склонить чашу весов в свою сторону.
Нет, не равновесие сил; должна быть только одна сила – папство, но только папство, находящееся в руках рода Ровере… Светские заботы бороздили лоб Сикста Шестого все более глубокими морщинами. Этот Медичи не только никого не боится, но, можно сказать, нет такого правителя, который когда-либо отверг его совет, между тем как я, Сикст, веду войну почти со всеми итальянскими государствами…
Увертливость Светлейшей Венецианской республики превзошла самые смелые ожидания: дожи и нобили соревнуются друг с другом в знаках внимания и услугах; значит, тут надо быть как можно бдительней, не ступить ногой в незаметную, коварную ловушку. Может, ногу и вытащишь, да папская туфля, уж конечно, застрянет. Сикст крепко сжал руки, так что суставы хрустнули, и звук получился сухой, костлявый. Все друг друга убивают, земля пьяна убийством. Смерть гримасничает, как обезьяна, передразнивая людей, подлая. Государство – огромный разбойничий притон, всюду смердит разложением. Яд теперь уж не самое грозное оружие. Страшней клетка с гнилым мясом, в которую можно посадить родного отца, а потом подтянуть ее высоко к зубцам крепостной башни – на позор всей стране. Бальоно в Перуджии ведут кровавую войну с Одди, и город превратился в темницу, улицы стали путями к эшафоту, все площади изрыты боями. В Болонье, у Бентивольо, другой нрав, другой способ, вместо больших сражений достаточно мелких и от этого еще более предательских убийств. Гонзаги гниют в Мантуе, лукавые Малатесты нагромоздили свои злодеяния триумфальной аркой, Ферранте в Неаполе, согнувшись в высоком кресле, в углу жуткого зала, стережет, как паук, свои набальзамированные жертвы, забавляясь тем, что по воскресным и праздничным дням слуги переодевают их в парадные одежды, – у него, мол, тоже празднуются праздники господни. В Падуе Каррара кормил своих охотничьих собак человеческим мясом, а потом созвал дьяволов на городскую стену для обороны, и их собралось там пол-легиона. А здесь – страшный род д'Эсте, при одном упоминании о котором бледнеют злодеяния остальных.
Руки у папы стали горькими, он почувствовал желчь даже в жилах и поспешно взял ларчик с мощами, чтоб не хватил удар. По всей Италии расползлась чума, и здесь пахнет мертвечиной. Все гниет. Нет, наверно, ни одной крепости, где бы осужденные не срывали от голода свое собственное мясо с рук – от локтя до кисти, с шестов над бойницами прямо в речные волны падают части тел повешенных. Нет, наверно, города, чьи стены не были бы увенчаны страшным венком из человеческих тел. Джованни Мария когда-то приказал зарубить во дворе своего дворца двести человек. Как далеко позади оставил его теперь старый герцог Эрколе, по приказу которого в окнах дворца Делла-Раджоне их качается двести, да по стенам пятьсот! Сикст зажмурился при виде этих пятисот повешенных, и тут ему пришло в голову: только во Флоренции – нет, в одной только Флоренции нет повешенных, – да, только Медичи не вешает…
Сколько народу было удавлено в Болонье, в Неаполе, в Римини и в Перуджии! Только во Флоренции нет повешенных…
Он с трудом встал и перешел комнату. Скоро зазвонят к "Ангелюс" 1, а он еще не додумал своих мыслей. Почему во Флоренции нет повешенных? Нелепый город, – в нем ничего не изменилось с тех пор, как Данте сравнил флорентийскую политику со стонами больного, который, лежа на лужайке, ворочается от боли с боку на бок. И все-таки Медичи правит без цепей, без виселичной перекладины, и правит сильной рукой. Почему он не вешает? Почему никогда не вешает? Какая была бы радость получить известие, что на окнах дворца флорентийской Синьории тоже висят люди с ладонями, вывернутыми от бедер кнаружи…
1 "Ангел господень" (лат.) – католическая молитва, читаемая утром, в полдень и вечером.
Лоренцо Медичи – мой вечный, упорный враг. А союзники мои кто? Папа невольно закрыл лицо руками. Имена, которые он только что перебрал в памяти, теперь настойчиво просились на язык. Никто в Италии больше не верит в естественную смерть какого-нибудь вельможи. Грызутся, как голодные псы, союзники мои…
А тут еще ереси. Всюду ереси и страшное кощунство, как будто вернулись времена Тиберто Брандолино, Никколо да Верона или какого-нибудь Брачча да Монтоне, которого один вид духовной особы приводил в такую ярость, что острие его кинжала тупилось только о кости священников. Ереси. Они буйно разрослись повсюду. Даже в Романии, на папской территории. Еретики – уже и в римской Кампанье – учат, будто настоящий папа узнается лишь по апостольской бедности, супостаты окаянные!
А в Риме? Чем я огражден от заговора, подобного тому, который сверг Павла Второго? А Пий? Разве случайно он все свое правление прожил где угодно, только не в Риме! Колонна, Савелли, Орсини, Кроче делла Валла затевают сражения на всех улицах и площадях. Рим постоянно залит кровью. Могу ли я, Сикст, наместник Христов, править одной силой духовного слова, если вынужден все время думать о бегстве за подъемные мосты замка Святого Ангела? И жестокое зрелище открывается из его бойниц: я вижу вокруг четырехгранные башни своих врагов, их дворцы, их орудия и войска! Каждый норовит меня проглотить, я воюю со всеми, несу меч к воротам их городов, а если перестану это делать, они объединятся и сокрушат меня. По их мнению, все на свете имеет значение, кроме тиары, которую они не ставят ни во что: она для них только предмет вражды и ненависти.
Отлучения! Интердикты? Я на это не скупился. Встал во всей мощи своей и обрушил гнев свой на стены их. Приказал – и были сломаны свечи во всех венецианских храмах, священники в черных рясах поднялись на кафедры, чтобы метнуть оттуда камень во знаменье гнева моего, камень – откуда прежде изливалась на людей благодать слова божия. Повелел – и смолкли колокола, закрылись крещальни и кладбища. Говорят, плач святых в пустых церквах носился над вероломным городом, полным некрещеных и непогребенных, алтари которого опустели и дарохранительницы стояли открытые, ненужные, праздные, без антиминса и светильников… Проклятый город надо было вырвать из трясины либо поставить на колени и принудить к жгучему покаянию. И вдруг через неделю по Венеции стали водить осла, на смех привязав ему к шее мои буллы… Они ждут не дождутся моей смерти, венецианцы эти! Как только узнают, что я умер, так, конечно, устроят пышный карнавал, будут радоваться и плясать, как радовались и плясали после смерти Павла Второго…
Пресвятая дева Мария, преклоняю колена перед твоим образом, который я привез из Падуи, и рыдаю. Может быть, лучше, когда папа плачет, чем когда он грозит. Зачем не решился я навсегда остаться в Генуе… Вспоминаю о ней, как это умеет только старик. Генуя, моя Генуя, солнечная ракушка, раковинка, вечером пурпурная!
И тишина моей францисканской кельи, окно, открытое в утренний сад, полный почек, где искристые белые тропинки разбросаны, словно солнечные лучи в траве, тропинки, по которым я буду ходить в размышлениях, когда отслужу раннюю мессу и начну опять готовить одну из своих проповедей, привлекающих народ издалека. Да, у меня тогда не было ни малейшего представления о том, что я, францисканский проповедник Франческо делла Ровере, приду по этим белым проповедническим тропинкам сюда…
Пресвятая дева Мария, я поставил тебе в Риме два новых храма и пригласил маэстро Мантенью из Мантуи и Мелоццо из Форли, чтоб они искусно и благоговейно написали лик твой для нашего алтаря. Наперекор стольким знатокам Священного писания я верю в твое непорочное зачатие, ученейшие споры моих теологов не истребят во мне этой веры, и я поставлю в честь и славу непорочного рождения твоего красивую часовню, учрежу мессу и особые священнические часы. Ныне услышь меня! Я установил праздник введения твоего во храм. Ныне услышь меня! Ныне прибегаю к тебе в страстях своих, а ты знаешь, как их много, ибо поставил меня бог правителем над народом ненавистным, надменным и развратным. И нет никого, кто бы мне помог. Вот, вечер римский…
Мое духовенство утешается тем, что папы скоро умирают. С новым папой приходят новые оброки, новые пребенды, новые доходы, новые поступления и пожалования. Я хлопотал об улучшениях, советовал, напоминал. Никто не может сказать, что я был недостаточно строг в делах веры. А вдруг встает недавно генерал августинцев и, без малейшего отпора со стороны собрания, объявляет: "Избран был папа в ереси, живет в ереси и в ереси умрет". Так говорит обо мне мое духовенство…
В ту ночь перед конклавом… на котором я был избран… в ту ночь… когда от меня отошел кардинал-канцлер Родриго Борджа… посулив мне свою помощь… в ту ночь после молитв… мне был сон… нет, не буду вспоминать… не хочу думать об этом… нет, нет, нет!
Сикст поднял голову от своих сжатых рук, но тяжелые старческие веки его опустились. Лучше думать с закрытыми глазами. За окнами промчался порыв весеннего ветра, вихрь, опрокидывающий телеги со смертниками, разметывающий кровли и орлиные гнезда, рвущий паруса кораблей и знамена папских войск, ветер злой и свирепый, вихрь, слышанный Дантом во втором круге Ада и вырвавшийся на божий свет сквозь расщелины скал.
Человек смотрит на лицо, а бог читает в сердце. Но какое оно – сердце этого Лоренцо Медичи? Нет, он никогда не вешает – ни на окнах дворца Синьории, ни на городской стене. Отчего не вешает? Отчего он не должен, как я, править мечом, а все его слушаются?
Все ждут моей смерти. Я – папа. Все ждет моей гибели. От последнего разбойника с большой дороги до Святой коллегии. А за Альпами – Людовик Французский, у моих берегов – адский пес Магомет Второй, который послан в мир попущением божиим и теперь, конечно, ведет переговоры с каким-нибудь из моих князей о вторжении в Италию, как уже вел сто раз до этого! Потому что христианские правители договариваются против меня с язычниками…
Я готовил крестовый поход. Вел переговоры, просил, умолял, посылал посольства ко всем дворам, пока мне наконец, словно нищему, о котором дальше незачем думать, кинули подаяние, достаточное для постройки девяноста галер… Не успели они приплыть к берегам Азии, – да, да! – как сейчас же обнаружилось, что приплыли они к месту своего разгрома и уничтожения. Девяносто жалких галер против несчетных турецких сил должны были явить всем воочию, так сказать, мощь христианства, – и как же мы этим кичились!
Боже мой, в какое время поставил ты меня своим наместником! "…ut ad vitam una cum grege sibi credito perveniat sempiteram" – так молились за меня в храмах по всему христианскому миру. "Да внидет вместе с вверенной ему паствой в жизнь вечную". И вот какими путями мы туда идем, боже! Девяносто галер!
А может быть, прав кардинал Борджа. Я его посылал просить помощи против турок в Испанию. Теперь он вернулся. Помощи не добился, а сладил там свадьбу. Вот какой этот кардинал Борджа! Женил Фердинанда этого, Арагонского, на Изабелле Кастильской и вернулся с почетом, славой и золотом. Тоже играет для себя, но играет счастливо. И это – канцлер церкви, первое лицо после меня во всем христианском мире.
Мой дорогой Джулиано смертельно его ненавидит. Каждый день твердит мне: "Следи за кардиналом Родриго! Я не знаю человека хитрей и коварней, чем этот Борджа! Если мы его вовремя не уничтожим, конец делла Ровере…"
Но я не хочу уничтожать никого, кроме этого Медичи!
На кого мне опереться? Кому верить? К кому обратиться? Ну кто может упрекать меня за то, что я созвал всех своих родственников, окружил себя ими и одарил их пурпуром, почетом, богатством? Ведь у меня нет никого, кроме них. В конце концов, не я придумал титул и звание "кардинала-племянника", а мой предшественник, тоже Борджа – Каликст…
В темном папском покое слышно много голосов, которых днем не уловишь. Но это не призраки говорят, это – больше. Мысли папы проходят медленно, как катафалки. Их провожает реквием этих странных голосов – темное miserere со стороны низко-сводчатого окна, за которым слабо угасает день. Старик среди всего этого производит впечатление погребенного заживо, погребенного сидя.
Вот он прошептал имя. Темный отклик призраков вернул это имя ему, оно погасло на черной стене, но не в мыслях старика. Он повторяет его, словно лаская, и призраки возвращают его, отбрасывают, призраки тащатся прочь, куда бы ни было. Но старик склонил еще ниже голову на грудь и опять прошептал его, как бы желая, чтобы сердце услышало и приняло.
Мой дорогой Пьер Риарио…
Это произнесено уже громче, и если бы призраки могли говорить, старик, конечно, услышал бы больше, чем это страшное, стенающее шуршанье в углу темного покоя. Но он не слышит ничего, кроме этого имени, для него столь сладкого…
Мой дорогой Пьер Риарио… Я так любил его, что до сих пор как подумаю о нем, так сжимается сердце… Красивый юноша, молодой, статный, прекраснейший листок на древе делла Ровере, этом вечнозеленом дубе… Да, признаю, я этого хотел. Я договорился о военной помощи верного Галеаццо Мария, который должен был получить за это ломбардскую корону… да, войска его должны были неожиданно окружить Рим, все эти враждебные римские бароны и патриции должны были быть разоруженными, и я должен был отказаться от тиары в пользу своего юного племянника, моего дорогого Пьера… Какой это был гигантский замысел! Моего дорогого племянника – папой. Моего дорогого Джироламо, которого все считают моим сыном, – светским властителем… все, всю Италию соединить в духовном и светском отношении под одним жезлом, под властью одной крови, под владычеством делла Ровере…
Все шло прекрасно. И кардинал Пьер уже отрекся от своего распутного двора, ограничил свои юные кутежи, перестал так легкомысленно отзываться о святых истинах нашей веры, отпустил своих любовниц, стал готовиться к папству…
Тяжко вспомнить, я никогда не постигну этого. Никто не знал о нашем замысле, кроме нас троих да бога. И вдруг все рухнуло. Моего Пьера отравили венецианцы, а верного Галеаццо Мария убили миланские катилиновцы… Внезапно, все внезапно. Непостижимо. Знал только бог да мы трое.
Милан! Он должен был стать средоточием всей Ломбардии, а теперь там правит Галеаццев враг – Лодовико Сфорца, которого за смуглое лицо и черную душу называют Моро, – этакий пес арапский, держит в тюрьме Галеаццева сынка и грозит французский помощью. Конечно, получится новая война, опять война. Господи, я уже старик, а до сих пор мне не удался ни один из моих замыслов! А Лоренцо Медичи все удается!
Сикст крепко сжал руки и притиснул их к груди. Опять эта резкая, рвущая боль в сердце. Папское сердце грызла болезнь. Прозвонили к "Ангелюс Домини". Он не слышал.
Куда ни шагнешь, наткнешься на Медичи. К дворам других государей он отправляет послами одних только поэтов, музыкантов, художников… и тем не менее я всюду натыкаюсь на такую густую сеть соглашений, которой даже мечу моего дорогого Джироламо не разрубить. Всюду выставляет против меня своих людей. Какой-нибудь ничтожный кондотьер, с которым давно бы можно было поладить за вознаграждение из папской казны, теперь артачится. А Медичи, будто даже не замечая меня, слагает себе свои лирические строфы, спорит с платониками, собирает статуи, камеи, основывает библиотеки и академии, в то время как орудия, поджигаемые его рукой, грохочут против войск моего Джироламо в Романье, под Форли, под Иммолой…
А теперь пришел ко мне флорентиец, честный человек, верный Пацци, достойный Пацци, добрый Франческо Пацци и предложил имущество и жизнь своего рода. Я колебался. Ты ведаешь, господи, что я колебался, целый год колебался. Но вижу, что добром от Лоренцо мне не избавиться. Страшная, пожирающая ненависть рода Пацци к роду Медичи все равно рано или поздно вылилась бы в убийство. Эти Пацци умеют дьявольски ненавидеть. Говоря мне о Джулиано и Лоренцо Медичи, добрый Франческо Пацци задыхался от злобы, и горячие, воспаленные глаза его горели таким огнем, что ему, наверно, все представлялось в красном свете. И речи его были такие странные… Нет, он ничего от меня не скрывал, каждая фраза выдавала мучительную, иссушающую жажду… его движения были резкие, внезапные, непредвиденные. При некоторых словах, казалось, он вот-вот прыгнет вперед, быстрые дрожащие пальцы его все время что-нибудь теребили – воротник, полу кафтана, пряжку на шляпе. Да, я благословил его. Ненависть, которая на грешном пути повела бы ко многим несчастьям, я направил на пользу церкви. Семейство Пацци во Флоренции! Вот, это Медичи за то, что он никогда не вешал на окнах Синьории. Поделом ему. Решено. Ты знаешь, господи, что я целый год колебался. Но Франческо Пацци приходил чуть не каждый день, и письма, которые мой дорогой Джироламо слал мне из Иммолы, все время побуждали, подталкивали, торопили, заклинали. И я собрал все силы свои и раз навсегда разрубил узел несчастий. Не стану больше терпеть вечную помеху. Надо очистить дорогу от подрывателей, от насмешливого высокомерия, все мертвые нашего рода идут со мной. Мой дорогой Пьер! Он всегда советовал мне выжечь это флорентийское змеиное гнездо, и теперь я следую его советам. Вся власть дана мне богом и людьми на то, чтоб я правил, а не на то, чтоб договаривался и просил.
Окна, окна римские, окна ватиканские.
Окна флорентийской Синьории.
Сикст склонил голову, и громкий вздох вырвался из его груди. Ветер за окном давно перестал; очищенный небосвод, опираясь на острия церквей, изгибался триумфальной аркой. Звонили колокола, но он не слышал их.
Он спал.
Меж тем три всадника, везшие по его приказу смерть во Флоренцию, медленно двигались по осеребренным лунным светом улицам, а ждавшие их вооруженные вели их теперь боковыми улицами, не перетягиваемыми на ночь цепями. Путь к дому Пацци шел мимо храма Санта-Мария-дель-Фьоре, и архиепископ Сальвиати быстрым движением изукрашенной перстнями руки остановил речь Франческо, которую лучше было бы не говорить и не слушать. Потому что не следует кричать на всю улицу о церковной тайне, пусть даже эта улица – ночная. И если Франческо Пацци нетерпеливой рукой погладил камень храма, то не из благочестия. Ночь была тиха и полна весны. Флоренция стояла серебряная, только на самом рассвете она посереет. Тишина была глубокая, как безмолвие сна, и такая же бездонная. Но когда они выехали на улицу Сан-Якопо, тьма с ними заговорила.
Послышался гулкий низкий голос, долгое и протяжное громыхание, которое длилось, росло, усиливалось. Кондотьер де Монтесекко быстро притянул архиепископа к себе, и они, прижавшись к стене, охваченные страхом, стали ждать, что будет дальше. Громовой звук повторился. Громыхание вырастало и шло из земли, вырывалось из подземных глубин; сотрясая дома, тьма ревела долгими раскатами, будто в нее катились потоки подземных вод, и гул порождал столько отзвуков, словно весь город надо было разбудить набатом. Не крик дозорного на башне, не трубный сигнал караула, не колокольный звон, а этот гулкий и глухой громовой звук рвал ночь, тьму и сердце незваных гостей на части. Всюду разливалось глухое грохотание.
Воздух дрожал от его ударов под Лоджиями-деи-Ланци, у стен Палаццо-Веккьо, дробился над волнами Арно, разбивался о Понте-Санта-Тринита – и вот опять поднялось гуденье, растянувшись от Прадо до Борго-Санти-Апостоли. Оно всюду, они застигнуты им, захвачены, оно бьет их, сбивает с ног, низвергает во тьму, а потом падает обратно, к стене дома, колеблет почву под их ногами. Звук – гремящий и льющийся, как расплавленный металл. Он вырывается из нутра земли, сотрясая камни, катится по улицам вдоль домов и не успеет отзвучать, как вот уже опять разверзлась земля и гремит снова и снова…
– Это львы ревут! – крикнул Франческо. – Львы Медичи! Звери проснулись в львином рву и ревут…
Тьма опять открыла пасть, и все вокруг загудело глухим ревом. Франческо оттянул дверной молоток у широких дверей. Им тотчас открыли, как тем, кого давно ждут. Тьма поглотила их. Они вошли. Сгинули.
А львы, геральдические звери Флоренции, медицейские львы, еще долго ревели в ночь, сидя в своих ямах.
ТЕРПКОЕ ВИНО
В низкой сводчатой комнате ждут молчаливые люди. Все уже сказано, и они ждут теперь тех, за кем последнее слово. На столе в серебряных кубках недопитое темное вино. Пламя свечей дрожит, выбегая из мрака, словно глаза расползающихся змей. В помещении полутемно. Все ждет. Ночь слилась с ожиданием так, что не разделить. Полночь. Недопитое вино и непроизнесенные слова.
На почетном месте за столом сидит Якопо Пацци, глава рода. Белые волосы его падают густой волной на широкие плечи. Он проявляет меньше всех нетерпенья. Он ждал этой минуты всю жизнь, может подождать еще несколько часов. Морщинистые старческие руки его спокойно сложены на столе, но это руки денег и меча. Он умеет соединять обе, как никто другой во Флоренции. Принадлежащие роду Пацци банки растят свою мощь под его строгим наблюдением, и меч его бдил все те годы, когда остальные уже потеряли надежду.
Он еще помнит время, когда старый Козимо Медичи, pater patriae 1, хотел скрутить ненависть обоих родов свадебным обрядом и торжественно возложил прекрасную внучку свою Бьянку, которая скорей под стать какому-нибудь князю, на ложе Гвильемо Пацци. Якопо тогда улыбнулся. Он улыбается и теперь тканям обоев, недопитому вину, теням горницы, по-змеиному мерцающим глазам свечек. С ним можно договориться только в минуты гнева. Когда улыбается – он страшен. Глаза его не знают ласковости, он слишком много видел и умеет смотреть прямо и твердо в корень человеческих судеб. Дело не в папе, дело не в церкви, дело – в Пацци. Во всех поколениях – Пацци дерутся с Медичи. И старый Козимо Медичи, pater patriae, уезжал в изгнание и, хоть вскоре вернулся, никогда не мог забыть о том, что когда-то был изгнан. Пацци никогда не отправлялись в изгнание, никогда не покидали твердыни, и скорей рухнут все ворота Флоренции, чем сквозь какие-либо из них сбежит хоть один Пацци. Старый Якопо – глава рода. Он молчит. Молчат и его белые волосы, и борода. Сидит, словно выточенный из мягкого камня, и меч его укрыт тенями. Старик знает, что решение о жизни и смерти можно иногда рассчитать, как количество золотых в банкирской мошне. Никогда никто еще не подсунул ему фальшивой монеты. Старые бледные губы его порой слегка шевелятся. Молится ли он, обсуждает ли сам с собой цену крови, трудно сказать. Это человек ночи. Дальше – Бандини. Его спокойствие холодно и презрительно. Это Бернардо Бандини да Барончелли, который и над Синьорией смеется, презрительно кривя губы. Все у него заранее обдумано, выверено, у него не бывает ничего непредвиденного, кроме женщин. Ничто не способно вывести его из этого величественного равновесия. Он никогда не ждал ничего такого, что способно его нарушить. А теперь вот вынужден ждать. Нескольких римских посланцев. Он смотрит на Рим сверху вниз, как истый флорентиец. Он никогда ничего не ждал. Большие жизненные события приходили всегда сами. Стоило только протянуть к ним руку. И часто он ее не протягивал – не из высокомерия, а от усталости. Так как родился он при счастливой конъюнкции Венеры с Сатурном, все шло ему навстречу само – девушки, роскошь, золото. Самые прекрасные женщины Флоренции, с устами, влажными и полуоткрытыми любовью, с руками, млеющими от страстного желания, и персями как плоды, приходят к нему; жизни, расцветающие и гибнущие, обращаются к нему, исчезают и появляются снова, предлагаются, требуя, чтоб он выразил их тишину, их ночи, а не свою тишину и свои ночи, требуя, чтоб он не препятствовал им быть такими, какими они хотят быть. Флорентийки, чтобы быть прекрасными, должны умирать молодыми. Красотка из красоток, самый прелестный и самый страстный цветок Флоренции, Симонетта дельи Альбицци не раз спала в его объятиях и умерла шестнадцатилетней, опаленная любовью, как цветущий луг молнией. Любовь не знает возраста. Тогда была осенняя пора коротких дней. Он имел все, чего когда-либо желал. В доме у него коллекции, славящиеся и при папском дворе. Его агенты покупают для него добытые раскопками статуи в самой Греции. Турецкие отделения его банка завалены золотом. Но часто все ему надоедает. И теперь все надоело. Он ждет. Заботливо осматривает свои красивые холеные руки, разглаживает завитую бороду и глядит на старого Пацци иронически прищуренными глазами. Очень может быть, что старик относится ко всему этому вполне серьезно. Словно все это не до такой степени безразлично – Флоренция, Рим, Медичи, Пацци, папа, всё… Насколько лучше было бы сидеть теперь дома и читать Сенеку, потягивать охлажденное вино, да не это банкирское, никуда не годное, терпкое, а настоящее, со знанием дела отобранное, хорошо приправленное и приготовленное, вино, подходящее именно для данного вечера, потому что, по его мнению, каждый вечер требует своего особенного вина, – потягивать, легонько гладить усталою рукою блестящую шерсть борзой и читать. Он невольно повторил последние строки читанного вчера драгоценного текста, так красиво выведенного мастером Андреа Марчелло на пергаменте: "То, чего ты жаждешь, есть великая, возвышенная, приближающаяся к богу безмятежность. Это невозмутимое состояние духа греки называют евтимией, я же – покоем!"
1 Отец отечества (лат.).
Бандини положил на стол свои гладкие холеные руки с ногтями, подпиленными на четверть, как требовала последняя мода у женщин, и снова скользнул холодным, немного насмешливым взглядом по молчаливому лицу старого Якопо. Старик, конечно, никогда не читал сочинения Сенеки "О покое душевном". Жаль! Может, стоило бы кое-что рассказать ему об этом?.. Теперь? Он улыбнулся и расчесал свою надушенную бороду. Неплохая шутка… Но почему я сижу здесь? Он пожал плечами. Это меня забавляло. Сначала Медичи, Сикст… он опять иронически улыбнулся. Но Флоренция? Глаза Бандини стали строгими, словно вдруг увидели какой-то текст, в смысл которого он не мог проникнуть. Сенека говорит: "И тот, у кого в битве отрублены руки, сумеет хоть призывом и ободрением споспешествовать своему народу. Подобно ему поступай и ты, и если судьба отстранит тебя от первого места в государстве, ты все же стой и помогай голосом, если же кто и горло тебе сдавит, опять-таки стой и помогай молчанием…"
Если же кто и горло тебе сдавит… Вдруг мороз подрал его по коже. Трепет тайного страха пробежал по нервам, у него потемнело в глазах, руки опустились. Он чуть-чуть побледнел. Но тут же опамятовался и, не умея объяснить себе причины, перестал об этом думать.
Третий ожидающий – Джакомо Пацци. Он старается держаться спокойно, но лицо изобличает его. И руки нервны, суетливы, тревожны. Он пьет вино короткими жадными глотками и, подливая, всякий раз стукает со звоном кувшином о бокал. Он самый младший среди них, почти одного возраста с Франческо, ожидаемым теперь из Рима. Смоляные черные кудри обрамляют лицо его, молодое, бледное, женственно прекрасное. Да, он прекрасен, и Франческо любит его, и Леонардо да Винчи, и мессер Боттичелли. Он прекрасен, но в глазах его горят странные огоньки, как в глазах отчаявшегося. Джакомо не верит ни в бога, ни в папу. Джакомо хотел бы верить – верить в бога и в папу. Джакомо не может верить, как не может верить его друг Пьер Паоло Босколи – платоник. Но Джакомо не может быть и платоником. Джакомо отчаянно старается верить и проводит целые ночи на коленях перед алтарем в Санта-Мария-Новелла, чтобы в другие ночи богохульствовать, богохульствовать страшно, неистово. Джакомо чувствует в сердце своем змеиные зубы, понемногу впивающиеся в него, – не сразу, а медленно, медленно, неторопливо и чем дальше, тем все медленней. Когда он слушает слово божие, зубы впиваются сильней, и сердце полнится клокочущим ядом. Джакомо просит бога смиловаться над ним и знает, что бог его не слышит. Порой ему кажется, что он существует в двух лицах, хотя и в одном образе. Тот, второй Джакомо делает всегда не то, что я, но и он тоже – я. Не раз испытывал он нежелание возвращаться домой, оттого что тот, второй Джакомо уже сидит там и ждет его. Что сказать ему и каков будет ответ? И даже если б тот, другой, вдруг расплылся, исчез, Джакомо никогда бы не поверил, что это была просто галлюцинация, – конечно, продолжал бы что-то говорить ему, и прошло бы немало времени, прежде чем он услышал бы свой собственный голос в пустой комнате, оторопелую речь ни к кому. Рассказываю о себе призракам, а их нет передо мной, это – опять я. Обращаюсь к себе, и никто мне не отвечает. Жду самого себя, как другого человека. Я ничего не знаю о себе. Жду большего, чем вы оба. Жду откровения, некоего чуда, чего-то, что изменило бы меня, мое "я"… Джакомо не верит в человеческое естество Христа…
Трое сидели за столом. Старик Якопо с каменным лицом, – опершись на меч; Бандини, для которого жизненные явления часто лишь повод к тому, чтобы скривить губы в иронической гримасе, – опершись на плащ своей скуки; Джакомо, который ждет большего, чем просто послов из Рима, – подперев голову рукой. Жизни, которые мы не сумели прожить, отходят от нас и либо угасают, либо летят куда-то, чтобы где-то там, в другом месте, осуществить свою участь и назначение. Как помешать этому раздвоению жизни? Джакомо не знает, что это можно сделать лишь простым и смиренным жестом, сложением рук, – с ладонями, прижатыми к груди, и пальцами, воздетыми к богу.
Трое сидели за столом, каждый со своей жизнью. Ждали молча. А ночь обвела их большим кругом, будто с помощью магического перстня.
Трое сидели за столом.
Четвертый висел над ними на кресте…
Это был древний крест рода Пацци. Тело Христово было здесь вздыблено в ужасающе правдивой, верно схваченной судороге умирания и покрыто большими разверстыми ранами, ссадинами и синяками. Судорожно сведенные, перебитые колени выпирали острым углом, разодранные диким волочением по земле. Тело было скорбное, таинственное, лихорадочное, истерзанное и до сих пор все кровоточило. Новая, светлая кровь, бьющая ключом из прободенного бока и смешанная с водой, заливала струпья и коричневатые пятна уже запекшейся крови. Это тело было сплошной свежей раной, мучительно обнаженной, и в некоторых местах под содранной кожей открытая мускулатура еще трепетала в невыразимых муках. Лицо успело посинеть, стало пепельно-серым; голову, наклоненную к плечу, с которого свисал лоскут кожи от большой глубокой ссадины, оставшейся после несения креста, непрестанно терзали длинные и острые, как сталь, шипы тернового венца. Шипы эти, оставшиеся целыми, торчали ввысь, не то раскаленные солнцем, не то красные от крови – трудно понять, но это были ощетиненные багряные прутья, туго сжимающие голову осужденного. Полуоткрытый рот, пересохший от неугасимого жара, жаждал еще мучений, сгорал по ним, – этот рот не говорил: "Довольно! Не надо!" Губы посинелые, полиловевшие, но узкие волны их по краям уже почернели от запекшейся крови. Истерзанное тело обвисло на гвоздях, клонясь. Глаза, не угасшие, а зрячие, были устремлены всегда в упор на смотрящего, полные мук от испытанных надругательств и ненависти, полные праха и полные последним взглядом Матери. Разодранные длани пронзены гвоздями, и судорожно, веерообразно растопыренные пальцы их врезают в тяжкий, свинцовый воздух таинственные, мистические знаки, письмена жизни. Терновый венец, страшное и царственное украшение оставленности, огромен, и ощетинившиеся, длинные, неустанно язвящие острия его, благодаря наклону головы к плечу, затеняли глаза. Каждый смотрящий в эти глаза видел их неподвижный взгляд лишь сквозь эту тень.
Jesus autem tacebat 1.
Христос там, на кресте, – молчал, так же как эти люди под ним.
Только быстрые удары молотка в дверь нарушили молчание. Удары были глухие, сдавленные, длинная галерея ответила гулким отзвуком. Трое ожидающих быстро, с облегчением поднялись. И вот вошли послы из Рима.
– Benedicite… 2 – попросил старый Якопо и стал на колени вместе с остальными.
1 Иисус же молчал (лат.).
2 Благословите (лат.).
Архиепископ Сальвиати сперва благословил, потом поднял старика. Начали с молитвы.
Нет, они не устали. Но Франческо ест быстро, жадно, обнажая белые волчьи зубы, кондотьер де Монтесекко потягивает длинными глотками. Франческо говорит и за едой. Слово "смерть" звучит легко, непринужденно, будто и не ночь вокруг. Архиепископ Сальвиати сидит спокойно, немного наклонившись, и пергаментное лицо его, озаренное свечами, еще больше пожелтело. Правой рукой он играет наперстным крестом, и при каждом движении и повороте его пальцев перстни мечут большие, тяжелые лучи всех цветов. Бандини де Барончелли глядит на перстни ослепленный. Это – сокровище редкой, невиданной красоты, римские драгоценности. Флорентийский архиепископ Антоний тоже умер с репутацией святости, но никогда не носил перстней. Э, да он всякий раз, выступая с церковной кафедры, гремел против роскоши мирян и духовенства, против азартных игр, парчи и перстней… Но против чего только не гремел архиепископ Антоний! Говорят, самые удачные шутки старого Козимо Медичи были как раз по поводу архиепископа Антония, но вот приехал человек с перстнями, и Медичи перестанут смеяться. Завтра же…
– Завтра же, – с удовлетворением произносит старый Якопо и воздает хвалу его святости.
Кондотьер де Монтесекко с удовольствием приподымает кубок, и оба старика пьют за долгое правление святого отца Сикста полными глотками. Но вино терпкое, никуда не годное, банкирское.
Джакомо молчит. Он не спускает с архиепископа долгого огненного взгляда. Этот человек притягивает его, этот человек к нему послан. Во всей Флоренции не найти такого человека, как этот священнослужитель из Пизы. Когда все будет кончено, я опущусь на колени у ног его и признаюсь во всем. "Anima mea sicut terra sine aqua tibi.." 1 Так сказано в Писании: да, без воды была душа моя, я иссох и горю.
1 Душа моя без тебя, как земля без воды (лат.).
– Мои люди готовы, – сказал Якопо. – Они будут расставлены по всей площади вдоль дворца Синьории. И как только я подам команду, ринутся на приступ.
– А остальные семьи? – вдруг спросил архиепископ. – Строцци? Ручеллаи? Саккети?
Пизанский священнослужитель хорошо осведомлен, и старый Якопо хмурится.
– Пойдут с нами, как только выступление будет подготовлено, и не станут вмешиваться, пока оно не подготовлено, ваше высокопреосвященство, – вдумчиво ответил он. – Они слишком хитры, чтобы мешать нам. В общем, это дело Пацци, а не ихнее.
– Это дело его святости, – спокойно произносит архиепископ Сальвиати. И Флоренции.
Якопо, тряхнув белой головой, прибавляет:
– Это верные сыны церкви.
– Верность требует доверия, – продолжает архиепископ. – К сожалению, я вижу, что их вовремя не уведомили. Может быть, их усердие окажется неуместным и приведет замыслы его святости скорей к неудаче, чем к торжеству.
– Никто не станет защищать Медичи!
– В Пизе слишком много говорят, – равнодушно продолжал архиепископ. Но много там и знают. Недавно ко мне пришел мой капеллан и говорит: "Монна Наннина, сестра Лоренцо Медичи, никогда не упускает случая напомнить мужу своему, Бернардо Ручеллаи, о верности роду Медичи".
Тут старый Якопо вспыхнул.
– Да узнай только они о нашем замысле, о нем тут же разнеслось бы по всему городу. У меня вооруженные, которые завтра выйдут на улицы и под окна дворца Синьории. Это понужней, чем если б все эти Саккетти, Ручеллаи и Строцци делили с нами победу. Нынче они будут нашими союзниками, а завтра…
– Что? – промолвил Сальвиати.
– …надо будет им платить.
– Разве банк Пацци – не самый богатый из всех флорентийских?
Пергаментное лицо старается наколдовать сладкую улыбку.
Якопо опускает глаза на рукоять своего меча.
– …и платить будет святой отец, не мы…
Бандини самодовольно улыбается. Нет, Пацци никогда ни с кем не будут делить победу. И, само собой, архиепископ не мог бы вернуться в Рим к его святости с каким-то новым счетом. Сикст Четвертый предпочитает собирать, а не раздавать. А счет получился бы изрядный… Сколько бы пришлось продать аббатских посохов, пребенд и индульгенций, для того чтобы оплатить его!
– Рафаэль Риарио, – торопится заметить Франческо, – приведет воинов мессера Джован Баттисты де Монтесекко, переодетых кардинальскими слугами. Вместе с нашими – этого довольно.
Тут заговорил кондотьер. Человек, закованный в железо, сказал:
– Я займу мосты и перекрестки внутри околотков. Захвачу сразу все улицы. В Риме я отобрал людей, опытных в уличных боях. Как только мне на пиру подадут знак…
Франческо Пацци громко, издевательски расхохотался. Так только молодежь смеется над стариками. Кондотьер сжал рукоять меча; он слишком изумлен, чтобы спрашивать, чем вызвано это осмеяние. Разве он сказал что-нибудь смешное? Никто никогда не мог застать его врасплох на поле боя; но теперь он застигнут врасплох смехом этого купца. Вот и архиепископ улыбается. Сальвиати придал морщинам своего пергаментного лица другое расположение и промолвил:
– Мессер Джован Баттиста, кто говорит о пире?
– Но Медичи устроят ведь пир в честь кардинала-племянника? – возразил де Монтесекко. – До сих пор я всегда убивал во время пира.
– На этот раз будет немножко иначе, – отрезал Франческо Пацци. – Вы понимаете, что мы не можем произвести нападение на Медичи, окруженных всей Синьорией и прислугой на пиру у них во дворце?
– От меня скрыли в Риме способ осуществления планов, – резко промолвил папский военачальник. – Чтобы по-настоящему выполнить приказы, мне надо теперь знать все.
Голос архиепископа тих и до такой степени бесстрастен, что, если б не доля сладости, подбавляемая к нему в виде тягучего призвука, он, из-за своей вялости, не был бы даже слышен. Он говорит словно о чем-то совсем другом, как будто вовсе даже не отвечая на вызов кондотьера:
– Наш дорогой кардинал Рафаэль, посланец папы, вероятно, не примет участия в пире. Хоть он еще юн, однако известен своими строгими нравами. Но завтра в полдень он будет в храме Санта-Мария-дель-Фьоре служить святую мессу, на которой мы все будем присутствовать. И не только мы. Я слышал, что Медичи, будучи страстными поклонниками языческой философии, тем не менее до сих пор ходят в церковь.
Тишина. Старый Якопо не понял, де Монтесекко тоже. Они – старики. Странно, что архиепископ замолчал. Только играет папским крестом – и молчит. Бандини, кажется, сообразил. У него слегка задрожали руки. Якопо сидит оцепенелый, не в силах оторвать взгляд от епископа. Этот человек мне послан. Только его я и ждал. Вот сейчас паду к его ногам и скажу: "Я иссох, всевышний от меня далеко, божеское естество его признаю, а человеческое не могу, не могу, хоть бы сердце себе раздробил, не могу, всякий раз в сердце моем клокочет яд, как только начну думать об этом, не верю, чтобы бог стал человеком, не верю в его воплощение, как христиане, не верю в перевоплощение, как платоники, – ни во что не верю…"
Тут кондотьер уразумел. Вскочил с места так порывисто, что наплечья панциря звякнули, стиснул зубы и стоял так мгновенье. Потом из сжатых губ его вырвалось:
– Убить… в церкви?
Архиепископ, прищурившись, устремил на него долгий насмешливый взгляд.
– Вы представляете себе иную возможность застигнуть Медичи? У вас есть другой способ выманить их из дворца, от их друзей и сторонников?
Монтесекко стоит с пепельно-серым лицом, жилистые шершавые руки его крошат ребро столешницы, и кажется, что рот ему свела какая-то судорога, он не может как следует его открыть, повторяет только:
– Убить во время мессы? Я никогда еще не убивал во время мессы…
– Вы подчинитесь… – холодно произнес архиепископ.
Тут губы кондотьера разомкнулись.
– Нет! – ответил он.
Архиепископ Сальвиати удивленно приподнял брови, и пергаментное лицо его дрогнуло.
– Вы отказываетесь, мессер Джован Баттиста де Монтесекко? У его святости есть и другие, более послушные кондотьеры. Полагаю, что Роберто Малатеста, который стоит теперь лагерем у Остии, повиновался бы с первого слова и охотно занял бы ваше место верховного командира папских войск.
Де Монтесекко растерянно касается жилистой рукой горла.
– Убить… во время мессы? – шепчет он. – Нет, это невозможно!.. Я этого не сделаю. Меня нанимали для убийства во время пира, я всегда убивал так, – а про мессу мне никто ничего не говорил.
Сальвиати сидит по-прежнему спокойно, пальцы его слегка шевелятся на золотом наперсном кресте, но лицо у него теперь злое, насмешливое, жестокое. Святой отец полагал, что посылает с нами самого опытного своего кондотьера, а послал дурака. Куда лучше был бы Роберто Малатеста, которого я напрасно предлагал его святости. Но святой отец слишком подозрителен, сразу подумал, что кондотьер из князей больше хлопочет о том, чтобы основать свое государство, чем о преданной службе в интересах святого престола, – и потому-то Малатеста напрасно теряет время у Остии. Вместо него, который охотно, с готовностью, беспрекословно выполнил бы все приказы, потому что никому из Малатеста никогда в голову не пришло бы раздумывать, sacrilegium 1 его поступок или нет, – при мне здесь – вот этот ни на что не нужный старик, который дрожит при мысли, что завтра придется обнажить меч не в пиршественном зале, а где-то в другом месте. Правильно советовал мне в Риме опытный апостольский секретарь Стефано Баньореа. Он сказал мне: "Возьми вместо мирянина двух духовных. Они к священным местам привыкли и не побоятся". Но пришлось взять воина. Какое несчастье! Как бы все дело не провалилось из-за глупости и упрямства этого старика… Сальвиати молчит. Франческо Пацци ударил кулаком по столу, так что вино хлынуло из опрокинутого кубка, будто кровь из раны.
1 Кощунство (лат.).
– Мессер Джован Баттиста! – язвительным голосом разрезал Франческо тишину. – Вы никогда не слышали ни о чем подобном? А где был убит Джован Мария Висконти? В храме Сан-Готтардо. А союзник наш, добрый герцог Галеаццо Мария Сфорца Миланский? В храме Сан-Стефано. Где была истреблена фабрианскими заговорщиками семья князей Кьявелли? В храме. А знаете, что для расставленных в церкви заговорщиков сигналом были слова: "Et incarnatus est…" – "И воплотившегося…" Где же хотите вы приблизиться к тирану, как не в том месте, где его меньше всего охраняют?
Архиепископ медленным, величественным движением руки остановил его речь.
– Милый сын, – примирительно, ласково промолвил он, обращаясь к кондотьеру. – Я привез индульгенции святого отца для всех участников завтрашней святой мессы и полное его благословенье всем, кто будет способствовать его замыслам.
Тут Джакомо Пацци вдруг упал на колени перед архиепископом. Он судорожно теребит край его одежды. Бледный. Руки воздеты жалобно, умоляюще. Нет, ему нельзя упустить этой минуты, время остановилось, ночь остановилась, вдруг закроются все пути, и останешься одинок, непередаваемо одинок. Не исчезнешь, ты – живой, это он, тот, другой Джакомо – чудовищный призрак, а ты здесь, стоишь на коленях у края пастырского одеянья и всю пустоту своей ущербной жизни сложил, как скверну, к его туфлям. Фабрианские заговорщики совершили убийство в церкви при словах символа веры: "Et incarnatus est…" – "И воплотившегося…"
Архиепископ поглядел на него долгим любопытным взглядом. На самом деле все Пацци такие экзальтированные?
– Ваше высокопреосвященство! – прошептал Джакомо. – Вы верите в человеческое естество Христа?
– Никогда не сомневался, милый сын, – серьезно ответил Сальвиати, никогда не сомневался в истинах нашей святой веры.
– А я не могу в это верить, – с горечью продолжал шепотом Джакомо. – В божественную природу Христа верю, а в человеческую не могу. Слишком мерзок мне человек, я гнушаюсь им, как самим собой, хочу верить во что-то, в чем нет человеческого, – да, в божественное естество Христа верую, твердо верую, а в человеческое – не могу…
– Написано… – сказал архиепископ Сальвиати, – написано: et incarnatus est de spirito sancto ex Maria Virgine et homo factus est… И воплотившегося от духа свята и Марии девы и вочеловечившаяся. И мы преклоняем колена при этих святых словах. С твоей стороны было бы большим заблуждением это отвергать. Языческие боги превращались в людей ради наслаждения. А наш спаситель воплотился затем, чтобы взять на себя боль и все горе человека. Мертвенной бледностью его мы излечены… ты знаешь этот текст.
Джакомо молчит. Архиепископ положил руки на его смоляно-черные женские мягкие волосы.
– Завтра, – говорит он, – завтра придешь ко мне, исповедуешься. Нет такого темного заблуждения, которого не рассеял бы свет веры святой. – Потом обратился к остальным: – Теперь пора отдохнуть. Не забудьте: во время завтрашней кардинальской мессы сигнал к нападению на Медичи – слова, возвещающие чтение Евангелия. Дьяконить будет каноник Антонио Маффеи. Как только он станет лицом к святой книге и возгласит: sequentia sancti Evangelii 1, так встанут благочестивые в храме, верные сыны церкви, исполнить замысел святого отца. Джулиано Медичи – на ответственности Франческо и Джакомо Пацци, Лоренцо Медичи – на моей и мессера Бандини. Вы, Якопо, будете со своими людьми на площади и, как только услышите шум в храме, поднимайте их на приступ дворца Синьории. Вы, Джован Баттиста де Монтесекко…
1 Святого Евангелия чтение (лат.).
Кондотьер, не выходивший из своего оцепенения, услышав, что его назвали по имени, очнулся. Жилистые руки его сжаты по-прежнему.
– Я отказываюсь от своего звания, – говорит он. – Я перейду на службу к Сиенским!
Холодный, насмешливый взгляд архиепископа пронзил его.
– Я отказываюсь принять в такое время ваш отказ от договора и повиновения. Приказываю вам от имени его святости, а вы повинуйтесь! Но чтоб не обременять вашей совести – не входите вовсе в храм. Останьтесь со своими людьми снаружи, на улицах. Займите мосты и захватите сразу все околотки, как вы говорили…
– Я перейду на службу к Сиенским, – повторил кондотьер.
Франческо Пацци встал и насмешливо ему поклонился.
– Вы удачно выбрали город и верный путь к святости, но в ином смысле, чем полагаете. Сиенские умеют вознаграждать своих кондотьеров. И вас постигнет участь великого кондотьера сиенского Никодема де Гомбо. Вы будете их святым! Они поступят с вами, как некогда римский сенат с Ромулом. Какой почет! Когда он освободил город от врагов, они стали ежедневно совещаться, как его отблагодарить, и пришли к заключению, что любая, самая высокая награда – недостаточна, даже сделай они его своим тираном. И решили: убьем его, а потом будем чтить, как покровителя города. Так и сделали. Таковы Сиенские, и такой будет ваша святость.
Началось молитвой, а кончили этой забавной историей, засмеялись и стали расходиться. Ушли. Слуги принялись гасить свечи. С каждым угасшим змеиным глазом тьма усиливалась. Потом убрали кубки и закрыли за собой дверь. И ночь сделалась как любая другая. В пустой горнице остался только крест. Губы были посинелые, полиловевшие, но узкие волны их по краям уже чернели спекшейся кровью. Терновый венец – страшное и царственное украшение оставленности огромен, и ощетинившиеся, длинные, неустанно язвящие острия его, благодаря наклону головы к плечу, затеняли глаза. Каждый смотрящий в эти глаза видел их неподвижный взгляд лишь сквозь эту тень.
Той же ночью кондотьер Джован Баттиста де Монтесекко, человек, не знающий места своего рождения, тайно выехал воротами Сан-Никколо, навсегда покидая город и службу папы!
Под звон колоколов
"…Тут и жизни животного достигает душа человеческая, и из животного тот, кто некогда был человеком, снова обращается в человека. Душа, никогда не видевшая истины, не примет человеческого образа. Ибо человек должен понимать истину на основании того, что называется идеей, которая, исходя из многих чувственных восприятий, слагается путем логического рассуждения в единое. А это единое есть воспоминание о том, что некогда наша душа видела, когда она с богом шествовала, сверху смотрела на то, что мы называем теперь существующим, и "ныряла" в действительное сущее. Отсюда справедливо, что одно только размышление человека, мудрость любящего, окрыляется: при помощи памяти он всегда пребывает, по возможности, при том, что, божеством будучи, является божественным.
Таковыми воспоминаниями правильно пользуясь, всегда совершая совершенные таинства, только такой муж совершенным по существу становится. Стоя вне человеческих стремлений…" 1
1 Платон. Федр, гл. 29.
Лоренцо Медичи движением руки остановил чтеца. Бронзовый рокот греческого языка в большом, просторном помещении сразу умолк. Анджело Полициано, преподаватель греческого и латинского красноречия, закрыл книгу, не дочитав предложения. В храме Санта-Мария-дель-Фьоре заблаговестили, и Джулиано Медичи, подвижной и стройный, в черной бархатной одежде, с золотой цепью на шее, набожно перекрестился.
– Пора идти, – сказал Лоренцо Медичи.
Зоркие, внимательные глаза его с любовью устремились на брата, но Джулиано продолжал сидеть.
– Пизанский архиепископ Сальвиати уже приехал нынче ночью, – сказал он.
– Что ж, – улыбнулся Лоренцо. – Есть архиепископы, которые ходят только ночными путями.
– Неужели у святого отца нет других послов и других провожатых для его кардиналов, кроме тех, что ходят ночными путями, вступают в города тайно, и рука их прославилась больше ломаньем печати на договорах, чем благословеньями?
Лоренцо равнодушно пожал плечами.
– Кто теперь способен разобраться в политике его святости? А у нас пока нет договора со святым отцом, так что пизанцу здесь нечего ломать.
– Сальвиати – разбойник и сюда явился как разбойник, – вспыхивает Джулиано, и стройные руки его крепко засунуты за золотой пояс. Он решительно не хочет вставать и идти туда, откуда благовест.
– Архиепископ из Пизы жаждет кардинальской шапки, – говорит Лоренцо. Но Пиза – бедное архиепископство. У них там нет денег на покупку пурпура. Так он хочет выслужиться иначе. Он всегда отличался излишним рвением. Нетерпеливый обычно терпит неудачу. Вообще я не боюсь архиепископов, которые ходят ночью. И тем подозрительней отношусь к кардиналам, которые появляются днем.
– Наши львы, – возразил Джулиано, – наши львы ревели почти всю ночь.
Лоренцо удивленно поднял голову и нахмурился.
– Это уже серьезней… – тихо промолвил он.
– Ландини до сих пор не идет за нами, – продолжал Джулиано.
– Что ж, – опять уже улыбнулся Лоренцо. – Гонфалоньер республики, видимо, задержался на встрече кардинала-племянника.
– Рафаэль Риарио приехал с необычно многочисленной свитой, и многие из наших, бывавшие в Риме, узнали среди его спутников переодетых папских солдат.
Лоренцо, по-прежнему с улыбкой, кладет обе руки на стройные, до сих пор еще почти мальчишеские Джулиановы плечи.
– Джулиано, – спокойно произносит он, – я знаю, что ты бесстрашен. Но и опасения твои неосновательны. Никто здесь не решится сделать что-нибудь против нас. Для этого выбрали бы другое время. Никогда Флоренция не была нам более верна, чем теперь.
Джулиано молчит.
– Уже три дня тому назад, – продолжает Лоренцо, – я получил текст договора, который предлагает нам кардинал Риарио от имени святого отца. Он очень выгодный.
– Timeo Danaos et don ferentes, – отозвался сухой голос Полициано. Боюсь я данайцев, даже дары приносящих.
Плыл колокольный звон. Металлический голос, не только ломающий молнии и отгоняющий бури, но и оплакивающий мертвых. Сейчас он сзывает. Улицы, конечно, уже полны народа, спешащего в храм, словно нынче праздник. Редко принимает Флоренция в своих стенах кардиналов. Прошло время, когда флорентийская роза притягивала своим благоуханием и на улицах стояли триумфальные арки с надписями, гордыми до кощунства. Не то что какой-то кардинал-племянник, а сам папа Пий Второй, к тому же сиенец, приехал когда-то, в сопровождении десяти кардиналов и шестидесяти епископов, полюбоваться флорентийской весной, и гонфалоньер Бернардо Герарди имел возможность блестяще острить с его святостью о парче папского облачения, что она больше обозначает: superbiam или sanctitatem, тщеславие или святость, ткань тяжелая, величавая, воистину архиерейская. Встреча была славная. Вдоль улиц стояли на коленях перед мулами кардиналов королевские пленные, Югурта со своими нумидийцами переходил под власть церкви, и сам патрон города, святой Иоанн Креститель, вдруг спустился с портала, на крылах восьми ангелов, и подал святому отцу ключи от городских ворот. Когда на площади закружились шары планет, под которыми был рожден Пий Второй, и из каждого шара вышел гений рода Пикколомини, рухнул блистающий мишурой столп идолопоклонства, а на другом столпе, мраморном, высоко подняв факел, запела ликующую песнь – Вера…
Но тогда… Тогда еще архиепископы не приезжали ночью, а кардиналов, в чьей свите не было физиономий из римских солдатских кабаков, приветствовали самые прекрасные девушки города, полные прелести и очарования, – здесь Милосердие, там Умеренность, дальше Смирение и, наконец, Благочестие.
Теперь такие вещи можно увидеть лишь во время карнавала. Кардиналам известны другие пути. Но ни одному из них святой Иоанн Креститель, небесный покровитель Флоренции, не подает ключей от городских ворот. И правитель Медичи, конечно, знает, почему Сикстова племянника Риарио не приветствуют аллегориями Смирения и Милосердия.
Улицы шумят. Хоть нынче королевские пленные не поют своих сонетов на перекрестках, под рабским игом, и зрелище – скудное, народ валит толпами со всех кварталов к Санта-Мария-дель-Фьоре, на кардинальскую мессу. В кропильницах явно недостанет святой воды, и в переполненном храме даже в самую святую минуту едва ли кому удастся преклонить колена.
Металлический голос колоколов и металлический голос наполненных народом улиц долетает даже в зал, полный солнца и красок. Пестрые плитки множат отраженья огней. В больших стройных вазах – одни только розы, флорентийские розы, полные музыки, сновидений и крови.
– Не пойду слушать мессу, – решил Джулиано и потянулся к книге, которую Полициано перед этим читал и не докончил.
Лоренцо стал серьезным.
– Тебе надо пойти, Джулиано! – строго сказал он.
Он стоит выпрямившись, уже готовый к отходу. В одежде из черного бархата, простроченного белым атласом, и тяжелые аметистовые застежки у горла – единственные на нем драгоценности. У пояса – кинжал в чеканных золотых ножнах. Пронизывающий взгляд его смягчился, руки – стали мирными, успокоились. Он глядит ясным взглядом на брата, который пока в возрасте рассеяния и юного высокомерия и чье выразительное лицо полным-полно страсти, молодости и любви. Видно, что сердце все время трепещет новым и новым познанием, лицо непрерывно и неустанно говорит об этих трепетах, каждый мускул, каждое движение век, каждый маленький изгиб губ – все изображает горящую глубоко внутри пылкую жажду жизни. Джулиано не умеет владеть собой. Джулиано никогда не будет политиком. Но он молодой и красивый, и все будет у него молодое, и красивое, и жаждущее жизни.
– Надо, Джулиано! – тихо повторяет Лоренцо. – Почему ты не хочешь к мессе?
– Потому… – Джулиано говорит теперь твердо, коротко, голосом игрока, которому выпало в конце концов счастливое число. – Потому что Пацци утром, еще на рассвете, уже были у ранней мессы.
Тут Лоренцо, пораженный, снял руки с братниных плеч, и сердце его затопила, заполонила тоска. Дело, оказывается, серьезное.
– Кто служил? – с усилием спросил он.
– Сальвиати.
– И… они молились?
– Очень усердно, – ответил Джулиано с горькой улыбкой. – Даже слишком. Как люди, неравнодушные к тому, что принесут им ближайшие часы, и ожидающие не только празднества. В церкви никого не было, кроме них: Франческо Пацци, Якопо Пацци, Бандини Барончелли. Архиепископ Сальвиати благословил каждого особо, и только после этого храм был открыт для всех.
– Видно, нынче же что-то готовят.
– Что-то? – Джулианов голос звучит все насмешливей.
Тоска, да, тоска. Не буря гнева, не ненависть и отвращение, не быстрое обдумывание ответных мер и способа отразить удар. А тоска. Странное, удивительное, тягостное ощущение тоски. Отчего? Может быть, это то, что Платон называет несходством сущего. Сорвать бы сейчас с себя черную одежду и надеть панцирь, подать команду вооруженным воинам и на расставленную западню ответить ударом. Если б я сейчас дал приказ, сомкнулись бы челюсти ворот и никто бы не скрылся. Нет, я не сделаю этого. Отчего? Тоска. Что я создал? Никогда еще Флоренция, итальянские Афины, не цвела, как теперь. Я – не тиран народу, который любит меня, поет мои песни, богатеет под моей властью. Я собрал здесь такие сокровища искусства, что в Европе нет короля, который бы мне не завидовал. Я сочиняю для народа карнавальные песенки, я люблю свой народ и этот город. И охраняю Италию. Хочу для нее мира. Хочу, чтобы папа был властелином духовным и руководил нами в святом благочестии. А он хочет быть также властелином светским и управлять нами в интересах своей семьи. Если я хоть на мгновенье перестану сдерживать захватнические стремления и аппетиты всех этих его племянников, сейчас же всюду вспыхнут войны, и в стране, ослабленной непрестанным взаимным истреблением, охваченной голодом, каждый будет делать, что хочет. И Альпы расступятся, чтоб пропустить французские войска, и Магометовы мусульманские орды заполонят страну. Тоска от тщетности всего. Нет, не смотрят вдаль все эти Риарио, делла Ровере, родственники, племянники, дяди, старик в тиаре, энергичный и злобный, беспрестанно ссорящийся со всеми итальянскими государствами и рассылающий свои интердикты. Тоска. Почему? Нужно действовать. Быстро. Немедленно. Что это я вдруг так ослаб? Слишком люблю своих римских элегиков, слишком много занимаюсь Платоном, – нет, это пустая мечта… Действовать. Действовать круто, беспощадно.
…illius tristissima noctis imago
qua mihi supremum tempus in urbe fuit…
"…той печальнейший образ ночи, когда уж недолго мне в городе быть оставалось…" Довольно! Сейчас – вспоминать Овидия! Сейчас, когда я одним словом могу закрыть ворота и направить острия копий в грудь врага, сейчас вспоминать Овидиевы томления! Да, так называл это философ: несходство сущего, откуда когда-нибудь брызнет струей для того, кто не проник до его ядра, вся слабость жизни. А может быть, и то, что в памяти моей вдруг всплыли именно эти Овидиевы стихи, неспроста: это знаменье! Поэт, сосланный на варварский Понт, не умирал от большей тоски, чем умирал бы я, если бы мне пришлось расстаться с тобой, Флоренция, если бы я был удален от тебя, дорогой мой город, город пламенный, город навеки любимый, tristissima noctis imago, печальнейший образ ночи, если б я знал, что даже свет звезд остановился над моим городом, нарушая свой чин, – но от неги и любви.
Джулиано стоит совсем близко.
– Ты слышишь, что я говорю? – произносит он горячо и страстно. – Тебе все ясно? Пизанский архиепископ Сальвиати приехал тайно в ночи, жаждет выслужить себе кардинальскую шапку, Рафаэль Риарио приехал нынче утром с большой свитой, в которой много переодетых папских солдат, Якопо Пацци расставил подозрительных незнакомцев вдоль мостов и на перекрестках, перед дворцом Синьории…
Лоренцо повернулся к брату, и лицо его было уже спокойно. Обычным своим голосом он промолвил:
– Из всего этого важны только две вещи, Джулиано, только две. – Он посмотрел прямо в глаза брату. – Две вещи: утренняя месса и рев львов…
Колокольный звон умолк, больше медлить нельзя. Кардинала уже облачили в богослужебное одеяние, и храм Санта-Мария-дель-Фьоре переполнен. Святой воды на всех недостало.
– А ты? – Джулиано схватил руку Лоренцо, но тот легонько ее высвободил.
– Я пойду, – ответил он. – Не верю, не верю я, чтоб они были способны на что-нибудь подобное. А если б и так, я всегда предпочитаю смотреть прямо в лицо событиям. Ты это знаешь… Да если б я не пошел, было б еще хуже!
– Ты сумасшедший! – вспылил Джулиано, и жила гнева, пульсируя, выступила у него поперек лба. – Ты сумасшедший, коли сам лезешь в западню. Не посмеют, не посмеют. Ты думаешь, Сикст не способен на все? Думаешь, во время мессы ты в безопасности? Они молились – и как молились! А потом каждый из них в отдельности получил особое папское благословенье. Сикст! Он дает разрешение на все, когда дело идет об интересах его семьи. Знаешь, что поют о Риме? Там все продажное: алтари, священники, святыни, бог… Да, так поют о Риме – и не только у нас, но и в Германии и в Англии… Все в Риме продажное – убийство и злодеяние, когда это касается интересов делла Ровере. Сикст! Его политика…
– Именно поэтому и пойду, – сказал Лоренцо. – Сумасшедший – ты! Представляешь себе, какую сеть замыслов начнет ткать Сикст, как он обрадуется, если узнает, что во Флоренции к Медичи торжественно прибыл кардинал-племянник с договорами, а Медичи не явились на его мессу? Как сейчас же полетели бы ко всем итальянским дворам посольства…
– Ну так иди! Иди! – Джулиано сжал кулаки, и рот его полон слюны. Иди! А я не пойду!
Лоренцо слегка пожал плечами и повернулся к остальным присутствующим… Они стояли далеко от обоих братьев, у дверей в зал, и, видя, что те о чем-то спорят, не вмешивались. Кто, когда, будучи философом, вздумал бы принять участие в разногласии братьев, к тому же еще правителей? Они ждали.
Здесь был гонфалоньер республики Кристофоро Ландини. Совет пятисот должен бы трепетать перед его решениями, но не трепещет. Часто во время заседания возникает необходимость что-то ему объяснить три, четыре раза – и еще мало. Потому что нет ничего более ему чуждого, чем дела политические. Редко-редко возьмет он в руки какой-нибудь документ, – ведь для этого есть нотариусы, секретари, группа советников, cancellarium, collegia. Но он, преподаватель поэтики и риторики, написал комментарии к Горацию, комментарии к Вергилию, "Камальдульские диспуты", "Три диалога". Хотя вся его ученость стояла здесь с ним в осанистой, величественной позе, нельзя не упомянуть также о трех книгах элегий под заглавием "Ксандра" – по имени предмета его великой любви монны Александры, ибо и этот платоник испытал свою боль.
Рядом стоит его ученик Анджело Полициано, который читал Лоренцо Платонов диалог "Федр", перед тем как послышался колокольный звон из храма Санта-Мария-дель-Фьоре. Когда Козимо Медичи, pater patriae, вызвал знаменитых ученых Аргиропулоса из Византии и Андроника из Фессалоник, Полициано стал первым их учеником. А вторым – Лоренцо. Так росли они вместе над текстами философов. Он не только платоник, он – гуманист. Никто не сравнится с ним в критике и толковании античных авторов. Не щадя сил в исследовании всего доступного рукописного материала, он изучает все, и его приговор является всегда окончательным решением самых спорных вопросов. У ног его садятся студенты из Германии, Англии, Фландрии, приезжают из Шотландии и Фламандии, приезжают из Швеции и Польши, приезжают из северных королевств. Португальский король Иоанн хочет послать ему летописи о славных делах мореплавателей и об африканских морских путешествиях в итальянском переводе с латинского оригинала, чтобы эти великие дела, – так пишет он, не оказались засыпанными на свалке человеческой бренности. Но он также поэт, и народ распевает его баллады о розах, подобно тому как ученики жадно глотают его экзегезы. Он стоит возле гонфалоньера Ландини, поглощенный размышлением о том, что слышал. Он один был свидетелем всего спора и молчал, в глубине души считая, что прав Джулиано. Он дивится вдумчивой мудрости Лоренцо, сам бог выбрал для Флоренции такого правителя. Когда они вместе заполняли первые тетради чернилами под строгим наблюдением Аргиропулоса из Византии, он не мог еще предполагать, какое дарование таится в таком тогда непоседливом и рассеянном Лоренцо. Он смотрит на него с удивлением, а на Джулиано – с любовью. Ты молод, Джулиано, ты молод и полон юной прелести. Я пишу о тебе поэму, большую поэму, которая явится неожиданностью для всех. Станцы о турнире. Я – философ! Джулиано, ты устроил турнир в честь своей возлюбленной, прекрасной Симонетты, и никто не одержал над тобой победы, кроме Амора, сына Венерина. Эрос – как называет его Платон. Есть четыре вида неистовства, говорит божественный Платон. Это верно, что Эрос – один из них. Ибо он – тайна. А последнее слово тайны, согласно божественному Платону, опять-таки лишь экстаз, species 1 неистовства, любовь…
1 Вид (лат.).
Стоящий позади них Марсилио Фичино улыбается. Наверно, опять сочиняет какую-нибудь острую, насмешливую эпиграмму на поэта Луиджи Пульчи, знаменитого автора эпической поэмы "Морганте", с которым он постоянно в ссоре. Марсилио Фичино, крупнейший из всей медицейской академии, как раз заканчивает труд своей жизни: "Платонова теология о бессмертии человеческой души". Но для философа полезно также изощрять разум свой остротами насчет других, и тут самый подходящий человек – этот Луиджи Пульчи, умеющий хорошо ответить. Биться с Луиджи Пульчи – наслаждение, но утомительно перебрасываться шутками с Пико делла Мирандола, который сейчас говорит с Джулиано, а воротник у него, такой высокий, похож на воротник шута. Да разве он не шут? Хочет примирить Аристотеля с Платоном. Какое безумие! Флоренция всегда будет платоновской, предоставим Аристотеля доминиканцам и церкви! Но Пико проводит слишком много времени с священниками, роется в Писании, постится и умерщвляет плоть, хочет реформировать церковь и не верит ни в черную магию, ни в астрономию. Марсилио Фичино потешно сморщил свою узкую лисью физиономию. Adversus astrologos – двенадцать книг против астрологов написал этот ханжа, как раз когда я составил для Медичи хорошие, правдивые гороскопы. Помирить Платона с Аристотелем! Какая несуразица. С тех пор как старый Козимо Медичи, pater patriae, умер с Платоновым диалогом в руке, Флоренция стала и навсегда останется платоновской. Уже в лето господне 1397-е флорентийцы призвали из Византии ученого Хрисолога, столь знаменитого, что сам византийский император горько сожалел о его отъезде и велел ему через три года вернуться. Тогда его лекции привлекали такую тьму народа, что ученики забивались в аудитории с сумерек на всю ночь, чтоб обеспечить себе место; юноши продавали золотые украшения, одежду, даже оружие и коней, чтобы купить себе Ласкарисову греческую грамматику или заплатить за домашние уроки греческого. А после славного флорентийского собора 1439 года, на котором встретились папа Евгений Четвертый и византийский император Иоанн Палеолог, чтобы торжественно отметить слияние римской и византийской церквей, – окончательно определилось, что нежная и прекрасная Флоренция становится самым мудрым из всех итальянских городов. Козимо Медичи, pater patriae, объявил об основании Платоновой академии. Против Аристотеля, которого церковь считает чуть не своим доктором, против этого великана в шлеме, "Суммы теологии", стоящего на пьедестале доминиканской инквизиции, наша Академия отважилась высоко вознести утонченность платонизма, мудрость Филона, толкователя александрийской школы, который был вторым воплощением Платона, и бесконечное, бессмертное познание божественного Плотина. Альберт Великий и ученик его Фома Аквинский думали, что навсегда изгнали Платона, – нет, мы опять торжественно его приняли, и возвращение его было триумфом. Козимо Медичи был решительно сторонник Платона. Он выписал грека Иоанниса Аргиропулоса из Византии, вверил ему своего внука Лоренцо и тотчас прогнал ученого обратно, когда убедился, что этот магистр – тайный аристотелик и толкует Платона тенденциозно. Я же навсегда останусь верным учению премудрого Гемиста Плетона (где то время, когда он ходил по садам Медицейским со мной и византийским императором Иоанном? Нет уже Византии!) с его толкованием трех переворотов, трех ступеней сущностей, идей, кругов, экстазов, воплощений и перевоплощений… Что рядом с ним противный, вечно хмурый Пико делла Мирандола со своим безнадежным аристотелевским опытом. Правитель Лоренцо высказал мудрую мысль: "Нельзя быть добрым христианином, не зная Платона". Но народ нас не понимает, народ от нас отворачивается, народ считает нас язычниками. Надо им как-нибудь поразумнее растолковать. Я поднялся на кафедру Святого Ангела, и меня, каноника, не хотели слушать. Я сказал им: "Что же вы отворачиваетесь и бушуете? Наш Платон – не кто иной, как Моисей, говорящий по-гречески…"
И Фичино, вспомнив об этом случае, не удержался от смеха – сперва тихонько, про себя, но потом уже не мог скрывать, смех его становится все сильней, громче, неудержимей, подымается в нем, бьет из него, разбрызгивает мелкие морщинки его лисьего лица и опять собирает их, вздувается и перехватывает у него дыхание, кружит под ложечкой, мучительно сжимает ему сердце, осклабляет больной, беззубый рот, увлажняет его слезные железы, возгоняет кровь до высохших щек; Фичино согбен смехом, придавлен смехом, это барабанный бой и трубный глас смеха, разливающийся по высокому залу. На него оглянулись, озабоченные, удивленные. При нем никто не чувствовал себя спокойно за столом Медичи. Но редко можно было слышать, чтоб он смеялся без насмешки, от всей души, как теперь, среди глубокой тишины и в ожидании приказа правителей. Тут Марсилио Фичино, с перекошенным ртом, из которого вылетали теперь только стоны и вздохи, словно он уже пресытился смехом, объяснил, почему он так смеялся. Платон – это Моисей, говорящий по-гречески…
Лоренцо скользнул по Фичино взглядом. Может быть, так и надо. Может быть, все ощущение трагического одиночества, неясность грядущей судьбы и ответственная минута великих решений – все это, может быть, должно кончиться остротой каноника, превратившего даже церковную кафедру в подмостки гаера. Может быть, этот хохот – единственный возможный итог. Лоренцо подошел к Джулиано, но тот строптиво не принял его руки. Потом вдруг поцеловал брата прямо в губы, стремительно его обняв.
И вот они уже идут. Идут полными толп улицами, народ расступается перед правителем, многократные отголоски кликов и приветствий, ликующих возгласов дробятся о дома площади. Лоренцо идет спокойный, улыбающийся, в одежде черного бархата, простроченного белым атласом, и тяжелая аметистовая пряжка у горла – единственная на нем драгоценность. Вокруг Лоренцо черно мерцает горстка его друзей, большей частью в одеяниях гуманистов. Без охраны, без вооруженного эскорта, слегка опираясь на руку гонфалоньера республики, идет Медичи со своими философами на кардинальскую мессу.
Портал Санта-Мария-дель-Фьоре забит желающими проникнуть в храм, однако не всеми руководит благочестие. Но даже те, кто галдит всех сильней, быстро дают проход. Восторженные голоса, выкрики. Раскрасневшийся, сдержанно-взволнованный, продвигается в толпе пожилой человек, подгоняя короткими злыми окриками слугу, тщетно старающегося раздвинуть перед ним толпу пошире. Слуга тащит хозяина, как мул поклажу. Вдруг в толпе поднялась новая волна, пробежало несколько шквальных порывов, и хозяин, уже без слуги, зашатался, словно упал с седла. Но его тут же поставили на ноги сильными толчками те, кто с ревом ломился вперед, осыпая дикой руганью каждого, кто становился им поперек дороги. Валит сплошная мешанина тел, беспощадно сметающая все на своем пути. Он с негодованием называет свое имя, но крик стоит такой дикий, буйный, шальной, а брань такая злобная, что имя тонет в ругательствах, и он умолкает, сберегая дыхание, которого в обрез. Его пинают, швыряют во все стороны, сшибают с другими, ломают, тащат, мнут и в конце концов вдруг кидают к стене, где он охотно притулился бы, но прежде чем он успевает нащупать какую-нибудь нишу, решетку или какую ни на есть опору, волны опять отрывают его и несут дальше, слегка приподняв, так что он еле касается земли ногами. Назад – уже невозможно. До церкви еще далеко. Солнце горячее. Толпа жаркая. Это человеческий жар, у которого свое собственное пламя, бьющее вверх, к знойному небу, к раскаленному небесному своду. Сдавленная толпа колышется из стороны в сторону, и ему, еле дышащему в этой жаре, кажется, что, взглянув в сторону, он увидит страшную угрозу гибели, так как в колыханье толпы даже дома по всей площади как будто валятся, коробятся, сползают с мест, рушатся. И рев при этом такой, как во время сражения или бегства из горящего города. Когда он уже падал под ноги остальных, его подхватил какой-то молодой человек лет двадцати шести и пробился с ним сквозь волны человеческих тел. Мускулистые руки молодого человека настолько облегчили его продвиженье, что оба наконец выбрались поближе к стене, где им удалось ухватиться за круглую бронзовую скобу ближайшей двери и постоять, пока не прокатятся мимо новые волны человеческих тел. Потом вокруг них стало свободней. Можно было перевести дух, перемолвиться словом; к синьору вернулась краска в лицо. Он от души поблагодарил молодого человека, притом – с подчеркнутой любезностью. Тот отвесил ему глубокий поклон. Взгляд синьора с восхищеньем остановился на его стройной, гибкой фигуре. А молодой человек, еще со шляпой в руке, словно не решаясь надеть ее перед такой важной особой, с изысканной вежливостью осведомился о здоровье мессера и его семьи.
– Мы только недавно вернулись, – объяснил синьор. – Живем в Сеттиньяно, и для меня было бы честью, если б вы к нам пожаловали, Леонардо.
Молодой человек вежливо поблагодарил.
– А монна Франческа здорова?
Лодовико Буонарроти Симони слегка нахмурился.
– Не совсем здорова, но по-прежнему весела. Хорошая женщина. И счастлива, что мы опять во Флоренции.
Вокруг стало почти совсем свободно. Последние ряды втеснились в храм, и теперь оба медленно идут за ними, причем молодой человек учтиво поддерживает мессера Лодовико, который вдруг разговорился. Ему редко представляется случай с кем-нибудь побеседовать. Семья их живет теперь в большом уединении. А ему не к лицу вступать в разговор с кем ни попало. Всего пять лет тому назад Лодовико Буонарроти Симони был членом совета Синьории, входил в число двенадцати членов Коллегии Буономини, но потом ему пришлось уехать в Кьюзи и Капрезе – на должность подесты. Впрочем, это было в традициях семьи, так как уже отец его был подестой в Капрезе, – да за традицию теперь редко хорошо платят. А тяжело из скромных канцелярских доходов платить еще другим чиновникам, слугам, содержать дом, иметь лошадей, хорошо одеваться. Теперь он вернулся с женой монной Франческой ди Нери ди Миньято дель Сера и с двумя своими сынками, Лионардо и трехлетним Микеланджело. Флоренция, конечно, уже забыла члена Коллегии Буономини. Подеста из Капрезе – во Флоренции ничто. И он живет вместе с семьей брата Франческо в небольшом именьице в Сеттиньяно, выручки от меняльной конторы брата на Ор-Сан-Микеле едва хватает на два дома, хоть брат, все более озлобляясь, и взял себе привычку слишком распространяться о том, как он, Лодовико, должен руководить семьей… А монна Франческа нездорова. После рожденья Лионардо у нее пропало молоко, а когда родился сыночек Микеланджело, она не смогла его кормить. Советы есть как можно больше салата, миндаля, риса, молочных супов и потом этих особенных смесей из молодых семян пинии, белой каши и неразбавленного красного вина оказались напрасными. Ничто не помогало, и для маленького Микеланджело пришлось взять в Капрезе кормилицу, жену одного каменотеса… Это очень плохо! Ведь ребенок с молоком матери всасывает материнские свойства, это известно, а монна Франческа – примерная женщина. У сынка Лионардо не особенно хороший гороскоп, там довольно неблагоприятные знаки и в конце концов даже чума. А крошка Микеланджело родился в два часа пополуночи под очень странным сочетанием звезд: соединение Меркурия и Венеры находилось прямо под властью Юпитера. Это обозначает великие события. А вот материнским молоком не удалось вскормить – это плохо, очень плохо! Монна Франческа нездорова, и у мессера Буонарроти Симони много с ней хлопот, потому что он хотел бы иметь много детей, как честь рода требует, и грустно думать, что монна Франческа, которой только двадцать два года, может быть, больше ни одного ему не принесет. Бабушка, мудрая монна Лессандра, утверждает, правда, что положение еще поправится, но пока – не видно…
У входа в храм они простились, так как Леонардо хотел еще приветствовать своего доброжелателя, мессера Бандини да Барончелли, но, зная, что мессер Буонарроти презирает политические взгляды Бандини, не стал ему об этом говорить. Воспользовавшись неожиданно возникшей у входа сумятицей, он поспешно откланялся. Лодовико еще раз оглянулся на него. Вздохнул. Какой услужливый, разумный, благовоспитанный молодой человек, только совсем не думает о своем будущем! Он – один из лучших учеников маэстро Верроккьо, и последняя картина его "Благовещение", недавно привезенная из церкви Сан-Бартоломео-Монте-Оливето, – отличная работа, чистая работа, притом и благочестивая. Да, но что в том: ведь он – только художник…
Мессер Буонарроти глядит ему вслед почти с сожалением: какой это был бы способный нотариус, унаследуй он традицию своей почтенной семьи, семьи да Винчи, которая дала Флоренции столько хороших нотариусов! Право, нужно удивляться, что отец его, мессер Пьеро да Винчи, позволил ему поступить в мастерскую живописца. И то сказать, дело идет о незаконнорожденном… Мессер Буонарроти Симони втиснулся в переполненный храм, и важная физиономия его приобрела еще более величественное и торжественное выражение. Нет, ни один из его сыновей не будет учиться ремеслу вертопрахов, ни один не будет есть ненадежный хлеб искусства! У брата Франческо нет детей, ему некому передать свою солидную меняльную контору на Ор-Сан-Микеле. Они будут менялами и банкирами! Ни одному из них не придется слоняться со своей малярной кистью или резцом по княжеским дворам либо монастырям, которые платят мало и неаккуратно. Впрочем, у него нет и не будет незаконных! Монна Лессандра, мудрая старушка, уверяет, что положение поправится…
Леонардо да Винчи! Жалко его. Учтивый, услужливый, разумный молодой человек, говорун малость и выдумывает всякие чудные изобретения насчет перенесения церквей, поднятия мостов да изменения речных русл, но он – из хорошей семьи нотариусов и, конечно, покопавшись в запутанных деловых бумагах такого монастыря, как Санта-Аннунциата, например, быстро отрезвел бы. Сомнительная честь – быть художником! Хотя правитель Лоренцо Медичи год тому назад купил у Верроккьо для дворца Синьории статую Давида и натурщиком был как раз Леонардо, но Буонарроти при мысли об этом даже вздрогнул. Подумать страшно! Если б кто-нибудь из его сыновей встал вдруг в Палаццо-Веккьо так вот нагишом, в том славном Палаццо-Веккьо, куда он, Буонарроти Симони, входил только под громкие фанфары труб – в качестве члена Совета двенадцати…
КАРДИНАЛ РАФАЭЛЬ РИАРИО БЛАГОВЕСТВУЕТ ЕВАНГЕЛИЕ
Кардинал Рафаэль Риарио, в тяжелом богослужебном облачении и побледневший от холода ризницы, уже готов. Ему еще нет двадцати, но он кажется старше в расшитой жемчугом золотой ризе. Не молодит и полумрак ризницы, слабо рассеиваемый окнами и светом свечей. Возле него стоит, тоже уже облаченный, каноник Антонио Маффеи, очень тучный, так как пребенда у него доходная, а слабость человеческая часто впадает в искушения, и каноник Маффеи, охотно уповающий на милосердие божье, иной раз до того подвержен этим искушениям, что о некоторых его проделках добрые кумушки целого квартала задавались вопросом, выдуманы они быстрым на выдумки мессером Боккаччо или были на самом деле. Тучной плоти трудно бороться с искушениями, все дело в этом. Теперь он стоит совсем рядом с кардиналом и что-то почтительно ему нашептывает, слегка пришепетывая – не то от холода в помещении, не то оттого, что прикрыл рот мясистой рукой. Молодой кардинал как будто не слышит. Он не сводит глаз с большого, сильно позолоченного предмета, лежащего перед ним на мраморном столе. Свет свечей играет на этом золотом шаре, но как бы разверзая его выпуклую поверхность. Это предмет священный, но внезапно вокруг него распространился какой-то запах жженого, чего-то нечистого, мутного, и отверстие полно предательства. Кардинал не может оторвать от него взгляд, и взгляд этот – не ласкающий, а скорее испуганный, неуверенный.
Это кадильница.
Когда ее подадут ему, он окадит алтарь, – и он уже заранее чувствует слабый аромат фимиама. А потом ее возьмут у него и унесут, и с ней двинется процессия свечей. Это будет торжественная месса, кардинальская месса. А потом… Потом ее вынесут к Евангелию.
Каноник Антонио Маффеи посвящен во все.
Золотая и тяжелая, лежит она здесь, как звезда, упавшая на мрамор. С которого круга небес? Стоял архангел направо от алтаря божьего с кадильницей в руке… Stetit Angelus juxta aram templi, habens thuribulum aureum in manu sua. Вот она лежит, холодная, чужая, и все благовония, которые она отдала когда-либо во славу божью, должны бы лежать с ней, досыта пропитать ее металл и слиться с дымом свежих благоуханных зерен, чтобы густое облако благовонного дыма восходило ровно, торжественно, а не ползло по земле, под край алтарной доски… Золотая, холодная, чужая. После каждения алтаря сам он встанет прямо, и дьякон, каноник Маффеи, окадит его, в облаках каждения будет стоять священнослужитель, который словом своим и несказанной мощью, какой и ангелам не дано, совершит настоящее чудо, пресуществит хлеб и вино в Тело и Кровь, будет держать в этих руках то самое тело Спасителя, которое, измученное и истерзанное, висело на кресте, которое скорбящая мать покоила на коленях своих, и в этих руках поднимет чашу, полную крови Спасителя, пролитой за вины и грехи наши… Но прежде чем совершится это, будет благовествуемо Евангелие.
В углу помещения шевелились безмолвные, беззвучные тени, и они тоже белые. Это воспитанники Теологического института, и между ними сияет золото ризы каноника Симони, иподьякона. Все готово! Кадильница и люди. А он все чего-то ждет. Тут каноник Маффеи повышает голос, так как ему ясно, что кардинал не понял. А новость очень важная. Антонио Маффеи недовольно поглядел на побледневшее юношеское лицо, и в пришепетывающем голосе его звучит нетерпенье. Видно, для торжества церкви следовало бы выбрать более опытного кардинала, цельного сердцем и духом, а не этого юнца с отсутствующим взглядом и скупыми на обещанья и приветы устами. Чтобы пробудить юношу, погруженного в размышления, он усиливает свое шипенье и сразу выкладывает новость, уже без восторга. Джулиано Медичи тоже пришел. Не оставил брата. Значит, в западне – оба.
Только услышав имена врагов, обратил кардинал Рафаэль Риарио лицо свое к говорящему, и не было заметно, чтоб это сообщение особенно его удивило. Каноника Маффеи, от которого не укрылось замешательство архиепископа Сальвиати, такая безучастность озаботила и явно огорчила. Разве молодой кардинал не обратил внимания, что сперва пришел один Лоренцо Медичи и что архиепископ Сальвиати долго со злобой кусал себе губы, не зная, что делать? Священнослужитель из Пизы, чья твердая рука до сих пор гнула все по желанию его святости, вдруг заколебался, хоть и был осенен архисвятительским благословением. Вышла осечка, дело оказалось не таким легким, как они предполагали. Кондотьер Джован Баттиста де Монтесекко, которому было вверено военное руководство, пренебрег вечным спасением и предал интересы святого отца и церкви, тайно покинув ночью службу папы. Старику Якопо де Пацци, кажется, дай бог управиться со своими людьми, а ему еще наскоро передали командование над папскими солдатами. Он расставил их, будто для битвы в поле, в то время как Монтесекко заботливо отобрал одних только опытных в уличных боях. Они не верят в него. Посмеиваются над ним, когда он проезжает между их рядов в своем старинном панцире. Отчего святой отец не захотел, чтоб я взял с собой Малатесту, который сидит без дела в Остии? Роберто Малатеста, сумевший обнажить кинжал против своего родного отца Сиджисмондо, никогда не отказался бы присутствовать на кардинальской мессе. Джован Баттиста де Монтесекко сбежал, старик Якопо явно для своей задачи не подходит, а Пацци слишком экзальтированны, им недостает расчета и осмотрительности, всегда столь потребных при осуществлении папских замыслов. Обнажить кинжалы… Это уже последнее слово в игре, это сумеет каждый наемный убийца за несколько золотых скуди. Гораздо важней всегда подготовка и вступление. А Джулиано Медичи не пришел! Тернист путь к кардинальской шапке, а Пизанская епархия – бедная. Нет денег на покупку кардинальского звания. Но если Папскому государству будет отдана в подчинение вся Италия, если будут уничтожены все Медичи, речь пойдет уже не только о кардинальской шапке. Что же, разве Родриго Борджа собирается и дальше занимать место кардинала-канцлера? Он? Испанец? В эту минуту уныния поддержал опять Франческо Пацци. Как этот юноша умеет ненавидеть! И как раз Джулиано он ненавидит больше, чем Лоренцо, да, Джулиано, – что-то такое поговаривают о прекрасной Примавере Ручеллаи, в Пизе узнаешь многое, и сколько уже раз чисто личное, человеческое побуждение сочеталось с великим делом божьим! Франческо не растерялся. Он потащил своего друга Джакомо Пацци, обнимая его, целуя и заклиная их взаимной любовью, в эту ризницу, хотя в Пизе говорят, что Пьер Паоло Босколи имеет на него больше влияния. Но тот послушался. И таким образом Джакомо Пацци, колеблемый во все стороны своим неверием, с сердцем, разорванным и терзаемым змеиными зубами заблуждения, не верящий в вочеловеченье Христа, был поспешно послан к Джулиано Медичи – с наказом привести его в храм. Отказавший брату уступил врагу. Лоренцовы настояния и любовь его ничего не могли сделать, а несколько нерешительных слов Джакомо-неверного достигли цели. Потому что Джулиано сказал:
– Если бы ко мне пришел кто-нибудь из твоих, которые были у ранней мессы, я бы не пошел. Усердные молитвы их мне подозрительны. И как они молились! Но раз пришел ты, неверующий и не присутствовавший на мессе, у меня есть порука и я пойду.
Он пришел. В западне – оба.
Каноник Маффеи толстой рукой довольно погладил свою щеку. Молодой кардинал, видно, ничего не знает. Голос каноника больше не шипит, он теперь вкрадчиво-сладок и назойлив.
– Не надо бы забывать о Джакомо Пацци; это несчастный, соблазненный юноша, но мудрое пастырское слово, наверно, может избавить его от терзаний. Он ведь неплохой и в глубине бедной души своей взыскует правды божьей. Будем помнить о Джакомо Пацци!
Кардинал молчит. А каноник Маффеи продолжает:
– Одно слово истины спасло бы его, а главное – пример веры. – Тут ему показалось, что он сказал лишнее, и он поспешно прибавляет: – Я имею в виду пример святых. Возьму его сам под свою опеку. С ним нужно обращаться, как с тяжелобольным. Это человек, измученный своим неверием. Он ждет, ждет, я знаю. Какого-нибудь чуда, чего-нибудь такого, что просветило и изменило бы его. Он знает, что должен во что-то верить. Он хотел бы верить в бога. Будем помнить о Джакомо Пацци!
Кардинал все молчит, и руки его сжаты. Стоит с закрытыми глазами, и губы его слегка шевелятся. Может быть, он читает молитву перед мессой?
Вдруг звонко зазвонил колокольчик ризницы, двери которой были теперь открыты настежь. Загудел, как потоп многих вод, орган, и народ воспрянул. В торжественной процессии, движущейся стройными рядами, подходит Рафаэль Риарио к полному огней алтарю. Он идет, склонив голову, важно, исполненный величия, чувствуя на себе жаркое дыхание переполненного храма, напряженное ожидание, тысячи вперенных в него взглядов, души, готовые раскрыться, словно чаши, по его пастырскому мановению, идет, внимает и отвергает, шаг его особенно тверд там, где преклонили колена Медичи и вокруг них – одни одеяния философов, потом праздничные одежды Пацци; орган гудит – ах, слишком сильно гудит, – голос его, разбившись о свод и стены, возвращается обратно, в бесконечном величии звучит древнее песнопенье; мужчины, женщины, быть может, тысячи – все крестятся; цветы благоухают томительно-сладко, и огни, огни, и столько золота, – триумфальное шествие, крестный ход, всюду люди, люди, битком набились в храм, лепятся вдоль стен; сколько среди них, наверно, моих солдат, вот падают новые блики огней, это от золота алтаря; еще несколько шагов, столько, столько сложенных рук, и уже вновь поднялась буря органа, и народ онемел. "In nomine Patris, et Filii, et Spiritus Sancti" 1. Какое облегчение! Как написано в служебнике? Едва только эти слова произнесены, ничто больше не должно отвлекать твое внимание, ибо ты служишь и приносишь жертву, – ни взгляда по сторонам, ничего, ничего, кроме совершения святой литургии.
1 Во имя отца, и сына, и святого духа (лат.).
"Introibo ad altare Dei…" "Подойду к жертвеннику божию…"
Рядом шелестит голос каноника Маффеи. Глухо, словно из великой дали, слышится шорох толпы. Рафаэль Риарио произносит:
"Judica me Deus et discerne causam meam de gente non sancta, ab homine iniquo et doloso erue me…" "Суди меня, боже, вступись в тяжбу мою с народом недобрым, от человека лукавого и несправедливого избавь меня…"
Свод храма остался безответным. Он почернел от столетий. Разливаются по нему потоки тонов органа и падают на теснящийся люд, ожидающий разрешения спора и освобождения от человека, лукавого и несправедливого. Утешенье мое, господи, заслони меня от страшного напора злых сил, – даже если врата адовы разверзнутся, врата храма пребудут крепки. Мне еще нет двадцати, а на меня уж возложено такое бремя. Я – соль земли. "Quare tristis es, anima mea, et quare conturbas me…" "Что унываешь ты, душа моя, и что смущаешься?" Этот вопрос страшен и полон сверхъестественной тайны, и я слышу в нем плач всей пытки своей, муки, при которой я хрипел бы от ужаса, – вопрос болезненнейший, с помощью которого я стараюсь не забыть, что когда-нибудь исполнятся сроки, и мне совершенно одному, совсем одному придется сосчитать все свои минуты малодушия, мученья и тоски. Словно грош медный, брошенный в расплавленное золото, стою я у ступеней алтаря твоего, господи…
– Уповай на бога, ибо я буду славить его, – равнодушно шелестит жирный голос каноника Маффеи, произнося предписанный ответ.
Это так ужасно, что кардинал задрожал. Он знает, что должен уповать на бога. Но знает также, как, по его приказанию, каноник Маффеи будет прославлять бога… Потом Риарио взошел по ступеням, и золото его ризы заиграло отблесками огней… И вот он, поцеловав алтарь, молится об отпущении грехов ради заслуг тех святых, чьи останки сложены в этом камне. Кто покровитель Флоренции? Святой Иоанн Креститель, давший свидетельство о Свете. Кто покровители рода Медичи? Святые мученики Козьма и Дамиан.
В это мгновенье была принесена кадильница. Тяжелая, золотая, холодная, чуждая. Поднимается густое, слабо благоухающее облако дыма. Кардинал Риарио кадит алтарь. "Introit". "Kyrie" 1. Орация. Он сам страшится своего спокойствия. Так ему было сказано в Риме: во славу церкви. Уничтожение медицейского гибеллинства. Мгновенье близится стремительно, неудержимо. Молятся ли Медичи? Впрочем, можно ли пожелать им более прекрасной и достойной смерти? И все же у него дрожат руки. Тщетны усилия эту дрожь подавить: он читает священные тексты и дрожит. Но лицо его стало суровым, окаменело. Губы шевелятся медленно, произносят все важно, торжественно. Нет, не думать, не думать ни о чем, кроме обряда, так предписывает служебник. Вот иподьякон Симон читает текст из книги пророка Даниила, так как теперь пост.
1 "Introit" – входная молитва (лат.). "Kyrie" – "Господи, помилуй" (греч.).
"И ныне услыши, боже наш, молитву раба твоего и моление его и воззри светлым твоим оком на опустошенное святилище твое…"
Да, так молился святой пророк в посте, и вретище, и пепле, в пору унижения народа своего под властью Дария, царя из рода Мидийского. Отзвучал голос Симонов – глубокий, удивительный голос. И каноник Маффеи уже дочитал молитву перед чтением Евангелия и стоит на коленях со святой книгою в руке, просит:
– Благослови, владыка…
В это мгновенье кардинал Риарио побледнел. Побледнел так, что сам почувствовал свою бледность, как морозную пыль на лице. Ледяная рука вдруг погладила это лицо и согнала румянец со щек. Он знает, что надо благословить и произнести нужные слова, но горло сжалось от странного давления, и самый язык стал куском льда, коснеющий, застывший. Он чувствует на себе удивленный взгляд каноника, хочет поднять руку – и не может, рука его вдруг омертвела, мороз, холод, лед, – наверно, и рука теперь оказалась бы такой же бледной, как его лицо, если б поднять ее так, как подымается и опять опускается рука мертвеца. Это не его рука, а чья-то еще, какого-то постороннего, бледность разливается теперь, наверно, по всему его телу, но он не дрожит, он окаменел, застыл. В то же время он остро чувствует все вокруг – склонившуюся толпу, огни и золото, дым кадильницы, знает, что сейчас ему надо сказать дьякону, приготовившемуся читать Евангелие: "Dominus sit in corde tuo…" "Господь да будет в сердце твоем и на устах твоих для достойного и надлежащего благовествования…" Знает, что надо произнести это, и не может, губы сведены не судорогой, а морозом, губы холодны и мертвенны, губы бледны и бескровны, едкая усмешка каноника Маффеи, который, видимо, догадывается, что ему страшно, – но это не страх, не ужас, это больше, это мороз, холод и лед. Отчего такая глубокая тишина во всем храме, отчего все эти люди молчат, как это может быть, чтобы столько сотен людей, собравшись вместе, были так напряженно, так ужасающе тихи, ледяная рука все время сгоняет румянец с моего лица, острым когтем прорвала мне жилы, и они полые, пустые, нет во мне крови…
Каноник встал, не дождавшись благословения. Он уже идет читать Евангелие, тяжело дыша после только что произведенного усилия, вызванного тщетным коленопреклоненьем. Кардинал должен обратиться к читающему. Прислонившись боком к алтарю, он старается сделать это. И взгляд его падает на дарохранительницу. Золото ее не человеческой отлито рукой, оно сияет так солнечно, что ослепило его. А в нем – холод, ужасающий, темный холод. Бледность навсегда.
"Sequentia sancti Evangelii" 1, – внятно прошипел голос каноника Маффеи.
1 Святого Евангелия чтение (лат.).
Первыми закричали женщины.
Их резкий, пронзительный крик взвился к высокому своду, разбился там с налету и снова упал вниз. Ему ответило глухое гудение мечущихся мужских голосов, и потом все разразилось неистовым гамом. Ибо Франческо Пацци, волчьим движением кинувшись на Джулиано Медичи, одной рукой схватил его за горло, а другой стал колоть обнаженным кинжалом – быстро, молниеносно, меж тем как Бандини сбил с ног Лоренцо, руки которого были зажаты, как в тиски, руками Сальвиати. И, заранее приготовившись, люди обнажили мечи в храме и открыли свои папские отличия, бросаясь ближе к пресбитерию и рубя направо и налево. Ударили в набат, и дикий рев наполнил храм. Люди, выпрямившиеся было для молитвы, глядят безумными глазами. Все слилось в сплошной бесформенный хаос, вздувающийся и мечущийся на стены, словно стремясь разрушить храм, чтобы камни обрушились на победителей и побежденных. Франческо Пацци, сплетясь руками и ногами с Джулиано, колет так осатанело, что попадает и в себя, на напряженном бедре его уже две кровоточащих раны, но он не чувствует боли. Лоренцо, движением плеч стряхнув нападающих, кинулся на помощь брату. Но Сальвиати дернул его назад, и не раз уже коснулся бы его кинжал Бандини, если бы друзья Лоренцо, философы, не втиснулись между ними обоими. Подхватив Лоренцо, они тащат его в безопасное место, за дверь ризницы. В храме стоит рев – это рев крови. Уже несколько человек с папскими знаками затоптано ногами остальных. Духовенство у алтаря обступило Риарио, бледного – бледного навсегда. Каноник Симон судорожно вцепился в Маффеи.
– Месса… месса… – шепчет он, выпучив глаза.
Маффеи старается внешне сохранять хладнокровие.
– Si, sacerdote celebrante, violetur Missa ante canonem, dimittatur Missa 1, – отвечает он, тревожно глядя на беснующуюся толпу.
1 Если во время мессы ход ее будет нарушен, она должна быть прекращена (лат.).
Нет, это надо было устроить лучше… Святой отец должен был послать другого человека, а не этого кардинала… Единственный настоящий человек здесь – Сальвиати.
Священнослужитель из Пизы, подняв руку в перстнях, указывает пальцем вслед убегающему Лоренцо. Желтое, пергаментное лицо его страшно. На нем гибель. На нем смерть. На нем – отчаянье. Злобный взгляд полон ужаса. Он видит головы папских воинов в клокочущих волнах толпы. Народ душит воинов, рвет их на части, разбивает о камень колонн, о грани дубовых скамей, об углы алтаря. Пущены в ход, как оружие, тяжелые подсвечники, они будто молнии сверкают в разъяренных руках. Франческо Пацци, весь измазан кровью, подымается от трупа Джулиано. Но напрасно. С треском захлопывается за Лоренцо тяжелая дверь ризницы. Он скрылся. А Сальвиати и Франческо вырвались из храма и увидели на площади новую картину опустошения. Ибо старик Якопо, вздымаясь высоко в седле, обнажив меч, тщетно побуждает народ к нападению. Видимо, его собственные люди ценят жизнь выше жалованья наемников. Конь обезумел под градом камней и падает. Старик поднялся, но меч его сломан. Он изумленно оглядывается, словно не понимая. У Санта-Кроче бьются исступленно, свирепо. Папские бойцы пускают в ход все свое военное искусство, но народ ломит и ломит, – и вот уже ему удалось вгрызться в эти ряды и поколебать их. По Понте-Санта-Тринита валит ощетинившаяся оружием толпа флорентийских красильщиков, они орут славу Медичи, сметая заслоны врага, не получающего команды. Со стороны Понте-Веккьо спешит цех сукновалов – тяжкие палицы их гремят, цех мясников, блестя топорами, добивающими раненых, цех суконщиков, золотарные и канатчиковые подмастерья, с ножами и кинжалами наголо. Вся Флоренция поднялась в крови, под звон набата. Оружие – кинжалы, мечи, камни, дреколья. С Олтрарно мчатся песковозы, любители самых диких побоищ, и панцири папских воинов трещат под тяжкими ударами молотов и острых заступов. Лучше уж сорвать со своей куртки римский знак да выбрать в сплетенье улиц и улочек, которая потемней, чтоб переждать там бурю и ярость.
Но на площади Делла-Синьория, – выстроенные до сих пор крепким квадратом, папские лигурийцы, отважнейший отряд телохранителей, готовых к бою один на один. Стоят недвижно, так как до сих пор не получили приказа, стоят посреди убийства и, стиснув зубы, твердо глядят на оружие, сжатое в напряженных руках. К ним кидается Сальвиати. Последняя отчаянная попытка. Безумная попытка. Ведь кардинал Рафаэль Риарио, самый милый сердцу его святости, уже брошен в темницу, с лицом мертвенно-бледным и без богослужебного одеянья, которое с него сорвали, не читая никаких молитв.
Последняя отчаянная попытка. Потому что старик Якопо, глава рода, уже схвачен в воротах Сан-Никколо, в момент бегства, – первый Пацци, решивший скрыться из города. Ему связали руки веревками и отвели в тюрьму, где он теперь ждет палача… Архиепископ Сальвиати становится во главе лигурийского квадрата. Этот священнослужитель умеет говорить по-военному. Несколько команд, и ряды лигурийцев двинулись. Черные шлемы, залитые солнцем. Новая команда и мановенье руки в перстнях. И лигурийцы ринулись в атаку на дворец Синьории. Сальвиати впереди. Величайшая резня поднялась на лестнице. Ибо дворцовая стража и синьоры, не имевшие права покидать здание во время исполнения своих служебных обязанностей, теперь спускаются со ступени на ступень – вниз, и острия их мечей ловко протискиваются между лигурийскими копьями, которые редеют и с треском падают наземь. Но папские воины, протянув копья задних рядов через плечи и под мышками передних, наступают короткими волнами, и защитники Синьории валятся с пронзенными горлами. Лигурийцы – уже на последнем повороте лестницы. Сальвиати впереди. Тут навстречу им снова хлынула толпа дворцовой стражи, и тяжелые дубовые скамьи, писарские налои, чеканные металлические столики синьоров обрушились с глухим грохотом на головы наступающих. Они заколебались. Ухватившись в последнем напряжении за деревянные перила, с телом, словно переломленным пополам, знаменосец выпустил из рук папскую хоругвь и сквозь ощеренные зубы, вместе с проклятьем, испустил свой последний вздох. Растут груды тел. Идет тяжкий бой копьем и кинжалом на лестничных площадках, под градом дубовых бревен. Но никто не сдается.
Подобно ящеру, ощетинившему свои острые чешуи, ползет поток черных шлемов, боец за бойцом, прижимаясь к перилам, твердо, с упорной яростью. Нога архиепископа скользит в крови, которой – изобилье. Руки его тоже окровавлены, и с них уже сорвано несколько перстней. Голос его сух и непреклонен. Он скомандовал, и боец, скорчившись у громады сваленных налоев и скамей, вынул огниво. Потому что из налоев вывалилось множество писарских свечей хорошего воска и с сухими фитилями. Боец, выполняя приказ, зажигает теперь их связки и кладет под высушенные, выпаленные зноем деревяшки. Взмахом копья лигуриец перешиб меч, лезвие которого безвредно скользнуло по голове поджигателя. Потом еще один шквал, под которым затрещала и словно оползла лестница. Створы дворцовых ворот, высаженных из дверей, рухнули, дальнейшее сопротивление стало бесполезным. В проеме, с окровавленным мечом, полный беспощадности, встал во весь рост среди своих вооруженных людей Лоренцо Медичи и ринулся на отступающих.
Бросая своих, Сальвиати пробился сквозь ряды бойцов, и, хотя несколько рук старалось схватить его за горло, он увернулся и был схвачен уже на углу, узнанный людьми, как раз волочившими Франческо. И так как палач был в это время занят в тюрьме, где доживал свои последние мгновенья старый Якопо да Пацци, криком решено было воспользоваться в качестве эшафота окнами дворца Синьории. Обоих схваченных привели туда вместе, так же как они приехали ночью из Рима, и рука смерти легла на их лица. Франческо шел с трудом, исколотый своею собственной рукой и почти что голый, так как долго сопротивлялся и лоскутья одежды остались в руках у тех, кто тащил его по улицам. Он шел, шел, только тихо стонал и поглядывал помутнелым взглядом на Пизанского священнослужителя, который его поддерживал и желтое пергаментное лицо которого застыло в отчаянье и безнадежности. На лестнице им пришлось много раз перешагивать через мертвые тела, причем убитые лежали в большинстве случаев навзничь. Шедшим на смерть невозможно было не видеть их лиц. Так прошли перед их взором самые разнообразные способы умирания. Но им был сужден только один.
Окна флорентийской Синьории.
Удивительный путь к кардинальской мантии, удивительная награда за службу его святости, удивительная плата за кардинальскую шапку! Родриго Борджа, испанец, наверно, сохранит и в дальнейшем свое звание кардинала-канцлера церкви. Вздох Франческо, у которого опять вытекла кровь изо рта, прозвучал у самой груди Сальвиати, потому что зашатался жестоко изранивший себя своим же оружием, и раны его с каждым шагом болели все сильней. И вот они оба стоят уже перед поспешно раскрытыми окнами, и множество рук держит их колени. Тогда Сальвиати последний раз выпрямился во весь рост. Выпрямился, как прошлой ночью – на стременах своего белого коня, когда впервые увидел Флоренцию в лунном свете. Выпрямился в полном сознании силы своего сана, и нахмуренное гордое лицо его вдруг вспыхнуло. И, обращаясь к тому, кто хрипел у него на груди, он произнес голосом твердым, величавым:
– Каешься ли в грехах своих, совершенных в ведении и неведении, во всем, чем обидел господа нашего, чем в жизни своей прегрешил перед богом?
Франческо, с полным крови ртом, не имея возможности говорить, покорно кивнул головой и сделал попытку поднять сломанную руку ко лбу, груди и плечам. Тогда Сальвиати, снова возвысив голос, торжественно осенил его крестным знамением, со словами:
– Ego, facilitate mihi ab Apostolica Sede tributa, indulgentiam plenariam et remissionem omnium peccatorum tibi concedo! Ergo, ego te absolvo… in nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti, Amen!.. 1
1 Я, властию мне престолом апостольским данною, полное прощение и отпущение всех грехов твоих тебе дарую! Итак, разрешаю тебя… во имя отца, и сына, и святого духа, аминь!.. (лат.)
Стоявшие с уже приготовленными веревками опустились на колени, присоединив свои голоса к общей молитве. А кончив молитву, опять схватили обоих… Окна флорентийской Синьории…
Город затих не сразу. Тело Джулиано перенесли в другую церковь. А плач Лоренцо по брату тяжело отразился на утехах философов. Анджело Полициано так и не окончил свою поэму о турнире Венерина сына Амора с холодным Джулиано. Эрос, по словам божественного Платона, – один из четырех видов неистовства. А в конце всего – последнее слово: тайна…
Архиепископ Пизанский висел на окне флорентийской Синьории, и под веяньем ветра тело его все время прикасалось к телу верного Франческо, и рука его, повернутая ладонью наружу от бедра, – к руке верного Франческо. Всему конец, говорили широко раскрытые глаза. Всему конец был уже в тот день, когда мы выехали из Рима, был конец уже в ту ночь, когда лунный свет слетел с туч, – внезапно, как белый меч, рассек тьму, и мы увидели Флоренцию, полную ночной весны. Был уже давно конец всему, говорят глаза его, только теперь видящие дальше папских замыслов.
Всему конец. Старик Якопо, глава рода, лежал охладелый в подвале, и палач, совершив над ним свою обязанность, отправился не спеша на площадь, где народ ждал казни Джакомо да Пацци. Но зрелище получилось отвратительное, народ разбежался, и благородные члены Синьории тоже покинули огороженное для них место, потому что, как только палач начал Джакомо душить, этот безбожник стал призывать дьявола. Не ради своего освобождения из рук палача, не для того, чтобы сохранить жизнь, – он звал его в упоении, словно взывая к могучей силе, только что им обнаруженной… Словно призывал откровение и чудо, в конце концов все-таки ему явленное, – так звал он дьявола в смертный час свой, как другие призывают бога, звал его радостно и благодарно, в восторге изрыгая проклятия столь страшные, что палач искусным движением быстро сдавил ему горло, которое Джакомо с готовностью подставил, ибо должен был во что-то верить и, не умея поверить в человеческое естество Христа, уверовал в силу ненавидящую, уверовал в дьявола.
Не мог уж Сальвиати исполнить обещанье свое рассеять его заблужденье светом истины веры святой, и не мог он также известить его святость, как выглядят теперь окна флорентийской Синьории. Потому что язык его уже почернел, распух и был весь покрыт мухами.
СМЕРТЬ ШАГАЕТ ПОД ДОЖДЕМ
Только Бандини бежал. Погоняемый страхом, пробрался он, пользуясь общей сумятицей, за ворота и бежал, бросив свои коллекции, прекрасный дом и прекрасных женщин, своих борзых, золото и своего Сенеку, чья книга "De tranquillitate animae" 1 осталась лежать недочитанной на шитом шелковом плате, покрывающем налой. Так он читал ее, одетый в изысканную одежду, гладя холеной рукой свою надушенную бороду и усы, еще в тот вечер, перед тем как пойти на роковое совещание с Пацци, и вдруг похолодел от какого-то зловещего предчувствия, которое тогда уже сидело с ним за совещательным столом, попивало их терпкое вино, неважное банкирское вино, и он не сумел тогда объяснить себе этот порыв страха и не думал больше о нем. "Если же кто тебе и горло сдавит…" Значит, нужно все-таки верить предчувствиям и приметам, как учил старый маэстро Паньоло, а он на это всегда лишь снисходительно улыбался.
1 "О покое душевном" (лат.).
Бандини бежал, оставляя за собой трупы загнанных коней, бежал и остановился только в Венеции. Но там вспомнил о турецких отделениях своего банка, полных золота, и поплыл.
Константинополь. Но после первого же известия о нем, полученного от францисканских монахов, тщательно переписывавших всех христиан на каждом корабле, Флорентийская республика обратилась к султану Магомету с просьбой выдать беглеца. А султан, погубитель Византии, относился с отвращением ко всякой измене и особенно ненавидел всегда готовую к бегству трусость. Кроме того, было бы неумно вызывать гнев Флоренции, врага того самого папы, на которого он собирался идти войной, рассчитывая, что, как ему удалось навсегда сокрушить Византийскую империю, так сумеет он сокрушить и уничтожить и силу папы. С какой стати из-за неверной собаки, сбежавшей после измены, вводить в гнев того, кто может понадобиться? Магомет как раз отправлял послов в Римини, Милан и Венецию, – он знал для чего. Неплохо было бы сделать приятное и Флоренции. И вот Бандини де Барончелли был ночью схвачен, связан и под сильной охраной отвезен в трюме турецкого корабля обратно, к итальянским берегам.
Между тем Флоренция страдала от страшных ливней. Дождь шел не переставая, все хляби небесные разверзлись, и поток вод пролился на измокшую землю. Вязкая глина поползла по гниющим, зловонным каналам за городом, и берега Арно были размыты полыми водами, затопившими оставшийся без благословенья урожай. Вода, словно хищный зверь с блестящим и непрестанно раздувающимся брюхом, пожирала все, встречавшееся на ее извилистом пути. Тела утопленников разбухали перед городскими воротами. И глаза их, устремленные в себя, напоминали глаза снулых рыб. Вода стала бичом, и распахнутые небеса изливали все новые и новые потоки. Небосклон обложной, земля без плотин, все убегает в бесконечность. Люди ходили, шатаясь, мучимые теперь еще и голодом, а вода, хоть и не имела тяжести, была претяжелая, сгибала плечи, ломала их. Она падала четырнадцать дней и четырнадцать ночей, жабам – и то много, они попрятались под стены домов, в изножья кроватей любовников, в патрицианские сени. Солнце растаяло в седых туманах – его нет. Тучи, тяжелые и всегда налитые, спускаются все ниже и ниже к земле, размытой и воняющей рыбой. По временам небо кажется желтым и снова зеленеющим по окоему. Эх, кабы пришли былые страшные грозы, разогнали бы эти тяжкие тучи гнева! Но напрасны процессии с обвисающими хоругвями, погашенными свечами и размокшим пеньем молитв, падающих обратно в топь земную.
Хуже всех пришлось крестьянам в округе Перкусины. Они пришли, залепленные грязью, притащили с собой жен и детей, громко горюя о затопленных посевах свеклы, хлеба и клевера, об утонувшем скоте, о разрушенных хижинах. Изнуренные, отощавшие фигуры наполнили площадь. Лица их были размякшие, бесформенные, цвета заплесневелого млечного сока. Но кулаки их подымались твердо, и было страшно, как бы эти толпы не восстали против Синьории, а то и против бога.
И тут каноник Антонио Маффеи вспомнил о Джакомо Пацци. Разве не говорил он уже тогда, в ризнице, кардиналу Риарио, что не забудет о Джакомо? Вот и вспомнил, только иначе. Ведь этот непрерывный ливень, может быть, просто месть мертвого, в упоении изрыгавшего проклятия и призывавшего дьявола, когда его душили на эшафоте. Теперь месть мертвого ничем не сдержишь. В старых книгах написано, что такую месть можно укротить только теми средствами, к которым прибегает она сама. Каноник Маффеи много знал. Ясно доказав свою невиновность и глубокое возмущение тем, что его святым служением во время кардинальской мессы так злоупотребили, он стал важной особой, и советов его искали уж не одни только кумушки и богомолки. Много народу, с отчаянием подымая глаза к свинцовому небу, раздумывало о том, что он недавно сказал. В Пьяченце один ростовщик, видя, что настал его смертный час и приходится расставаться со своим золотом, страшно поносил бога и призывал дьявола. После смерти полил дождь, почти вот такой же, как этот. Говорили, что дождь не перестанет до тех пор, пока тело ростовщика не будет вырыто из освященной земли Сан-Франческо и брошено водам. Хотя архиепископ резко против этого возражал, нашлись смельчаки, которые выкопали ростовщика ночью, протащили его по улицам и отдали должникам, чтоб те осквернили его самым мерзким способом. Затем труп был выставлен под дождь и только после этого то, что от него осталось, прогнившее под действием воды, было брошено в По. И на другой день ливень прекратился. Крестьяне уныло пошли к своим женам, частью ютящимся по краям площади, частью разместившимся в церковных помещениях. Не надо вечно насчет всего спрашиваться у архиепископа.
Мертвый Джакомо мстит Флоренции. И от этой мести не будет спасения, пока ее не уничтожат теми самыми средствами, которыми она пользуется. Каноник Маффеи ничего не советует, ни к чему не побуждает, ничего не затевает. Но ему многое ведомо. И он – не оязычившийся платоник, он не твердит, что Платон – это Моисей, говорящий по-гречески, он – не священник-философ, как многие другие. Он говорит просто и понятно. Говорит народу. И вот однажды ночью выкопали труп Джакомо Пацци, который не верил в бога, и устроили процессию. Понесли тело под потоками дождя на голых досках, без покрова и свеч, на каждой остановке поворачивая его лицом к одной из четырех стран света, поворачивая во все стороны – туда, где дождь хлестал посевы. Толпа тянулась сзади длинной процессией, и вода, падавшая сверху, была не менее гнилостной, чем та, что разлита по земле. Тело пронесли мимо всех ворот, мимо дворцов и церквей, в темном слиянии ночи и дождя, наконец, подошли к Арно с его размытыми берегами. И, маленько погодивши, чтоб то, что чернело на досках, впитало как можно больше воды, выкинули все это в кипучие волны реки. Утром дождь перестал. Благодарственная процессия была очень торжественная.
Леонардо да Винчи видел это. Теперь он сидит, погруженный в свои мысли, сжав голову обеими руками; за высокими окнами май, и в воздухе разлиты все его ароматы, песни и поцелуи, и любопытно то, что в мае у ароматов, песен и поцелуев другой вкус, чем в апреле или в июне, – но он об этом не думает. В его этюднике есть зарисовка повешенного Бандини, при чьей казни он присутствовал, скрытый в толпе. Иначе он не мог. Он любил его больше, чем кого-либо, но иначе не мог. Он должен был зарисовать его, покачиваемого ветром, и, кроме того, точно описать, как тот был одет: огненно-желтый берет, куртка черного атласа, черный подшитый плащ… Он не мог иначе, сам не понимая и не постигая – почему. Так холодно он не смотрел до сих пор ни на кого, как на этого мертвого, которого так любил, – так холодно и деловито, от всей их дружбы остался только вот этот рисунок, эти штрихи и изогнутые линии искаженного безумным страхом и ужасом лица… И при этом сердце сжимается в мучительной судороге, так что все замирает в великом молчанье. Он любил Бандини и любовался стилем его жизни. И вдруг все исчезло, и он стал рисовать его так холодно, точно, внимательно и бесчувственно, словно лицо первого попавшегося казненного разбойника с большой дороги. Любил он и Джакомо да Пацци, который был несчастен и красив. Сколько ночей провел он в разговорах с Франческо Рустичи, Аньоло ди Поло и остальными из мастерской Верроккьо, но ближе всего был с Джакомо Пацци, который говорил своим страстным, горячим голосом: "И если б тот, другой, вдруг передо мной расплылся, я никогда бы не поверил, что это была просто галлюцинация, конечно, продолжал бы что-то говорить ему и прошло бы немало времени, прежде чем я услышал бы свой собственный голос, оторопелую речь ни к кому…" Леонардо сжал руками виски, устремив долгий, неподвижный взгляд в пространство… Я рассказываю о себе призракам, а их нет передо мной: это опять я. Обращаюсь к себе – и никто мне не отвечает. Жду самого себя, как другого человека".
Скоро я уезжаю из Флоренции. Лоренцо Медичи посылает меня в Милан, к герцогу Лодовико Моро. Я написал ему, что умею все: ставить легчайшие мосты, удобно переносимые с места на место и в то же время очень прочные; монтировать огнедышащие бомбарды, делать камнеметы, против которых не устоят никакие укрепления, рассчитывать проекты каналов и проводить винтовые дороги, которые можно вести и под реками… Милан. Но я даже не заикнулся о том, что я – художник. Узнают. И притом – ужас перед неизвестным. В детстве я видел сон, который теперь все время повторяется. Я шел между скалами и пришел ко входу в пещеру. Наклонился туда – в глазах потемнело. Таинственные твари, видения, краски, созданные атмосферой. И рев серного пламени, с силой вырывающегося из огненного зева… Он встал, чтобы продолжать свои мысли в другом месте. Мне двадцать семь лет. О спящий! – говорю себе. – Что же ты не создаешь такого произведения, которое и после смерти оставит тебя в живых?
Он пошел по Виа-Гибелина, где находился дом его отца, адвоката Синьории. Почему он едет именно в Милан, почему не в Рим? Сикст как раз вызвал туда моего друга Перуджино, чтоб он, вместе с Боттичелли и Синьорелли, расписал там капеллу, поставленную Сикстом в честь Непорочного зачатия девы Марии, в которое он верит, и капелла названа по его имени Сикстинской. Перуджино зовет меня с собой. Я мог бы только писать и писать… но нет, еще не могу, не могу еще, еще надо много узнать, много выведать, измучить дух свой неустанным исследованием, искусство без познания лишено смысла, но когда познаю я? Все такие мертвые мысли, уносимые течением, как были унесены останки моего дорогого Джакомо, который верил в дьявола. Вечный соблазн падения! Под каким созвездием я рожден? С какой гордостью тот раз, как началось все это с Пацци, рассказывал мне старый Буонарроти, по пути на кровавую мессу, о своем маленьком Микеланджело, родившемся, когда Меркурий сочетался с Венерой под властью Юпитера. Это предвещает великие дела, сказал тогда Буонарроти. Что это за великие дела? Найду я их в Милане? А может быть, нашел бы в Риме? Нет, в Риме – нет, папа Сикст, после гибели Пацци, грозен ко всем приезжающим из Флоренции, и в Риме живется все время, как в военном лагере…
В Риме жизнь шла все время, как в военном лагере. Старик, с лицом, изборожденным морщинами от забот, молился и замышлял новые войны. Медичи отпустил Рафаэля Риарио, который вернулся бледный, и бледность эта останется навсегда. Порой она оливковая, порой пепельная, но всегда видима. Он ею отмечен.
После его возвращения из узилища старый Сикст принял его во главе Святой коллегии. Терзаемый гневом, он завязал переговоры даже с неаполитанским отверженцем, который, скорчившись в высоком кресле, сидит, сутулый, в зале, уставленном его набальзамированными жертвами, и слуги его по воскресеньям переодевают их в праздничные одежды, так как и он празднует день господень.
Это должно было означать конец Флоренции. И тут Лоренцо Медичи один, без эскорта и без оружия, без парламентеров, вступил в Неаполь и вошел в зал, где подстерегал старик. Вся Италия вздрогнула, до тех пор ни о чем подобном среди правителей не было слышно. А вышел он оттуда, подписав с Неаполем мир. И на этот раз прозвище его "иль Маньифико" разнеслось по всей стране, – иначе никто его больше не называл. Нет, я уже старый человек, а ни один из моих замыслов не удался… Другая западня была лучше. Я договорился с самими предателями-венецианцами и снарядил поход против Феррары, против рода д'Эсте. Кто в наши дни овладеет Феррарой, тот будет хозяином Италии. И тут опять Лоренцо пустил в ход свои коллекции и свои беседы с платониками и, не успел я оглянуться, помирил Феррару с Венецией. Эти вечные предатели венецианцы – и он, Медичи! В Кремоне я созвал съезд против Венеции и развязал войну, которая уничтожит их навсегда. Выступили все мои союзники, развратный город на волнах не устоит против такой мощи.
А в тот день, когда старик услышал, что Лоренцо Маньифико, чтоб опять свести на нет все усилия папского семейства к овладению Италией, созвал воюющие стороны на переговоры в Баньоло и они послушались, Сикст слег. Нет, этого не должно быть… Мне ничто не удается, все ждут не дождутся моей смерти. Венецианцы устроят, конечно, праздничный карнавал, я всеми оставлен, все ждут моей смерти, и если я умру, страшные силы вырвутся на свободу во всем Риме…
Все ждали его смерти. Как только промелькнуло известие, что папа умирает, папское войско вышло тяжелым шагом на улицы. Джироламо Риарио поспешно приказывает поднять мост замка Святого Ангела и забить снаряды в дула его пушек. Вирджинио Орсини зовет к оружию. Папа умирает. И вот уже Колонна бьются с Савелли и оба непримиримых кардинала – Джулиано делла Ровере и канцлер церкви Родриго Борджа постепенно укрепляются каждый в своем дворце. Члены Святой коллегии через гонцов вызывают свои войска в Рим. Умирает папа. Все мосты под охраной. Лавки опустошаются, так как жители спешат делать запасы. Сотня солдат стоит перед базиликой св. Петра с фитилями у мушкетов наготове. Ведь умирает папа. Делла Валле уже выступили с шайками, вооруженными до зубов, и бьют папских солдат на Пиццо-ди-Мерло, защищая свой фланг от Орсини, ведущих огонь с Монте-Джордано. Потому что делла Валле в страшном нетерпенье. За год до того, как раз в страстной четверг, они на одной из римских площадей затеяли драку с семейством Кроче. Вскоре драка перешла в настоящую битву, и тщетно францисканские проповедники с крестом в руке бросались между рядами сражающихся противников. Кровавая битва продолжалась всю ночь напролет – до полудня страстной пятницы, и тут Сикст Четвертый, поднявшись на престол, произнес свой грозный суд. В знак гнева божьего он приказал прекратить на этот день все приуроченные к страстной пятнице богослужебные обряды, и были заперты двери всех римских церквей, а перед порталами их плакал народ. И вышли отряды папских воинов, а при них – нанятые рабочие с кирками, мотыгами, молотами, и к вечеру роскошный дворец делла Валле был разрушен и обращен в развалины. Теперь сторонники делла Валле бьют ватиканских солдат, расставленных на Пиццо-ди-Мерло, а Орсини готовят вылазку от Монте-Джордано. Пятьсот солдат уже сожгли знамя и, объявив себя свободными, захватывают дома и дворцы на Эсквилине. Римские бароны поставили у своих ворот вооруженных слуг. Умирает папа. Ружейная трескотня доносится уже от Понте-Систо. А Джироламо приказал палить из пушек по замку Святого Ангела. Тяжко загудели ватиканские окна. Сикст приоткрыл глаза и услышал битву и молитвы. Священники длинными рядами стояли, коленопреклоненные, у его постели; битва кипела на улицах. Веки его снова сомкнулись. Значит, все бушует битва с венецианцами – с городом, попирающим интердикты, отравившим дорогого Пьера и подстрекавшим султана Магомета вторгнуться в Италию. Нынче ровно три года… Двенадцать тысяч христиан было убито в Отранте, на итальянском берегу, десять тысяч продано в рабство, архиепископ и остальные священники живьем распилены пилой, волна ужаса прокатилась по Италии, и я сам приказал, чтобы мне приготовили дворец в Авиньоне… Вот что сделали венецианцы: турка позвали против меня! Над такими христианами ты меня поставил пастырем, о боже…
А Лоренцо Медичи толкует о равновесии сил! Идет война и будет идти! Я укрощу их мечом, если они не послушаются слова духовного, обрушу гнев свой на их твердыни, сокрушу их…
Покрытому пылью и замученному ездой гонцу пришлось подойти к самому папскому ложу, как было приказано. И он, встав на колени перед умирающим архипастырем, дрожащим голосом сообщил новость. Лоренцо Медичи, решив установить спокойствие в стране, помирил воюющие стороны, союзники папы отпали, и в Баньоло подписан мир…
Тут сердце папы сжалось такой ужасной судорогой, что он, выпучив глаза, поспешно стал искать взглядом, на чем бы его остановить. Перед ним было распятие в руках духовника, и вот, глядя на тело, измученное и повисшее на гвоздях спасения, он испустил последний вздох. И колокола, колокола, колокола по всему Риму, под гул битвы и пушек, возвестили о том, что папа умер.
КАМЕНЬ ГОВОРИТ
Мальчик и монах сидели на крыльце, глядя на темнеющую окрестность. Монах держал руку мальчика в своих загрубелых нищенских ладонях, полон доброго желания рассказать о чем-нибудь еще. Он уже рассказал о том, как славный синьор, святой синьор Франциск велел горлицам никогда не улетать из монастыря, как он ездил обращать султана вавилонского, как видел монастырь, окруженный дьяволами, как святой брат Джинепро варил для святой трапезы кур прямо с перьями, – обо всем как есть рассказал и теперь задумался.
– Еще… – попросил мальчик. – Еще о том, как святой синьор Франциск укротил злого волка из Аггобии.
Но тут старый монах испуганно замахал рукой, так что рукав его отрепанного подрясника, развеваясь во все стороны, разогнал слова мальчика.
– Что ты, что ты! – сердито промолвил он. – Нипочем не стану!
Мальчик с удивлением поглядел на его гневное лицо. Старичок встал, чтоб уйти, – с таким видом, будто страшно оскорблен, можно сказать, на всю жизнь.
– Нет… нет… – дрожащим голосом жалобно прошептал он. – Не ждал я, что ты тоже так ко мне отнесешься, Микеланджело…
– Фра Тимотео! Фра Тимотео! – испугался мальчик, так крепко схватившись за подол монашьей одежды, что одна заплата треснула и высунула свой длинный тряпичный язык. – Фра Тимотео, не сердитесь! Я не знал, что вам будет неприятно!
– Ну да, – укоризненно промолвил старичок. – Да к тому ж еще подрясник мне разорвал. Братья в монастыре скажут: "Опять фра Тимотео с озорниками дрался". Ни минутки я у тебя не останусь, ни минутки, и обещанного ужина ждать не стану, нет… нет!.. – ворчал он с раздраженьем…
– Фра Тимотео! – плаксиво вскрикнул мальчик, меж тем как от дрожащей руки его дыра в подряснике расползалась все шире. – Я не хотел сказать ничего плохого… Это меня Франческо надоумил… Ежели, говорит, фра Тимотео опять начнет что-нибудь тебе рассказывать, попроси – чтоб насчет злого волка из Аггобии рассказал!
– Да! Все вы безобразники! Вот пожалуюсь магистру Урбино, чтоб он вас обоих выдрал, – потешаетесь над стариком, да еще вон подрясник мне рвешь. Скажет братия в монастыре: "Напился наш фра Тимотео, в канаву упал, вот и вернулся рваный такой". Но я расскажу, я не дамся, перед всей трапезной так и скажу: это мне Микеланджело Буонарроти устроил, оттого что безобразник! Вот увидишь, скажу! Думаешь, нет? Да не то что перед трапезной, а перед целым собором выложу…
– Фра Тимотео! – мальчик, отпустив подрясник, сжал руки. – Я больше не буду, никогда больше не буду спрашивать о злом волке из Аггобии!
– Это было великое чудо! – тихо, серьезно промолвил старичок. – Но никто во Флоренции не заслуживает, чтоб об этом рассказывать, никто!..
Он провел дрожащей рукой себе по лицу, и вот гнев его уже упал в дорожную пыль. В уголках поблекших губ заиграла добродушная улыбка.
– Так, значит, тебя надоумили! – промолвил он. – Франческо Граначчи, приятель твой, надоумил! Стыдно! Очень стыдно!
– Простите меня, фра Тимотео. – В голосе мальчика – мольба и слезы.
Из дома донесся запах похлебки со свининой и еще чего-то аппетитного. Ноздри у монаха слегка затрепетали. Спустился мягкий, ласковый вечер, небо стало лиловым. Был тот час, когда ласточкам уже скоро пора спать, и, как только сумрак сгустится, первые летучие мыши закружат над окрестностью, чертя свои чародейные знаки на стене темнот.
– На этот раз, так и быть, прощу, – тихо сказал монах. – Потому что тебя подбил этот негодный Граначчи и ты действовал без дурного умысла, но ты должен исправиться, Микеланджело, ты должен исправиться…
Обрадованный парнишка вложил опять свою маленькую руку в загрубелые ладони монаха. И оба опять замолчали, глядя на окрестность. Вечерние благоуханья поплыли из садов, и кипарисы сменили свой грустный сон на золотой. Мир шел по окрестности и сумеркам, звеня. Если бы старик и мальчик нагнулись, чтоб сорвать цветок, они тотчас узнали бы, что теперь это только тень. Руки каждого из них восприняли бы это по-разному. Тень отбрасывала другую тень, так что их полно вокруг, это сад теней, и с благовонных лугов веет вечерним холодом. Отовсюду наступал глубокий, величавый мир, как бы совершая какое-то великое, святое дело, и в нем была сладкая и спокойная тишина для звона, молитвы, любви и снов.
– …тогда святой синьор наш, – тихим, страстным голосом говорил старый монах, – шел по снегу, в великую стужу, с братом Львом и так говорил ему: "Брат Лев, овечка божия, если б минориты всегда показывали пример святости, если б они возвращали зрение слепым, речь немым, если бы воскрешали мертвых и изгоняли бесов, если б ведали они все глубокие тайны земли и звезд, и все науки, и говорили всеми языками ангельскими, все же – запиши себе и хорошенько запомни – нет в том истинной радости. И даже если б они обратили в святую веру всех язычников и всех неверующих и заставили бы покаяться всех грешников на свете, – опять запиши и запомни хорошенько, – нет в том истинной радости". И тут брат Лев, овечка божья, с великим удивлением обратился к святому синьору нашему Франциску, говоря: "Прошу тебя, отче, во имя божье, скажи мне, в чем же тогда истинная радость?"
Тут голос старика дрогнул, и слеза медленно покатилась по тропкам морщин, по щекам, коричневым, как из обожженной глины. Жесткая, высохшая рука его сильно сжала руку мальчика.
– Знаешь, что сказал наш святой синьор? Что ответил он на вопрос о том, в чем истинная радость? Сколько народу уж об этом спрашивало, не было человека, который бы этим вопросом не задавался, потому что каждое живое существо, паренек, хочет это знать, каждое сердце просыпается к жизни и умирает с этим вопросом. Спрашивали об этом бедные и знатные, князья и папы, нищие и монархи, и мореплаватели заморские, и тот крестьянин, что копал нынче поле вот здесь, перед нами. Много книг по этому вопросу написано, но ни одна не дала ответа. А святой синьор наш Франциск сказал тогда брату Льву: "Овечка божия, если б, когда мы сегодня, голодные и холодные, придем к воротам монастыря, привратник гневно прогнал бы нас, как двух бродяг, зря по белому свету шатающихся, и, в ответ на новые наши мольбы и просьбы, повалил бы нас в снег, и крепко поколотил, и палкой костылял бы, пока бы из сил не выбился, и потом, избитых, окоченевших и до смерти голодных, выгнал бы нас опять на снег и мороз, а мы все снесли бы не то что терпеливо, а с великой любовью, вот тут, – запиши себе и запомни хорошенько, – в этом и есть истинная радость!"
Монах замолчал. Устремил взгляд в пространство, и окрестность как бы расступилась перед его взглядом, окрестность была лишь вратами для чего-то большего, чем только картина вечера.
– Оттого что, – горячо прибавил он, – все, что мы имеем, от бога имеем, и нам нечем хвалиться. Одними только скорбями, печалями и обидами хвалиться можем, оттого что только это имеем сами, это – наше. Потому сказал апостол: "Я не желаю хвалиться, разве только крестом господа нашего…"
Он опять умолк и, казалось, даже забыл о мальчике.
– Меня тоже часто бьют, – промолвил вдруг парнишка.
Монах не слышал.
– Меня всегда бьют палкой, – повторил тот.
Только тут до сознания старичка дошло.
– Что ты сказал?
– Бьют меня, – повторил мальчик еще раз.
Монах изумленно всплеснул руками, так что рукава подрясника взметнулись и упали.
– Что ты говоришь?! – воскликнул он. – Кто же тебя колотит? Братья?
– И они тоже, – кивнул паренек. – Но, главное, папа и дядя.
– Ишь ты, ишь ты… – удивился монах, и морщины на полном сочувствия лице его засмеялись еще больше. – А мама?
– У меня две мамы, – серьезно ответил мальчик. – Одна на небе, а другая, на земле, – не бьет никогда.
– Так, так, – промолвил монах. – Одна мама, монна Франческа, у тебя померла…
– Да, – подтвердил мальчик. – И папа взял себе другую.
– Монна Франческа requiescat in pace 1, – тихо произнес монах.
1 Да покоится в мире (лат.).
– Amen, – сказал парнишка, важно перекрестив себе лоб, рот и грудь, как учила ее рука.
– Но другая твоя мама, монна Лукреция, ведь очень строгая… – сказал монах.
– Да, но только к дяде!
Тут старичок не выдержал, залился мелким смешком – от всего сердца, так что на глазах слезы выступили. Он старался приглушить свой смех, прижав ко рту широкий рукав подрясника, но смех вырывался сквозь прорехи, дыры и разливался по всей фигуре монаха, все на нем смеялось – и подрясник, и сандалии, и тонзура стала похожа на веночек смеха.
– Что ж тут смешного? – с укоризной промолвил мальчик. – У нас часто бывает очень скверно…
Монах замахал руками и хотел что-то сказать, как вдруг за спиной у них послышался новый голос.
– Что это вы так смеетесь?
В дверях стояла монна Лукреция, раскрасневшаяся у очага, с обнаженными полными руками и высоко поднятой головой в тяжелой короне черных волос.
Старичок испуганно закашлялся, кидая умоляющие взгляды на мальчика.
– Я люблю монахов, которые смеются, – продолжала монна Лукреция. Идите ужинать. Только зачем рассказываете вы мальчику такое, как последний раз? Муж очень на вас сердился, оттого что мальчик всю ночь бредил. Больше никогда не рассказывайте ему о шести посрамленьях дьявола.
– Фра Тимотео рассказывал мне, что такое истинная радость, – возразил мальчик.
Они уже были почти в дверях, но монна Лукреция в изумленье остановилась и удивленно промолвила:
– Вы это знаете? А я думала, этого не знает никто на свете. Так что же такое истинная радость, фра Тимотео?
– Это боль, – серьезно ответил парнишка.
Монна Лукреция посмотрела на него.
– Что ты говоришь?
– Да, да, – кивнул парнишка. – Фра Тимотео объяснил мне, что это боль.
Монах торопливо замахал руками.
– Это неверно! – воскликнул он. – Я говорил о нашем святом синьоре Франциске…
– Может быть, мальчик прав, – перебила она.
Монах кинул на нее быстрый испытующий взгляд. Она это заметила и мгновенно вспыхнула от смущения.
– Иногда, – прибавила она, – радость бывает так сильна, что ее не отличишь от боли. На самом деле больно. Но вы не обратили внимания, фра Тимотео, с каким странным выражением произносит мальчик слово "боль"?
Освещенный прямоугольник двери резко выступал на фоне погруженной в сумрак окрестности. В помещении было душно. Несколько свечей горело на железном круге под потолком, другие стояли на низком камине. Семья сидела за столом в ожидании молитвы и ужина. Во главе стола – двое: Франческо Буонарроти, меняла, и брат его Лодовико Буонарроти, бывший подеста в Кастелло-ди-Кьюзи и в Капрезе – неподалеку от Сассо-делла-Вериа в Аретинской епархии, где на горе Альверно святой Франциск смиренно принял святые стигматы. У обоих братьев вид серьезный, хмурый, так как дела идут неважно; к тому же у них шел спор о политике, и устранить разногласия не удавалось. Франческо был того мнения, что нужна более сильная рука, чем у Лоренцо Маньифико, а Лодовико против этого возражал, и разговор его с братом становился все резче и ожесточенней. Лодовико привел в качестве примера Милан, где даже днем на улицах небезопасно и выходить из дому можно только в сопровождении слуг. А Франческо как раз с Миланом вел выгодные денежные операции и потому стал решительно это оспаривать. Тогда Лодовико упомянул Венецию, город просто чудовищный. На это Франческо, только что получивший из Венеции все, что причиталось ему по векселям, торжествующе сослался на жителей Сиены, которые обратились как раз к Венеции за помощью, чтоб установить у себя мир. Тут Лодовико сделал такую презрительную физиономию, что Франческо вышел из себя и придал словам своим об оплаченных и неоплаченных векселях столь ядовитый привкус, что Лодовико понял их, как камень в его собственный огород. Но он отбросил этот камень важным и сдержанным жестом, как предмет, не относящийся к делу, и заметил, что уж Феррара, во всяком случае, никуда не годится. Тут Франческо, ударив кулаком по столу, объявил, что не потерпит, чтоб за этим столом, где он хозяин, оскорбляли его деловых друзей. Но ссора сразу утихла, как только послышалось слово "Рим". Они перешли на шепот. Кончилось время Сикста, теперь христианством правит Иннокентий Восьмой, союзник Флоренции и друг Медичи. Лоренцо Маньифико как раз ведет с ним переговоры о кардинальской шапке для сынка своего Джованни, который, достигнув семилетнего возраста, получил священническую тонзуру и с ней – богатое аббатство, одновременно с титулом папского протонотариуса. Теперь, уже девятилетний, он поставлен архиепископом в Эксе, во Франции, и само собой ясно, что мальчика вот-вот нарядят в кардинальский пурпур. И не только это. Лоренцо Маньифико укрепляет свои связи с папским престолом еще иначе, не одной только молитвой да кардинальской шапкой для сына. Он выдает дочь свою, княжну Медичи, прекрасную Маддалену, за карточного мошенника Франческо Чибу, папского сына. Обстановка в Риме, при понтификате Иннокентия, ужасная, но об этом во Флоренции теперь только шепчутся: Рим теперь – верный союзник республики.
Оба приблизили друг к другу головы. О римских обстоятельствах говорят уже с презрением по всей Европе. Город и его окрестности кишат наемными убийцами; богомольцы и путешественники подвергаются нападениям, целое посольство императора Максимилиана у ворот Рима было ограблено и оставлено на смех в одних рубашках, многие посланники европейских государей возвращаются с полдороги, будучи не в состоянии прорваться к Вечному городу сквозь кольцо разбойничьих шаек…
– А теперь ввел налог на убийство! – шепнул Лодовико.
– Кто? Папа? – изумился Франческо и, услышав о деньгах, поспешно потребовал дальнейших подробностей.
Лодовико принял важный вид. У бывшего члена Коллегии двенадцати много друзей среди высших чиновников республики; что им известно, то и ему.
– Да, папа, – важно выкладывает он. – Самый страшный злодей может теперь купить в Риме безнаказанность, коль уплатит за свое злодеянье установленный налог. Рим полон амнистированных убийц, и папа время от времени расставляет западни, куда снова попадутся новые злодеи, способные хорошо заплатить. Сикст продавал одни кардинальские шапки да индульгенции, а Иннокентий продает алтари, божьи заповеди…
– И все это плывет в карманы папского сына Франческо Чибе? – спросил Франческо.
– Не все. С каждого штрафа сто пятьдесят дукатов отчисляется в папскую казну, а уж остальное идет Франческо Чибе, карточному мошеннику…
– Выходит, у Маддалены Медичи богатый жених, – ехидно засмеялся Франческо.
Но это уж не годится. Лодовико не мог терпеть, чтобы кто-нибудь потешался над Медичи, будь то его родной брат. Опять поднялась свара. До сих пор Лодовико с достоинством отражал атаки Франческо. Да, Франческо – хозяин этого стола, зато он, Лодовико, – продолжатель дворянского рода, древнего рода, рода, который флорентийские хроники ведут с двенадцатого века, рода, имеющего свой герб, рода, праматерью которого была Беатриса, родная сестра императора Генриха Второго. Это, правда, не доказано и обосновать фактами было бы трудно, но в вопросах о дворянстве все-таки всегда нужно немножко верить преданиям. У Франческо нет детей, брак его бездетен, тогда как я, я дал нашему роду пять сыновей, пять новых ветвей славного дворянского рода, рода с гербом. И, ободренный этой мыслью, Лодовико уязвил брата, проклинающего Медичи от ихнего основателя Джованно Вьери Бичи до Лоренцо Маньифико, коварным замечанием:
– Правитель Лоренцо разумно поступает, заботясь о своих детях. Древние семейства как раз теперь не имеют права вымирать, и каждый член древнего рода, которому бог дал счастье быть отцом, обязан стараться о продолжении рода и о будущей его чести.
Франческо сжал кулак, который на этот раз не ударил по столу. Раненный, он не застонал, но укрылся в продолжительное молчанье. И потом только выпустил острую стрелу:
– А ты стараешься?
– Я дал роду пять сыновей! – гордо ответил Лодовико.
Мудрая старушка монна Лессандра оказалась права. Это устроилось, и не было надобности во внебрачных. Но после пятых родов Франческа умерла в возрасте двадцати шести.
– Я дал роду пять сыновей… – повторил он, счастливый и надменный.
"Стараешься?!"
На этот счет Лодовико мог бы многое сказать, но голос его заглушен новой вспышкой Франческо.
Все они – негодяи, а хуже всех Микеланджело. Если кто из них принесет роду бесчестье, так это будет Микеланджело, отпетый, настоящее исчадье ада…
В эту минуту в комнату вошла монна Лукреция с монахом и мальчиком. Все трое почуяли бурю. Дети, съежившись на скамье, совсем притихли.
– Когда я выходила, вы спорили о политике, – спокойно сказала она. – А теперь о чем?
– Много будешь знать…
– "Oculi omnium…" 1 – испуганно стал читать молитву перед вкушением пищи старый монах, словно заклиная бурю.
1 "Очи всех…" (лат.)
Но он не знал латыни, и чтенье его получилось таким шепелявым, шамкающим, странным, что совсем не напоминало латинский язык. Несмотря на это, он читал медленно, вдумчиво и горько сожалея, что в самом деле не знает латыни, а то мог бы повторить эту молитву с начала, и никто бы этого не узнал, и таким образом он выиграл бы время, и еда бы остыла, но остыл бы и гнев, и лучше спокойно поесть холодненького, чем прямо с пылу, с жару. Но молитва не может не кончиться, и все садятся, стуча ложками. Фра Тимотео, улыбаясь, вылавливает куски мяса, с наслажденьем чавкая. О чем бы завести речь, чтобы здесь поселился мир? О побежденных искушениях святого брата Илии? Это прекрасное, великолепное, развитое, исполненное серафимского огня повествование? Ну да, то самое…
– Ты! – вдруг указал пальцем Франческо Буонарроти на одного из мальчиков. – Кем ты будешь?
– Менялой, – покорно ответил двенадцатилетний Лионардо.
– А ты?
Палец нацелен прямо, не увильнешь.
– Менялой.
У восьмилетнего Буонарроти ответ всегда наготове, в карман лезть не надо.
– А ты?
Палец передвинулся немножко дальше.
– Менявой, – лепечет шестилетний Джовансимоне с набитым фасолью и салом ртом.
Четырехлетнего Джисмондо палец не вопрошает, так как ответ сам собой ясен. Но теперь он направляется медленно и коварно к мальчику, пришедшему под конец.
– А ты, Микеланджело?
Мальчик наклонил голову над тарелкой, глаза его налились кровью, последний кусок стал поперек горла. Франческо Буонарроти, положив ложку, кинул вокруг победоносный взгляд.
– Знаете, кем будет наш Микеланджело? Живописцем он будет, художником, бродягой и лодырем, будет шататься и выклянчивать работу по монастырям и княжеским дворам, позором всего нашего рода будет Микеланджело, папенькин любимец!
Монна Лукреция вспыхнула, и резкие слова ее разлетелись во все стороны, как искры из очага. Но Франческо не уступал. Слышать он не желает ни о каких Донателло, Брунеллески, Верроккьо и всех прочих! Сколько лет пришлось каждому из них есть хлеб презрения и нужды, хлеб, скуднее нищенской корки! Искусство? Нынче оно в моде, а завтра что, когда люди опамятуются? Что ж она указывает на Боттичелли, а забывает о Мазаччо, который помер в Риме, голодный, как бродячий пес? Отчего говорит о благочестивом Гирландайо, а молчит о кармелите Фра Липпи, который обесчестил свою модель, монахиню Лукрецию, когда писал с нее святую мученицу Маргариту, соблазнил молоденькую монашку и бежал с ней, живописец-кармелит, а когда папа Евгений, по-прежнему восхищаясь его произведениями, предложил ему освобожденье от всех обетов, чтоб он мог хоть жениться на той, которую совратил, монах пренебрег, и продолжал жить с монахиней, и прижил с ней сына, тоже художника… И этот человек писал сладких мадонн с локонами, с ангельским выраженьем глаз, с лицом, полным невинности и дивной небесной красоты… Бросьте толковать мне, Франческо Буонарроти, о святых образах, написанных нечистой, кощунственной рукой, я отвергаю это искусство, порожденное обителями гулящих девок и правителями-прелюбодеями, искусство, созданное людьми с душой отверженцев, людьми, взбесившимися от разврата и самых страшных злодеяний, я – человек порядочный и не могу молиться на изображение Христа, нарисованное кем-то, о ком я знаю, что он привержен блуду мужеложства! Нет, лучше я, по примеру святых пустынников, сам нарисую себе распятие, чтоб на него молиться, а вы молитесь на те и ставьте их хоть в алтарь, – это будет с вашей стороны одно богохульство, а не прославленье господа! И вечно одни и те же темы, набившие оскомину! Мадонна с младенцем, рождество Христово, поклонение волхвов, тайная вечеря – и кончено! Ничего такого, что говорило бы мне об открытии, которое художник сделал при помощи молитвы, а не одной только кисти!.. Язычникам на престоле и продажным монахам, философам в пурпуре и монахиням монастырей, из которых каждый – дом терпимости, всем им пришлось по вкусу это искусство красивых лиц и красивых красок, искусство без благочестия, без молитвы, без душевного смирения… Бог это видит! До сей поры он всегда отмечал чудесами своими простую ремесленную икону, какой-нибудь дорожный образок, перед которым можно излить душу в умиленных молитвах, но до сей поры я никогда не слышал, чтобы стала чудотворной картина Фра Липпи; или Леонардо да Винчи, или кого бы то ни было из этих ваших художников… Язычники они все и нехристи, алчущие одних только почестей, славы и денег, упивающиеся наслаждением непотребства. Но кары божьей не миновать! Теперь кара божья – единственная надежда моя. Грозная и справедливая кара божья, которой не отвратят все эти святые картинки, пусть самого искусного письма!..
Франческо, красный от возбуждения, захлебывается в бурном потоке собственных слов, рвущемся наружу, в котором все смешалось, словно кто перепутал счета у него в конторе. Божья кара, искусство, Микеланджело, – он хотел бы сказать сразу обо всем, безуспешно ловя при этом самые крепкие выражения. Глаза его сверкают, седеющие пряди волос до плеч всклокочены от гнева и мотаются. Из чего выросла слава Флоренции? Из парчи, камчатных тканей, тисненой кожи, шелка, банковского дела, а не из размалеванных холстов да мраморных либо песчаниковых статуй. Мы были люди ремесленные и набожные, решали денежные и торговые дела сообща, и когда заходила речь о введении новых государственных доходов, об этом проповедовали в церквах: францисканцы были – за, а доминиканцы – против. Так попеченье о благах земных было подчинено службе богу и забота о семье – интересам общины. А теперь совсем позабыли о законе, налагающем штраф в тысячу золотых на сына, который не хочет ни продолжать отцовское ремесло, ни начать какое-нибудь другое. А Микеланджело как раз и будет такой сын! Что вы его защищаете передо мной? Таким сыном ты хвалишься, таким гордишься, такого превозносишь, через него думаешь добиться дальнейшего расцвета нашего дворянского рода? Не радуйся заранее: посмотри сперва, что ты вырастил и какую прибавку сделает твой сын к нашему гербу. Кисть или резец, славное украшение! Палку надо, палку хорошую, чтоб выбить из него это проклятое нечестивое безумие, это желание стать художником, стать нищим, безбожником, прихлебателем, срамом!
В комнате трудно дышать, воздух тяжелый, огонь свеч не колеблется в нем, а торчит неподвижно, как металлический. Монна Лукреция повисла на руке Лодовико, но тот колотит по столу кулаком свободной руки и гремит против Франческо голосом подесты, привыкшего к судебным перепалкам. Он защищает сына, которого скорей убьет, чем позволит ему стать художником. Сын будет чиновником, законоведом, для этого он ходит в латинскую школу… Но тут Франческо разражается хохотом и кидает на стол лист бумаги с потешным рисунком. Бездельник Микеланджело, он не учится, все старания его учителя, маэстро да Урбино, напрасны, мальчишка до сих пор не знает начатков латинского языка, в то время как его однокашники читают уже Курция Руфа… А когда учитель его наказал, вот как Микеланджело его отблагодарил… И рисунок, изображающий маэстро да Урбино в рясе среди чертей, пошел по рукам. Лодовико потребовал палку, и глаза его побелели от бешенства. Душное помещение огласилось пронзительными воплями убегающих детей. Но Лукреция овладела и другой рукой мужа.
– Не бей его, – умоляюще промолвила она. – Нельзя же чуть не каждый день колотить! Не надо так… Ты убьешь его, если будешь заставлять жить по твоей указке… Этак ребенок когда-нибудь захлебнется слезами… Пойди отсюда, Микеланджело!
– Дешево отделался! – язвительно кивнул дядя Франческо. – Я расскажу об этом маэстро Урбино и сомневаюсь, чтоб он принял мальчишку обратно в школу. Пускай лучше водит компанию с этим Франческо Граначчи. Но бог не обойдет вас своей карой! И на вас сбудутся слова доминиканца, чью проповедь я слышал в Брешии, во время своей поездки по делам, святого фра Джироламо Савонаролы, открывшего мне глаза и сердце.
Фра Тимотео, который во время этой бури сидел съежившись, словно превращенный в кучку какого-то ненужного мусора, и желая только одного: быть подальше отсюда, – теперь испуганно поднял голову, но сейчас же опять нагнул ее. Однако это маленькое движение не укрылось от Франческо.
– Да, фра Тимотео: фра Савонарола, который когда-то был вынужден оставить Флоренцию, так как ваш орден ненавидел его и громогласно поносил по церквам. Конечно, по наущению Медичи. Человека, исполненного святости. Да, таковы они, Медичи. Лоренцо – не Маньифико, а Окаянный, Лоренцо Язычник.
Сжатые губы Лодовико вновь исказились гримасой гнева. Никто, даже его родной брат, не смеет так поносить правителя в присутствии бывшего члена Совета двенадцати. Лоренцо не язычник, никто еще не слышал из уст его какой-нибудь хулы, насмешки или ругательства по адресу церкви.
– Никто? – засмеялся Франческо. – Фра Тимотео, как было в тот раз, когда ты читал проповедь о злом волке из Аггобии? О волке, которого святой Франциск укротил так, что тот обещал ему больше не разбойничать, а быть довольным тем, что дадут крестьяне… На вашей проповеди был и Лоренцо Медичи; потом он в ризнице сказал вам и окружавшим его: "Волк – это в Дантовой Комедии образ курии, и только с этим значением легенда приобретает смысл. Дай бог ордену святого Франциска, – так сказал Медичи, – укротить жадность этого римского хищника, чтоб он удовлетворялся ему принадлежащим… и перестал наконец разбойничать…" Да, так сказал о святом престоле Петра этот Лоренцо Медичи, и все вокруг засмеялись… и поэтому вы, фра Тимотео, больше никогда не читаете проповедей о злом волке из Аггобии…
Старичок что-то прошамкал беззубым ртом – не то насмешку, которую не мог быстро проглотить, не то плач. Лукреция окинула Франческо полным презрения взглядом. И молчанье ее высокомерно. Она поворачивается к монаху и мальчику, перепуганным, растерянным, подавленным.
– Ступайте, – говорит она. – Вам, фра Тимотео, поздно уж нынче идти по темну в монастырь. Вы ляжете вместе с мальчиком.
И вывела обоих, как ангел выводит души из врат адовых. Отвела на чердак. Там потемки. А потом вернулась к мужнину очагу, приготовившись встретить и брань и ласку.
Монах, преклонив колена, стал горячо молиться. Воздал хвалу богу за все, восславил деву Марию за смирение, с которым она приняла благовестье, и преклонился перед ней, вспоминая ее муки у креста и двенадцатизвездный венец ее на небесах. Потом замолчал, погрузившись в тихое размышленье о ее милосердных очах, устремленных на нас. Потом стал молиться за своих монастырских братьев, за властей духовных и светских и просить со многими воздыханиями за плавающих, путешествующих и за души, пребывающие в чистилище. Он молился, простершись ниц, прижав лицо к суковатым доскам пола и раскинув руки наподобие креста.
Мальчик не спит и прислушивается к этим молитвам. Мысли о вытерпленном вечере. "Менялой", – слышит он быстрый, затверженный ответ брата. "Менявой", – бормочет Джовансимоне с набитым фасолью и салом ртом. До чего ему ненавистен этот Джовансимоне, который вечно что-то сюсюкает, и за это все его гладят по головке. Ему только шесть лет, пока что он снискивает любовь к себе набитым ртом, но уже умеет сказать этим ртом, что хочет быть менялой.
И паренька охватывает вдруг страшное чувство одиночества и тоски. Одиночества, оснащенного остриями и шипами, раздирающего до крови, одиночества ранящего, – не того, которое успокаивает и усыпляет, а того, которое причиняет боль. И тоски неприкаянной, глухой, мучительной, тоски, словно черная черта тьмы, тоски, наполняющей рот так, что дышать трудно. Вдруг этот ребенок захлебнется слезами… – так сказала мама Лукреция. Как странно сказано! Захлебнуться слезами, их соленым потоком, падающим обратно в сердце… Мертвая мама Франческа видит меня. Вот я лежу здесь, в темноте, навзничь на постели, с широко открытыми глазами, гляжу на стропила, задыхаюсь, смотрю и не вижу ее. А она меня?
Видеть! Формы! Формы! Храм Санта-Мария-дель-Фьоре, Санта-Кроче, Сан-Марко, Санта-Мария-Новелла, но прежде всего – Санта-Мария-дель-Кармине. Храм из древнего камня, пропитанного молитвами и музыкой. Их своды, колонны, картины, статуи – все одето музыкой. Паренек вертится там непрестанно. В послеполуденной тишине, когда в церквах пусто, проберется он в одну из них и притулится за колонной, чтоб быть в этом широком пространстве еще больше одному. В окна вливается разноцветный мягкий свет, мальчик боится малейшим движением нарушить царящую вокруг глубокую тишину и весь обратился в слух. Вот поплыл первый, второй, третий звук, музыка, музыка ниоткуда, может быть, с надгробного камня перед ним, на котором высечено изображение коленопреклоненного рыцаря, чье непонятное имя вьется гирляндой вокруг надгробия, а может быть, это музыка с церковного свода или со ступеней алтаря, а то – с губ святого, с крепко сжатых губ статуи небесного заступника, который бодрствует здесь над людскими молитвами и над страшным орудием своей пытки, музыка, откуда – мальчик не знает, но слышит, как звуки струятся всюду вокруг него, разбегаются, сливаются, музыка замирает и опять развивается, один высокий звук остался гореть над остальными, но вот уж опять под ним бьют ключом другие и опять новые, и если исчезнут и вдруг погаснут (потому что эта музыка вдруг превращается в свет, а свет в музыку), все вернется снова и в других изменениях. Остаться бы здесь до вечера, дослушать все до конца, но вечно найдется какой-нибудь посторонний, который вдруг войдет и нарушит музыку звуком шагов, шепотом молитв, испытующим взглядом, брошенным на одинокого мальчика, который уходит, потрясенный пережитым и не зная, что в храме была просто тишина.
Что же это за музыка? Он уже догадывается: это говорит камень.
У камня есть сердце, и оно призывает и поет. В камне есть жизнь, рвущаяся наружу, к свету, прожигающаяся в формах и звуках, жаждущая, чтоб ее слышали и видели, жизнь камня. В камне – мечта и мощь, там дремлют злые, темные силы, и, хвала богу, – камень, слепленный божьей рукой, как из куска глины был создан человек и в него была вдунута жизнь, либо камень, совлеченный с горных вершин ангельским падением, камень, который стонет, который рад бы заговорить внятней, если б нашлась рука человека, которая нанесла бы ему первые удары, ибо только в ударах – правда жизни. Материя, избитая, исхлестанная гигантскими вихрями и бурями, – с моря пришли они или из человеческого сердца, не знаю, но были это бури и вихри, свалили ее – под пяту человеку или воздели в форме креста. Камень, живущий глубокой, скрытой, страстной жизнью, каменный сон, из которого можно пробудить великанов, да, великанов, – фигуры сверхчеловеческие, сердца страстные и темные, сердца роковые. Порой из него рвется такой резкий крик боли, что, услышанный, он поверг бы наземь целые толпы, а иной раз это песня неги и родины, воздушный, возносящийся образ, длинная волнистая прядь волос, крыло или пальма, тысячи форм закляты в этом камне, тысячи жизней ждут под его ранимой поверхностью. Нужны удары молотка, чтоб зазвучали эти окаменелые нервы, нужны удары, которые прорубились бы в мучительном усилии к ритмичному сердцу материи и дали бы ей скорбную речь, бремя человеческого отчаяния и красоту любви. Словно грозный вулкан бушует в камне, и ни один из его кратеров не погас, я чувствую их палящий жар, стоит мне только дотронуться до его холодной поверхности ладонью. Видения, которые сами по себе – глыбы и грозят раздавить тяжестью тщеты или сжечь молнией безнадежности. Никогда не скрыться мне от камня, и на всех моих путях, во всех одиночествах и печалях моих будет камень.
Мальчик слышит камень. Бывают и такие вечера, когда он от этой музыки бежит, каждый звук мучает его, вызывает в нем горькие, безутешные слезы. Он не хочет этих голосов, они причиняют ему боль. И есть камни мертвые, накликающие несчастье, есть камни заколдованные, которых мальчик боится. Иногда, непрерывно оглушаемый этим пеньем, он ни на что не способен, не может учиться, не может играть, не может ни с кем разговаривать, от всего бежит прочь. Он уже привык в таких случаях притворяться больным. Уйдет к себе в комнату, зароется головой в подушки, чтоб ничего не видеть, не слышать. А ночью вдруг быстро вскочит в постели.
Длинные пальцы лунного света тронули клавиатуру ночи, тьма стала формой. Тьма – тоже материя, ее тоже можно моделировать, из тьмы тоже можно ваять фигуры и лица, и у тьмы есть голос, глухой, гнетущий, а иной раз шепчущий слова ворожбы и обольщения, слова из серебра и пурпура, слова, никогда не произносимые, и у тьмы есть формы ворожбы и прельщения, формы, чеканенные человеческими судьбами, и формы, вылепленные так, как они хотели быть вылепленными, чтобы жить. Долго еще сидит паренек в постели, формы жгут ему ладони, – так он учился у тьмы и тишины. Видеть!
Теперь он лежит навзничь, руки закинуты за голову, старичок все время чем-то двигает во тьме, приковылял к низкому окошку и все не ложится.
– Фра Тимотео, – прошептал паренек.
– Ты еще не спишь? – удивился монах. – Чего не спишь? Ни о чем не думай, положись во всем на господа бога и спи спокойно!
– Фра Тимотео, что вы там делаете?
– Зашиваю впотьмах подрясник, который ты мне разорвал, – укоризненно ответил монах. – Добрая монна Лукреция дала мне иголку с ниткой – ну и шью. Не могу же я вернуться такой оборванный к братии в монастырь. Они скажут…
– Фра Тимотео, – продолжал шепотом мальчик. – Как ответил святой Франциск брату Льву, когда тот спросил, в чем истинная радость?..
– Понимаешь, это – великая тайна смирения, – слышится во тьме шепот монаха. – Великая тайна. Все, что дает нам сестрица боль, – а она так нас любит, что всегда с нами, – мы должны терпеть с любовью и преданностью. А потом все страдание человека превратится в совершенную радость.
Тут мальчик вдруг зарыдал. Он больше не мог с собой сладить, и долго сдерживаемые слезы пролились во тьму, – он плакал так, словно сердце у него разрывалось на части, плакал, порывисто вздрагивая, и – выплачь он все слезы, было бы мало. На него вдруг свалилось все – невозможность увидеть мертвую маму, отцовские колотушки, дядина злоба, издевательства братьев, невыносимая духота отцовского дома, одиночество, камни, тьма и угадываемые формы, все, все, все вдруг над ним сплотилось, и он нежданно-негаданно очутился словно в длинном коридоре без огней и без выхода.
– Что ты! – испугался старичок и засеменил к нему.
Наклонившись над горючими слезами мальчика, он стал гладить его огрубелой, нищенской ладонью, растроганно шепча:
– Не плачь, Микеланджело, не плачь! Это не ты, это я сам разорвал, право, сам… это я… не плачь.
ДАНТОВ СТИХ
Косогор, с прожилками серых и желтых полос затверделой грязи и облысевшего черного кустарника, издали в лучах ноябрьского солнца кажется мраморным. Франческо Граначчи поет, в лад ходьбе, веселую карнавальную песню, сложенную Лоренцо Маньифико, – но только дал песенке по-настоящему распоясаться, как сразу оборвал, взгляд его сделался серьезным, и мальчик затянул другую, медленная мелодия которой – как цветок, что живет только одну ночь. Франческо Граначчи всегда такой, и Микеланджело, шагающий рядом с ним по косогору, не удивился. Это тоже песня Лоренцо Маньифико. Диск ноябрьского солнца – как желтый драгоценный камень в голубом перстне небосклона. Холодный воздух имеет пастельный оттенок. Холм – как в незнакомой стране. Мальчик поет:
Ogni cosa e fugace e poco dura
tanto fortuna al mondo e mal constante,
sola sta ferme e sempre dura morte 1.
1 Все на земле текуче и непрочно,
В делах мирских судьба непостоянна.
Лишь смерть одна тверда неколебимо (ит.).
Занятный переход от карнавального куплета! Но – из песни слова не выкинешь. Мальчик пел: все текуче и непрочно, и счастье непостоянно, незыблема и неколебима только смерть. Лесная сырость похолодала. Низкие усадебки разбросаны по шахматным клеткам нив и лугов, среди кипарисов, стерегущих угрюмо и надежно. Ноябрь.
Мальчики сели на камень под большим пышным кустом, и Граначчи, вынув из-за пазухи несколько рисунков, протянул их Микеланджело.
– Есть еще немного, – сказал он. – Маэстро Гирландайо так занят теперь фресками в Санта-Мария-дель-Фьоре, что эту работу поручил продолжать нам.
Микеланджело схватил рисунки и заботливо спрятал их под куртку.
– А дома не найдут? – озабоченно спросил Граначчи.
Микеланджело улыбнулся.
– У меня хорошие тайники, я их там спрячу и буду копировать.
Тут он до того побледнел, что лицо его стало пепельным.
– Франческо, – прошептал он, – ты… показывал?..
Франческо Граначчи со смехом порывисто притянул его к себе в объятия.
– Да, – пылко промолвил он. – Я опять показал твои рисунки и могу только повторить слова маэстро Гирландайо. Он долго с удивлением их рассматривал, потом спросил, как твое имя. Я не сказал, а он говорит: "Франческо, передай ему привет от Джотто, Мазаччо и остальных великих мертвецов, стоящих в начале наших мыслей, нашей мечты и нашего горения. Передай, что любвеобильная горесть искусства, которая его ожидает, когда-нибудь прервет его таинственное молчанье и он уже не скроет своего имени, прекрасное своей участью". Так сказал старый маэстро Гирландайо, а я передаю тебе.
Счастливая мальчишеская улыбка на губах его вдруг поблекла.
– Никогда не забывай, – прошептал он, – что я первый сказал тебе о том, какой ты художник, Микеланджело! Но ты, конечно, забудешь!
– Никогда не забуду, Франческо!
– "Все на земле текуче и непрочно…" – возразил мальчик словами песни и омрачился.
– Что с тобой, Франческо? Ты какой-то странный… – прошептал Микеланджело.
Граначчи немного помолчал. Потом вдруг горячо заговорил:
– Ты не подумай, Микеланджело, что это из-за того, что сказал Гирландайо. Ты знаешь, я люблю тебя больше всего на свете и радуюсь вместе с тобой, но не могу, потому что я такой… от меня всегда что-то ускользает… хочу схватить и не могу… я знаю, что я странный, злой… не могу, рад бы измениться, ах, господи, господи… борьба напрасна… ты – моя твердая земля и якорь, Микеланджело, только ты, я тебя люблю, да, люблю так, что даже хочется как-нибудь обидеть… сам не понимаю… и тебе не могу объяснить… но это так, я всегда был такой и таким уж, наверно, останусь… из любви делать зло…
– Это не любовь, Франческо! Это не любовь, – прошептал Микеланджело.
– Наоборот, – ответил голос, проникнутый горечью пасмурной, тяжелой усмешки. – Это великая любовь!
– Любовь не делает зла.
– Моя делает, – возразил Граначчи. – У Петрарки есть об этом стихи, я их хорошо помню:
Любовь, смеющаяся мукам,
Как лавр сурова, холоднее снега,
Камень живой, а все-таки любовь.
– Камень живой… – прошептал Микеланджело, и глаза его потемнели.
– Да, так сказано в Петрарковом сонете: "Камень живой, а все-таки любовь". Я это чувствовал еще раньше, чем прочел Петрарку, только не умел выразить, я знаю, что так и у меня, и я тоже – живой камень…
– Не надо так говорить, – возразил Микеланджело, и бледное лицо его подернуто мечтой.
Граначчи пристально на него посмотрел.
– Я хочу быть как те великие, славные мастера, о которых мы знаем, но что-то все время сбрасывает меня вниз, все время что-то предостерегает, чтобы я себя не обманывал, что таким я никогда не буду, что я все время скольжу по поверхности, а внутрь не могу, – кто заглушит во мне этот малодушный голос? А я должен, понимаешь, должен, – иначе сойду с ума, должен, хочу быть больше Джотто, Мазаччо, Леонардо, Боттичелли и всех остальных, – не думай, что я сейчас брежу, – если б ты только знал, как мне больно, как я мучаюсь, как болен этим, – но ты не поймешь и не поможешь… только она.
"Кто?" – хотел спросить Микеланджело, но промолчал.
Граначчи с трудом перевел дыхание. Руки его сжаты, словно в судороге. Ноябрь. Мы живем в такую пору, когда мальчикам некогда. Торопливая, поспешная жизнь – страсть мальчиков, так же как знание – страсть юношей. Всегда уходит, всегда убегает, как сказано в Лоренцовой песне, только смерть незыблема, неколебима и неподвижна.
– Она, – сказал Граначчи. – Но она уже мертвая. И как раз поэтому мне поможет.
Мертвая? У Граначчи никто не умирал. И почему – как раз оттого что мертвая, должна помочь?
Граначчи продолжает прерывисто, страстно:
– Тебе одному скажу я теперь о своей великой тайне, Микеланджело, тебе одному, – чтоб ты знал, как я тебя люблю. Ты не поймешь, но и не выдашь. Знаешь, что произошло в Риме? Ломбардские каменщики на стройке Санта-Мария-Новелла, на Аппиевой дороге, неожиданно нашли римский саркофаг с телом девушки. Не то времен Нерона, не то Августа, а может, и еще древней, кто его знает… Но девушка, – и пятнадцати нет, – лежала, как живая. Говорят, цвет лица такой свежий, прекрасный, будто она спит. Кожа такая теплая, влажная, словно девушка только вышла из ванны и спит теперь после купанья. Губы яркие, алые, грудь, словно в ней бьется сердце, вздымается сонным дыханьем. Но изумительней всего то, что она нежно и спокойно улыбалась, да, улыбалась, как будто видела прекрасный сон… Весь Рим сбежался на это зрелище, такая была давка, что нескольких человек затоптали. Когда саркофаг переносили в дом хранителя музея – с Аппиевой дороги в Капитолий, получилась целая процессия. Народ валил за гробом, крича, что это чудо, а гуманисты на улицах преклоняли колена, утверждая, что это дочь Цицерона… Дом папского хранителя музея был днем и ночью окружен гудящими толпами, они расположились там лагерем, желая еще раз посмотреть на мертвую, улыбающуюся мертвую… Можешь себе представить! Сколько столетий замурована в усыпальнице, а все живая, спящая, прекрасная! И тут папа Иннокентий, опасаясь, как бы мертвая язычница не была, по воле народа, объявлена святой, и в страхе перед крупными беспорядками, велел вынуть это прекрасное девичье тело из саркофага, и будто бы, когда ее поднимали, она была по-прежнему теплая, словно полная живой, струящейся по жилам крови, только тяжелый узел черных волос, развившись, упал на плечи и грудь, отчего она стала еще прекрасней… Потом ее ночью тайно похоронили где-то возле Порто-Пинчо, никто не знает, где именно, а хоронили папские воины, той же самой ночью растасованные по отрядам, выступающим против неаполитанцев, и ни один из них не вернулся, – устроили так, что все они пали, – и теперь никто никогда не узнает, кто была эта прекрасная молодая римлянка в саркофаге… Но я думаю о ней все время, ночью и днем, такая покойница обладает великим могуществом, она прекрасна, я люблю ее, только ее одну, и все время твержу ей об этом, но она все не приходит, я вижу ее во сне, вижу каждую ночь, и зову, но она не приходит; я великой торжественной клятвой отрекся ради нее от любви ко всем живым женщинам, хочу обладать только ею, и умолил все темные силы убить меня в ту минуту, как только я эту клятву нарушу, если б вдруг поддался и захотел обнять живую женщину, – нет, никогда, я принадлежу только ей, я обручился с этой покойницей, этой удивительной покойницей, и хочу от нее одного: чтобы она сделала меня великим и славным… Знаешь, такие покойницы обладают великим могуществом, о котором мы и не подозреваем, и она, конечно, это сделает! Она поможет мне, я знаю, но мне нужно сперва с ней поговорить, сперва поцеловать ее, на самом деле обручиться с ней, как с женой, уста в уста, тело к телу, но самому мне ее не призвать, это слишком сложные и таинственные обряды, я не сумею и потому… Микеланджело, молчи об этом обо всем!.. потому я убегу из Флоренции и переберусь в Нурсию, город герцогства Сполето. Там среди скал живет одержимая чародейка, вещунья Сибилла, я знаю, что в свое время к ней ездила тайно жена нашего Лоренцо Маньифико, ездил наш поэт Луиджи Пульчи, мессер Пьер Паоло Босколи, который не верит в бога и все время ищет тень своего казненного друга Джакомо Пацци, к ней ездил и мессер Аугурелли, который ищет золото в огне, крови и слизи саламандры, ездили к ней и много других. Я тоже поеду, и она, конечно, призовет мне эту дорогую покойницу, и мы обручимся с ней, как муж и жена, и она мне, конечно, поможет. Нет, ты не думай, что я спятил, я вот уже целый год это обдумываю и обязательно сделаю. Не Лаура Петрарки, не Беатриче Данте, мертвые возлюбленные на небесах, ведущие поэтов, а она, она одна…
– Тебя сожгут! – в отчаянии воскликнул Микеланджело. – Сожгут, Франческо! Я вижу тебя привязанным к стволу нетесаного дерева, на костре колдунов – и ты сгоришь…
– Может быть! – презрительно бросил Граначчи. – Но за малую толику искусства, которое я дам миру, – не жаль!
Микеланджело сжал ладонями виски и застонал.
– Вот видишь: я делаю тебе больно, хоть и люблю, – промолвил с слабой, бледной улыбкой Граначчи. – А может, и ее любовь будет причинять мне только боль, как знать. Может, любовь наша будет полна страдания… не знаю. Любовь, смеющаяся мукам, мертвая возлюбленная, суровая, как лавр, холодней снега, камень живой – и все-таки я знаю, что это любовь.
– Нет, Франческо, нет, – горячо протестует Микеланджело. – Чего нет у тебя, того не дадут тебе мертвые, даже самые прекрасные. Я знаю, у тебя есть больше, чем ты думаешь, знаю, но если б не было, никакая темная сила не поможет…
Граначчи высокомерно засмеялся.
– Не поможет? – сказал он. – Ты думаешь, дьявол, завладевающий всем и запускающий свои когти во все, упустил бы такой великий предмет, как искусство, и не пожелал бы оказывать и на него влияния, иметь в нем своих помощников и свои произведения?
– Может быть, но на этот путь ты не должен ступать, – дрогнувшим голосом настаивает Микеланджело. – Не должен, Франческо! И знай, что есть здесь иная сила, которая может тебя одарить, да так, что даст тебе сокровища, каких нет ни у кого, – да, такие сокровища искусства…
В голосе Граначчи горечь и равнодушие.
– Какая же это сила?
Тут Микеланджело поднял лицо и сказал просто:
– Смирение…
Франческо копнул носком туфли землю, отбросил ногой большой кусок грязи. И насмешливо прибавил:
– …говорит наш добрый фра Тимотео…
– У меня тоже… – продолжал нерешительно Микеланджело, – есть своя тайна. И такие же сомнения, как у тебя. А у кого их нет? Говорят, Дамассо Джинни из-за них умер… И у меня тоже есть. Может, даже посильней твоих. И у меня есть кто-то, кто меня ведет. И знаешь – тоже не Лаура, не Беатриче, но… она. Тоже она. Твоя покойница хоть жила когда-то. А моя никогда не жила, моя живет только возле меня. Я создал ее в воображении. И не знаю, как ее зовут. У нее нет имени. И я тоже никогда, наверно, не узнаю другой женщины. Но ясно вижу ее перед собой. Я вывел ее в своем воображении из Дантовых стихов, которые как-то раз прочел, – ты их знаешь:
И я обрел смирение в страданье,
Когда узрел те кроткие черты.
– Это из "Вита Нова", – выдохнул Граначчи. – Чудные стихи, я их знаю…
– Да, чудные. И она у меня создана из них. У нее есть облик, есть дыханье, есть жизнь, голос, она идет со мной, склонив голову. Так покорен стал я в своей боли, а она, она, прекрасная, тихая, молчаливая… покорная в своей улыбке… Да, – говорил я себе прежде, – живой камень! Чем ты все, что у тебя болит, что в тебе разгорелось, что терзает тебя невыносимой мукой, чем ты все это преодолеешь? Так покорен стал я в своей боли…
– Молчи! – вдруг перебил его Граначчи и сердито оглянулся. – Надо ж было подлому соглядатаю помешать нам как раз в эту минуту! Бежать уже поздно! Но не забудь, мы договорим после!
Вниз по косогору, по тропинке меж камней и кустарников к ним спускался сухопарый, тощий юноша в черном, лет девятнадцати, махая им длинными руками.
– Здесь вам будет плохо видно! – заревел он вместо приветствия, очутившись рядом с ними. – Вам нужно поближе к римской дороге. Идемте! Я тоже туда спешу!
– Что ты хочешь видеть, Никколо? – с досадой спросил Граначчи, не скрывая раздражения.
Но юноша, видимо, не замечал этого.
– Вы не знаете? – с изумлением спросил он. – Так почему же вы здесь? Что вы тут делаете?
– Ты старше нас, – отрезал Граначчи, – и должен бы знать, что не на все вопросы отвечают. А про тебя еще говорят, что ты хитрая голова, Никколо Макиавелли!
Юноша засмеялся.
– Что ж, можете не отвечать!.. Что это у тебя так куртка раздулась, Микеланджело? Она у тебя набита рисунками маэстро Гирландайо, которые принес тебе потихоньку Граначчи, чтобы дома не увидели?..
– Ты соглядатай, Никколо, – с возмущением сказал Микеланджело, – и соглядатаем останешься. Почем ты знаешь?
– Я знаю все, что делается во Флоренции! – горделиво ответил юноша. Мне всегда хотелось знать все, что делается кругом…
Потом миролюбиво продолжал, похлопывая их по плечу:
– Все по-хорошему, ребятки! У меня каждая тайна – под семью замками, и я не имею дурных намерений. И коли не хотите идти смотреть, я сейчас вас оставлю, пойду один: такое увидишь только раз…
– Но что же это, Макиавелли? Объясни нам!
– Прекрасная Маддалена, – промолвил важно и хвастливо Макиавелли, прекрасная Маддалена Медичи, дочь правителя Лоренцо, проедет сейчас по этой дороге с блестящей свитой – в Рим, чтобы обвенчаться там с папским сыном.
Мальчики молчали, а Никколо Макиавелли охотно продолжал сообщения:
– Вы, ребятки, еще не понимаете, что это значит! Это политический переворот, последствия которого рисуются пока в отдалении… Этой дорогой проехал однажды ночью кардинал Риарио с папскими послами, которым Сикст поручил убить Медичи. А теперь по ней поедет к папскому двору одетая в парчу невеста из семейства Медичи. Это великое дело! Политика Лоренцо великолепна, и мы все ясней видим, что было бы с Италией, с Флоренцией и с нами, со мной и с вами, ребятки, если бы Сикстов замысел удался и Медичи были бы убиты. Помню, как сейчас, стою я в церкви Санта-Мария-дель-Фьоре, прижатый к стене, полураздавленный, а потом и насмерть перепуганный, когда это во время Евангелия началось… Мне было девять лет… А теперь под развевающимися знаменами поедет невеста из рода Медичи, и кардиналы выйдут все вместе к воротам встречать ее… Вот каков Лоренцо Маньифико! И я знаю: пройдет немного времени – папой станет кто-нибудь из Медичи. Но Лоренцо договаривается не только о кардинальской шапке для своего девятилетнего Джованни! Теперь нужно устроить еще одно: чтобы никто из делла Ровере, больше никогда никто из Сикстова рода не оказался на папском престоле, и вообще – чтобы делла Ровере больше никогда не забирали силу…
И Никколо стал с увлечением, обстоятельно и подробно перечислять живых делла Ровере, их звания, связи, возможности.
– Меня все это страшно занимает и интересует, – закончил он, видя удивленные взгляды обоих мальчиков. – Я больше ни о чем не думаю и мог бы целыми часами говорить вам об этом. Друг нашей семьи, мессер Марчелло Адриани, обещал взять меня на службу республики, – говорит, у меня острый глаз в вопросах политики и большой интерес к ним, – ну, может, это не только интерес, может, и кое-что побольше. Знаете, я иногда кажусь себе врачом, который не в силах не наблюдать больного, хоть ему от этого – никакой выгоды, а просто так, ради самого дела.
– Кто же этот больной, Никколо?
Макиавелли нерешительно оглянулся, потом промолвил:
– Италия. Все мы это чувствуем, это в самом воздухе, которым мы дышим, у некоторых от этого сжимается сердце, как перед бурей, у всех шалят нервы, кое-кто уже скорчился, словно ожидая страшного удара… Разве вам такие вещи безразличны?
– Мы художники, – гордо ответил Граначчи.
Макиавелли, пожав плечами, возразил:
– Политика – тоже искусство, и великое искусство. Прошлым векам это было неизвестно, но мы знаем, – поглядите вокруг: нынче политика создается так, как создаются произведения искусства. В конце концов, в наши дни, когда все, даже самая жизнь, стало искусством, почему бы и такому могучему творческому делу, как управление судьбами городов и государств, не быть искусством? Это искусство, великое искусство. Ах, ты смеешься, Граначчи, надменный Граначчи, думаешь, наверно, что я для такого грязного дела, как политика, употребляю слишком высокие слова! А разве ты всегда работаешь с чистым материалом? Разве для того, чтобы некоторые краски получались лучше, тебе не приходится смешивать их с сажей?
– Прощай, Никколо!
– Прощайте, ребята! Но вы пропустите зрелище, которого больше никогда в жизни не увидите. Речь идет не просто о свадебном поезде. Италия больна, и Лоренцо лечит ее свадьбами, тогда как другие – войной. Вот уже отворяют ворота…
И Никколо зашагал широкими шагами, высоко поднимая свои худые аистиные ноги, – туда, откуда лучше видно. Там он сел и закрыл свое узкое лицо руками. Был ноябрь. Флоренция сверкала на заднем плане, словно выгравированная на меди. Ближе – дубы, ели, кипарисы, за ними какие-то усадьбы, окруженные низкими стенами из больших камней. Тропинки, светящиеся бронзовым светом, словно вычерченные полетом голубок. Макиавелли сидел и смотрел. Отчего оба мальчика не заинтересовались? Художники! А чем были бы они сегодня без Лоренцо Маньифико? И он – художник, и его создание будет жить, когда произведения многих живописцев и ваятелей окажутся мертвыми. Однако… я это чую, это грызет меня внутри, грызет медленно и неумолимо… да, быть может, он не тот человек, который нужен Италии… Италия! Моя Италия! Италия, которой нужен теперь кулак, а не философ… Нет, Лоренцо Маньифико не понимает Италию. А я, я понимаю. Но у него власть, у него все, а у меня – ничего, я – ничто…
Как эти мальчики пока – ничто. Они говорили о женщинах, я хорошо слышал, подходя к ним. Они художники, им нужны женщины. А что из них получится потом? Две жалкие, придавленные человеческие судьбы – как тысячи других. Грустно смотреть вокруг на судьбы людей и всюду видеть историю их упадка… Да, никто не хочет идти по пути величия, ничтожные человеческие судьбы, семейные заговоры, перевороты в дворцовых прихожих, – никто больше не хочет идти дорогой Августа! Ни у кого больше нет смелости срыть с Италии слой грязи, тяжкий слой глины, навалившийся на какую-нибудь прекрасную статую, которая хочет быть открыта, чтобы вновь засиять на солнце. Империя!
Папские мечты об объединении Италии? Просто смешно! Сперва это должен был быть племянник папы Каликста, дон Педро Луис Борджа. Он был уже верховным кондотьером церкви, хозяином замка Святого Ангела, хозяином в Терни, Нарни, Орвието, Фолиньо, Ассизи, герцогом сполетским, префектом римским, и войска его шли все дальше и дальше. А конец? Смерть от лихорадки во время бегства в Чивита-Веккиа… Потом должен был быть Джироламо, племянник папы Сикста… Он уже овладел всей Романьей, дрался за Феррару, сокрушил Иммолу, провел свои войска по всем перекресткам Италии… А конец? Бедный приход в Форли, где он влачит жалкое существование – и то по милости Сфорца? А теперь вот Франческо Чиба, сын папы Иннокентия, должен стать свершителем замыслов Каликста, Сикста, Иннокентия… Но я знаю: Франческо Чиба тоже не будет им! Когда кончит он бегством, в какой глуши умрет? На папских замыслах словно лежит какое-то непонятное заклятье… Ведь каждый раз, в то самое мгновенье, когда кто-нибудь из этих архипастырей отдавал своему сыну или племяннику все, каждый раз в это самое мгновенье они разрушались чьим-то неожиданным, странным вмешательством. Так выглядят эти папские замыслы объединения Италии. Я знаю то, чего не знает Лоренцо Маньифико. Знаю, что и сын папы Иннокентия – Франческо – тоже не будет… Всегда здесь оказывается что-то более сильное, о чем они не подозревают и что губит их замыслы. А кто придет после Чибы? Видимо, этот коварный испанец – кардинал Родриго Борджа. У него тоже есть сыновья, герцог Гандии, дон Сезар…
Италия! Моя Италия, больная, страдающая, растерзанная!
Звук труб со стороны распахнутых ворот. Макиавелли привстал с горькой улыбкой. И опять речь пойдет не об Италии и империи, а об интересах Иннокентия и Медичи. Неужели иль Маньифико на самом деле думает, что выдает дочь за будущего императора Италии?
Уже приближались первые ряды кавалькады. Он прислонился к дереву и снял шляпу. Герольды в золоте и багреце упирали в бок серебряные трубы. Лошади под ними в яблоках, с золочеными уздами. Над каждой реял флажок, заостренное древко которого тускло поблескивало в лучах ноябрьского солнца, а знамена были расположены попеременно: на одних стояла папская эмблема, эмблема Иннокентия, в виде протянутой наискось слева направо полосы шашечных клеток с крестом над ней, а на других – эмблема Медичи в виде шести золотых шаров. За знаменами следовало флорентийское дворянство и вассалы из Романьи, с готовностью поспешившие выразить свое уважение великому Лоренцо участием в эскорте его дочери. Шитые золотом камзолы, бархатные плащи. Это был воистину роскошный княжеский поезд, триумфальная процессия, золотая, великолепная, полная пурпура и спеси. Шутки всадников и их смех бьют ключом, вливаясь в топот копыт, шутки и остроты летают по рядам, потому что это поезд свадебный и лица – молодые, оживленные предвкушением римских увеселений. Но дальше следуют строгие, ровные ряды лучников в цветах Медичи, – перед каждым взводом капитан в сером с кружевами. У них суровые, обожженные порохом сражений лица, это отборные роты, хорошо ведь заодно показать Риму боевую гордость Флоренции. А за ними – отряды тяжеловооруженных, в панцирях. Они надвигаются, – не едут, а надвигаются, сами как из бронзы. Смерть не столь вооружена, как эти всадники, словно вышедшие из какой-то великой мечты завоевателя или сошедшие с мраморного фриза. Дальше – отряд дудочников и флейтистов вновь смягчает впечатление от этой холодной, чешуйчатой картины. Рассыпной жемчуг звуков от их флейт словно предназначен для танца нимф, но и без того он представляет собой музыкальный образ поезда невесты. А над этим – новые знамена и новое золото, потому что теперь проезжают члены самых знатных семей, флорентийские патриции, юноши в черном и белом, глаза полны искр, кудри до плеч, каждый в сопровождении любимых собак высоких кровей. Слегка колеблется высокий парчовый балдахин над конем, на котором едет мать Маддалены – Кларисса, величественная, гордая, неприступная, настоящая Орсини, римская княгиня. Вокруг нее – члены Совета пятисот в плащах багряного бархата.
Теперь умолкните, голоса военных труб, и звук флейт пусть замрет, как затихает трепет развевающейся золотой кисеи, умолкните, свадебные остроты и песенки мальчиков, украшенных веночками искусственных цветов на головах, умолкните, серебряные трубы герольдов, – пусть теперь звучат лишь копыта белого коня… Пусть звучат лишь копыта белого коня… Вот наконец Маддалена Медичи, флорентийская лилия, целуемая, ласкаемая ноябрьским солнцем средь этих холмов. Нет, она едет не на Цитеру, не на сладкий Венерин остров для зноя любви, для пылких восторгов сладострастья,- золотистые тонкие руки ее обнимут шею человека увядшего, подорвавшего свои силы развратом, человека, знакомого лишь с игрой, деньгами да бесстыдством римских лупанариев. Это очаровательное, милое лицо, прекрасный овальный лоб, глаза, пылающие молодостью и красотой, узкие бедра, прелестные стройные ноги, – все это не настолько пленит его, чтобы он перестал посвящать свои ночи пирушкам с начальниками дворцовой стражи, римскими баронами, которые потом поведут его в хижины за Тибром, где ждет красота не столь возвышенная, но как раз оттого более ему понятная, обученная солдатскими ласками, а не лекциями платоников. Маддалена Медичи крепко держит узду своего белого коня. Она такая хрупкая, что, кажется, готова растаять, будто сновиденье, будто призрак, эта княжеская дочь, принцесса флорентийской весны и принцесса скорби флорентийского дома, где она так часто преклоняла колена у гроба архиепископа Антония, умершего в ореоле святости, и где еще нынче утром долго молилась. Она высокая и прямая, стройная и хрупкая, как стебель, кажется, одежды и те ей тяжелы. Складки плаща волнятся и ниспадают, волнятся по белому боку коня, на котором кровавый багрянец ткани выступает тем ярче, струясь по ее ногам. Лицо немного утомленное, как блаженство, изнемогшее прежде свершенья. Она едет, окруженная духовенством. По правую руку римский кардинал, по левую – флорентийский архиепископ, позади – верхом два епископа. Конские копыта равномерно отсчитывают путь. И опять – новые и новые ряды всадников, копейщики, мушкеты, мечи и кинжалы. Роговой оркестр. Потом – конюхи, слуги, пажи, опять слуги, за ними длинная вереница мулов, груженных подарками и прочей поклажей. Дорога вилась меж высоких рощ, потом даль и деревья поглотили поезд.
Макиавелли побрел в город. Дорога к воротам была широкая, поэтому он вынул из кармана книжку, перевернул несколько страниц и, чуть заметно шевеля губами, стал на ходу читать:
– "У зрителей выступили слезы на глазах при виде войска, глядящего уже не на царя своего, а на его похороны; но печаль стоявших вокруг ложа была еще сильней. И царь, взглянув на них, сказал: "Когда я умру, найдете ли вы вновь царя, достойного таких мужей?"
Нет, не буду читать! Он быстро захлопнул книгу и устремил взгляд на серый ноябрьский пейзаж. Смерть Александра Великого! Нет, не буду читать! Бывают дни, часы и слова, слишком тесно между собой связанные, сливающиеся, слишком томящие тебя тоской, так что сжимается сердце. Он сунул книгу обратно в карман, и сухопарая, худая фигура его двинулась быстрой походкой по серому холсту дня. Он вспоминал слова книги. Когда Александр Великий был при смерти, его спросили, кому он передаст царство. Он ответил: "Самому лучшему". И спросили его, когда он пожелает, чтоб ему начали воздавать божеские почести. Он ответил: "Когда вы все будете счастливы".
Почему я думаю об этом? Какая мука! Нет, никто не понимает Италии, только я один, и я задыхаюсь, давлюсь своей беспомощностью, я ничто, но это горит во мне – вопреки! Что осталось от целой империи? Мука. "Когда вы все будете счастливы…" Умирающий царь, безумный царь, насмехающийся царь…
Какой нынче странный день! Ноябрь. Все сплывается. Все уплывает. Сан-Маниато уходит в глубь слишком чистого простора, бронзовые тропинки, словно вычерченные полетом голубок, у холодного воздуха – пастельный цвет кипарисов, верно и хмуро стерегущих покорную улыбку Маддалены Медичи. Тихая и покорная, уезжает она навсегда из этого мира в сочащийся кровью Рим, город убийств, разврата и злодеяний, в объятья истасканного мужа, только что вернувшегося от плутовской игры либо из публичного дома, будущего правителя империи… Уехала. И те два мальчика говорили о женщинах. Каждый о своей. Они – художники, им нужны женщины. У Данте тоже была своя Беатриче, у Петрарки своя Лаура, у Чино да Пистоя – своя Иллария. Они говорили об этом, я мало уловил, но знаю: речь шла о женщинах. Женщина. В эти страшные времена, когда царят убийства, – женщина… Спасительница? Единственная спасительница? Я слышал, как Микеланджело прочел Дантов стих из "Вита Нова", уж не помню точно, как это звучало, но – красиво… Отчего Маддалена Медичи улыбалась так покорно? В Рим, где все улицы покрыты лужами крови, где папы грезят о власти для сыновей своих с помощью меча, пыток и убийств, – туда, на белом коне, с покорной улыбкой…
Уехала одна женщина, и с ней как будто удалилась вся душа Флоренции.
БОЯЗНЬ ЧЕГО-ТО, НЕ ИМЕЮЩЕГО ФОРМЫ
Не верю! Глаза, воспаленные ночными лихорадками. Руки, больные от судорожного сжатия во время долгих молитв. Измученные голова и сердце. Не верю. Вчера встал среди нас маэстро Гирландайо и, задавая нам новую задачу, сказал:
"Не забывайте, что главное, от чего зависит успех дела, это рисунок. Он – основа, без которой вы не овладеете пространством картины, без которой ничего не создадите. Краска – это уже нечто второстепенное. Краска – просто дело вкуса. Она исчезает. А рисунок остается. Рисунок – подлинность и глубина. Поглядите на Джотто и Мазаччо. Джотто велик, но поверхностен. Мазаччо – выше, оттого что он углубляет задний план, прорисовывает пространство. Никогда не забывайте: правда предмета – рисунок. Краска – это уже качество, а не сущность".
Так сказал маэстро Гирландайо. Не верю! Среди дня я встретил у дворца Строцци мессера Боттичелли, и мы, беседуя, направились к берегу Арно. Он рассказал мне о письме, которое получил от Леонардо да Винчи из Милана. Не в рисунке, мол, а в краске вся сила и душа произведения. Леонардо пишет, что тщательно изучает теперь соотношение света и тени, изучает свет рассеянный и сосредоточенный, вскрывая исконные отношения полутени и полумрака, сумрака. При этом он что-то говорит о своем детском сновиденье, о странном заглядывании сквозь щель в пещеру, где краски были созданы будто бы только атмосферой, – и будто он к этому уже очень близко подошел, но надеется еще тщательней и совершенней обосновать это свое открытие при помощи точного научного исследования. Краска должна отказаться от своей материальной природы и подчиниться важнейшему принципу искусства живописи: не рисунок, а свет. Боттичелли очень жалел, что не имеет возможности увидеть последние Леонардовы миланские работы, и с глубоким волнением сказал мне, что, если Леонардо сумеет применить эти новые свои знания, он превзойдет величайших наших мастеров живописи. Леонардо пишет, что величайшей задачей живописца является также точное выражение душевного содержания личности, его характерного облика…
Я не верю ни Гирландайо, ни тому, что пишет Леонардо в своем письме из Милана. Рисунок сам по себе – ничто. И краска – не форма. Все должно быть подчинено другому, духовному порядку, должно восходить выше отдельных обличий, к какому-то совершенному образцу, к идеальному сверхчеловеческому типу, к абстрактной форме…
Я, Микеланджело Буонарроти, здесь, перед фресками Мазаччо в Санта-Мария-дель-Кармине, утверждаю, что нужно только одно: познать жизнь материи, ее форму. Обнажить сердце камня, еще теплое, наблюдать его трепеты, биенья, его судорожное пульсирование. Жизнь и удары. Жизнь сама – удар, а не счастье. Я еще мальчик, а знаю это. Теперь я – ученик Гирландайо. Отвоевал это, но ценой скольких слез, оплеух, боли, обид, заушений, пыток, голода, мук, запираний на замок, побоев, унижений! Дни, страшные уже тем, что и в них светало, и в них время шло, как всегда, – страшные одним уже тем, что и они были днями, А ночи – как гроба. Так я рос, обтесываемый бесчисленными ударами и обминаемый страданьем, презреньем и пренебреженьем – острыми, как осколки камня. Ем, бывало, один на кирпичном пороге из миски, как нищий, которого не пускают за общий стол, отщепенец и позор семьи. Часто спальней служил мне хлев, куда я, побитый, скрывался, часто постелью моей был мешок мякины, а кровлей – гнилые стропила амбара, – да, мол, надо мне привыкать к жизни бродяги, шатающегося по монастырям да княжеским дворам. "Менялой…" кричали мои братья с набитыми ртами, а я тайком доедал объедки, в канаве ел свою пищу, соленую от слез.
А все-таки отвоевал. Потому что я слышал камень. Сердце камня взывало ко мне. И я ему ответил. Жизнь камня рвалась наружу, к свету, прожигалась в формах и звуках, скрытая страстная жизнь камня – и опять каменный сон, из которого можно вызвать великанов, сверхчеловеческие фигуры, сердца страстные, сердца темные, сердца роковые. Нужны удары молотка, чтоб зазвучали эти каменные нервы, нужны удары, которые прорубились бы в безмерном мучительном усилии к ритмическому сердцу материи и дали ей болезненную речь, бремя человеческого отчаяния и красоту любви. Как грозный вулкан, бушует это в камне, и ни один из его кратеров не потух, я чувствую резкий их жар, как только коснусь его холодной поверхности ладонью. И тьма тоже – материя, ее можно моделировать, из тьмы тоже можно создать лицо, одно лицо, выразительное, живое лицо, и оно тоже говорит мне…
Победоносная форма и живой дух составляют правду произведения, Гирландайо и Леонардо все время толкуют о внешнем познании, о внешнем свете, о краске и рисунке, – это никогда не даст ничего хорошего. Я знаю: не даст. Пока не могу еще объяснить. Но знаю. И мне недостаточно ни рисунка, ни краски, ни холста, ни стены, я хочу камень. Я буду ваятелем. Что еще в состоянии дать мне Гирландайо? Мы с ним не можем понять друг друга, мы – в непрерывном разногласии. Он не доверяет мне, – он, когда-то поздравлявший меня от имени Джотто и Мазаччо. Видимо, я сильно его разочаровал…
Это началось уже с копированья Шонгауэрова рисунка "Искушение святого Антония". Неприятная штука. Мерзкие фигуры чертей, кулаки, размахивающие, как в трактирной драке, святой Антоний с завитой бородой, подвешенный где-то в пространстве, чтоб было довольно места для воронкообразных хоботков этих чудовищ, для их куриных крыльев, – лицо святого – без всякого выраженья, выписано школярски подробно, удивленье человека, оказавшегося невзначай среди чертей из процессии ряженых, среди карнавальных дьяволов, дьяволов на потеху…
– Замечательный рисунок! – с восхищеньем сказал Гирландайо. Совершенный образец, мастерское произведение, оно много даст тебе, Микеланджело. Копируй только тщательно, это – бессмертные линии!
Да, в этом – весь Гирландайо! Искуснейший ремесленный рисунок, вещь без единой ошибочки, безупречная в смысле рисовальном. А где душа? Где величие? Отчего, при всем совершенстве рисунка, все так плоско, пусто, невыразительно?
И то же самое – в его собственных вещах. Я заходил за ним вчера в Санта-Мария-Новелла, где он пишет фрески. Редко встретишь вещь, столь тщательно сделанную… Взять хоть эти сложные складки одежды, столь несхожие с простыми длинными линиями, которые я вижу у Боттичелли. Гирландайо ждал, что я похвалю. Ученику полагается хвалить. Но я промолчал. Я не мог похвалить. Он принялся опять за работу, словно меня там не было. Только потом я заговорил, но он молчал и не ответил на мое прощальное приветствие. Да, то же самое я вижу во всех его произведениях. Он описывает. У него нет содержания. Искусно рисует и пишет красками. Но не раскрывает.
Столько побоев и унижений, прежде чем я сюда попал! И, оказывается, шел я по ложному пути, мертвому пути, среди кладбищенских крестов и утесов, разрушенных бурями. Кольца червей извивались на черной земле, и раскидистое дерево тянуло ко мне свои ветви, как мускулистые руки, но я увернулся. Вдруг встала тень, отбрасываемая мной, и разорвалась пополам. У меня страшно болела голова, и я не мог дальше, истомленный муками пути, потому что с утра шел по жесточайшей жаре. Язык мой распух от жгучей жажды. Я боялся, что умру. Я упал в дорожную пыль, и прежде чем опомнился, окрестность изменилась, расцвел куст, который был раньше гол. Буря ушла дальше, и я встал, освеженный. Вдруг передо мной поднялась скала, выставилась, словно гигантский кулак, и послышался голос: "Стой! Во мне зверь, пророк и могила". Но я пошел дальше, и всюду опять была пустыня, и по ней шли навстречу мне люди, длинная процессия кающихся с мешковиной на лице и только двумя отверстиями для глаз. И начальник сказал мне: "Здесь когда-то был рай – не забывай об этом никогда, Микеланджело, и напиши все это как следует, здесь когда-то был рай!.." А за ними, один, ехал фра Тимотео на тощем сером осле, он молча указал мне на низкую могилу с крестом, и я прочел надпись: "Франческо Граначчи!" – и проснулся, пробужденный собственным вскриком.
Если б хоть был здесь Граначчи! Но я один, совсем один. Франческо все не возвращается из Нурсии, города в Сполетском герцогстве. Пора б ему быть… Нет, не останусь я во Флоренции. Уеду отсюда! Уеду от Гирландайо, мне здесь душно. Копировать, копировать, копировать… И я нарисовал свой рисунок, и он вышел удачный. Изобразил на нем маэстро Гирландайо в окружении всех его учеников здесь, в Санта-Мария-дель-Кармине, перед его возлюбленными Мазаччевыми фресками, все удивились, и рисунок им понравился, только Гирландайо указал на стенопись и сказал: "Сперва поучись! Тебе нужно учиться!" Как и в отцовском доме, не могу здесь дышать. И страшные сны, мучительные мороки, все полно ночных призраков и лемуров… Когда-нибудь я умру от ужаса.
Страх. Мне кажется, мало кто из людей в самом деле знает, что такое страх. Потому что в большинстве случаев боятся реальных вещей. Но самое страшное – это бояться чего-то, что не имеет формы. Встанет вдруг в углу моей каморки, бесформенное и расплывчатое, растекающееся во все стороны, и медленно ползет ко мне. Вскочи оно вдруг, это не было бы так ужасно, как вот такая ползучая медленность. Ждешь, что сейчас тебя опрокинет и разорвет тяжесть, которая, однако, не тяжесть, – и взлетает. "Я вижу тебя всегда, слышится голос этого чего-то, – вижу тебя всегда, и не скроешься ты от меня даже в дневном свете, вижу тебя – и когда солнце сияет, в самый полдень. Придет день – ты узнаешь меня, и это будет твой конец". Тут я начинаю сходить с ума на постели, громко призываю святых, мечусь, сжимаюсь в комок, а оно все ближе, все ближе… Иной раз я, кажется, слышу шаги этого страшного призрака в стуке крови в ушах, когда лежу и не могу спать. Или я одержимый? Уеду прочь из Флоренции, от Гирландайо, куда глаза глядят, неужели всюду край таких темнот и несчастий? Бежать! Бежать! Ах, никогда не кончу я этой копии, а вечером опять придет Гирландайо, снова начнет подымать меня на смех, – ученик нерадивый, невнимательный, ленивый и упрямый. Такие прекрасные фрески, Мазаччевы фрески! И он здесь задыхался, а потом сбежал. И в Риме с голоду помер… Довольно поденщины! Пусть насмехается! Лучше почитаю, пока света в часовне достаточно. Библию и Данте. Две книги, которые всегда со мной, и напрасно друзья приносят мне другие, я не знаю латыни. Открываю на знакомой странице. "Книга премудрости". Я мог бы прочесть этот текст наизусть… Какой странный многоцветный сумрак в этой часовне, полный теней…
"И они в эту истинно невыносимую и из глубин нестерпимого ада исшедшую ночь, располагаясь заснуть обыкновенным сном, то были тревожимы страшными призраками, то расслабляемы душевным унынием, ибо находил на них внезапный и неожиданный страх.
Итак, где кто тогда был застигнут, делался пленником и заключаем был в эту темницу без оков. Был ли то земледелец, или пастух, или занимающийся работами в пустыне, – всякий, быв застигнут, подвергался этой неизбежной судьбе.
Ибо все были связаны одними неразрешимыми узами тьмы. Свищущий ли ветер, или среди густых ветвей сладкозвучный голос птиц, или сила быстро текущей воды, или сильный треск низвергающихся камней, или незримое беганье скачущих животных, или голос ревущих свирепейших зверей, или отдающееся из горных углублений эхо – все это, ужасая их, повергало в расслабление.
Ибо весь мир был освещаем ясным светом и занимался беспрепятственно делами; а над ними одними была распростерта тяжелая ночь, образ тьмы, имевшей некогда объять их; но сами для себя они были тягостнее тьмы.
А для святых твоих был величайший свет. И те, слыша голос их, а образа не видя, называли их блаженными, потому что они не страдали. А за то, что, быв прежде обижаемы ими, не мстили им, благодарили и просили прощения в том, что заставляли переносить их.
Вместо того ты дал им указателем на незнакомом пути огнесветлый столп, а для благополучного странствования – безвредное солнце. Ибо те достойны были лишения света и заключения во тьме, потому что держали в заключении сынов твоих, чрез которых имел быть дан миру нетленный свет закона.
Когда определили они избить детей святых, хотя одного сына покинутого и спасли, в наказание за то ты отнял множество их детей и самих всех погубил в сильной воде.
Та ночь была предвозвещена отцам нашим, дабы они, твердо зная обетования, каким верили, были благодушны".
Дочитал и устремил взгляд в пространство. На самом деле – "все были связаны одними неразрешимыми узами тьмы".
И еще там сказано: "но сами для себя они были тягостнее тьмы…"
Мой сон! Бежать! Бежать!
В САДАХ МЕДИЦЕЙСКИХ
Три танцовщицы с высоко подобранными подолами плавным движением опустили руки в такт музыке, и полуобнаженные золотистые бедра их замелькали в неожиданном приседании. Потом та, что была посредине, стройная и нежная, снова разволновала свои маленькие груди легким подскакиваньем, заговорила руками, и длинные волосы ее мелькали, как высокие звуки флейт, проникновенные аккорды лютен и тоскующее воздыханье виолы. Высокий и просторный, розовеющий солнцем и мраморной облицовкой зал был полон песни. Лоренцо Маньифико ударил в ладони в знак того, что репетиция окончена, и девушки встали, отирая пот. Лоренцо обратился к Полициано со словами:
– По-моему, будет хорошо. Это приключение нимфы Аретузы произведет впечатление, и во Флоренции не будет мужчины, которому оно не понравилось бы, потому что происшествие полно любви, а танцовщицы – молодые и красивые. Лишь бы только остальная часть карнавала была так же удачна!
Шут Скарлаттино, любимый забавник правителя, прискакал вприпрыжку, переодетый дикарем из страны, открытой португальским мореплавателем. Лоренцо засмеялся. А Скарлаттино, упав перед ним на колени, заявил, что хочет креститься, но чтоб крестил его непременно фра Джироламо Савонарола и чтоб ему потом позволили бы крестителя сожрать, навсегда избавив Италию от его карканья. Анджело Полициано вопросительно поглядел на князя и неуверенно промолвил:
– Шутка неудачная…
– И она не будет оглашена, – обещал ему Лоренцо. – Это Скарлаттино сейчас выдумал, но если повторит на площади, получит во дворце порку.
Двенадцать пажей в белом атласе поправили свои длинные золотые локоны и приготовились участвовать в триумфе Венеры. Их высокие мальчишеские голоса уже распевали Полициановы канцоны, когда обнаружилось, что первый лютнист, лучший ученик знаменитого Мильороти, Пьер Кардиери, исчез. Пока его нашли между роз и юбкой танцовщицы Аминты, репетицию пришлось прервать, и было отдано распоряжение репетировать "Симпозион" князя Лоренцо Маньифико.
А в это время по римской дороге к воротам Флоренции мчался во весь опор покрытый пылью гонец.
Начали репетировать "Симпозион". Марсилио Фичино переделал эту Лоренцову поэму для карнавала и теперь стоял возле мимов, давая последние указания. Послышался протяжный звук охотничьего рога, и вышел, пошатываясь, первый актер, одетый приходским священником Арлотто, который идет искать потерянную жажду, увешанный кусками солонины, селедками, острыми сырками, наперченными сосисками, анчоусами. Лоренцовы стихи засверкали в этой пародии на дантовскую дорогу в Ад, и правитель, довольный, слушал, время от времени обращаясь с каким-нибудь незначительным замечанием к стоящим около.
Тут были все, только Пико делла Мирандола отсутствовал. Марсилио Фичино с полным основанием предостерегал его, но Мирандола был ханжа, не ценил добрых советов платоника, – ах, смешно подумать! – все время постился, умерщвлял плоть, хотел реформировать церковь и в конце концов оставил спокойный уют флорентийской Академии и уехал в Рим с поднятым воротником, как у шутов. Там он вывесил свои девятьсот тезисов, так как именно столько придумал их для усовершенствования церкви, но папа Иннокентий, хоть и друг Флоренции, в этих делах не понимал шуток, и Мирандола оказался в тюрьме, не успев начать диспут, от которого так много ждал. Теперь он в ватиканской темнице, а ватиканская темница малоприятна, но, по крайней мере, аристотелик там немного отрезвеет, прежде чем его вернут во Флоренцию. Лисье лицо Марсилио Фичино складывается в улыбку, – настолько, что мим, приняв ее за одобрение его игры со стороны философа, стал изображать покачивающуюся, пьяную походку приходского священника Арлотто еще более искусно и блекотать потешные стихи так, что никто уже не мог удержаться от смеха: смеются правитель и философы, смеются пажи и танцовщицы, и даже лютнист Кардиери, до тех пор смущенно прятавшийся за колонной, подошел ближе и в мальчишеском восхищении стал бессознательно повторять движения мима.
Гонец, на лице которого пот и пыль, смешавшись, образовали серую маску, влетел в ворота, и конь его пал. Отрывисто приказав подать другого, он вскочил на него, но тот взвился с болезненным ржаньем, так как ездок вонзил слишком глубоко шпоры в его бока. Животное взвилось в воротах на дыбы, а всадник что есть силы дергал узду, поминая всех дьяволов. Потом ринулся стрелой вперед, и улица протянулась перед ним пустая, так как народ кидался во все стороны и потом долго с тревогой глядел ему вслед.
А в это время актер долопотал свою роль, и голос его погас в последней шутке. К выступлению приготовился поэт Луиджи Пульчи, который должен был продекламировать одну из песен своей эпической поэмы "Моргантэ", как раз ту, где великан Маргутте, по горло полный еды и питья, ложится и засыпает в лесу. Сапогами его завладела обезьяна: она все время то надевает, то снимает их, пока не разбудила великана, и тот, глядя на нее, лопается от смеха. Пульчи начал декламировать, и тут священник Маттео Франко, нахмурившись, вышел из зала на галерею и стал там ждать. Ибо их обоих разделяла великая злоба, которую даже Лоренцо был не в силах утишить, как ни обидно, – Пульчи был его верный друг и хороший поэт, а пронырливый попик Маттео выступал полезнейшим и опытнейшим посредником всякий раз, как лукавство и хитрость остальных не выдерживали испытания… Более прожженного интригана, чем патер Маттео Франко, свет не видел, и Лоренцо не мог от него отказаться. Трудно было мирить поэта Пульчи с патером Маттео…
Маттео Франко остановился у широкого сводчатого окна галереи и стал вдыхать аромат роскошных садов там, внизу. Он ненавидел Пульчи, ревновал к нему Лоренцо, который ценил поэта, и к тому же Пульчи – язычник, смеется над чудесами и над основами вероучения, и не только язычник, но и глупец, так как утверждает, что другое полушарие земли тоже населено людьми, потомками Адама и Евы, и будто они подобны нам и нет у них ни трех ног, ни рта на груди, ни шеи, оплетающей плечи, ни перепонок и крыльев под мышкой, как учит нас испытанная древняя космография. И будто теперь нас отделяет от них Mare tenebrosum, грозное море, которого никому не переплыть, Mare tenebrosum море темнот, страшный бахр-аль-тальмет арабов, – так утверждает Пульчи, и этого патер Маттео Франко не в силах терпеть. Он стоит у окна, сады залиты солнцем, теплой свежестью веет со всех сторон, да и краски – живые, теплые. Воздух обнаженный и ласковый, деревья шумят…
Завидев на галерее священника, гонец быстро подъехал к нему. Тот испугался.
– Из Рима? – воскликнул он.
– Из Рима, – прохрипел в ответ дворянин и, покинув седло, залепетал от усталости и даже слегка зашатался, не так, как прежде – мим в роли пьяного.
Тут Франко поспешно позвал Лоренцо, который, перебирая рукой золотые кудри своего любимого пажа, в то же время внимательно следил за любовным бегством ахейской нимфы Аретузы, отвергающей домогательства Алфея. Потому что он велел повторить эту сцену, чтобы довести ее до совершенства.
Выйдя из зала и увидев гонца, он побледнел и сдавленным голосом спросил:
– Маддалена?
Дворянин поспешно опроверг это предположение и промолвил:
– Джироламо Риарио убит.
Тишина. Стояли трое, один из них – священник, но никто не пожелал папскому сыну вечного покоя, царства небесного и отпущения грехов. Лоренцо взглянул на гонца удивленно, вопросительно:
– Убит? Кем? Почему?
Тот пожал плечами. Как только в Риме было получено это известие, он был тотчас послан во Флоренцию. Это были заговорщики, какие-то неизвестные люди, но не катилиновцы… Лоренцо подошел к окну, давая понять, что хочет остаться один, и священник увел с собой гонца – на отдых. Из зала по-прежнему доносились звуки лютен и сладкая мелодия песни.
Из Сикстовых племянников, из всех этих Риарио и делла Ровере, единственным серьезным противником остался теперь только Джулиано, кардинал храма св. Петра в оковах, – остальные просто смешны…
Джироламо мертв. Тот самый Джироламо, который хотел быть единственным правителем Италии, стереть с лица земли остальные государства и объединить страну в одну державу под скипетром делла Ровере, – бессмысленные расчеты, которые я неустанно разрушал, чтобы захватнический дух папской родни не уничтожил у нас все, и в страну, ослабленную междоусобицей, не вторгся с оружием в руках иностранец. Джироламо, под конец влачивший жалкое существование в Форли, теперь мертв. Почему его убили? Кому он еще стоял поперек дороги? Почему убили? Почему нельзя было оставить его в живых до естественной кончины? Сикстовы надежды гибнут и после смерти этого папы, да, ни один замысел незадачливого желчного старика не осуществился…
Почему убили Джироламо? Будто бы какие-то неизвестные, но не катилиновцы… Таких мерзавцев нужно предавать позорнейшей пытке на плахе… Неужто и таким дозволено нынче убивать князей? И кто же стоит за спиной убийц? Кому мешал теперь не имевший никакого влияния Джироламо? Значит, остается только кардинал Джулиано делла Ровере, упрямый, несговорчивый старик, позволяющий себе подымать оружие даже против кардинала-канцлера Родриго Борджа, – этот никогда не сдастся, нет, нет, конечно… Как он отнесся к известию о смерти Джироламо?
Да перестаньте вы со своим пеньем, лютнями, писком флейт! Какая пакость! Надо наказать лютниста Кардиери и танцовщицу Аминту, мой дом – не бордель возле Арно!
Джироламо! Он метил высоко, но кто же в наше время не метит высоко? И этот самый Педро Луис Борджа при Каликсте метил высоко, и Джироламо при Сиксте, и нынче Франческо Чиба, сын папы Иннокентия, метит высоко… Да никогда у них ничего не выходит, у этих папских сыновей. На их замыслах всегда какое-то непонятное заклятье…
Франческо Чиба – самая большая моя ошибка. Это – мой ужасный промах, и я расплачиваюсь за него счастьем своей дочери, золотой своей девочки, своей Маддалены… Чиба, карточный мошенник, заядлый игрок в кости, негодяй, ворующий даже из папской казны, истасканный распутник, завсегдатай борделей… Никогда не забуду, как жадно ждал я тот раз первых сообщений о его поведении, когда верховный папский кондотьер Орсини вдруг изменил и перешел на неаполитанскую службу, а Салернский князь Сансеверино отравил в ту ночь неаполитанского принца-кардинала из Арагона… Кардинал Борджа быстро принял меры, чтоб уничтожить французское влияние, он страстно жаждал сообщений о шагах своего зятя Франческо Чибы… Да, я получил сообщение. Франческо Чиба за одну ночь мошенническим образом обыграл кардинала Рафаэля Риарио на двадцать тысяч дукатов… Это было единственное сообщение о нем… И еще то, что кардинал Рафаэль имел доказательства, что игра была фальшивая… Так вел себя папский сын, когда зашаталась тиара…
Джироламо Риарио мертв. Какой это был мужественный человек, какой сильный противник всех этих людей! Да, значит, остается только кардинал Джулиано… Он опирается на французскую поддержку против Борджа и Иннокентия, опирается пока безрезультатно… Пока? Безрезультатно? Не допусти, боже, чтобы Карл Восьмой в припадке безумия захотел перейти Альпы… Но почем я знаю, какую коварную игру ведет этот Лодовико Моро в Милане? Больше пятидесяти тысяч человек вымерло у него там от чумы, а он по-прежнему думает о войне и о том, чтобы натравить французов на Неаполь!
Джироламо мертв. Он был мужественный человек, в тысячу раз лучше этого отвратительного Чибы, на которого я так безрассудно поставил! Маддалена! Ты, как сейчас, стоишь передо мной, моя девочка, такой, как была маленькая. Мы хотели, чтоб ты стала не только самой прекрасной, но и самой умной принцессой Италии, мучили тебя, – Полициано был ведь строгий учитель, и ты много плакала, и у меня до сих пор хранятся на память Платоновы "Диалоги", по которым ты училась и где на полях делала своей нежной ручкой неумелые греческие пометки, над которыми мы с Марсилио Фичино потом всегда так смеялись! Ты, моя…
А теперь – жена карточного мошенника, посетителя борделей! Что хорошего видела когда Флоренция от Рима? И до каких пор еще будет Флоренция давать самое лучшее Риму? Женой истрепанного негодяя, закадычного друга пьяной солдатни… Омерзенье! И весь Рим – не лучше! Как было на последнем заседании консистории, когда кардинал Борджа, в присутствии папы, назвал французского уполномоченного, кардинала Балуа, грабителем, подлецом и пьяницей, а кардинал Балуа – Борджа мавром, цыганом и сыном испанской потаскухи? Так разговаривают кардиналы, в консистории, под председательством папы! Отвратительный Рим! Моя Маддалена! Какой этот Джироламо был мужественный, гордый, как почетно было с ним бороться. А эти? Омерзенье! У меня три сына – Джулио, Джованни и Пьер. Один умный, другой добрый, третий глупец. Который из них переймет мое дело, мою мечту и мою любовь? Джироламо мертв. Значит, он кому-то еще мешал. Простые люди не убивают князей, и, говорят, это не были катилиновцы… Умерли Сикстовы мечты! Пьер Риарио, которого старик хотел сделать папой ценой ломбардской короны, уже давно мертв, умер при жизни Сикста, и дух его, говорят, наводит страх и воет в залах Ватикана. А теперь Джироламо, который должен был стать императором из рода делла Ровере… Навсегда мертвы Сикстовы мечты. Джироламо мертв.
И вот теперь он будет тысячу лет ждать выбора своего нового земного жития, – так учит божественный Платон, тысячу лет душа его будет решать, и только она понесет ответственность за свой выбор, даже бог не может решить, только она, и получит для нового жизненного пути своего на земле такого демона, какого сама себе назначит, – так истинно учит нас божественный Платон, – и после выбора своего эта душа станет тотчас читать свою судьбу, самой себе предназначенную, по звездам, и судьба эта будет бесповоротная, прямо зависимая от движений планет… И больше никогда, никогда не вернется на место, из которого вышла, разве только через десять тысяч лет, – так долго придется ей ждать новых крыльев, божественных крыльев. А прежде этого срока она новых крыльев не получит, если только это не душа философа, – но Джироламо им не был, нет, не был… Душа философа, послушного законам. Каждый становится бессмертным лишь через заботу о душе, только тем, что прилагает все усилия достичь божественного образца, – да, только таким путем может человек сохранить и в позднейшем существовании свою человеческую сущность, ибо провинившиеся души, не улучшившиеся ни в одном из своих существований, получают в дальнейшем низшую телесную форму, в зависимости от характера своих вин, форму звериную, – так учит божественный Платон в "Меноне" и в "Федре"…
Анджело Полициано вышел из зала и, увидев у окна правителя, прикрывшего лицо руками и погруженного в печальные размышления, молча остановился поодаль. Но Лоренцо услыхал шаги и, не отнимая рук от лица, сказал:
– Ты выпорол Скарлаттино?
– Нет, – удивился Полициано. – За что его пороть?
– Ах, это ты, мой Анджело, – промолвил Лоренцо и, подойдя к нему, положил руку ему на плечо. – За его глупую остроту о Савонароле…
– Но ведь он говорил только среди нас, и ты не велел ему повторять.
– Это правда, – кивнул Лоренцо. – Но кого-то ведь я велел наказать…
– Это Кардиери, – улыбнулся Полициано. – Кардиери и Аминту. За любовь.
Лоренцо поглядел на него серьезно.
– Тяжело мне, мой Анджело!
– Ты бледен, – заботливо прошептал Полициано. – Плохие вести из Рима? У принцессы Маддалены тяжелая беременность?
– Джироламо Риарио убит, – ответил Лоренцо.
Полициано быстро замигал, потом устремил взгляд на сады.
– Он был твоим великим врагом, правитель…
Но Лоренцо горько улыбнулся.
– Великим врагом? – повторил он. – Если б только он был сейчас жив…
– Я тебя не понимаю. Ты жалеешь его?
– Анджело, – прошептал Лоренцо Маньифико. – Сколько пробудет душа его во мраке?
Полициано пожал плечами.
– Точно сказать трудно, но не менее тысячи лет. А что?
– Мне пришло в голову… если б он там по своему свободному выбору вдруг сам решил… потому что бог не может в это вмешиваться… судьбу какого-нибудь Медичи…
– Что ты говоришь! – воскликнул с испугом Полициано, сжав его руки. Это невозможно, ты же знаешь! Когда низшие боги, читаем мы в "Тимее", получив бессмертное начало души, создали человеческое тело, они поместили бессмертную душу в мозгу. Потом вложили честолюбивую душу в грудь, а гневливую поместили между блоной и пупком. Так гневливая душа, лютый зверь, по определению Прокла, удерживается пупком, словно цепью. У Медичи душа в мозгу и в груди, тогда как Джироламо – человек распутный и гневливый, а не философ…
– Что знаешь ты, Анджело, о темных стремнинах в душах Медичи!
– Лоренцо! – воскликнул Полициано. – Что с тобой сделалось? Так потрясло тебя известие о смерти Джироламо? Или ты усматриваешь большую опасность в его смерти, чем в существовании?
– Я вижу гибель… страшную гибель… – прошептал Лоренцо.
Полициано задрожал, побледнел.
В то же мгновенье пронзительный, резкий крик разорвал воздух позади них, безумный крик человека, которого убивают, на которого вдруг обрушилась оторопь ужаса и смерти. Тотчас вслед за тем послышался дикий лай целой своры псов, лай терзающий, кровожадный, а дальше опять визг и вопли страха. Все это переплеталось, сливалось, и вот уже псы накинулись на несчастного и стали отдирать его мясо от костей, и опрокинутый на землю безоружный человек судорожно корчится под их клыками, отчаянно защищается, но псы уже вцепились ему в руки и ноги, и вот острая красная слюнявая пасть схватила его за обнаженное горло, и завыли человек и пес, и голос уже был не человеческий и не звериный, а скуленье отверженца, голоса преисподней и лай адских псов, ведущих травлю в вечности. Клокотанье крови поднималось в разорванном горле, подобно пузырям из грязи мясных лохмотьев, но собачья свора не выпускала добычу и рвала, драла и рвала, драла и рвала…
У Лоренцо в глазах потемнело. Призраки, мраки, гневливая душа, это лютое зверье, адские тени, судьба Италии, остывшее тело Джироламо Риарио, красные пасти псов, их хватучее раздиранье, гибель… Стремительно повернувшись, он сорвал висевшую у них за спиной шелковую завесу.
Там стоял забавник Скарлаттино с идиотской улыбкой.
– Здорово, а? – заговорил он уже человеческим голосом. – Я только недавно научился. Нужно прижать вот так ладонь ко рту. Это последний номер моей карнавальной программы. Очарую всех.
Полициано стремительным движеньем заставил кинжал правителя опуститься.
– Ты – философ, Лоренцо! – воскликнул он.
Маньифико разжал ладонь, расслабил пальцы, и кинжал зазвенел на плитках галереи. Скарлаттино, бледный от страха, только тут понял и пустился наутек, завопив уже по-настоящему.
Медичи тяжело дышал. Полициано несколько раз прошелся взад и вперед, заложив дрожащие руки за спину и с тревогой глядя на правителя.
– Ты чуть не убил его, Лоренцо…
– Да, – кивнул князь. – Я и хотел…
– Никогда я не видел, чтоб ты убивал, – предоставь это другим…
– Пойми, мой Анджело, – начал с усилием Лоренцо. – Мне порой кажется, что я не живу, а участвую в каком-то фарсе. Какое несоответствие! Каждая моя трагедия, каждая роковая минута в моей жизни кончается какой-нибудь пошлостью, дурацкой шуткой, низменной, плоской потехой, – всегда, Анджело! Помнишь, как мы стояли тогда в том зале, собираясь идти к мессе кардинала Рафаэля, к мессе семейства Пацци? Тогда я в одно мгновенье переживал целые судьбы, решалось многое, больше, чем вопрос о том, буду ли я вечером жив, ты знаешь, решалась судьба Флоренции, моего государства, моих видов на будущее, чудовищных замыслов всей папской родни, решалась судьба Италии… И тот раз это было Фичиново издевательство, его неудержимый смех, лисье лицо Фичино, который вспомнил какую-то свою проповедническую остроту и расхохотался по поводу нее в ту минуту, когда я принимал важнейшее, судьбоносное решенье. И теперь то же самое. Я уже видел Альпы, проломленные для прохода французских войск, обезлюдевший Ватикан, сожженную Флоренцию, видел войну, гибель и мор… а этот шут возьми и ворвись в мои мысли со своим карнавальным коленцем! Несоответствие сущего, совершенно ясное для философа! Но я, Анджело, очевидно, не философ, раз не могу проникнуть в его суть, не понимаю его, так что лучше буду всегда обнажать кинжал, чтоб рассечь такую ухмылку, маску…
– Пойдем, – промолвил Полициано.
– Куда?
– В церковь… или к твоим коллекциям, – ответил философ. – Но лучше в церковь. Увидеть красоту. Кроме этого, тебя сейчас ничто не успокоит. Пойдем. Картины, статуи, фрески, красота… Пойдем!
Лоренцо улыбнулся. Пристально посмотрел на Полициано. Опять улыбнулся. Полициано смутился и отвел глаза. Лоренцо снисходительно положил руку ему на плечо. Тогда Полициано отдернул завесу у входа в комнаты правителя. Но Лоренцо отклонил это мягким движением головы. И взял плащ.
– Ты же знаешь, Лоренцо, – прошептал Полициано. – Я ведь думал, так лучше…
– И был прав, – уже спокойно ответил Лоренцо. – Пойдем…
Они пошли. Боковыми улицами. В лавках ремесленников даже грубое слово пело. Похоронные братья несли покойника. Дети гонялись взапуски. Банкир отсчитал золотые скудо, и монах поблагодарил. Крестьяне, ставши в кружок, слушали новости. Несколько фламандских и шотландских студентов, оставив кувшин с вином, низко поклонились правителю Флоренции и своему профессору, ради которого приехали в Италию из дальних краев. От беседки, где они сидели с девушками, веяло ароматом цветов. На улице Ди-Барди поднялась драка. На улице Ди-Барди вечно какие-нибудь драки, но на этот раз бой шел такой веселый, что даже собака, лежавшая у бронзовых дверей, лениво поднялась и пошла посмотреть. Из аптек пахло мускатным орехом и горьковатыми листьями средством для укрепления здоровья и для плодовитости. Шерстобиты пели в такт работы, золотарь вышел из своей лавки посмотреть на солнце купленный смарагд. Рядом шелестел и размачивался шелк. Караван мулов дружно постукивал копытцами по мостовой, а погонщик разгонял кулаками мальчишек, решивших потихоньку сунуть репейник под хвост последнего мула. Группа девушек, покраснев, засмеялась шутке солдата, а тот разглаживал усы тыльной стороной руки, щурясь на глубокие квадратные вырезы их платьев. Все поворачивались к Медичи, рукоплескали, смеялись, махали рукой… Из дворцовой колоннады выбежала десятилетняя девочка, низко присела перед правителем, – тот остановился, погладил ее по черным волосам.
– Я уже выучила для карнавала, правда, – прощебетала она, вытаращив большие черные глаза на золотую цепь Полициано.
– Что же ты выучила?
– Сонет во славу матери божьей, – серьезно ответила девочка.
– Молодец, – улыбнулся Лоренцо Маньифико. – Только не забудь.
Они прошли порядочный кусок дороги, а он все думал об этой девочке, у Маддалены тоже были такие волосы, легкие, волнистые…
– Чья она? – спросил он.
– Ее зовут Лиза, – ответил Полициано. – Это – дочка Антонио Марио ди Нольдо Герарди.
Лоренцо кивнул. Из рода гонфалоньеров.
– Все готовятся к карнавалу, – сказал Полициано, радуясь, что нашел предмет, о котором можно говорить без умолчаний. – Вот увидишь, наши карнавалы опять станут лучше венецианских, и мы возобновим их былую славу. Уже теперь во всей Италии к устройству празднеств призывают одни флорентийцы, и, конечно, опять осуществятся слова папы Бонифация, что флорентийцы – пятая стихия Италии. А на какую тему будет нынешний наш карнавал, Лоренцо?
– Триумф консула Павла Эмилия, – сурово промолвил Медичи.
Полициано закусил губу и умолк. Он понял.
– Триумф консула Павла Эмилия, – повторил Лоренцо. – Но у меня нет еще эскизов костюмов для процессии. Надо отыскать какого-нибудь художника, лучше бы всего из новых, молодых. По нынешним временам это, может быть, будет наш последний карнавал, мой Анджело, и поэтому – пусть триумф Павла Эмилия. Последний карнавал! Фра Джироламо, конечно, порадовался бы, если б это был последний флорентийский карнавал!
– Фра Савонарола? – не понял Полициано. – Какое он имеет отношение к нашим карнавалам?
– Я пригласил его во Флоренцию, – ответил Медичи.
Тут Полициано не выдержал, воскликнул, заикаясь:
– Ты… пригласил Савонаролу… во Флоренцию?
– Почему бы нет? Если он враг, лучше держать его у себя на глазах. А друг – тем более, милости просим. Не забудь: все, что есть в Италии славного, принадлежит Флоренции.
Полициано шел молча, склонив голову. Что это? Просто причуда или хитрый ход против Рима? Они уже входили в церковь, их охватил полумрак. Лоренцо снял шляпу, склонившись в глубоком поклоне, и дал святой воды Полициано. Тот, дотрагиваясь до его влажных пальцев, не выдержал и в тревоге заговорил:
– Не знаю, Лоренцо… Мне страшно. Я боюсь Савонаролу во Флоренции… А не кажется тебе, что иной раз эти издевательства, эти отвратительные шутки над твоими трагическими минутами… это несоответствие сущего… создаешь ты сам?
Но Лоренцо не ответил, так как в это мгновенье крестился большим крестом.
Из бокового нефа доносился шум мальчишечьих голосов и солидный голос учителя. Но при виде вошедших маэстро Доменико Гирландайо тотчас прервал объяснения и любезно пошел им навстречу. Церковные нефы тонули в мягком сумраке и отплывали. Тень и свет чередовались, как день и ночь; пришедший мог пройти безмерное расстояние времени, – столетьями, веками по-прежнему чередовались день и ночь, не сосчитать уже, сколько раз все чередовались день и ночь, и было это лишь свет и тень под узкими окнами. Свод коробился, как после пожара, и был такой же почернелый. Статуи сияли молитвами, свечами, цветами. Золото полыхало по пурпуру, а тот кровоточил по золоту. Божья матерь уезжала на ослике в Египет с младенцем на руках, и святой Иосиф, опираясь на палку, важно шел за ними. Он был святой, так как постоянно имел матерь божью перед глазами, всегда жил в ее близости. Тоны органа молчали, но и без того что-то все время слышалось в воздухе, – может, отзвуки их начали только теперь доходить, падая с высокого свода.
Граначчи стоял рядом с Микеланджело. Граначчи уже вернулся из Нурсии, города Сполетского герцогства. Он бледней, чем был до поездки. Глаза у него все время блуждают и жмурятся против солнца. Он вернулся от вещей Сивиллы, и, наверно, там творились удивительные дела, потому что он об этом молчит, ничего не рассказывает, а Микеланджело не спрашивает, Микеланджело боится. Граначчи беседовал с дьяволом, Граначчи продал душу дьяволу. Мертвая язычница, мертвая возлюбленная, холодней снега, любовь, смеющаяся мукам, как лавр суровая, камень живой… Граначчи погиб. Хотел стать славней всех, затем и был в пещере мертвых. Но Микеланджело с удивительной ясностью видит, что после возвращения в рисунке Граначчи – никаких изменений. Он рисует и пишет красками так, как прежде. Хорошо сделано, ошибки нет, но… и только, и только… Страшно подумать, что, может, душу погубил за… ничто. Ад умеет так обманывать.
Вернулся от вещей. Это сложные обряды, – говорит, пришлось обещать, что я женюсь на мертвой, буду принадлежать только ей, и она мне поможет, эти мертвые обладают удивительным, великим могуществом… Микеланджело боится его. Что он там пережил, что там было? С мертвой – он, живой! Приор Служителей девы Марии за такие дела был сожжен… Cives Bononiensis coire faciebat cum daemonibus in specie puellarum 1 – так объявляли о нем, ведя его на костер. Микеланджело боится. Но Граначчи ничего не рассказывает, даже нарочно говорит только о вещах совсем будничных, привычных… Но он бледен, глаза блуждают, и улыбка его – уже не мальчишеская, а резко прочерченная волнистая черта на лице, часто жестком, оцепеневшем от тяжелого внутреннего напряжения.
1 Гражданин Бононы (болоньи) совокуплялся с демонами, принявшими вид девушек (лат.).
Медичи, остановившись перед ними, стал беседовать с Доменико Гирландайо.
– Я возьму у тебя кое-кого из них, – слышат мальчики его голос. – Мне нужны живописцы для карнавала, но я их тебе не верну. Оставлю их в своей Академии, в садах, под строгим присмотром старенького Бертольдо, понимаешь, мне нужно опять пополнить штат своих художников…
Мальчики слушают в изумлении, затаив дыхание. Всем застелила глаза золотая мечта. Стать художником Медичи, расти под присмотром старого Бертольдо – лучшего друга божественного Донателло, воспитываться вместе с сыном Лоренцо Маньифико, пировать среди членов Платоновой академии, среди людей, одни имена которых внушают почтение князьям, герцогам, королям, папам… Золотая мечта! И Гирландайо дрожит от радости. Да, из его учеников хочет Маньифико выбрать себе художников – не из мастерской Верроккьо или Перуджино, из его! Лоренцо переводит испытующий взгляд с одного лица на другое, по мере того как мальчиков называют. Напряженное мгновенье. И внезапно в него вкрадывается тень тайны.
Маньифико молча смотрит на бледное лицо Граначчи. Граначчи дрожит, руки его крепко сжаты. Лоренцо смотрит на других ребят, потом опять медленно поворачивается к Граначчи. Нет, он не спрашивает даже Гирландайо. Он смотрит только на паренька. Тень не рассеивается. Тень стоит неподвижно. Окна, день и ночь, свет и тень.
– Ты! – указывает Лоренцо на Граначчи. – Ты мне нравишься. Сумеешь сделать эскизы костюмов для процессии консула Павла Эмилия?
– Сумею, – уверенно отвечает Граначчи. – И не только это. Я готов.
Маньифико улыбнулся над лаконичностью ответа и ждет. Мальчику нужно бы сейчас стать на колени, почтительно склониться, благодарить правителя, поцеловать ему руку, обещать… Но Граначчи не склоняется, не преклоняет колен. Граначчи стоит молча, и взгляд его еще больше потемнел. Гирландайо смущенно приносит за него извинения, но Лоренцо с доброй улыбкой махнул рукой. Тут только Граначчи заговорил.
– Чего тебе еще? – удивился Лоренцо.
– У меня есть друг, – хрипло произносит Граначчи и уверенным движением подталкивает Микеланджело вперед. – Я люблю его. Без него не пойду.
Все замерли. Но правитель засмеялся и, положив обоим мальчикам руки на плечи, промолвил:
– Редко встретишь нынче такую дружбу, ребятки! Что ж, возьму вас обоих: друг твой, наверно, достоин такого поступка.
Косогор.
Уж не ноябрьский, а весенний, апрельский, полный солнца. Микеланджело, со слезами счастья, мнет руку Граначчи.
– Никогда тебе этого не забуду, Франческо, никогда.
Но тот молчит. Не улыбается. Волнистая линия рта, прочерченная на холодном, оцепеневшем лице. Это уже не мальчик, умеющий радоваться и смеяться. Он глядит на камень косогора и слушает пылкие, упоенные слова Микеланджело, не шевелясь. Да, здесь они стояли тогда… здесь он впервые о ней услышал… Вдруг Граначчи хватает его за руку, лицо у него измученное, и он шепчет с горькой нотой отчаянья:
– Микеланджело! Микеланджело!
Микеланджело испугался. Первый раз Франческо говорит таким голосом.
А Граначчи шепчет.
– Поклянись, что никогда меня не оставишь!
Он тянет его в сторону. Они стоят перед воротами на римскую дорогу. Смеркается. Легкие апрельские сумерки. Высокий крест перед ними, Флоренция всегда ставила У своих ворот кресты. Большак полон народу. Сейчас ворота запрут, пора возвращаться в город. Мальчики стоят перед крестом, спиной к дороге. Позади неимоверный шум – голоса купцов, топот коней, грохот колес, крики всадников, протяжные призывы и просьбы нищих, молитвенное бормотанье странствующих монахов.
– Вот здесь поклянись, что никогда меня не оставишь! – сказал Франческо. – Что лучше сейчас умрешь, чем когда-нибудь покинешь меня… Что готов принять любую муку, если меня забудешь!
– Клянусь! – поднял руку Микеланджело, потрясенный звучащим в голосе Франческо отчаяньем, испуганный видом его, завешенного сумраком лица.
– У меня нет никого, кроме тебя, Микеланджело… – прошептал Граначчи.
Тут позади них послышалось приглушенное чтенье молитв. Перед крестом остановились три монаха. Трубы на башне прозвучали уже второй раз. Дорога опустела, зубчатые ворота скоро закроются, и только черные крепостные стены будут торчать в сером пространстве. Но если господь не охранит города, напрасно бодрствует страж.
– Пора идти, – сухо промолвил Граначчи, смерив монахов враждебным взглядом.
Но один из них обратился к нему и с обычной у странствующего монаха смиренной улыбкой сказал:
– Вот запирают ворота. Мы пойдем с вами, пареньки. Они пошли.
Граначчи молчал.
– Вы – первые, кого мы встретили при входе в город, – заметил второй монах. – Такие встречи никогда не бывают случайными. Кто вы, парни?
– Мы художники, – гордо промолвил Граначчи.
– Так, так, – улыбнулся второй монах. – Можно было догадаться, что первыми, кого мы встретим, подходя к Флоренции, будут художники.
– Мы – художники Медичи, – гордо пояснил Микеланджело.
– И мы идем к Медичи, – тихо произнес один из монахов.
Они шли по Флоренции.
– Меня зовут Франческо Граначчи, а это мой друг Микеланджело Буонарроти, – сказал Франческо.
Тут в разговор вступил третий монах, до тех пор молчавший. Голос у него был резкий и неприятный, каркающий.
– Буду помнить эти имена, не забуду, – сказал он. – А вы запомните мое. Я – фра Джироламо, по прозванию Савонарола.
СТУК В ВОРОТА
"Если бы ты знал, город, что служит к миру твоему, – но это сокрыто ныне от глаз твоих, ибо придут на тебя дни, когда враги твои обложат тебя окопами, и окружат тебя, и стеснят тебя отовсюду, и разорят тебя, и побьют детей твоих в тебе, и не оставят в тебе камня на камне за то, что ты не узнал времени посещения твоего".
Костлявая, исхудалая рука промелькнула в воздухе – могучим жестом, так что рукав рясы съехал, обнажив ее желтизну. Каркающий, резкий и мучительно скрипучий голос монаха быстро разлетелся во все стороны вслед за этим движеньем.
– Граждане флорентийские, валяющиеся в мерзости своей, в нечистотах и грязи грехов своих, – так взывает к вам Христос, и взывает в слезах. Написано: videns civitatem, flevit super illam – смотря на город, заплакал о нем. Божьи слезы… и о вас! Не написано, что плакал, когда был избиваем, заушаем, мучим, терзаем, бичуем, терниями увенчан, ко кресту пригвожден и три часа в ужаснейших муках на древе Голгофы истязаем, но написано: смотря на город, заплакал о нем. Несчастная Флоренция! Смотря на город, заплакал. Каким разрушением заплатишь ты за то, что не узнала времени посещения твоего! И каким огромным будет разрушение сие, что даже сын божий заплакал? Чем же можешь ты избежать этого? Чем спастись? Чем освободиться? Думаешь, бог еще смилуется над тобой, ты, худшая блудница из всех городов-блудниц, блудница непотребнейшая, блудница мерзкая, блудница дряхлеющая, блудница окаянная? Итак, чем же хочешь ты спастись, если бог помилует тебя? Взываю об одном: покайся! покайся! покайся! Никогда больше не должна оставлять тебя мысль о превеликой скорби жениха твоего и сладкого искупителя Иисуса Христа! Житие наше и умирание да пребудут вечно в ранах и во внутренней сладчайшего воплощенного Слова, знаешь ли ты это, Флоренция, погибель души? Больше никогда не должна ты быть пучиной греха, о город, полный тьмы, мерзости и блуда. Что дала ты до сих пор своему искупителю? Уксус и желчь, удары и жестокость. Безжалостная Флоренция! Но ты получишь за это воздаяние свое. Ты должна была быть жемчужиной в божественном венце его, а стала шипом в его венце терновом, должна была быть радостью и любовью, домом молитв и благодарений, всем этим должна ты была быть, небесная невеста, а погляди теперь на мерзость свою, погляди на одежды свои, разорванные в распутстве и похоти, погляди на то, чем ты стала на этих свиных пастбищах, – погляди, не бойся поглядеть, не гнушайся сама себя, не отвращай ока от безобразий своих, погляди, чем стала! Но горе вам, вожди и правители здешние, ведшие и правившие, ведущие и правящие! Трубы божьего гнева ждут вас, и не избежать вам их. Ибо написано: vos autem fecistis illam speluncam latronum, – а вы сделали его вертепом разбойников!
Слушатели оцепенели. Флоренция, королева тосканская, никогда до сих пор не слышала, чтоб о ней говорили такие слова. В переполненном храме нечем было дышать. Рыдания женщин сливались с суровым голосом монаха, худая фигура которого металась на кафедре быстрыми ломаными движениями, резко выделяясь на золоте стен.
– Перед тем как идти на смерть, он мыл ноги ученикам своим. Размышляли вы когда-нибудь об этом, спесивые, раззолоченные граждане флорентийские? Встает из-за стола Творец, а творенья сидят. Он на коленях перед учениками. О добрый Иисус, что делаешь? О сладкий Иисус, зачем склоняется величие твое? О тихий Иисус, ты посрамляешь меня в столь великом униженье! Погляди, надменный патриций, погляди сюда, на эту вечерю, погляди, ты и ныне – перед ликом божиим и никогда не сможешь от него скрыться, – погляди, что делает твой творец, твой спаситель! Учись смиренью, учись, патриций, купец, художник! Но проповедовать во Флоренции смирение? Горе тебе, город, мнящий себя лучшим в Италии, а на деле – наихудший! Христос стоял на коленях!.. Слушайте, вы все! Христос стоял на коленях… Что ты на это скажешь, душа моя? Кто когда слышал подобное? Слышал я слово твое, господи, и убоялся, видел дело твое, господи, и ужаснулся. А что сказала бы ты, душа моя, если бы… если бы… нет, страшно сказать, но все же вымолви это, душа моя: что сказала бы ты, если б увидела Его стоящим на коленях… даже перед предателем Иудой?
Стоит ему замолчать – тишина глубокая, как пропасть. Сотни, сотни, тысячи глаз выпучены и вперились в его тонкие губы. Исхудалая костлявая рука, рука обнаженной сухой желтизны снова взлетает широким движением и за ней – выкрик:
– И здесь сидит Иуда!
Это было – как если б в тишине обрушилась скала. Слова прогремели стократным отголоском, и все сердца вняли ему.
– Довольно сладких слов слышала ты, Флоренция, довольно вкрадчивой лести и ласкательства. Ты – девка, запомни это, девка, и с девкой я говорю. Я призываю на тебя божьи трубы и божий гнев, я, который – не философ, а ученик Христов, об учениках же было сказано: если будут молчать, камни возопиют – lapides clamabunt.
И берегись этого, берегись той минуты, когда враги осадят тебя и окружат валом, когда одни лишь камни будут говорить и умолкнет всякий человеческий голос, будут говорить одни камни, грозно говорить, воинственно! Смотри, Иуда, не запирай сердца своего, еще есть время, смотри, спаситель преклонил колена перед тобой и, если коснется тебя, ты тоже освятишься!..
Глаза его горели огнем, от бледного лица шло сияние.
– Преступный Иуда, почему не сломит жестокую грудь твою столь великая кротость? О ангелы, почему не трепещете вы при таком смирении? О прекрасные руки, пречистые руки, как можете касаться вы изверга, мужа крови, мужа немилосердного, – о прекрасные руки, вы смываете скверну предателеву? Пойдем, душа моя, пойдем, в слезах, поглядим на муки Иисусовы! Поразмысли, душа моя, кто же это, как разбойник пойманный? Подумай, из любви к кому переносит он такие муки? Это творец всего мироздания, который за спасение твое платит такую цену. Так что же ты не отвечаешь такой же любовью? Почему ты так холодна? Погляди, как он кроток даже с тем, кто ударил его по ланите. А я говорю вам, граждане флорентийские, и здесь между вами сидит человек, ударивший его по ланите!
Монах перегнулся через перила кафедры и вонзил жгучий взгляд в толпу. Теперь каркающий голос его разбивался о золото стен и почернелый свод, о переполненное пространство храма дико, лихорадочно, неудержимо. Он извергает слова, и взмахи его рук резки, как будто он работает топором…
– Почему ты не сломишься, жестокое сердце? Почему, глаза, не превратитесь вы целиком в два источника слез? Почему не преклонитесь вы, колена, в пыль земную, а ты, голова, почему в покаянье, слезах и сознании прегрешений своих не бьешься об эти стены? Почему? Потому что тебе этого еще мало! Ты слышишь голос мой и знаешь, что муки Христовы на этом не кончились, что впереди был еще крестный путь и ужасные три часа Голгофы, – ты знаешь это, но не рыдаешь, оттого что много раз об этом слышала и равнодушна к страданию божьему, оно не твое. Ну, и не встрепенулась! Для этого тебе нужны удары еще сильней. Чего же нужно тебе? Великих палиц мученья, которые размолотили бы тебя, котла несчастий, в который ты будешь ввергнута. Ты возгордилась в богатстве своем – потому отвергает бог молитвы твои, отвратил лицо свое от тебя, ничтожны твои добрые замыслы в глазах его, неугодны ему твои богослужения, он не хочет их. Мужи твои стали женами и, подобно женам, живут с мужским полом, – это величайшая мерзость перед богом; святой апостол Павел говорит: "Мужчины разжигались похотью друг на друга, мужчины на мужчинах делали срам – masculi relieto naturali usu feminae, exercerunt in desideriis suis in invicem, masculi in masculos turpitudinem operantes". И написано: именно потому ты сам собираешь себе гнев божий на день гнева и откровения праведного суда божьего, thesaurizas tibi iram in die irae et revelationis justi judicii Dei, который воздаст каждому по делам его, qui reddet unicuique secundum opera eius. Вот это – мужи твои, сильные твои, герои грядущих войн и сражений? А твои женщины? Перед тем как господь страшно и праведно покарал народ израильский, так говорил пророк о женщинах этого народа, которые навлекли на себя гнев небес: "За то, что дочери Сиона надменны и ходят, поднявши шею и обольщая взорами, и выступают величавой поступью, и гремят цепочками на ногах, оголит господь темя дочерей Сиона и обнажит господь срамоту их, в тот день отнимет господь красивые цепочки на ногах, и звездочки, и ленточки, серьги, и ожерелья, и опахала, увясла и запястья, и пояса, и сосуды с духами, и привески волшебные, перстни и кольца в носу – et erit pro suavi odore foetor et pro zona funiculus et pro crispanti crine calvitium et pro fascia pectorali cilicium, – и будет вместо благовония смрад, и вместо пояса будет веревка, и вместо завитых волос плешь, и вместо широкой епанчи – узкое вретище, вместо красоты – клеймо". Бить вас буду, коровы тучные! – так говорит господь. Младенцев ваших разобью на глазах ваших, дома ваши будут разграблены, мужи ваши сгниют без погребенья перед городскими стенами, и придут грозные враги, которые поразят детей стрелами et lactantibus uteris non miserebuntur – и не пощадят жизни кормящих грудью, и детей не пожалеет око их. Горящей грудой развалин будет город сей, полный золота, картин, разврата, статуй, книг, идолослужения, прелюбодейства и драгоценностей, да, будет грудой камней, обгорелых бревен и обломков. Година скорби настанет, година бед, – изольет на тебя господь, вероломная Флоренция, негодованье свое, пошлет на тебя гнев свой, и скорбь, и ужас, и смерть, и все мерзости твои, вернувшись обратно, падут на голову твою. Не пощажу никого и не пожалею, – так говорит господь. Одарю тебя по делам твоим. И познаешь, что я бог, который ударил! Горе тебе, Флоренция, горе тебе!
На скамьях Синьории – продолжительное движение. Простой народ.
– Увидел я зверя! – диким голосом закричал монах. – Увидел я зверя, он имел два рога, подобные агнчим, и говорил, как дракон… и творит великие знамения, так что и огонь низводит с неба на землю пред людьми…
Апокалипсис!
Люди стоят, окаменелые, ошеломленные. Костлявые руки стучат в ворота Флоренции, что это – руки монаха или руки судьбы? Французы – наготове, и шайки их безжалостны, обожжены огнем испанских сражений, огнем Фландрии, это разбойники, убийцы, а не солдаты. Султан Баязет пробивается все ближе, крушит царство за царством, его арнауты вновь обнажили кривые сабли. Венгрия содрогнулась, скрывшись в дыму своих сожженных городов. А итальянская земля… Непрерывен звон оружия, князья, города, кардиналы, все – в сплошной круговерти, вихре войн. Папа – слабый и хилый, кардиналы строят дворцы, ведут раскопки, посылают друг к другу оскорбительные процессии машкер, сочиняют любовные стихи в духе Овидия! Перуджия уже обезлюдела, семейство Бальяно даже церкви города превратило в крепости и убивает всех без разбора, Малатесты ходят по колена в крови, Скалигеры в Вероне истребили друг друга, род д'Эсте утопает в новых и новых злодействах. Голодающие крестьяне бродят по полям, где нельзя ни жать, ни сеять, а выжженная войной земля жарится, иссыхая на солнце, с засыпанными колодцами. Над Ассизи шесть ночей подряд стоял, упираясь в небо, высокий огненный столп, а в Пизе земля вдруг расселась, образовав огромную трещину, черную, как отдушина преисподней.
По дорогам ходят удивительные люди, одетые в саваны, и пляшут, колотя в барабаны человеческими костями… В Римини одна женщина родила в муках ребенка о двух головах, с огненно-красными глазами и тельцем, покрытым чешуйками, как у пресмыкающегося. Народ задушил его вместе с матерью, прежде чем пришли чиновник и священник. На Риальто в Венеции море выкинуло огромное чудище, к которому никто не хотел подходить. Оно сгнило, и начался мор. В Урбино внезапно обрушившимся сводом в храме засыпало людей. Всюду появляются страшные знамения, а недавно видели новую звезду необыкновенной величины, с ярким ядовито-зеленым сиянием, и куда падали ее лучи, там вода становилась горькой. И в Апокалипсисе так написано: "Имя сей звезде Полынь". В Падуе повешенные кричали с виселицы на народ, после того как уже сгнили. Все предвещает страшные беды. Испанские арагонцы в Неаполе вооружаются. Французские войска уже построены и готовы выступить по первой команде этого слюнявого эпилептика Карла Восьмого, скрюченного и страховидного, только и мечтающего о том, чтоб разорить эту прекрасную землю. Магометане Баязета нахлынули в необозримом множестве, тучами саранчи, из своих степей и всюду громят христианские войска. В Бергамо среди бела дня небо почернело, и наступила ночь. От ужаса стали звонить во все колокола, а сердца разрывались. Голод ползает по всем краям. Непрестанными войнами сожжены хлеба, урожай не растет. А в Риме поймали одного дворянина, который под пыткой признался в том, что по приказу султана Баязета отравлял колодцы. Вихри, бури, зловещие знамения. А что делается, чтоб это предотвратить?
Ешь, пей, веселись, а завтра в могилу ложись, как говорится. Княжеские дворцы полны наготы. Голые женщины, голые мужчины, голые картины, голые люди, голые статуи. Венецианские и римские куртизанки принимают служителей меча и алтаря на ложах, усыпанных розами. Вино пятнает плиты пиршественных залов, куда под звуки лютен и флейт одетые в шелк слуги носят на огромных блюдах целых павлинов, фазанов, телят, оленей. Хлеб подают осыпанным золотой пылью, рыб – посеребренными. Античные пиршества! Кардинал Альмести устроил пиршество точно по Петрониеву описанию пира Тримальхиона, кардинал да Понти приказал приготовить к ужину целые огромные сооружения из сахара, изображающие подвиги Геркулеса, а также сахарные крепости с башнями, стенами, зубцами, и когда эти крепости раскромсали, из них выскочили настоящие мальчики и запели славу пирующим. Древнеримские пиршества! Обнаженная богиня красоты, в окружении нимф, выехала к гостям в большой раковине, запряженной лебедями. И циклопы пали перед ней ниц – в знак того, что красота торжествует над грубой силой. Потом вышел улыбающийся бог Тибра и развел нимф по ложам гостей. Древнеримские пиршества! Привезли целого жареного кабана, и когда его разрезали – изнутри вылетели живые соловьи. В золотых блюдах налиты упоительные драгоценные благовония, в золотых плошках горят диковинных оттенков огни. Возлежащие с гостями женщины – античные богини, так что после пира можно взять с собой на ночь Венеру, Диану, Палладу-Афину, одну из Гесперид, Фетиду, Андромеду. Но в Перуджинской области, да и во многих других, народ обдирает уже древесную кору, чтоб испечь из нее себе хлеба, и за несколько кусков продает детей. Изголодавшиеся, исхудалые фигуры выползают в сумерки, подавленные горем, и убивают ради пищи. Нет теперь ничего дороже прекрасного сонета и совершенной картины. Нет ничего дешевле человеческой жизни. Седая нищета с высохшей грудью и руками, как палки, хватает за горло взрослых и младенцев. Странные знамения на небе.
Люди в храме стоят окаменелые, ошеломленные. Костлявые руки стучат в ворота Флоренции, что это – руки монаха или рука судьбы? Душно – не продохнешь. Огни свечей не мигают, храм переполнен. Черный свод.
Теперь монах на кафедре опустился на колени и стал молиться с плачем и рыданьем, голосом, полным слез, судорожно сжав руки:
– О прекрасные святые руки, я вижу вас израненными и растерзанными ради любви ко мне! О святые ноги, вижу вас пронзенными и обесчещенными ради любви ко мне! О сладкая грудь, что значит эта великая рана? Что значит это обилие крови? Горе мне, что я вижу тебя такой широко открытой – ради любви ко мне! О жестокий крест, не будь таким распяченным, ослабь немного свою твердость! Наклонись, чтоб я мог коснуться своего сладчайшего господа! О безжалостные гвозди, отпустите эти святые руки и ноги! Приблизьтесь к моему сердцу, усейте его ранами, пригвоздите меня, ибо это я согрешил, а не сын божий! О Иисус, когда я вижу тебя таким израненным, сердце мое отступает от меня, – о Иисус, когда я вижу тебя таким распятым, я хочу плакать, вовек не переставая! О утешенные, о усталые, о печальные, о бедные, о разметанные и колеблемые волнами моря мира сего и сломленные вихрем скорби, радуйтесь, ибо Иисус дал вам отдых, пролив драгоценную кровь свою! Ты, Иисус, так сильно распалил меня, что душа моя изнемогает! О, сладкая любовь, о, любезная рана, о, медоточивое уязвление, сладостно ведущее к жизни вечной! Блажен, кто будет всегда тобой распален, кто будет сыт тобой, и ничто другое в этом мире не взманит его! Блажен, кто примет это небесное уязвление, ибо он с пеньем летит к жизни вечной, в общении со сладкой любовью Иисуса, который есть истинный бог и истинный человек – с отцом и духом святым во веки веков. Аминь!
Он тяжелыми шагами сошел с кафедры и удалился. Молящиеся били себя в грудь и плакали. Только через некоторое время они стали мало-помалу расходиться, не прерывая молитв. Щеки пылали, глаза лили горючие слезы. Улицы, дома, дворцы, Флоренция – все стояло на своем месте. Но толпа потоками медленно растекалась по городу, и каждый глядел на знакомую улицу и на свой собственный дом уже иначе – взглядом сокрушенным, полным слез и раскаяния.
А Лоренцо Медичи со своими философами после проповеди пошел посмотреть на львов.
Мускулистые могучие звери во рву нежились на солнце, только в соседней клетке – у пантер и леопардов – было неспокойно. Полосатые и пятнистые звери с вытянутыми волнистыми боками тревожно расхаживали вдоль своих утесов; обгрызенные кровавые кости валялись на песке. Вдруг один зверь подскочил к самой решетке, и в этом прыжке влажная от пота шкура его сверкнула на солнце живым драгоценным камнем. Зверь тихо зарычал, другие остановились, смущенные, глухо ворча. Еще один длинный прыжок и ощеренные зубы, вытянутое бичом тело повалилось и загремел кровавый рев. Сторож леопардов Джиджи встал, пригрозив бичом, с помощью грубых окриков и длинного металлического прута навел порядок. Полосатые звери возобновили свою беспокойную волнистую ходьбу взад и вперед, а забияка легким прыжком перенесся через утес и зарылся там в песке, словно длинная игла. Львы не пошевелились. Там, дальше, в отдельном углубленном загоне поднял свою громадную гривастую голову, до тех пор лениво покоившуюся на могучих лапах, самый большой лев – Ганнибал и продолжительно зевнул. Глотка и зубы его засветились на солнце красным и желтым. Это был огромный зверь, любимец князя, известный во всей Флоренции. Его держали не только для красоты, как предмет роскоши: он был также исполнителем приговоров судилища.
Джиджи, желая сделать приятное и угодить князю, вошел в соседнюю клетку и вернулся с маленьким леопардом, детенышем, который жмурился от солнца и обслюнявил одежду Медичи, шаловливо барахтаясь у него в руке. Потом его вернули матери, и Джиджи напомнил, что новорожденному еще не дали клички.
Лоренцо смотрел молча. А за спиной у него вспыхнула перебранка между философами относительно Савонаролы, поднятая Пико делла Мирандолой, который стоял здесь, еще исхудавший и бледный после ватиканской темницы. Полициано хмурился. Ссора в Платоновой академии, да еще из-за этого доминиканского проповедника! Разве Полициано не предостерегал князя? Какое добро принесут Флоренции Савонароловы вопли? Народ волнуется, дворянство разочаровано, Синьория испугана, философы его презирают. Зачем Лоренцо позвал его? Резкий голос Фичино, не скупящегося на колкости, врывается в фанатические стремительные наскоки Мирандолы, громоздящего цитаты из Писания и обрушивающего их на голову Фичино. Патер Маттео Франко делает короткие и быстрые колючие выпады, всякий раз тотчас скрываясь между остальными, которые кричат все неистовей друг на друга. Ссора философов кипит, дикая, сумбурная.
Больше полутораста лет уже во всем христианском мире толкуют об исправлении церкви in capite et membris, с головы до ног. Теперь идет речь об установлении нового порядка божия на земле либо о полной гибели, и Пико делла Мирандола, на изможденном лице которого написано страдание, пережитое в ватиканской темнице, размахивая рукой, доказывает, что муки Христовы до сих пор не легче, чем в Гефсиманском саду. Сикст перед самым конклавом, избравшим его, видел страшный сон – а именно, троекратное падение под тяжестью креста, видение крестного пути. Да, мы погибнем в карах, бог не позволит больше посмеиваться над ним. Но остальные тоже кричат о другой, победоносной церкви, об установлении царства божия на земле под главенством апостольского папы, полного духом святого Евангелия и божественного Платона. Фичино, гордый великим успехом своего сочинения "Платоново учение о бессмертии души", яростно опровергает доводы Мирандолы, который хочет доказать язычество платонизма и говорит о будущем папе-аристотелике, хранителе церкви – до пришествия самого Judici Tremendi, грозного судии. А от кого охраняет церковь фра Джироламо? От христиан, от того стада, которое – не церковь, но воображает себя церковью…
Полициано во все продолжение ссоры молчит, тревожно поглядывая на Медичи, который продолжает неподвижно смотреть на зверей, стоя спиной к философам. Полициано скорбно нахмурился, сердце ему сжимает жгучая печаль. В последнее время он замечает, что Лоренцо нездоров… да, да. Цвет лица желтый, руки иногда начинают дрожать мелкой дрожью. А недавно во время чтения диалога "Менексен" он вдруг согнулся набок из-за резкой боли в почках. У него вспотели руки, глаза застлало мутной пеленой. Потом Полипиано должен был дать ему клятву, что никому об этом не расскажет. Видимо, это был уже не первый приступ. А Казимо Медичи, pater patriae, умер с Платоновым диалогом в руке… Да, князь нездоров, но не зовет врача, потому что нельзя, чтобы теперь, в такое время, слух о его болезни разнесся по городам и княжеским дворам…
Старший сын его, двадцатилетний Пьер, недавно вернулся из Рима. Тут Полициано опять озабоченно нахмурился. Он не любит Пьера. Никто не любит Пьера. Это хвастун. Не философ. Он не знает Платона, – только гремит мечом да тискает женщин. Высокомерный. Смеется над тогами философов и восхваляет панцирь. В нем нет ничего от Медичи. Словно мать его – в девичестве римская княжна, гордая Кларисса Орсини – наделила его только кровью Орсини. Да, Пьер – не Медичи, Пьер – Орсини. И он когда-нибудь будет здесь править!.. Потом – здесь еще Джованни, шестнадцатилетний кардинал, потому что Иннокентий Восьмой, по просьбе Лоренцо, дал ему пурпур. На будущий год он поедет в Рим, к ватиканскому двору и к сестре своей Маддалене. Марсилио Фичино составил ему гороскоп, где предсказано, что в свое время Джованни станет папой, но Полициано этому не верит: Джованни слишком прямодушный и искренний, он не сумеет разобраться в римских интригах. Верный платоник и способный музыкант – вот кто такой кардинал Джованни, – да, музыка, музыка его великая страсть! Потом есть еще третий сын – Джулиано, тихий, молчаливый, задумчивый. Этот двенадцатилетний мальчик с слишком умными глазами словно несет в себе какое-то странное знаменье, родовое влечение, какие-то скрытые подземные силы. Как это сказал тот раз Лоренцо, когда мы с ним говорили о перевоплощении убитого Джироламо Риарио? Что знаешь ты, Анджело, о темных стремнинах в душах Медичи! А этот мальчик, этот двенадцатилетний паренек с недетской молчаливостью и задумчивостью, со своей любовью к занятиям философией, вечно где-нибудь скрывающийся от остальных, он конечно, ясно чувствует в себе эти особенные, темные стремнины… "У меня три сына", – говорит Лоренцо. "Один умный", – при этом он имеет в виду, конечно, Джулиано. "Другой добрый", – тут он подразумевает юного кардинала Джованни, потому что у каждого любящего музыку так, как он, – наверное, чистое, доброе сердце, такой человек не может быть злым. "А третий, Пьер, глупец", – говорит Лоренцо. Пьер, тискающий женщин, восхищающийся панцирем и презирающий философов… Как он за время пребывания в Риме полюбил своего зятя, этого карточного мошенника, папского сына, истасканного Франческо Чиба! Говорят, они с ним не расставались ни на час и все переживали вместе игру, попойки, даже те каморки за Тибром, бедная Маддалена! Муж и брат ее, оба дружно – в объятиях гулящих девок! Нет, он не Медичи, он – Орсини, он в свою мать – Орсини. И он когда-нибудь будет здесь править, старший сын… Не дай боже! Неужели в одно и то же время сумеркам Италии суждено стать и сумерками Медичи? Мучительные мысли пишут свои знаки на лице Полициано. Князь этого не замечает. Он видит только своих зверей. Вот он слегка улыбнулся. Детеныш леопарда получил сильную оплеуху от матери – за то, что укусил ее под брюхом. Жалобно мяукая и скуля, он перекатился на песок и, подняв все четыре лапы кверху, стал барахтаться на солнце.
Позади спор все обострялся. Философы налетали друг на друга в резких, гневных вспышках, шла уже дикая свара, спорящие разделились на группы и каждая напирала на другую. Руки мелькают, сжатые в кулаки, рукава разлетаются, глаза мечут искры…
– Знаю… – кричит вне себя Пико делла Мирандола. – Знаю я…
Но не договорил. Замер.
– Знаю… – вдруг послышался голос Медичи, словно эхо.
Князь указал медленным движением руки на зверей, на детеныша леопарда.
– Знаю, как его назвать. Он будет принцем Зизимом. Что вы смотрите с таким удивленьем? Я помешал вашей, видимо, очень интересной беседе, но я не слышал из нее ни слова, – один только гам. Да, Зизимом. Так будет записано, вместе с датой рожденья звереныша. Его будут звать – принц Зизим. Если папа может быть тюремщиком басурмана-турка, почему бы мне не назвать своего зверя именем этого турка?
Он повернулся и пошел. Все последовали за ним, присмиревшие, изумленные, безмолвные. Только Марсилио Фичино посмеивался мелким язвительным смешком. Да, повелителя никому не превзойти… Это был действительно мастерский ход… В самый разгар спора о реформе церкви, о карах господних, о сновидении Сикста, видевшего во сне крестный путь спасителя, спора о папе-платонике и папе-аристотелике Лоренцо, до тех пор как будто безучастный, метнул имя принца Джема, турецкого пса, живущего в Риме под охраной папы. Что о нем говорят? "Ест пять раз на день, в промежутках спит здорово и для забавы своей собственной рукой убил несколько рабов". Так писал о нем недавно из Рима во Флоренцию художник Мантенья. Вот каков принц Зизим…
После смерти Магомета Второго, погубителя Византии, старший сын его Джем поднял восстание против захватившего отцовский престол брата своего Баязета, но восстание кончилось неудачей, и сарацин бежал на занятый крестоносцами Родос, воя от страха при виде шелкового шнура в чьих бы то ни было руках. Но великий магистр крестоносцев, старый Пьер д'Обюссон оставил беглого труса у себя, так как родосским рыцарям было выгодно держать в плену брата султана и грозить им азиатскому берегу. Это обходилось Баязету в сорок пять тысяч золотых дукатов ежегодно, и, каждый раз как корабль с золотом опаздывал, великий магистр, комтуры и рыцари хохотали, что, мол, вот только рассветет, они сейчас же отправят Джема обратно в Азию и, конечно, первородный сын первого человека после пророка найдет новые войска и новых визирей. Пускай платит султан константинопольский, этот зверь из бездны, хохотал магистр, так что белая борода дрожала на каленом панцире, – пускай поглубже запускает руку в мешки с золотом и платит для починки крепостных стен и разрушенных родосских укреплений, пускай платит для возведения новых христианских твердынь, – так смеялись рыцари родосские, за несколько лет перед тем без всякой помощи в течение трех месяцев выдержавшие неистовый натиск превосходных турецких сил, доблестно и победоносно отогнав их от родосских берегов; так пускай же платит для восстановления разрушенных им оплотов, – смеялись они, опершись на рукояти своих крестоносных мечей. И султан Баязет, зеленея от злости, платил рыцарям, – каждый раз это составляло сорок пять тысяч золотых, – он не хотел, чтоб ему тайно, ночью прислали к азиатским берегам первородного брата Джема, потому что, конечно же, нашел бы там верных визирей и верные войска сын Магомета Второго! Но пока Джем каждый раз скулил от страха, завидев турецкий парус, и, рыдая, просил крестоносцев защитить его, так что великий магистр больше не мог выносить вой этого труса и послал его в Овернь, во французской земле, где находился генерал ордена. Однако французский король Карл Восьмой, человек безобразной наружности и великих замыслов, тоже захотел получать сорок пять тысяч султанских дукатов, а Джем предпочел быть, пленником короля, чем рыцарем, чьи мечи пьют магометанскую кровь. Оба воспылали друг к другу самой пылкой страстью – король к сарацину и сарацин к королю, – но это пришлось не по вкусу родосским рыцарям, и они сообщили королю, что в Джеме таится дьявол, свирепеющий при виде христианина и способный искусать короля. А Джему родосские рыцари сказали, что король, как увидит турка, так разрубает его пополам, поэтому он, собственно, и французский король, – в каждый большой христианский праздник он должен разрубить одного турка, а не разрубит, так народ взбунтуется. И опостылели они друг другу – ни турок не хотел быть рассечен пополам, ни король – быть искусан. Но если бы речь шла только о французском короле! Из Венгрии тоже поступила просьба, – Матиаш Корвин, жестоко теснимый Баязетом, хотел иметь заложником Джема, и Светлейшая Венецианская республика, для свободы своей торговли, тоже хотела иметь заложником Джема, и Неаполитанское королевство, для безопасности своих владений, тоже хотело иметь заложником Джема, и Испания, кинувшая свои силы против Туниса, тоже хотела иметь заложником Джема, и Португалия, для свободы своих морей, тоже хотела иметь заложником Джема, так что родосские рыцари покатывались со смеху и вывели Джема на рынок, как скотину, – вот он перед вами, христиане, покупайте с торгов – кто больше даст! А пока те между собой препирались и спорили, кто даст больше, вдруг послышался голос святого престола:
– Довольно? Я тоже здесь!..
С удовлетворением услышали этот голос на Родосе. И когда Ватикан заплатил, откупив родосскую привилегию, великий магистр д'Обюссон вдруг вспомнил, что у него теперь стала часто болеть голова от крестоносного шлема, а старое, израненное тело страдает всякими недугами. Против этих болезней, – был ответ Ватикана, – у нас есть хорошее лекарство: на тело пурпур, а на голову кардинальскую шапку – и все как рукой снимет! Больше уж невозможно было запрашивать, и Джем был продан папе. Но тут страшно взвыл султан Баязет, потому что ничего хуже не могло случиться с первородным сыном первого человека после пророка; он ревел, что все коварны, но римская курия – коварней всех, и если в других местах брат его был заложником, то в Риме он станет оружием. И тотчас султан снарядил посольство во Францию, к Карлу, которое объяснило бы французскому королю, что он не будет искусан. "Держи у себя Джема, – писал султан, – держи Джема, а я дам тебе острие святого копья, которым пронзен был бок Христа, и дам тебе балдахин, под которым родила пресвятая дева!" Но Джем был уже снова в руках родосских рыцарей, и они ночью тайно погрузили его на корабль, который отплыл во Францию, меж тем как сарацин выл от страха, думая, что его везут к азиатским берегам, и скулил, завидев у кого-нибудь в руках шелковый шнурок. Вот это было плаванье! Паруса поднимались и убирались, ветер был то попутный, то противный, потные тела гребцов прогибались под плетьми трюмных надсмотрщиков, – скорей, скорей, вы, собаки галерные!.. Вот это была гоньба! За родосским кораблем гнался французский корабль, а за французским кораблем – неаполитанский корабль, а за этими тремя кораблями – венецианский корабль, а за ними летел по глади морской испанский корабль, и быстро резал волны позади них португальский корабль, и один только Матиаш Корвин венгерский сыпал проклятьями на суше, не зная, как бы за ними метнуться. Вот это было плаванье; вспотевшие тела гребцов, собак галерных, прогибались под плетьми, и вот уже Чивита-Веккиа, где ждут делегаты Святой коллегии, и с галеры победоносно сошел Ги де Бланш-фор, приор оверньский, передавая Джема. Потом, уже спокойно, корабль поплыл по Тибру к римским воротам, к Портезе, где теснились необозримые толпы, – мало кому случалось видеть в жизни турка, за которым гонялось бы столько христианских королей. В то время обычно турки гонялись за христианскими королями.
В эту минуту в Джеме произошла глубокая перемена. Он больше не скулил с перепугу, не выл от ужаса. Торжественно, пышно встреченный, по всем правилам римского церемониала, неверный пес понял, какая ему цена. Гордо вступил вражий сын, отпрыск захватчика Византии, в город главы христианского мира. С того мгновенья, когда кардиналы и папский сын Франческо Чиба провели его среди рукоплещущих толп, турок понял, что он уже больше не беглый пес, а багдадский принц. После того как он сел на белого коня чистейших кровей, на котором ездил только папа, ему стало ясно, что родосская тюрьма и темные крестовые своды оверньского аббатства – навсегда позади. С того мгновенья, как посланник египетского султана при ватиканском дворе поцеловал копыта его коня в знак почтения к сыну первого человека после пророка, турок не пожелал оказать почтение папе. Войдя в тронный зал главы христианского мира, он не сделал ничего из того, о чем ему было говорено дорогой, не преклонил колен, не воздал чести, а, гордо подойдя к трону – поцеловал тиароносца в плечо. А папа, любезно поговорив с ним, выразил желание видеть его и на другой день, и постоянно.
И разнеслась весть о поцелуе в плечо по всему свету, и задрожала в Германии завеса в храме, и поднялись в Англии, в Ирландии и во Фландрии на кафедру проповедники. До самой Шотландии дошел слух о поцелуе в плечо, данном мужу в тиаре, в которой столько святых пап призывало к оружию против магометанского насилия, оскверняющего святой город, вечный Иерусалим, всюду слышалось о поцелуе в плечо, – над телами Хуньядиевых и Шиллагиевых, убитых под Будином, и на сербских равнинах, где огненными словами проповедовал поход святой Ян Капистран, и в польских степях среди могил, оставленных последним набегом, всюду содрогнулись и живые и мертвые при известии о поцелуе в плечо, по всему христианскому миру разнеслась эта весть, повсюду, и епископ ирландский Сиверт Кьоккеменссон слышал о поцелуе в плечо, данном грозному Хранителю ключей…
Только в Риме этого не слышали. Принц Зизим! Ну, ест, здорово спит и для потехи убил пять человек. Смешной принц Зизим! Теперь он – гость папы. Значит, кардиналы соревнуются, устраивая празднества в его честь. В прошлом году, чтобы сделать ему приятное, в совершенно неурочное время был устроен даже карнавал. Говорят, Иннокентий, если сумеет когда-нибудь поднять крестовый поход, то свергнет Баязета, а сумеет свергнуть Баязета – посадит на турецкий трон оримляневшего Зизима, если только можно еще посадить принца Зизима куда-нибудь, кроме как за стол или на постель к куртизанке. Между тем Зизим, очень разумно, об этих планах и не думает. Он развлекается. И знай горланит свое: "Ля иллаха илла-ллаху ви Мухамеду расулу-ллахи!" – о единственном истинном боге аллахе в папском Риме…
Сады обдавали своим сильным ароматом философов, хмуро шагающих за Лоренцо, – только Марсилио Фичино посмеивался мелким язвительным смешком. Да, правителя никому не превзойти… Это был мастерский ход. А как они сцепились! Папа-платоник, папа-аристотелик, обновление церкви, царство божие на земле, бредовая проповедь Савонаролы, кары господни, слезы народа, Синьория в замешательстве, тревожное время… а Медичи пошел к львиному рву. "Если папа может быть тюремщиком басурмана-турка, почему бы мне не назвать своего зверя именем этого турка?"
Слюнявого детеныша леопарда зовут теперь: принц Зизим.
Гигантского зверя с могучей пастью и сокрушительными лапами – льва, исполнителя княжеских приговоров, зовут Ганнибал.
А где-то там Рим…
Лоб Полициано прорезан глубокой, тяжелой складкой. Ему все было понятней, чем другим. Но он вновь будто слышал стон князя, как тот раз, когда Медичи во время чтенья диалога "Менексен" вдруг наклонился набок из-за резкой боли в почках. Да, князь нездоров, пепельный цвет лица его ясно говорит об этом, – только бы дал бог не теперь!
За поворотом дорожки послышались мальчишеские голоса, и Медичи, улыбнувшись, ускорил шаги. Ученики, под наблюдением старенького маэстро Бертольдо, идут, как обычно, в Санта-Мария-дель-Кармине копировать фрески. Среди них и Микеланджело. Они окружили князя, который поспешно, радостно отошел от своих философов и стал расспрашивать каждого мальчика, называя его по имени.
Микеланджело следит сияющими глазами за каждым движением князя. Он любит Лоренцо, преклоняется перед ним. Но отвечает ему смущенно, с трудом подбирая слова. А остальные смеются. Здесь и два новых друга его – Джулиано и Джулио Медичи. Да, задумчивый, молчаливый Джулиано сразу прильнул к Микеланджело и поверяет ему многое, о чем не говорит с другими. И Джулио Медичи сделал Микеланджело своим другом. Он – внебрачный сын Лоренцова брата, убитого во время Пацциевой мессы, и станет священником, – а теперь ему тринадцать лет. Он гордый, все его балуют, он – всеобщий любимец, в память несчастного Джулиано, убитого во время Евангелия. Робость Микеланджело очаровала его. Он ласков со своим новым другом, и тот рассказывает ему о своих мученьях, испытанных до перехода к Гирландайо, штука для Джулио непонятная, но очень любопытная. Никогда не знал побоев княжеский ребенок, сын возлюбленного брата, никогда не знал побоев принц, но охотно слушает об этом рассказы других. И потом, здесь есть сад великолепный, огромный, полный статуй, диковинных дорожек и уголков, где можно быть действительно проводником слишком робкого мальчика… Джулио и Джулиано Медичи любят Микеланджело, знавшего побои, не хвастающегося, рассказывающего о том, что такое совершенная радость, и о ласточках, которые по приказу своего хозяина, синьора Франциска, никогда не улетают из монастыря; умеющего срисовывать прекрасные картины и статуи, тихого, застенчивого, всегда полного смущения, не такого, нет, совсем не такого, как остальные… Джулио и Джулиано Медичи, оба подростка, так любят Микеланджело, что часто ходят с ним в часовню храма Санта-Мария-дель-Кармине посмотреть, как он копирует фрески, послушать его рассказы о Мазаччо, великом мастере, покинувшем Флоренцию, оттого что ему было здесь душно, и умершем в Риме от голода…
Но у Микеланджело есть и враги. Это Торриджано да Торриджани, сильный, коренастый, моделирующий теперь под руководством Бертольдо фигуры из глины и очень этим гордый, потому что скоро в Италии не будет ваятеля крупней его. Днем он усердно работает, а ночью бежит потихоньку из Медицейских садов, посещает таверны, бордели и на рассвете возвращается с мутным взглядом, надышавшись вонью дубилен у Арно, надышавшись запахами водки и грязного белья олтрарнских девок. Остальные боятся его, потому что он жестокий и драчливый. Рассвирепеет – лучше не попадайся, а свирепеет он часто. Микеланджело он презирает, называет его святошей, на которого смотреть противно. Смеется над ним, всячески оскорбляет его, поносит. Остальные подростки тоже знакомы уже с этими тайными ночными прогулками, знают, где те домики в Олтрарно, но Микеланджело ничего не знает. Он слишком застенчивый, нелюдимый, и потом – эти вещи до того ему противны, что он слышать не хочет ни разговоров таких, ни шуток. Еще будет время спознаться с адом.
Сейчас они идут в Санта-Мария-дель-Кармине копировать фрески. Опять Мазаччо. Но будет там сидеть и малый Филиппино Липпи, живописец, сын живописца-монаха, кармелита Филиппо Липпи и монахини Лукреции. Ему поручено реставрировать и докончить фрески Мазаччо, и он делает это идеально, мастерски. Он обречен, скоро умрет. Он харкает кровью и знает, что краски ему смешивает смерть. Поэтому он спешит. Вечно в тревоге, в нетерпенье, в страхе, позволено ли ему будет завтра докончить начатое вчера. В живописи он превосходит Боттичелли, и мессер Боттичелли знает это и не завидует. Все любят беспокойного Филиппино Липпи, сына монахини, скинувшей покрывало и нарушившей обеты ради красоты художника, писавшего с нее святую мученицу деву Маргариту. Филиппино Липпи хочет еще пожить, высосать из жизни всю ее красоту, насколько сил хватит. Но сил его хватает только на живопись, и вот он пишет горячо и страстно, вкладывая в это все свои мечты, всю тоску своего желания. Зная, что обречен, он пишет предметы святые и вечные, матерь божию. Дева Мария, смилуйся над ним!
Они идут, и старенький маэстро Бертольдо ведет их. Они уже простились с Лоренцо, а все идут цветущими садами, сокровищницами искусства. Среди зелени мелькают стройные тела статуй. Солнце движет свой блестящий серп по верхушкам дерев, срезая с них тени, которые, падая, цепляются за ветви. Цветник роз только что обручился с тишиной, и воздух, кристально чистый, напоен дыханьем бесчисленных трепещущих цветов. Как только смеркнется, сильней запахнет лаванда, которая пока молчит. Если хочешь прислушаться к ее благоуханию уже сейчас, наклонись к земле, как пылкий влюбленный к кудрям девушки, лежащей в траве. Несколько статуй позади поставила только мечта, они расплывутся, это игра огней и фонтанов, вздымающих к нему белые потоки воды, подобные воздетым ввысь обнаженным рукам, которые танцуют. Всюду жизнь, пылающая огнем тайной любовности. Все жаждет раскрыться, отдаться, наполниться, весь сад – сплошной искрящийся светильник красоты.
Они идут, и старенький маэстро Бертольдо говорит им.
– Божественный Донателло, – говорит он, – когда мы с ним вместе ваяли Авраама и Исаака, научил меня не обращать внимания на мелкие страсти и преходящие настроения. Нужно создавать произведения вечные, ибо этого требует дух. Вечные произведения создаются из крови и боли, поэтому-то они и вечные, юные. Божественный Донателло был нелюдим, аскет, искусство было для него твердым монастырским уставом, который он всегда строго соблюдал, никогда от него не отклонялся, постоянно носил с собой. Устав этот дан богом, он – вечный. Все в нем вечно, – вечны в нем обеты бедности, чистоты и смирения. Кому эти обеты блюсти не по силам, тот не художник, не знает устава, – он обыденный, создает преходящие произведения, и его ждут кары, ибо дарователь устава, господь, сурово карает за каждое нарушенье его. Самые страшные кары – это ловкость, гордыня и суетность. Если господь покарал тебя ловкостью, брось кисть и резец и ступай обратно в мир, уйди в него с головой, не оставив по себе памяти. Ловкость… это поверхностность, подражательность. А подражательность – пересмешничанье. А пересмешничанье от дьявола, не от бога. Если господь покарает тебя суетностью, тогда скорей отойди и делай просто вещи, которые нравятся людям, но не оскверняй устава, ты – лишен красоты, лишен духа, вкуса и чувства. Ты – раб обыденного, ты не вечен, а не вечен, – значит, не молод, отойди. Если он покарает тебя гордыней, вернись в мир, служитель мира, а не устава, мир много даст тебе за твою гордыню, тебе больше нечего ждать от устава искусства, кроме своего собственного паденья. Ангелы падали из-за гордыни, а ты не падешь? Почему ты думаешь, что вырвешь красоту из божьих рук, что это в конце концов удастся тебе? Трепет листа тебе непонятен, а гордишься? Божественный Донателло годами изучал одни только повороты ноги и движения мышц икры, прежде чем приступить к своему Давиду, да, и только так творил он, победоносный искатель гармонии. И дальше говорил:
– Искусство, не умеющее родить отзвук в людских сердцах, само – глухое; это не искусство. В каждом искусстве есть волна, движение, ритм, который должен тебя коснуться, ты должен зазвучать, мой милый, – слезами или восхищением, восторгом или болью, но должен. Не твоя вина, коль не зазвучишь, потому что здесь не человек для искусства, а искусство для человека. Есть, правда, сердца мертвые, иссохшие, которые не заставишь звучать самой сильной святою искрой. Этих опасайтесь и не мечите перед ними бисера, ибо, пренебрегши бисером, они накинутся на вас. Почему эти сердца мертвы? Они мертвы из-за своей нечистоты, богохульства и прегрешений против духа святого. Они мертвы, оттого что не знают жизни. А наивысшая форма жизни – искусство, оттого что это величайшая, наивысшая любовь к жизни.
И продолжал:
– Не думайте о вещах временных, ибо вы творите для вечности и в вечности стоите. Говорили мне о некоем монахе Савонароле. Мол, бунтует народ и проповедует конец времен. Много раз слышал я в проповедях о конце времен. Божественный Донателло говорил мне: "Как только услышишь проповедь о конце света, пойди, возьми резец и твори, строй. Если перед тобой рухнула скала, возьми несколько камней и сложи новую скалу, – может, она найдет благоволение в очах господа. И если б провалился город, из которого ты вышел, возьми дерева и железа и поставь себе новый дом, – может, созданное руками человеческими в час гибели найдет благоволение в очах господа. И если увидишь, что у всех от ужаса руки отсохли, пойди и воздень свои высоко к небу, может, смилуется бог над движеньем смирения твоего и готовности и отвратит гибель ради великой непоколебимости твоей. Я всегда слушался своего учителя и друга, божественного Донателло. Когда я создавал своего "Беллерофонта", в окрестностях Флоренции появились какие-то странные люди в масках и стали учить о конце времен, о приходе антихриста, о спадении звезд с неба и развержении земли. Я продолжал литье в бронзе, и бронза моя осталась. Крылатый конь высоко вздыбился, и молодое тело противоборствует его силе, – таков мой "Беллерофонт". Бронза моя осталась, а они там, учившие о конце света, погибли на костре, как еретики. В ту пору, когда я создавал свою "Битву конницы", развелось великое множество проповедников, возвещавших наступление третьего царства божьего, ненужность человеческого труда и усилий. Я творил, они проповедовали. Я довел свое дело до конца, они сгинули. И много таких примеров. Никогда не поддавайтесь подобному обману. Искусство вечно, ибо оно – устав божий, наивысшая форма жизни.
Они шли, сомкнувшись вокруг учителя и внимательно слушая. Шел Микеланджело, и с ним – задумчивый Джулио, и веселый, горделивый Джулиано Медичи, шел Франческо Граначчи, бледный, никогда не улыбающийся, шел Лоренцо ди Креди, и попавшийся им навстречу Поллайоло тоже пошел с ним, шли Паццоли и Буджардини и много других, – все шли и слушали об уставе божием.
Но на углу Ла-Бадии их остановило скопление народа, грохот и галдеж. Имя фра Джироламо реяло, как знамя, над возбужденной толпой. Народ с остервенением громил дом куртизанки Атланты, недавно приехавшей из Венеции и теперь в испуге бежавшей под защиту Синьории. Не найдя женщины, напали на жилище. Из разбитых окон на улицу летели большие блестящие зеркала, парчовые платья, шелковые и атласные туфли, дразнящая благовонная роскошь, граненые флаконы с духами, хрустальные вазы и подсвечники, заморские ткани, жемчужные ожерелья – подарки духовных пастырей, князей и патрициев, – инкрустированные золотом и перламутром столики, украшенные тонкой резьбой носилки, картины, изображающие Венеру с Парисом, Леду с лебедем, Данаю под золотым дождем, ларцы из драгоценного дерева, лютни и шахматные доски, всюду осколки венецианской эмали, из окон уже повалил едкий дым, в то время как чернокожие курчавые слуги куртизанки, шныряя по толпе глазами навыкате, не препятствовали совершающемуся, набив свои плащи золотом из кошелей госпожи, которыми успели завладеть первыми.
СМЕХ ФАВНА
Полициано, опустив голову, медленно шел по садовой дорожке, ища Микеланджело, который впервые получил камень, из которого мог сделать, что захочет. И он ваял, скрывшись от всех. Философ шел, задумавшись. Всюду вокруг него была такая красота, что можно было забыть весь мир и думать только о счастье. Но Полициано не мог забыть весь мир и думать только о счастье. Фра Джироламо овладел умами. Последний сукновал видел теперь язычество в том, что прежде считал красотой. Жизнь Флоренции изменилась. Многие молодые девушки постучались в двери монастырей, супруги дают торжественные обеты перед алтарем жить, как брат с сестрой. Много молодых патрициев сняло атласные камзолы, отцепило кинжалы и надело рясу, выбрило на макушке тонзуру. Аудитории платоников пустуют. Джованни Строцци уничтожил свою великолепную библиотеку. А Виволи, умный, быстрый разумом Виволи переписывает уже не Ювенала, Марциала и Овидия, а Савонароловы проповеди, и нередко его, сотрясаемого внезапными судорожными рыданиями, приходится выносить в беспамятстве из церкви. Перуджино тоже закрыл свою мастерскую и перестал писать, так же как мессер Боттичелли, а за ними и многие другие. Это – от страха перед богом или перед людьми? Не пишет больше Поллайоло, сидит на церковной скамье, проклиная свои создания, и рядом с ним Филиппино Липпи всхлипывает над своей участью, всхлипывает и слышит, что родители его – отец монах и мать, беглая монахиня, – в геенне огненной, – плачет и харкает кровью, обречен скорой смерти. Не пишет больше Франческо Дони, не слагает стихов Уголино Верино, отрекся от своих песен Джироламо Бенивьени. Жизнь Флоренции изменилась. От страха перед богом или перед людьми? Но влияние Савонаролы начинает проникать и в Синьорию. А он в проповедях своих отзывается о Медичи как о язычниках, тиранах, татях духовных… А недавно в одной проповеди назвал Карла Восьмого французского избранным Киром, который придет – все обновит и приведет в порядок… Кого же, собственно, призывает фра Джироламо на Флоренцию? Бога или Карла Восьмого?
А ораторский поединок кончился плохо для фра Мариано, францисканца. Фра Мариано выбрал текст: "О дне же и часе никто не знает, только отец мой один…" Но фра Джироламо объявил проповедь на тот же текст, и она оказалась такой сильной, что фра Мариано надолго скрылся у себя в монастыре и нигде не показывался.
Полициано идет хмурый, озабоченный. Князь болен… Полициано идет среди лавров, благоуханных цветов, в роскошных садах, а думает о несчастье, гибели, смерти.
Нынче Микеланджело кончил свою работу и, отложив резец, стал любоваться своим созданием. Это был фавн. Ухмыляющийся рот его открывал язык и все зубы. Это был фавн. Первый камень, в который Микеланджело вдохнул жизнь, – и камень этот ухмылялся. Первый лик, наделенный голосом и словами прельщения… и это лик полузверя-полубога. Первый удар по грузной материи, первые толчки, прогоняющие тяжкий каменный сон. Сон нарушен, и лик ухмыляется. Я все время слышал песнь материи. Звуки били ключом, сливались, разбегались, все было одето в музыку. Все было пропитано музыкой. Я знаю, это говорил камень, это камень поет… И теперь вот оно. Язык словно хочет зашевелиться в каменных устах, грянуть диким балагурством, варварским гиканьем, какой-нибудь скоромной шуткой, а в то же время зубы словно хотят кусать, алчно раздирать, вонзаться в мясо… Мой тогдашний сон, в первую пору ученья у Гирландайо: я шел глухой дорогой, мертвой дорогой, шел, подавленный муками пути, меня терзала жажда, язык мой распух от жгучей жажды… Язык этот извивается во рту, как змея в каменном гнезде. Как это мне пришло в голову – создать "Фавна"? Ведь у античных фавнов на всех статуях рот всегда закрыт. Как мне пришло в голову? Знаю… я должен был. Первые удары по камню, и оттуда вылез этот зверь. Тогдашний сон мой: вдруг из земли поднялась скала, как кулак, и промолвила – "Стой! Во мне зверь, пророк и могила". Да, помню… Гроза прошла дальше… Первый раз ударил по камню – и вот что вышло. Не человек и не бог. Полузверь-полубог. Все обречено, и я тоже. Святой апостол Павел говорит, что все страдает из-за греха прародителей, и тварь, материя, все – стало нечистым, оязычилось, тварь стонет и ждет своего освобождения, – так написано у святого Павла… Открытая пасть фавна, ощеренные зубы, виден язык. Нет, это не античный фавн, это резкий крик камня, который я часто слышал по ночам, оставшись наедине с собой, крик камня, еще варварский, языческий, непосвященный… Я начал "Фавном", а чем свое творчество окончу? Начал "Фавном", жестокостью, нечистотой, низостью, зверством. Недостоин еще я, господи, ваять твой крест, может быть, это могут другие, – да, знаю, мой путь будет трудней, мучительней, я не могу так легко начать, я сразу это почувствовал, как только подошел к этому камню, которому спокон веков суждено было не стать крестом.
Есть камни, совлеченные падением ангелов с небес. И как раз такой должен был первым попасть мне в руки. Я начал "Фавном". В этом осклабленном лике – много моих ночей, в нем много моего страха и тьмы, медленно подползавшей к моей постели, в нем много моей муки; еще не умею сказать иначе, – насмехающийся лик, я создал его, дал ему жизнь, движение и форму, и теперь только жду, когда это существо извергнет на меня в ответ свою пошлость, грязь, глумление, издевку. Глаза лукаво скошены, волосатые заостренные уши, грубая козлиная борода, волосы, слипшиеся в колтун, нос длинный, чувственный, вынюхивающий. На первый взгляд этот лик выглядит суровым, – только теперь вижу, как этот камень подымает меня на смех…
Он оглянулся, услыхав шаги по песку. За спиной у него стоял Полициано, смотрел. Микеланджело робко отступил, чтобы друг князя мог лучше видеть.
– Этот лик говорит, Микеланджело, – изумленно промолвил Полициано. Кто бы поверил, что это твоя первая работа?
Микеланджело зарделся.
– Да, паренек, – с удивлением продолжал Полициано. – Этот лик живой… он двигается… говорит…
Отступив немного, он стал внимательно всматриваться, тихо читая стихи:
Quid non et Satyri, saltatibus apta juventus
fecere et pinu praecincti cornua Panes,
Silvanusque, suis semper iuvenilior annis,
quique deus fures vel falce, vel inquine terret,
ut poterentur ea 1.
1 Что тут ни делали все, – мастера на скаканье, сатиры
Юные или сосной по рогам оплетенные Паны,
Даже Сильван, что всегда своих лет моложавее, боги
Все, что пугают воров серпом или удом торчащим,
Чтобы Помоной владеть?..
– Понимаешь, мой милый, это – бессмертные стихи Овидия о том, как фавны преследовали богиню Помону… Ты знаешь, кто была богиня Помона? Это богиня урожая плодов, богиня плодородия садов. Видел твою работу правитель? Пойдем к нему, он обрадуется… Это хорошо, что ты выбрал для первой своей работы именно эту тему. Никогда не отворачивайся от античности, никогда, Микеланджело! Да, сразу видно влияние Медицейских садов! Маэстро Гирландайо говорил нам, что никак не мог заставить тебя копировать античные образцы, что ты ни одного античного орнамента не воспроизвел на своих работах… И вдруг вот это! Фавн!
"Но я не имел в виду ничего античного, – хотел сказать Микеланджело, не думал и не думаю, для меня это не фавн…"
– Я верю, – продолжал серьезно Полициано, взяв его под руку, – ты когда-нибудь станешь великим художником. Сохрани, а главное, сумей раздуть горящую в тебе божественную искру, а я, чтоб тебе было лучше и легче создавать свои произведения, посвящу тебя в основы платонизма, буду тебя учить.
Микеланджело задрожал от гордости. Полициано, чье имя внушает уважение государям, который переводил греческие тексты для папы, которому пишет восхищенные письма португальский король, Полициано, величайшее светило платоновской науки, у ног которого сидят студенты из Германии, Польши, Англии, Фландрии и северных королевств, – этот человек ведет меня под руку и предлагает мне себя в учителя…
– Лоренцо говорит, что, не зная Платона, нельзя быть хорошим христианином, – продолжал Полициано. – А я прибавлю: и хорошим художником. Так постарайся как следует понять, это принесет большую пользу и душе твоей и твоему искусству. Знаешь слова маэстро Бертольдо о том, что искусство вечно и все в нем должно быть вечным? Философия Платона и есть познание этого вечного, того, что за безграничным разнообразием явлений остается незыблемым, постоянным! Неизменное – это мир идей. Помни, что идеи, о которых я буду тебе толковать, – не простые понятия, но единственная действительность, присутствующая здесь. Они нисходят к нам от бога, которому послужили образцами в его творчестве. Каждый из нас обязан причаститься чему-нибудь божественному, – помни об этом, – а чтобы причаститься божественному, мы должны слиться с ним через идеи и любовь. И тогда станешь бессмертным.
"Все мы погрязли в болоте греха – так гремел во время вчерашней проповеди Савонарола, – промелькнуло в сознании Микеланджело, – все мы погрязли в болоте греха, и нет для нас иного искупления, кроме как в пресвятой крови Спасителя! Только он – основа мира. А как думаешь ты, о душа моя, приблизиться к своему жениху? Только через покаяние! Только через унижение себя – такое, что будешь почитать себя не дороже пылинки под ногами скотьими, чуждаясь всякого превознесения, – только смирением, самоотреченьем, умерщвлением плоти, покаяньем. Ведь унизился ради нас сын божий, приняв подобие раба".
– Но мы должны возвыситься, – продолжал Полициано, – возвыситься для этого слияния. Совершеннейшим образом оно исполнится много позже, не в этой жизни, а лишь по возвращении, спустя третье тысячелетье, – такой срок отпущен душе. Души, ведшие все три тысячелетия добродетельную жизнь, получают крылья и возвращаются к богам, – так что три тысячи лет дано душе для исправления.
"Знай, грешник, что на суде не будет прощения и суд этот будет короткий, – так гремел вчера фра Джироламо. – Короткий и не подлежащий отмене, суровый ко всем, растратившим жизнь свою попусту, и никому не будет дано ни возможности, ни времени для исправления. И ничуть не поможет, если до этого ты был хорош и только ныне впал в грех! Какими мы будем застигнуты в конце, такими и будем судимы. Но не только души наши, а и плоть. Каждая душа облечется плотью, и каждый с душой и плотью предстанет перед лицом божьим. Во плоти узрим бога своего, – говорит святой Иов. Потому спеши, душа, спеши, стеная и сетуя, из этого мира греха и скорби, из этой юдоли слез, из этого мира тления, разрушения, уничтоженья, мира, обреченного на погибель, мира, чей князь – сатана".
– Нет ничего любезней мира, – продолжал Полициано, – этого прекраснейшего создания искусства, этой творческой работы демиурга. Но для того, чтоб быть прекраснейшим, он должен иметь душу. Ибо для жизни самое существенное – душа, без которой нельзя жить. Поэтому демиург должен был прежде всего создать душу мира, и он, отрекшись от собственного существования, вылился в предметы. Так родилась плоть мира, и душа мира распростерта на ней…
"Что для тебя – мир, о душа моя? – говорил вчера Савонарола. – И какой тебе прок от того, если бы ты завоевал весь мир? Каждый отвечает перед богом только за свою душу, – тому богу, который отличен от мира и свободно действует в нем, как его создатель и неограниченный властелин. В боге нет ни разделения, ни сочетания…"
– Будем вместе читать Платона, но будем читать и Филона, который является новым воплощением Платона и в своем бездонно глубоком учении соединил вечное Слово, от которого мы получили отблеск божества, с мировой душой, – будем вместе читать трактаты Плотина, обнародованные после его смерти премудрым Порфирием, его "Эннеады" о последней тайне. Помни, что только творение мудреца имеет для бога цену. Мудрец чтит бога своими творениями, в то время как невежественная толпа даже молитвами и жертвами своими оскорбляет божество. Только философ – священнослужитель, он один подвижник, только он умеет молиться! Не сделается человек богоугодным, подчиняясь предрассудкам большинства, нет, только сам, своими собственными творениями обожествит он себя, сопричастит душу свою сущему, наслаждаясь нерушимым блаженством. Знай, – так говорил божественный Платон, – наш культ не придает значения ни обрядам, ни слезам, ни покаянию. Ты обязан иметь один только храм – свое собственное сердце, свою душу.
"Ты ничто, душа моя, без бога, – так взывал Савонарола, – только он один в состоянии наполнить тебя. Своими силами ты ничего не можешь, но единая капля крови Спасителя способна искупить тысячи миров – una stilla salvum facere totum mundum quid ab omni scelere, – так славит Фома Аквинский. Только отречением, покаяньем, молитвами можешь ты снискать милость господню…" Боже мой, какой опять срыв!
Но не может же быть язычеством то, о чем толкует здесь Полициано, я, наверно, плохо понимаю, но ведь и святой отец Иннокентий – платоник, и он с величайшими почестями принимал Полициано в Ватикане…
Звук лютни. За поворотом сидел на траве лютнист Кардиери, развлекая своей песней прохаживающегося правителя. Полициано повел Медичи к работе Микеланджело, рассказывая о ней по дороге. Но Лоренцо, глядя на "Фавна", сказал:
– Это не антично, Полициано, но это прекрасно, Микеланджело. Античные фавны не так смеются. В улыбке этих проказливых полубогов всегда была искра беспечности, жарчайшей любви к жизни, много страсти и, пожалуй, частица одиночества, – ведь фавны не всегда бегали стадами. А твой не смеется, твой насмехается. Твой не живет радостью минуты, твой, по-моему, не сумел бы ни подготовить наслаждение, ни испытать его. Почему этот осклабленный рот? Не забывай и того, что фавны были уже немолодыми полубогами, а кто стар, у того – не все зубы… Но работа хорошая, отличная, блестящая. Маэстро Бертольдо обрадуется. Ты же, милый Микеланджело, в награду будешь отныне каждый день есть за нашим столом, а Полициано посвятит тебя в божественный платонизм. Кроме того, получишь от меня новый плащ. И… приведи ко мне своего отца!
В это мгновенье Микеланджело схватил резец и, на глазах у князя и Полициано, сильно ударил по фавновым губам. Зазияла дыра. Старый полубог лишился нескольких зубов. Фавнова насмешливая улыбка изменилась. Он перестал насмехаться, перед тем как вонзить зубы в мясо. Он взглянул на мир, как старик. Если бы он сейчас заговорил, было бы уже не страшно, а смешно и любопытно послушать: отдельные слоги шипели бы между деснами, некоторые слова не произнеслись бы, а просвистели. И насмешливая улыбка стала похожа на ухмылку флорентийского купца, у которого пропала либо жена, либо деньги.
Медичи и Полициано громко засмеялись. Но Микеланджело не смеялся, а подправлял десны. Итак, вот оно, первое его произведение.
Граначчи узнал о восторге князя от Пьера Кардиери, лютниста, но увидел уже беззубый лик. Когда потом Кардиери со смехом рассказал, при каких обстоятельствах фавн лишился зубов, Граначчи поглядел на Микеланджело странным долгим взглядом. Но, идя рядом с Микеланджело к его отцу, Граначчи не говорил со своим другом об этом. На башнях как раз било полдень. И Граначчи пошел не только потому, что оба они всегда были вместе, но еще потому, что Микеланджело хотел, чтоб именно Франческо, носивший ему тайно рисунки Гирландайо, передал теперь отцу приглашение князя, приглашение правителя Флоренции…
Но Лодовико Буонарроти так испугался, что не хотел идти. Ничем не был теперь во Флоренции бывший подеста в Капрезе и Кьюзи, много времени утекло с тех пор, как он был членом Совета двенадцати и вступил в Палаццо-Веккьо под голоса труб. Все это уже теперь – только для вечерних рассказов внучатам, послано богом на то, чтоб не забывали, что они – дворянского рода, рода с гербом.
Теперь он уж и не знает, как разговаривать с правителем, да еще о сыне, разрушившем все его планы. А планы были прекрасные, именно – что этот самый любимый сын, сознавая свою принадлежность к роду с гербом, тоже займет когда-нибудь место, под голос труб, в Палаццо-Веккьо, – и в конце концов, может быть, даже повыше членов Совета двенадцати. Нет, не пойду я, не знаю нынешней придворной речи, до того она изменилась с тех пор, так же как люди, нравы, город… Ничего не понимает в нынешнем времени Лодовико Буонарроти, только грустно качает головой, и строгие чиновничьи руки его спокойно лежат на коленях. Нет, не пойдет он, – не знает, как говорить с правителем. Пока Франческо Граначчи его уговаривал, пуская в ход все свое красноречие, Микеланджело растроганно осматривал окружающие предметы. Вот амбар с провалившимися балками, а вон кирпичная лестница, рядом канава… Пойти посмотреть свою каморку? Она полна паутины, мы складываем там на чердаке старые вещи… А моя оловянная чашка для еды, где она? Да, теперь, мой милый, ты будешь есть из другой посуды, получше, а из чашки твоей мы кормим собак, она стала вся погнутая, оббитая. Господи, до чего папочка постарел! Волосы стали совсем седые, падают на сутулые, понурые плечи, на лице множество морщин, мелких-мелких, разбегающихся во все стороны… А мамочка до сих пор красивая. Монна Лукреция, высокая, статная, глядит на мальчика сквозь слезы.
– Ты еще помнишь меня, милый?
– Помню, мамочка.
– Ведь мы полтора с лишним года не виделись!
– С тех пор много воды утекло, мамочка.
– Мог бы когда и забежать!
– Я работал.
– Ты не болел?
– Ни разу, мамочка.
– А вспоминал?
– Все время, мамочка.
– А о чем больше всего?
– О вашей доброте, о ваших руках.
– Молчи, молчи, а то зареву, пойду лучше приготовлю вам чего-нибудь поесть.
Полдневный мир. Полет голубей. Окованная бадья у колодца поет, как во времена Иакова. Поле спускается по косогору почти торжественно… На горячем камне лежало запястье принцессы из моего детского сна, забытое после моей последней беседы с ней, сверкающее багрянцем, синью и желтью, а попробуй протяни руку – пропадет: это была всего-навсего изящная длинная ящерица, смеявшаяся надо мной, совсем как тогда. Он идет по аллее кипарисов. Через низкую ограду перевесилась серовато-зеленая ветка. Мелкая золотистая мошкара дрожит, как солнечный блик, плющ сбегает по стене, сложенной еще тяжелой и доброй рукой прадеда. Там, дальше, – подпорка виноградной лозы и иссохшая каменистая стена, лиловеющая по вечерам еще долго после того, как синий сумрак остальных предметов перейдет в мрак, – до того она всегда нагрета и напоена солнцем.
А где дяденька Франческо?.. Лодовико Буонарроти встрепенулся. Очевидно, все по-старому… А где братья? Понимаешь, они – с дядей Франческо, учатся у него, Буонаррото и Джовансимоне станут менялами, Джисмондо будет торговать шелком, а сейчас они, наверно, в церкви, дядюшка Франческо – преданнейший последователь Савонаролы, они каждую свободную минуту идут в церковь и молятся, молятся… Придут, наверно, попозже… "А Лионардо? Его уже нет с нами, – тихо отвечает Лодовико, – он постригся. После одной Савонароловой проповеди ушел в монастырь, к доминиканцам, в Сан-Марко…"
– Так что – Лионардо!..
– Какой у него был гороскоп?
– Неважный, – озабоченно покачал головой отец, – знаки довольно неблагоприятные и в конце концов – мор, а вот когда ты, Микеланджело, родился, так сочетание Меркурия с Венерой находилось как раз под властью Юпитера, – это указывает на великие события. Видишь ли, – стал вспоминать отец, раскладывая дрожащей старческой рукой ложки на столе, – за этот гороскоп были немалые деньги выброшены, да составлял-то его, видно, дрянной астролог, мошенник. Кому выпали неблагоприятные знамения, моровые, тот почти на пути к святости, под началом у настоящего чудотворца, а ты, кому напророчили великое будущее, стал каменотесом…
После обеда Граначчи снова повторил приглашение князя, и до того настойчиво, что Лодовико согласился-таки. Монна Лукреция побежала скорей, принесла наряд, давно висевший без употребления, но из такого доброго сукна, что будто с иголочки, совсем как новый. Прифрантившись и важно опираясь на высокую трость, зашагал бывший городской голова между сыном и Граначчи к князю.
Приведя его к князю, Микеланджело удалился и, чтобы не ждать на галерее, вышел из дворца. Улица. Всадники. Шум, крик, громкие голоса продавцов. Группа девушек, обнявших друг друга за талию, – кружево жизни средь каменных домов. Старенький монах в ветхой рясе, с белой бородой до пояса, прося подаянья, устало тащится вдоль стен. Микеланджело подскочил к нему и в радостном умиленье поцеловал ему руку. Фра Тимотео!
– Это ты, милый! – испугался старичок. – Как вырос! Я много, много о тебе слышал, Микеланджело, и только хорошее… говорят, ты теперь совсем медицейским художником стал… а помнишь, помнишь, что я тебе говорил? Положись на господа бога, и он…
– Фра Тимотео, фра Тимотео! Я к вам приду, я обязательно должен к вам, один вы можете дать мне совет!..
– Приходи, приходи, милый, – залепетал старичок. – Расскажешь все, и я тебе присоветую…
– Фра Тимотео! В какое мы время живем! Правда, что скоро конец света, как фра Джироламо Савонарола говорит?
– Тсс! – испугался старичок и боязливо оглянулся по сторонам. – Только не сейчас, не на улице… ко мне приходи, а пока прощай, мне пора, а то братья скажут: куда это наш фра Тимотео опять пропал, видно, встретил кого и заболтался, негодный монах, пустомеля, про божьи часочки забыл, накажем его, как вернется, – вот что скажут братья в монастыре, так что ты уже не задерживай, надо мне идти…
– Фра Тимотео! – сжал его загрубевшие старческие руки Микеланджело. Значит, вы не верите фра Джироламо? Вон какие он творит чудеса! Всех к богу обращает. Разве он не святой человек?
– Тсс… что ты! – в ужасе всплеснул руками старичок, опять испуганно оглядываясь. – Прямо на улице! Вот ты всегда был такой, Микеланджело, всегда, и таким и останешься. Но помни одно: каждый из нас должен быть святым. Зачем же еще человеку на свете жить? Только затем, чтоб достигнуть святости. Но помни: без смирения нет святости, нету…
Микеланджело долго стоял остолбенелый, глядя в даль улицы, когда монах уже уплелся. Смирение! Никогда не забывай, Микеланджело: смирение…
– Пойдем?..
Дрожащая отцовская рука легла на его плечо. Лицо гордое, сияющее. Морщины превратились в тропинки счастья. Мягкий взгляд устремлен на мальчика смущенно, почти робко. "Что было у правителя? – подумал Микеланджело. Князь говорил: "Что твой отец ни попросит у меня, получит, хотя бы даже небольшое состоянье. На этих честных, верных людях всегда держалось благополучие города. Они безымянны. Благо государства – в их сединах. К тому же это твой отец… я дам ему, что он ни попросит", – так сказал Лоренцо Медичи, и так передал днем слова его Граначчи. Сколько времени отцовская рука не лежала у меня на плече. Последний раз, наверно, когда я был еще ребенком и отец водил меня в поля, на дальнюю прогулку".
– Что сказал князь?
– Он говорил ласково, сердечно, – ответил старый Лодовико Буонарроти. Подробно расспрашивал о нас, о нашей семье, беседовал со мной, будто со старым другом – он, князь! Потом спросил, на какие средства мы живем. Я ответил, что никогда ничем не торговал, живем на скромные доходы с моего поместья. Я стараюсь этот доход удержать на теперешнем уровне и по возможности увеличить. Князь спросил, чего я хотел бы… И тут я подумал об одном хорошем месте. Понимаешь, милый, есть у ворот свободное место таможника, – говорят, дает восемь дукатов в месяц! Ну, я набрался смелости и говорю: мол, так и так. Тут князь улыбнулся, но так странно, будто ему чего-то жаль, похлопал меня по плечу и говорит: "Ты получишь это место. Но только тебе никогда не разбогатеть, Лодовико, у тебя слишком скромные желания…" Тут он ласково со мной простился. Скромные желания! Ты только подумай, милый: восемь золотых в месяц!
Папочка!.. Это подступило, как рыданье, и прозвучало, как возглас. И в это мгновенье что-то распустилось в сердце, и страшная, огромная, но тихая волна любви затопила всю его внутреннюю. Теперь он вдруг понял все эти разбегающиеся мелкие морщинки, усталые руки и покатые, сутулые плечи, понял седины на этой голове, – понял все, что было прежде, – побои, обиды, еду, подаваемую на лестницу, – и волна любви поднялась в сердце и выше – к сжавшемуся горлу… Папочка! Все это – от великой любви, но мы друг другу никогда как раз нужных-то слов и не говорили. Ты хотел для меня жизни обеспеченной, упорядоченной, а я выбрал другую, потому что это было сильней нас обоих, я не мог иначе. Восемь дукатов в месяц и улыбка князя. Ты был всегда порядочным человеком и хотел от меня того же, ты не хотел ничего дурного, – отсюда эти удары и обиды, но я не мог сделать по-твоему. И потому подвергался унижению, чтобы стать, каким надо. И это слово "каменотес" я бы сейчас поцеловал – за то, что оно вышло из твоих уст. Сколько вокруг них морщинок! О стольких жизнях я до сих пор думал, почему же не о твоей? Сколько скрытых болей, немых терзаний, невысказанной скорби, отринутого счастья и утаенных надежд было, наверно, в роднике твоего чистого сердца, из-за скромности и застенчивости твоей, папочка, так подчеркнуто закрытом для внешнего, заслоненном такой официальной солидностью, – и как печально, что я постигаю это только теперь! Ты любишь и любил меня, а я не доставил тебе радости, хоть и ты когда-то испытал соблазн пойти по моей дороге, но отрекся от нее ради нас, а я не доставил тебе радости… Почему князь улыбнулся так? Ты не понял? Но я – твой сын и теперь знаю больше о тебе… Никогда ты не брал меня под руку, как сегодня…
Лионардо – монах, Буонаррото и Джовансимоне – менялы, Сиджисмондо будет торговать шелком, я – каменотес. Мамочка Франческа – на небе, мамочка Лукреция заботливо хлопочет на земле. Это наша семья. Но только теперь она достигла полноты: восемь дукатов в месяц и улыбка правителя.
Тебе никогда не приходило в голову, что от жизни можно требовать больше? У тебя, Лодовико, слишком скромные желания, – сказал князь и улыбнулся, глядя на тебя так, словно ему чего-то жаль. Говоришь: жизнь сложила наконец твои состарившиеся добрые жилистые чиновничьи руки у тебя на коленях, чтобы смерть сложила их покровом над родником твоего чистого сердца. Так жили мы друг возле друга. Ты колотил меня, я от тебя убегал. Папочка, угасшее света дыханье, волны расхождения и лунная тень, приглушенное слово, почти невысказанное, призрачный жизни сон… Все это должно было прийти, чтоб я узнал и понял тебя… Они идут. И вот уже дома.
И вновь послеполуденный час. Старенький маэстро Бертольдо ведет учеников в Санта-Мария-дель-Кармине, толкуя о вечном искусстве в понимании божественного Донателло. Они идут. И Микеланджело, и Джулио Медичи с ним, и Ровеццано, Лоренцо ди Креди и Торриджано ди Торриджани, Буджардини и много других. Фрески Мазаччо. Но не сидит уже там милый Филиппино Липпи, которого все так любят, – Филиппино Липпи рыдает, одинокий, перед другим алтарем над судьбой родителей – монаха-кармелита и соблазненной монахини, рвет свои волосы, отбросил кисть, и плачет кровавыми слезами, и чует смерть. Фрески Мазаччо, сумрак храма, золото стен. Потом вечер, длинный вечер. Длинный вечер, переходящий в ночь.
Когда пала тьма, в домик шлюхи Джиччи, по прозвищу Рыжик, прибежал Торриджано ди Торриджани, и свирепое лицо его было бледно, растерянно. Только на минутку, – он спешил дальше. Нагнувшись к нему через стол, шлюха Джиччи, по прозвищу Рыжик, спросила, с чего это за ним гонится медицейская стража. Торриджано, сжав кулак при воспоминанье о дневном происшествии, выпрямился и, затягивая пояс, на котором висели кошелек с несколькими золотыми и нож, резко промолвил:
– Я убил Микеланджело Буонарроти!
Это имя было здесь звук пустой. Шлюха захохотала: не первый раз прибегал к ней ночью какой-нибудь любовник с подобным сообщением, и домик ее у Олтрарно был надежным пристанищем. Она указала беглецу знакомую дорогу к вербовщикам дона Сезара Борджа, епископа пампелунского, как раз набиравшего головорезов для войны. Торриджано допил и пошел.
УЛЫБАЕТСЯ ЛИ ОН…
На всю жизнь обезображен. Чудовищный удар, чуть не размозживший мне череп, отнявший у меня дыханье, заливший меня кровью, остановивший мое сердце. Я повалился на землю без сознания. Решили, что я мертв, – закричали надо мной не своим голосом. Навсегда изуродован. Расплющенный нос, с раздробленными хрящами, треснувший, расхлюпанный, раскиселевший под сокрушительным ударом Торриджано. В жгучем взрыве боли я почувствовал его твердые суставы, настоящие суставы мордобойца, в самом мозгу. У меня до сих пор такое чувство, будто в лице моем – дыра. Я на всю жизнь изувечен. В пору, когда выше всего ценится красота, я пойду по жизни с лицом страшилища, безносого чудища, с лицом расшибленным, продырявленным. Кулак разрушил мне нос до самого корня, из глаз моих брызнула кровь, изо рта потекла слизь. Я на всю жизнь искалечен. Я буду выглядеть как прокаженный, на лице у которого сгнило и отвалилось мясо. Но моя трещотка, предупреждающая о моем приближении, была бы шутовскою. Это не болезнь, а кулак мордобойца сорвал у меня с лица мясо и пожрал его. Болезнь – в сердце.
Что заставило меня пойти против него? С первой нашей встречи я почувствовал в нем врага, так же как он во мне. Или есть люди отмеченные, так же как камни? Я никогда не задевал его. Он надо мной насмехался. Я никогда не сделал ему ничего плохого. Он меня всегда поносил. Я ни разу не бросил на него косого взгляда. Он вечно меня оскорблял. Я сторонился его, он меня высматривал. Я бежал от него, он шел за мной. Осыпал меня грубой бранью, насмешками. Я отмалчивался. Пока вчера вечером…
Он копировал, не обращая на меня внимания. Не обращая внимания, кажется, в первый раз. Меня взяло зло. Почему? Не знаю. Зачем я это сделал? Не знаю, меня взяло зло. Я поглядел на его копию слишком насмешливо, чтобы этого не могли не заметить он сам и другие. Перестав рисовать, он угрожающе поднялся. Маэстро Бертольдо стал звать меня к себе, я не послушался. Я начал говорить ему всякие обидные слова о его работе, высмеивать его приемы. Он посинел, пораженный моей смелостью. Поглядел на меня изумленно, чуть не растерянно. И тут я ухмыльнулся до того отвратительно, что самому противно стало…
Дальше – ничего не помню. Меня привели в чувство уже в ризнице. Бедный Граначчи! Я думал, он выплачет все свои слезы сразу за всю жизнь.
Что меня к этому принудило? Насмешка. Я быстро становлюсь раздраженным и злым. Болезнь в сердце. В лице будто зияет дыра.
Разгневанный князь приказал страже схватить Торриджано и доставить связанного в тюрьму Синьории. Но он бежал, и, с тех пор как вербовщик Борджа положил ему руку на правое плечо и поцеловал его в щеку, ни один правитель уже не имеет над ним власти. Он – воин церкви.
Почему я это сделал? Ведь в тот день Торриджано даже не обратил на меня внимания. Сжав губы и все время моргая, по своему смешному обыкновению, этот силач тщательно выводил контур, и склоненная над работой квадратная голова его маячила далеко впереди. В тот день насмешка поднималась во мне мутным, грязным осадком. Это должно было хлынуть наружу. В тот день я кончил "Фавна". Первую свою работу. В руки мне попал камень нечистый, предназначенный не для креста, а для зверя. Я ваял резцом, остро отточенным, и с душой, полной боли. В безмерном мучительном усилии прорваться к сердцу материи, – да, это была моя мечта. Я ударил по глыбе, и из нее вылез тот зверь. Первый камень, в который я вдунул жизнь… И этот камень ухмылялся. Язык шевелился во рту, как змея в каменном гнезде. Зубы хотели кусать, раздирать мясо. "Все ждет освобождения", – говорит святой апостол Павел. Это был не античный фавн, это был ужас моих ночей, тьма, и грязь, и страх, и насмешка. "Античные боги так не улыбались", – сказал Лоренцо. Он заметил это, не Полициано. "Это не фавнова улыбка", – сказал Лоренцо, он один понял. И, желая сделать вид, будто не понял, прибавил: "У старых людей не бывает всех зубов…"
И тут я принял эту насмешку. Перенял фавнов смех. Выбил ему зубы, и улыбка его стала горькой ухмылкой флорентийского купца, потерявшего не то жену, не то деньги. Князь и Полициано засмеялись этой шутке. А я сказал себе: вот моя первая работа… Князь и Полициано засмеялись, каждый по-своему. А я перенял насмешку камня. Я поступком своим посмеялся над князем и Полициано, – над каждым по-разному. Они не поняли. Я же смеялся над ними каждым новым ударом, приводящим в порядок десну. Для них это было просто шуткой. Фавн лишился зубов.
А я – носа.
Камень причинил мне двойную обиду, камень мне мстит. Камень – враг мой, мне придется вечно с ним биться, сгибать его, бороться с ним, ушибаться об него, наносить ему удары. Насмешка камня. Но я еще не понял. Насмешка отвердела во мне или осела, как ил, – в тот день это еще раз должно было выхлестнуться наружу, этого было во мне слишком много. Меня взяло зло. Я не владел собой. Я высмеял бы любого, кто бы ни подвернулся. Но должен был попасться именно Торриджано, чтоб я сейчас же за это заплатил. Я выбил оскаленные зубы фавну. Торриджано разбил мне нос. До сих пор чувствую, как моя ухмылка над его работой была отвратительна, зла. Камень не мог бы смеяться презрительней и беспощадней. Фавн смеялся над моей работой. Я – над его. На всю жизнь изуродован!
Никто не вернет мне моего лица. Лицо мое разбилось под ударом кулака мордобойца Торриджано, как зеркало. Остались осколки: оно у меня в рубцах. Лицо мое вдавилось под ударом его суставов, словно оно из теста, и так затвердело и осталось. Пойду по жизни, а на лице словно дыра, выжранная и прогноенная проказой, я упал замертво, обливаясь кровью. На всю жизнь искалечен! В пору, когда выше всего ценится красота, красота лица, когда судят по выражению глаз, но виду, когда влюбляются навеки с первого взгляда, как в тот чудесный апрельский вечер, когда божественный мессер встретил на мосту свою Беатриче в одеждах нежнейшего розового цвета, среди двух дам, в пору, когда женщины улыбкой ищут нашу улыбку, в пору, когда человек читает только по лицу, не умея проникнуть в темные тайны сердца, в такую пору я до самой смерти буду ходить по белому свету безносым чудищем, с исковерканным лицом. Улыбнусь ли я, тем гнусней растянется прогрызенное отверстие, по-моему, его никогда не удастся залечить. А удастся, что из того? Если я наклонюсь над женщиной, чтобы поцеловать ее, она не заметит моих любящих губ, – ей прежде всего бросится в глаза отвратительно растянутый рубец раны, студенисто-розоватый кусок кожи, подобный вечно мокнущей язве. И я останусь таким безобразным. Я уже безобразен. Но не потерплю сочувствия. Я отвечу на него злобой.
Дорогие мои одинокие ночи, как быстро превратились вы в одинокие дни! И сады вокруг меня, роскошные, пылающие, страстные сады. А ночью, в лунном свете, они бледны от счастья. Каждый куст полон сновидений. Куда ни кинешь взгляд, всюду – любовь цветов. Июнь и золото заката шепчут о пламенности мгновений, когда, сердце к сердцу, любовники ложатся на осиянные ложа своих желаний. О, канцона, пропетая вечером Кардиери у ног Аминты, которая улыбалась, расчесывая свои волосы!
Одни колючие тернии
Любовь мне оставила в сердце.
Я там их навеки оставлю,
Чтоб жить хоть века – с ними в сердце.
И потом они ушли вместе – вечером, с его перламутровыми полосами, его золотыми плитками, его шафранной занавесью. А я остался. Лицом в траву.
Удар на лице. Я на всю жизнь отмечен. Боль и мука с малых лет, боль от всего вокруг, потому что всегда меня все только ранило, ни в чем я не мог разобраться, пытка – в тщете всего, а жар усилий теперь лишь возрастет! Я горы хотел бы превратить в фигуры, каждый камень согнуть, придав ему форму сердца, в жилы мрамора перелить свою кровь – и черный камень стал бы моей окаменелой мечтой… И хотел бы вырасти выше всех. Скрыться! Скрыться!
Вырасти хоть на самых выжженных скалах, но вырасти, вырасти в высоту, и стоял бы я там, бичуемый дикими вихрями своей боли, в судороге страдания, и чтоб птицы не залетали ко мне и зверь убежал бы, а я бы стоял и ваял и творил, во власти всех палящих лихорадок искусства. Творенья мои высились бы до небес, тучи рвались бы в лоскуты, горные туманы ложились бы к ногам моих статуй, чей жест реял бы в небе. Я хотел бы в жарчайшем усилии, – так, чтоб грудь лопалась от труда и натуги, – обтесать пики великих гор в фигуры гигантов, которые держали бы в руках облака, стонали бы бурями, плакали потопом вод. О душа моя, страстная воительница, вечно пожираемая жаждой новых завоеваний, ты и этим, пожалуй, не удовлетворилась бы, и какая пришла бы тогда на смену мечта? Быть поэтом в камне для самой прекрасной, самой благородной и прелестной, самой тихой и печальной. Отдавать ей каждый свой мраморный сонет, отдать ей секстину из гранита, – это для тебя, любовь, это для нее, сказали бы другие; королева, ты царила печалью и великолепием боли, но уже не осмеянная и униженная, а возвысившаяся над всеми. Мир покраснел бы и задрожал. Сила искусства запылала бы пламенем во всех сердцах, и от каждого поцелуя пламя вновь разгоралось бы, и от каждой улыбки разносилось бы, и от каждой ласки возрастало. Я все разжег бы его металлическим блеском – фигуры правителей, пророков, пап, королей, патриархов, князей, кардиналов и героев, все зашагало бы металлическим шагом в облаках, и каждая складка одежды была бы совершеннейшим произведением, и каждый шаг, каждое движение – высшим выражением благородства, героизма и силы. А я еще встал бы и нашел последний камень, чтоб и его, самого седого, согнуть, придав ему форму сердца, в последнее жилкование мрамора хотел бы я еще влить свою кровь, и только черный камень держал бы я в руке, как застывшее сновиденье. Где ты, счастье мое? Отчего я тебя не прикликал? Неужели мне придется теперь смотреть на праздничные краски мира сквозь соленую призму слез? Где ты, счастье мое? И тут я упал бы вниз, как отвес.
Потом сказал бы людям, что знаю все, что умею смягчать камни ударами, как умеет это делать сама жизнь, даже больше – могу придавать им форму сновидений и заставлять их звучать не так, как они звучали после паденья из рая. Перестраивать им гимнический голос в иные ключи и тональности, гасить их огнедышащий жар каплями пота и крови. Куда ты скрылась, моя желанная, пока я был на гребнях великих гор? На каком торжище или в какой каморке найду я тебя? Или искать мне встречи с тобой в сплетенье плюща на старом кладбище, средь разрушенных могил с ржавыми и повалившимися крестами, где больше уже не хоронят? И поток слез крутится в сердце моем, как веретено.
Люди, я спускаюсь к вам, покрытый пылью своей работы, покрытый пылью и осколками скал. Чего ты искал в недрах гор? Я отвечу: яшму и хризолит, берилл и топаз, смарагд и алмаз, сардоникс и сапфир, халцедон и аметист, сард и гиацинт, – зная на этот раз, что несу им в славе своей больше самоотреченья, чем его собрано в восьми персидских королевствах, о которых пишет в своих путевых записях венецианец Марко Поло, – несу им больше, чем все драгоценные камни и золото Индии, больше, чем сокровища страны Балаксим, и страны Цейлон, и страны Амбалет, и страны Эхгимель, – и столько нет ни у богдыхана китайского, ни у пресвитера Иоанна в его Восточном королевстве, и нет столько во всем мире, сколько приношу я, о жизнь моя, трепещущая мгновеньем, но уповающая в вечность…
Не было до сих пор государя, который дал бы народу горы, чреватые болью и красотой, увенчанные не туманами, а пеньем рая, – горы красоты.
Я был бы таким государем. Я сделал бы это.
Но не могу.
У меня нет носа.
МАДОННА У ЛЕСТНИЦЫ
Кардинал-канцлер церкви Родриго Борджа, перед уходом на вечернее представление Плавтовой комедии о привидении, просматривал кое-какие письма и документы. Когда в комнату неслышно вошел слуга, тоже испанец, чтобы доложить о приезде кардинальского сына, епископа пампелунского дона Сезара 1, Родриго быстро положил свою тучную руку на письма и не захотел слушать. Слуга исчез за занавесью, отделяющей тяжелые двери комнаты, и в коридоре покорно передал епископу, что кардинал-канцлер еще не вернулся с совещания от его святости. Опять воцарилась тишина, но тишина ватиканских залов была необычная. Ватиканская тишина угнетала, душила, и надо было быть, по крайней мере, папским слугой, чтобы дышать в ней свободно. Собственно, это была даже не тишина, это было – молчанье. Тишина говорит, тишина бывает звучная, громкая, у тишины есть свои тональности и свои отголоски, – только молчанье в самом деле немо, беззвучно, пусто. Днем, когда светло, в Ватикане было молчанье, а тишина – только ночью. И эти ватиканские тихие ночи были столь же известны, как тяжесть дневных часов. Тихие ватиканские ночи были всегда полны звуков, унылого протяжного шороха и стона, продолжительного свиста, шипенья и причитанья ветра, – это проникало во все щели и окна, по забывчивости или нерадивости не закрытые слугами, наполняло залы и галереи, но говорилось об этом только среди стражи, а не духовных особ.
1 Имеется в виду будущий Цезарь Борджа.
Теперь было молчанье. До ночи оставалось еще много времени. Молчал обширный зал, полный гобеленов и росписей, молчали искусно расшитые ткани, молчали стены, как умеют молчать только они, молчал драгоценный резной стол с высокими подсвечниками, молчали отложенные документы и то бережно хранимое письмо, молчал кардинал-канцлер в глубоком кресле, молчали его руки, глаза и тучное смуглое лицо, только мысли его не молчали, но слышал их он один.
Дон Сезар вернулся! Они, конечно, увидятся друг с другом вечером на Плавтовой комедии – и этого довольно. Комедия о привидении! Глаза Борджа застлала тень задумчивости. В последнее время дон Сезар выбирает такие странные минуты для своих посещений… Кардинал медленно придвинул к себе письмо, развернул его и еще раз перечитал. Письмо было превосходно написано флорентийским доверенным, каноником Маффеи из Санта-Мария-дель-Фьоре, и кардинал удовлетворенно улыбнулся. Замечательный, неоценимый человек этот каноник! Все его сообщения отличные, надежные и всегда хорошо комментированы, – одно удовольствие читать! Конечно, на Пизанское архиепископство он напрасно рассчитывает, – тут уж он чересчур хитер. Его служба во Флоренции неоценима, но зачем же хитреца вдруг ставить в архиепископы. Кардинал Родриго читал, и глаза его блестели от волнения. Между тем в письме речь шла только о будущем урожае, о хозяйственном положении, о хлебе и вине, а под конец немного о вопросах веры, – и все это словами совсем обычными, будничными. Кардинал Родриго не спеша дочитал письмо, тщательно сложил его, спрятал и опять погрузился в размышления. Вот сообщение, за которое его святость дал бы тысячу дукатов, но его святость о нем не узнает, так как гораздо ценней тысячи дукатов именно то, что оно его святости пока неизвестно… Так вот отчего молодой кардинал Джованни Медичи отложил свой отъезд в Рим! Каноник Маффеи еще ни разу не подводил, и вот что он пишет: Лоренцо Маньифико при смерти, но, болезнь его тщательно скрывают. Безумный Савонарола целиком овладел общественным мнением, и в городе открыто говорят о французах как о справедливом возмездии божьем. А Лоренцо умирает. Его канцлер, этот Бернардо Довицци Биббиена, поспешно обучает старшего Лоренцова сына Пьера приемам медицейского правления… Вот что написано в этом бесценном письме!
Стало смеркаться. Кардинал-канцлер все сидел, погруженный в мысли, хоть пора уже было на вечернее представление комедии о привидении.
Значит, Лоренцо тяжко болен и долго не протянет. Горько, наверно, готовиться к смерти, когда у постели стоят две тени: слева Лодовико Моро, справа этот безумный Савонарола! А Лоренцо всегда знал, что делает. Это был умный человек и многое предотвратил, – при его помощи я заключил мир с Неаполем, несмотря на то, что Иннокентий сумасбродно желал продолжать войну; при его помощи я уничтожил французскую партию как раз в то мгновенье, когда Иннокентий готов был уже влезть в западню; при его помощи я уничтожил влияние делла Ровере, хотя Иннокентий находился всецело под их руководством; при его помощи я заключил договор с Урбино, хотя Иннокентий точил на них зубы; он помирил меня с Орсини, как раз когда их вражда была мне опасней всего, – это был добрый человек, и мне надо бы помолиться, чтоб смерть его была легкая, и, несмотря на присутствие тех двух теней, я все-таки помолюсь за Лоренцо Маньифико…
"In nomine Patris et Filii et Spiritus sancti, amen. Misericors Dominus et justus et Deus noster miseretur" 1. Тот раз, когда мне пришлось хуже всего, после смерти Каликста, а Орсини обложили Ватикан и весь город своими войсками, чтобы не мог бежать мой дорогой брат Педро Луис. "custodiens parvulos Dominus, humiliatus sum et liberavit me" 2, я тогда договорился с кардиналом Барбо, которого за это потом на конклаве так поддерживал, что он папой стал, он, бывший Барбо, а потом уже Павел Второй; тогда мы все трое Педро Луис, Барбо и я – переоделись водоносами и прошли по римским улицам среди Орсиниевых солдат, "convertere animam meam in requiem tuam, quia Dominus beneficit tibi" 3, дошли мы до ворот Святопавловских и благополучно вышли из города, но бедный Педро Луис через шесть недель умер у меня от лихорадки в Чивита-Веккиа, – я этого семье Орсини никогда не забуду, месть моя притаилась и ждет, "quia eripuit animam meam de morte, oculos meos a lacrimos, pedes meos a lapsu" 4. Потом я вернулся в Рим. Были два претендента на тиару: самый богатый из всех кардиналов – француз д'Эстутвилль, архиепископ руанский, и этот щупленький гуманист сиенский, кардинал Пикколомини, – мы сидели на конклаве бледные, растерянные, "placebo Domino in regione vivorum" 5, губы сжаты, глаза закрыты, тишина, гнетущая тишина,
1 Во имя отца, и сына, и святого духа, аминь. Милостив господь и праведен, и милосерд бог наш… (лат.)
2 Хранит господь простодушных, я изнемог, и он помог мне (лат.).
3 Возвратись, душа моя, в покой твой, ибо господь облагодетельствовал тебя (лат.).
4 Ибо избавил душу мою от смерти, очи мои от слез и ноги мои от преткновения (лат.).
5 Буду ходить перед лицом господним на земле живых (лат.).
трудные это были выборы, никто из нас не хотел первым назвать имя, "ad Dominum, cum tribularer, clamavi et exaudivit me" 1, я встал, и все вытаращили на меня глаза, встал и торжественно объявил: "Я голосую за кардинала сиенского!" И этим подтолкнул остальных, мне доверяли, начали подниматься один за другим и повторять то же, наконец встал и д'Эстутвилль, посинев от злости, и сказал, что голосует за Пикколомини, и я невольно засмеялся, оттого что он еще до выборов обещал место канцлера церкви своему земляку, кардиналу авиньонскому, – его еще не избрали, а уж он раздавал и мое хотел отдать. "Domine, libera animam meam a labiis iniquis" 2, и так-то был избран этот сиенский, Пий Второй, а тот никогда мне этого не забывал, "Domine, libera animam meam a lingua dolosa" 3, счастливое время! Но Пий не умел по-настоящему править, он все думал о крестовых походах, мечтатель, пока не умер в Анконе, напрасно ожидая христианских кораблей. Он не подходил к нашему времени и, бывало, сердился на меня, все писал мне письма о кардинальском достоинстве, выговаривал и корил, потому что этот Мантуанский пес сообщал ему, что я никогда не ложусь в постель один, но я ему за это потом отплатил, – ночь была лунная и стоило не так дорого, терпеть не могу подлые языки наушников, "quid detur tibi, aut quid apponatur tibi ad linguam dolosam? Sagittae potentis acutae cum carbonibus desolatoriis" 4, – потом пришел Павел Второй, мой милый кардинал Барбо, мы шли с ним тогда, переодетые водоносами, по улицам Рима; Павел Второй был разумный человек, не мешался в мои дела, – счастливое было время; потом я устроил избрание Сикста, потому что верил еще делла Ровере, – "heu mihi! quia incolatus meus prolongatus est" 5, – a потом – Иннокентий. Мы уже приготовились воевать друг с другом, кардинал Джулиано делла Ровере и я, наши дворцы были укреплены, наши войска уже бились на улицах, мы оба пришли на конклав, решившись раз навсегда рассчитаться друг с другом, но кардиналы колебались, слишком долго колебались, так что появился третий кандидат – Асканио Сфорца, брат Лодовико Моро, и четвертый – кардинал арагонский, сын неаполитанского короля, потом отравленный; и вот выбирайте
1 Ко господу воззвал я в скорби моей, и он услышал меня (лат.).
2 Господи! Избавь душу мою от уст лживых (лат.).
3 Господи! Избавь душу мою от языка лукавого (лат.).
4 Что даст тебе и что прибавит тебе язык лукавый? Изощренные стрелы сильного, с горящими углями дроковыми (лат.).
5 Горе мне, что я пребывал на чужбине (лат.).
между Неаполем и Миланом – кто будет в ближайшие годы диктовать церкви? Мы сидели бледные и растерянные, сжав губы – "habitavi cum habitantibus Cedar" 1, закрыв глаза, тишина, гнетущая тишина, никто не решался первым назвать имя. Но потом кардинал Джулиано, видя, что ему не победить, повторил мой прием на выборах Пикколомини, – вдруг поднялся и проголосовал за кардинала Чибу. За ним стали подниматься остальные и с великим облегченьем голосовали за смущенного кардинала Чибу. Наконец, и мне пришлось проголосовать за кардинала Чибу, и Джулиано смеялся надо мной, – я хорошо видел, как он смеялся, – и таким образом тогда был избран Иннокентий "multum incola fuit anima mea" 2, но я не был побежден, не сложил оружия, этот Джулиано рано смеялся, – я тотчас начал упорный бой с семейством делла Ровере, освободил папу от их влияния, и Джулиано делла Ровере перестал смеяться; я разрушил злосчастную политику Иннокентия против Неаполя, и Джулиано уже не смеялся; Лоренцо Маньифико оказал мне твердую и верную поддержку, "cum his, qui oderunt pacem, eram pacificus" 3, я вел крупную игру, очень крупную, я разрушил миланские происки, разрушил французские происки в Ватикане, разрушил в корне замыслы делла Ровере, "ессе non dormitabit neque dormiet, qui custodit Israel" 4, дойдет очередь и до Джулиано, – напрасно он от меня скрывается; я не буду до самой смерти только канцлером, через неделю после своего приезда в Рим я стал нотариусом апостольского престола, через шестнадцать месяцев – доктором церковного права, хотя другим на это требуется пять лет, в тот же год – кардиналом, в тот же год – легатом святого престола, в тот же год подчинил церкви Асколи, в семнадцать лет стал канцлером церкви и пребываю им вот уже тридцать четыре года; при мне сменились четыре папы, а я остаюсь им, а теперь пора. "Dominus custodit te, Dominus protectio tua, super manum dexteram tuam" 5, пора подыматься выше, дальше и выше, Иннокентий правит слишком долго, и смешно правит – "Dominus custodit te ab omni malo, custodiat animam tuam Dominus, Dominus custodiat
1 Жил у шатров Кедарских (лат.).
2 Душа моя поникла (лат.).
3 С ненавидящими мир я был в мире (лат.).
4 Не дремлет и не спит хранящий Израиля (лат.).
5 Господь – хранитель твой, господь – сень твоя с правой руки твоей (лат.).
introitum tuum et exitum tuum, ex hoc nunc et usquae in saeculum. Amen" 1.
Так помолился я за Лоренцо Маньифико, усердно помолился за него, боже, услышь молитву мою, и воззвание мое да взойдет к тебе. Все это, боже, молитва моя за Лоренцо Маньифико, "in nomine Patris et Filii et Spiritus sancti. Amen" 2, пора уже, пойду.
1 Господь сохранит тебя от всякого зла, сохранит душу твою господь, господь будет охранять вхождение твое и выхождение твое отныне и вовек. Аминь (лат.).
2 Во имя отца, и сына, и святого духа. Аминь (лат.).
В тот вечер ученики стоика и профессора Римского университета гуманиста Помпония Лета ставили во дворце кардинала Асканио Сфорца Плавтову комедию о привидении, а так как ожидалось присутствие самого Помпония Лета, наплыв был огромный. Маленький, уродливый, совершенно лысый, сгорбленный с пергаментно-серым лицом, сильно заикающийся, Помпоний Лет был самой желанной особой в Риме. Его расположение оспаривали друг у друга кардиналы и князья, а слава его давно перешагнула границы Италии. Но он относился ко всем и ко всему с пренебрежением, мечтая лишь о дружбе с Сократом либо с Диогеном и не зная только, кого их них предпочесть. Он жил одиноко в скромном домике на Эсквилине с двумя дочерьми – Нигеллой и Фульвией, одинаково безобразными, сгорбленными, с пергаментно-серым лицом, мечтающими о дружбе с Адонисом или Аполлоном и не знающими лишь, кого из двух предпочесть. Он был побочным отпрыском княжеской семьи Сансеверино, но об этом родстве своем не говорил, презирая титулы, богатство и почести, и, обладая такими познаниями в античной литературе, как никто другой в Риме, проводил ночи напролет над редкими рукописями, выше всего на свете чтя и ценя философское спокойствие. Обе его дочери, тоже обладавшие совершенным знанием античной литературы, не смыкали глаз вместе с ним, ценя выше всего философское спокойствие, хоть в глубине души немного завидовали Проперциевой Кинфии и Катулловой Лесбии. Лет не знал зависти, не знал желаний, не знал любви, – а знал Тацита, Вергилия, Аристотеля, Платона, так же как Сафо, Гомера, Ксенофонта, Анакреона и всех остальных. Ученики набивались в его аудиторию еще до полуночи, а он только на рассвете спускался с Эсквилина, погруженный в раздумье и еще более сгорбленный, повторяя в уме какой-нибудь трудный текст, разбором которого занимался с вечера. Весь Рим знал Помпония Лета, самый отъявленный изверг и головорез, последний грабитель не посмел бы занести нож над этим стариком, который, всегда безоружный, покачивая на ходу своим тусклым фонарем, шел пасмурным римским рассветом в аудиторию, где, освободившись в порыве восторга от своего заикания, нередко доводил слушателей до слез вдохновенным чтением отрывков из трагедии Эсхила или Софокла. Весь Рим знал Помпония Лета, и если тот обещал быть на празднестве, это было такое событие, с которым не могло бы сравниться посещение неаполитанского короля.
Зал кардинальского дворца уже полон. На покрывающих стены драгоценных тканях были вытканы целые картины – на темы не библейские, а античные. Здесь кентавр Несс переносит Деяниру через бурный поток, а беотийский герой Геркулес уже натянул лук с огненной стрелою; там Библида рыдает об улетевшем сновиденье и грешной любви, которую нагота ее делала прелестной и сладостной; вон там добрые старички Филемон и Бавкида сидят за столом, беседуя в трогательном согласии, а вон Эней выносит на спине своего отца из горящей Трои; там, дальше, – прекрасная Дидона кончает с собой из-за отвергнутой любви. Там, в самом низу, противно осклабился Тифон, которого боги одарили бессмертием, не дав ему вечной юности, – плача, сморщивается он все сильней и сильней, превращаясь в цикаду. Здесь – девственная Ирида отстраняет рукой вставшие на ее пути Сновидения, там Эсак обнимает нимфу, подгоняемую страхом, как он подгоняем любовью. А там Мелеагр убил дикого вепря для прекрасной аркадской девы, а вон там Пенелопа вышивает с таким усердием, словно собирается покрыть произведениями своих рук эти стены. Балдахины над креслами – александрийские и пурпуровые, стулья покрыты искусной резьбой и щедро позолочены. В углу зала две прекрасные статуи Киприда и прикованная к скале Андромеда, – драгоценные находки в земле. Всюду княжеская и кардинальская роскошь, Асканио Сфорца получает огромные доходы – и с Миланского герцогства, и со своих многочисленных церковных угодий. Здесь присутствовала почти вся курия и множество знати, – шитые золотом, парчовые камзолы, изукрашенные бриллиантовыми застежками и золотыми цепями, мешались с пурпуром кардинальских мантий. Здесь было много женщин, сияющих, ласкающих улыбками, каждая – живой сонет любви. Женщины любили Плавта и пренебрегали трагедиями Софокла. Амфитриона пришлось повторить трижды, и герцогиня падуанская нарочно приезжала в Рим, чтоб посмотреть.
Была здесь Адриенна да Милла, испанка, двоюродная сестра кардинала Родриго, которую в Риме называли также его сводней, – высокая, стройная, блистающая испанской, знаменитой аранжуэцкой красотой, презрительно насмехающаяся над тем, как ее называют, хоть все знали, что каждая женщина, перед тем как лечь в постель кардинала, проходит через ее апартаменты и во всем следует ее указаниям и советам. Адриенна сидела, наклонившись к Маддалене Медичи, флорентийской лилии, супруге папского сына Франческо Чибы, родившей около года тому назад, после крайне тяжелой беременности, сына, который был затем торжественно окрещен канцлером церкви Родриго Борджа, в сослужении восьми кардиналов. Адриенна что-то говорила ей, улыбаясь своей взволнованной, обворожительной улыбкой. Справа от нее была одиннадцатилетняя дочь кардинала – Лукреция Борджа, сияющая великолепием тяжелых золотых волос, гибкая, тонкая, с высокой грудью, с такими светлыми голубыми глазами, что их называли белыми, с округлыми щеками и маленьким подбородком, тихая и прелестная, увенчанная тяжелой прической, словно золотым облаком. Со смехом рассказывая о вчерашнем бале у кардинала дель Понте, где был также принц Зизим, одетый тунисским варваром, ее держала за руку самая близкая ее подруга, шестнадцатилетняя Джулия Фарнезе, с недавнего времени – новая любовница Лукрецина отца – кардинала Родриго. За год перед тем она, пятнадцатилетняя, вышла замуж за семнадцатилетнего князя Орсо Орсини, сына Адриенны да Милла и Лодовико Орсини, владельца Базанелло, и теперь делится между супружеским ложем и ложем шестидесятилетнего кардинала, которого зовет дядей. Семнадцатилетний Орсо Орсини знает об этом, но не ропщет. Не так давно Орсини помирились с могущественным Борджа, и роптать не приходится. Ему семнадцать, и он не особенно огорчен, – к тому же здесь присутствует, наездом в Риме, сполетская дворянка Паола делла Каза, которая дарит забвенье и грудь которой пышней, а объятия искусней, так что в родительских приказах не роптать нет особой надобности. Шестнадцатилетняя жена его и любовница кардинала-канцлера церкви Джулия Фарнезе – так прекрасна, что ее зовут в Риме просто Ла-Белла – и не надо ничего прибавлять, всем понятно, о ком речь. И этого достаточно для супружеской спеси. А Паола делла Каза прекрасна по-другому, более искушенной женской красотой.
Присутствует и жена римского префекта, герцогиня де Монтефельтро и де Coppa, co своей сестрой Агнессой, женой Фабрицио Колонна, герцогиней ди Тальякоццо, обе в золоте. Здесь – Коломба Вителли, княгиня из Читта-ди-Кастелло, чьи красивые, тонкие руки увенчивали и обнимали когда-то голову величайшего кондотьера Эразмо да Нарни, по прозванию Гаттамелата. Здесь Ипполита, принцесса Пармская, до того светловолосая, что возникло подозрение, не переняла ли она чары от какой-нибудь колдуньи, так что из-за красоты своих волос ей пришлось даже держать ответ перед судом Святой инквизиции. Здесь Висконти и княгиня д'Эсте, здесь принцесса Моденская. Налицо и три знаменитейшие римские красавицы – патрицианки да Мазатоста, Тартарри и Катанья – ослепительные в своей красе, непревзойденной со времен римских цезарей. Здесь великое множество дворянства – Сурди, Веттори, Кардуччи, Кресченци, Галуцци, Ильперини, Барбарини, де Анджелис, Пихи, Убальдини, Колонна, Скапуцци,- каждое имя горит как звезда.
Вон стоит, беседуя с князем Ченчи, испанский посланник с многочисленной свитой своих дворян, победитель под Рондой, весь в черном, с орденской лентой алькантарского комтура, важный, седой, – воин, теперь облаченный в бархат, самый высокомерный из грандов, который один имеет право пристегивать меч католичнейшему инфанту испанскому, когда тот отправляется на войну. Сейчас он поглощен беседой с князем, который тихонько подозвал неаполитанского посланника. Французский посланник, с гасконской непринужденностью повернувшись к ним спиной, в окружении своих дворян, из которых каждый, в пику испанцам, хвастливо выставляет напоказ свои фландрские кружева, шутит с кардиналом Баллуо и его свитскими прелатами. Венецианский посланник разговаривает с посланником египетского султана так тихо, что неаполитанские дворяне встревожились. Великий магистр иоаннитов кардинал д'Обюссон громко смеется шуткам двух венецианских нобилей насчет прекрасной Катарины. Как всегда, алчно и сладострастно смотрит на женщин желтый как лимон посланник монгольского хана. И полно, полно дворян, главным образом, испанских, так как испанцы все больше входили в моду. И полно римских князей и патрициев, только Помпония Лета до сих пор нет, и поэтому ждут. Помпоний Лет, стоик, гуманист и профессор Римского университета, презирает эту раззолоченную чернь, друзья ему – только Сократ и Диоген. Помпоний Лет всегда заставляет себя ждать. Он точен и аккуратен только на лекциях, но не на празднествах. Наверно, забыл о времени над каким-нибудь редким текстом, который старается разобрать.
Но дочери его Нигелла и Фульвия, сгорбленные, с пергаментно-серым цветом лица, обе присутствуют, – сидят в креслах, крытых голубым шелком, строго и чопорно глядя прямо перед собой, сложив на коленях иссохшие руки в кружевных перчатках. Вокруг шумит и пылает роскошь, льстивые слова мужчин, сверкающие белые руки и пахнущие кровью губы женщин, обещаемые на лету поцелуи, ласки на расстоянии; горячий воздух насыщен до отказа этими дразнящими, мерцающими взглядами, желаньями, воздушными обетами, – только они две сидят, застывшие, чопорно глядя перед собой и тоже стараясь относиться к окружающим с презреньем, мечтая лишь об Адонисе да об Аполлоне и не решаясь остановить свой выбор на том или другом.
Присутствуй хоть сам папа, Помпоний Лет все равно опоздал бы. Антисфен презирал славу и почести, в глазах Главкова сына Хармида благоволение власть имущих было ничто. Смешным казалось всякое преклонение Протагору, и самый знаменитый из софистов, Гиппий, твердил, что только раб и собака умеют лебезить от чрезмерного почтения и что у того, кто так делает, собачья или рабская натура. Презирал почести Солон, презирал почести Горгий, не унижался до преклонения перед власть имущими философ Гераклит, и высмеивал такое преклонение сын Софрониска, презирал эти чувства галикарнасский мудрец, – а профессор Римского университета Помпоний Лет вдруг не стал бы презирать? Да присутствуй хоть сам папа, он все равно опоздает, разве только вот на Великие Панафинеи опаздывать бы не стал.
Время шло, ожидание становилось томительным, но никто не роптал. Кардиналы, герцоги и прелаты, князья и посланники, комтуры и римские бароны, цвет дворянства и патрициев, – все ждало, когда Помпоний Лет вспомнит о них. Никто не посмел бы подать знак, чтоб начинали, пока нет стоика. И кардинал Асканио Сфорца опять приказал принести вина и сластей, но тотчас вслед за этим послышались три удара в подмостки, присутствующие вздохнули с облегчением, – значит, Помпоний Лет пришел и начинается представление. Само собой, в присутствии Помпония Лета играть можно было только на греческом или латинском.
Комедия о привидении!
Довольно уж этих утомительных благочестивых мистерий, довольно театра святых и мучеников, не вызывающих в душе ни набожных чувств, ни чувства прекрасного. Язык их – варварский, неочищенный, положения – смехотворные. Это собрание не могло бы расшевелить вид пелен Христовых, даже пропитанных кровью, как было недавно в Сиенском театре: кардиналы знали бы, что это кровь ненатуральная, она могла произвести впечатление только на простонародье, но подобное зрелище ничего не даст утонченной, классически образованной душе. Одна только грубая чернь могла в благоговейном изумлении забыть о действительности – не прелаты. Христос сошел во ад, но картина кишащих у адских врат дьяволов рассмешила бы кардиналов. Кроме того, в чистилище были бы только души ветхозаветные, библейские, и получилось бы скучно, – не было бы ни Ахилла, ни Платона, ни Сенеки, ни Одиссея, а главное – Елены Спартанской. И было бы больно ушам от барабанной латыни молитвенников, – но уже уговаривают святого отца назначить наконец комиссию по реформе Часослова, чтоб вычеркнуть оттуда эти смешные наставления отцов, написанные устарелым языком, – тусклым, бесцветным и безуханным, не имеющим ничего общего с латынью упоительных стихов Горация и Овидия… Довольно этих мистерий! Ни Иосиф и его братья, ни даже, пожалуй, жена Потифара, ни Лот, вышедший из земли Сигор, ни, пожалуй, дочери его, ни, в конце концов, наверно, даже ангелы, сходящие к дочерям человеческим, увидев, что те прекрасны, не позабавили бы кардиналов и римских дворян, ни свит посланников, и все это было бы совершенно неуместно среди жемчугов, золота и тканых обоев. Но персонажи Плавта и Теренция были здесь старые знакомые, весь этот сброд прожженных мошенников, вымогателей и сводников – все это было написано словно вчера. Римские паразиты, приживальщики и угодливые слуги, дочки, с радостью отдающие свою девственность за наслаждение и драгоценности, обманутые старики и моты-сыновья, которые ждут не дождутся их смерти, хвастливые воины, побивающие турок за столом в римских тавернах, вот зрелище! Сам Зевс сходит с Олимпа, для того чтоб обмануть Амфитриона и спать с его женой, сам Зевс; и все это на прекрасной, классической латыни, латыни, упорядоченной Помпонием Летом, профессором Римского университета и стоиком, на языке, богатом и очищенном, – и даже, если лишь немногие кардиналы знают латынь, все-таки – какое зрелище!
Комедия о привидении!
На сцене стоит Феопропидов раб Грунион и бранится с паразитом Транионом. Стоит, расставив ноги, и, отчаянно размахивая руками, кричит:
Покамест любо и возможно, пей да трать
Добро, да сына развращай хозяйского,
Прекраснейшего юношу! И день и ночь
Разгулу предавайтеся да пьянствуйте,
Подружек покупайте…
Не это ли хозяин поручил тебе,
Когда в чужие страны уезжал от нас? 1
1 Плавт Тит Макций. Привидение, акт 1-й, сц. 1-я.
Начинается занятно. Кардинал-канцлер внимательно слушает, слегка наклонившись вперед. Ему интересно. Он – в пурпуре, потому что некогда было переодеться в светскую одежду. Время от времени на толстых губах его мгновенно появляется и исчезает довольная улыбка. Неподалеку сидит Джулия Фарнезе с его дочкой Лукрецией, и старик время от времени скользит взглядом по юной любовнице и дочери: им тоже как будто нравится. На сцене уже полно народу. Пьяный Калимадат со своей гетерой Дельфией и мот Филолах с распутницей Филоматией пируют, смеясь над докучной добродетелью. В испуге прибегает раб – с известием о скором приходе отца. Тут кардинал Родриго задрожал. По всему его телу пробежали мурашки, и он зябко запахнул свою мантию, тревожно, боязливо оглянувшись. И сейчас же опустил глаза; а руки все дрожали. Да, он не нуждается ни в чьих сообщениях, ему никуда не надо оборачиваться. Он знал, потому что почувствовал. Всегда так. Всегда этот знакомый мороз по коже оповещал его – совершенно неведомым, ужасным способом. Он знает. Вот. Пришел. И кардинал-канцлер сгорбился еще сильней, словно не желая, чтоб его увидели, словно от страха, что черный призрак вдруг подсядет к нему. Но черный призрак стоял, прислонившись к тканой картине на стене, и даже не глядел на кардинала. Заложив руки за спину, он засмотрелся на сцену. Это был дон Сезар, епископ. Узкое, смуглое и густо припудренное мукой лицо его было холодно, только черные глаза горели и сверкали. Епископ пампелунский был в черном камзоле испанского покроя, плотно облегающем тело и пышном только на рукавах с желтыми прорезями. На поясе у него висел изящной работы кинжал, а на шее – тоненькая золотая цепочка с мощами. Он стоял молча.
Ах! Ах! Ты прикоснулся к дому этому?
в отчаянье кричал раб на растерявшегося старика.
. . . . . . . . . . . . . . . .Ах, наделал ты
Сказать нельзя – такой беды ужаснейшей…
От дома, заклинаю, прочь беги… от двери прочь!..
Да не смотри! Беги, покрывши голову 1.
1 Плавт Тит Макций. Привидение, стихи 454, 458-460, 512-524.
Ледяная рука дотронулась до сердца кардинала, и он пошатнулся, схватившись в последнее мгновенье за подлокотники кресла. Опять припадок! Сколько времени не было, а теперь вот опять, – когда он полон уверенности в осуществлении своих планов… Дон Сезар, любимый и такой ненавистный дон Сезар! Почему он всюду следует за ним? Или чует? Нет, не может быть! И кардинал-канцлер, лицо которого вдруг стало пепельно-серым, постарело и явно подурнело, сгорбился еще больше.
И столь же загадочным образом, каким он узнал о приходе епископа пампелунского, почувствовал он и его внезапный уход. Выпрямился с глубоким вздохом облегчения. И когда глаза его встретились с глазами Джулии Фарнезе, он чуть-чуть улыбнулся. Но тучные руки его до сих пор дрожали, и комедия о привидении его больше не забавляла.
Комедия о привидении!
А епископ пампелунский скакал в это время по улицам Рима, обок с замаскированным человеком, доном Микелетто, к вилле доньи Кортадильи, где их нетерпеливо ждали красивые женщины и два шпиона – неаполитанский и миланский, оба дворяне арагонского и Сфорцова двора, и где было превосходное вино, неразбавленное вино из Сьюдад-Реаль, еще то доброе, старое, испанское.
Лунный свет хлестал вдоль римских улиц, превращая дворцы в большие белые четырехгранные кристаллы, стекал по камню стройных статуй и лучам фонтанов, вис на ветвях спящих деревьев, покрывал плиты, углубляя их, изгибался сводом над мостами и, наконец, тонул в Тибре, отдавая ему не только свой блеск, но, подобно каждому утопленнику, и свою мечту. С Кампаньи веял легкий ночной ветер улыбаясь в этом серебряном свете. Он скользил по волнам и по крышам, развевая флаги стражи и плащи убийц, пробегал темными улочками, поворачивал у ворот, над огнями караульных постов, и мчался дальше, дальше; пробежав над Римом, навещал какую-нибудь жалкую деревушку с лаем собак и покатыми крышами, остановившуюся здесь словно просто так, по привычке, – заурядную, скучную, похожую на другие, чей вид если запомнишь, так только потому, что он повторяется всюду, деревню незаметную и ненужную, хоть, наверно, и там совершается много непонятного. Серебряный свет покачивался на этом легком ночном ветру, плавал и смеялся над видениями, которые сам на забаву себе создавал. Месяц-возничий мчался высоко в небе, размахивая своим световым плащом. Потом ему вдруг пришлось вступить в борьбу с таким бурным ветром, что даже дышло Большого Воза отклонилось под вихрем, гнавшим перед собой удушливые тучи. В небе сгрудились черные твердыни, и оно задрожало под их тяжестью. Они возникли внезапно, огромные, страшные, алчущие разрушения, а земля была дика и пустынна, без лунного света, ввергнута во тьму. Края туч еще колыхались от ветра и рвались на части, но черная твердыня противилась, напрягала силы, новый налет вихря, засвистев, наклонил ее, она опустилась и припала к земле. И вот уже все окрест бичует и сотрясает косой ливень, но черный дым туч валит дальше и дальше, от небесных твердынь отделился еще кусок, с грохотом рухнул к земле и разбрызнулся черной пеной. В ослепительно-белом полыханье молний люди испуганно просыпались и становились на колени, понимая, что приговорены к смерти.
Над Флоренцией разыгралась буря. Брат вратарь в Сан-Марко отказался открыть ворота.
– Он прав, – сказал монах мальчику. – Подожди, пока не затихнет немного.
Но Микеланджело стал опять просить, чтоб позволили уйти. Монастырский колокол ломал молнии, будил братию, сзывал на молитву. Они собирались, выбегая порознь из келий. Ярость бури вопила за высокими стройными окнами стрельчатой галереи, меча молнии далеко по всему краю. Братья, бледные, глядели на разверзшееся небо, вытаращив глаза.
– Ты останешься, Микеланджело, мы тебя не пустим! – тихо, но твердо сказал Лионардо, ныне, в монашеской рясе – фра Таддео.
Микеланджело опять хотел возражать, но грянул такой громовой удар, что все монастырское здание содрогнулось, словно дав трещину. Братья упали на колени. Лионардо, бледный, бросился к окну.
– Уж не сюда ли, в дом божий? – пролепетал он.
И стал на колени с остальными. Микеланджело тоже. Среди завывания бури и гудения колокола послышался голос молитвы, обращенной к матери божьей.
В длинной стрельчатой галерее темно. Горят только несколько факелов. Больше света – от молний. И при каждой вспышке их Микеланджело должен, против воли, взглянуть на человека, который – один не на коленях – стоит, прислонившись к двери своей кельи. Руки его сжаты, как у остальных, он молится, как остальные, только не вслух, а шепотом. В свете молний из тьмы выступают острые черты изможденного постом, худого лица. Микеланджело всякий раз быстро опускает глаза и старается еще горячей молиться. Но у него не выходит. Это лицо вновь притягивает к себе его взгляд, как только блеснет молния и опять станет видно. Юноша сам чувствует на себе пронзительный взгляд огненных глаз. Он пригибается под этим взглядом все ниже и ниже к земле, а колокол гудит и гудит. Кончили молитву и хотели начать новую – на этот раз литанию ко всем святым, как вдруг человек отошел от двери, и резкий, каркающий голос его ворвался в бурю и в духоту галереи.
– Чего боитесь, маловеры? – начал он, вступив в ряды коленопреклоненных. – Разве мы не все в руках божьих? Не сказал ли нам он сам, что без его воли ни единый волос не упадет с нашей головы? А вы знаете, что нас ждет еще великая и тяжкая работа. Жатвы много, а делателей мало. Бури боитесь? А собственного сердца не боитесь?
Головы клонились. Буря выла. Она решительно не хотела покинуть город без добычи. Край рясы коснулся Микеланджело.
– Встань, юноша! – приказал суровый голос. – Новый послушник? И в бурю пришел?
Вопрос был обращен к стоявшему рядом монаху.
– Это мой брат, – робко ответил фра Таддео. – Он навестил меня, и мы задержались, разговаривая, потому что давно не виделись. Его зовут Микеланджело Буонарроти.
Савонарола кивнул головой.
– Я помню это имя. Ты и твой друг Франческо Граначчи первые встретились нам в воротах Флоренции, когда мы пришли в этот заброшенный виноградник господень. Мы шли сюда, к новому берегу вечности, а вы стояли перед крестом у ворот и клялись друг другу в вечной верности. Я обещал, что не забуду ваших имен, я не забываю таких вещей и не забыл. Мы вместе вошли в город я, фра Сильвестро, фра Доменико Буонвичини, ты и твой друг, я не забываю таких вещей. Ты тогда сказал, что вы – медицейские художники. Это до сих пор так?
– Да, – ответил Микеланджело.
– Брат твой вступил на путь спасения. А ты?
Пожелтевшее, сухое лицо с заостренным носом почти приникло к юноше. Жаркое дыхание монаха плывет возле самых глаз.
– Не знаю, – прошептал Микеланджело.
– Ты живописец?
– Ваятель.
– Высекаешь Венер, Диан, Елен, нимф и как там еще зовется вся эта дьявольщина? А правитель Лоренцо радуется, платит тебе, ласкает тебя?
Буря продолжает неистовствовать, и братья испуганно глядят на своего настоятеля. Знают, что они – в руке божьей. Знают, что без его воли волос не упадет с их головы. Знают, что жатвы много, а делателей мало. Но видят в сотрясающихся окнах небо отверстым – и уж если надо взойти на него, так с молитвой. Савонарола поглядел на их смятенье и страх язвительным взглядом. И кивнул.
– Ступайте в часовню и молитесь, главное, читайте покаянные псалмы – не ради бури в воздухе, а ради той, что непрестанно зыблет ваше сердце. Помните написанное: "Ты воистину не хочешь погибели нашей, после бури посылаешь успокоение, после вопля и плача изливаешь радость". Идите и молитесь!
Монахи стали уходить парами, сжав руки и склонив головы.
– Я спросил тебя насчет пути спасения, и ты сказал: не знаю, – начал Савонарола, оставшись с Микеланджело вдвоем. – Так ответил ты мне. А как ответишь Христу?
Юноша молчал.
– Когда ты восстанешь ото сна?
И на этот раз не получив ответа, монах отступил немного и скрестил руки на груди.
– Да, все вы такие! Я мог бы говорить к вам, как ангел, но вы молчите, сердца жестоковыйные! Чем мне смягчить вас? Сколько раз падал я духом, на вас глядя! Спаситель пролил кровь свою за вас, а вы молчите! Вам небо уготовано – пир великий и вечный, сделанный царем, – а вы молчите! Все власти и херувимы небесные с изумленьем глядят на дело искупления, дело божье, а вы молчите! И ты – в их числе! Если бы Платон, Аристотель и все эти языческие философы, которых вы почитаете, знали хоть одно слово той правды, что я расточаю среди вас, они пали бы на землю и преклонились бы перед премудростью божьей. А вы молчите. Ради чего расточаю? Ради чего? Ради своей выгоды расточаю? Кто ищет выгоды, те сидят в Риме, одетые в мягкие одежды, непрестанно пируя, проводят время среди наслаждений, забав и золота, предаваясь излишествам, а не постам, умерщвлению плоти, молитвам, в зное дневном и под бременами, как я и братья мои. Ради чего расточаю? Ради того, что сгораю от любви к богу – и ради твоей души! Бог зовет тебя, а ты отвечаешь: не знаю! Отрок Самуил радостно ответил: "Говори, господи, ибо слышит раб твой!" А ты – "не знаю"…
– Я молюсь, – шепчет Микеланджело. – Молюсь и живу, по мере сил, в страхе божьем…
– И выбираешь для князя языческие статуи, он с тобой советуется, покупая их, вы осматриваете античные произведения, а?
Микеланджело опять склонил голову. Это правда. В последнее время Маньифико так его полюбил, что на все осмотры всегда брал его с собой и, прежде чем что-нибудь купить, всегда с ним советовался.
– Искусство! – воскликнул монах. – Чего только не укрыли вы под этим красивым словом! Нечистоту и кощунство, идолослужение. Не изображения Христа и святых, а голых женщин, языческих богинь. Не говори, будто смотришь только на рисунок, – ты лжешь сам себе, на голую женщину смотришь! Не говори, будто ты поглощен только живописью, – ты лжешь сам себе, нечистыми порывами и похотью сердца своего поглощен ты. Да, искусство – как дар божий! Но о нем вам ничего не известно. Вам известно только искусство, дар ада!
– Искусство может быть только одно… – сказал Микеланджело.
– Перед богом. Да. Но не перед людьми, – резко перебил Савонарола. Люди назвали этим именем вещь мерзкую и гнусную, у которой с даром божьим нет ничего общего, которая попросту – сеть дьявола. Все на свете должно быть во власти бога, – все, чем мы живем, что мыслим и чувствуем, что совершаем, что видим вокруг себя, все должно быть богослужебным. Для того и созданы человек и мир, чтоб служить. Чтоб каждой мыслью и каждым поступком своим он совершал великую, непрестанную литургию. Написано: непрестанно молитесь. Как по-твоему, что под этим подразумевается? Все, что в тебе и вокруг тебя, должно быть молитвой, – понимаешь, ты, художник медицейский? А без этого все – кощунство, кража, ибо ты крадешь принадлежащее богу. Наполняешь свою мысль и тешишься вещами, которые крадешь у бога и отдаешь тлению, рже, червям. Не радеешь о вещи, для которой рожден, – о вещи вечной.
– Искусство вечно… – возразил юноша словами Бертольдо.
– Да. Но только истинное искусство. То, которое – дар божий. А не всякое. Vae qui dicitis bonum malum, ponentes tenebras lucem et lucem tenebras, ponentes amarum in dulce et dulce in amarum 1, – да, горе вам, называющие сладкое горьким, а горькое сладким. Как же ты не знаешь? Живешь в мире и не знаешь? Дьявол ищет всяких путей к душам человеческим, всяких, дьявол подражает богу. Он сам хотел быть богом и стал его кривым зеркалом. Но ко всему, что принадлежало бы ему как богу, он тянет свой кривой коготь. Как же ты не знаешь? Живешь в мире и не знаешь? У дьявола есть свои мученики, как у бога. У дьявола есть свои пророки, как у бога. У дьявола есть свои герои, как у бога. У дьявола есть свои ученики, он тоже посылает свои видения и сны, как бог. У дьявола есть свое искусство, как у бога. У дьявола есть своя тайна, как у бога. От тебя зависит, что выбрать. Но ты, видно, уже выбрал, Лоренцов ваятель!
1 Горе тем, которые зло называют добром и добро злом, тьму почитают светом и свет – тьмою, горькое почитают сладким и сладкое – горьким (лат.).
Савонарола замолчал, подошел к окну. Буря свистела вдоль стен, которые дрожали. Окно пламенело, как лицо у проповедника.
– Есть и тайна греха, – продолжал он. – Искусство, которое не дар божий, входит в эту тайну. И в нем есть величие, потому что в аде есть свое величие, темное и хмурое, дьяволы были прежде ангелами и знают, что такое рай. Они тоже умеют показывать людям, что такое рай, но показывать искаженно, по-своему, с изнанки. Они только этим могут соблазнять, дьявольством соблазнять они не могли бы, такой скверной души бог не дал никому, – а соблазняют искаженьем, подделкой, ложью и обманом, изнанкой рая. Eritis sicut Deus – будете как бог, не как дьявол, вот что сказал великий змей прародителям в раю. Меньшего не посулил. И все время это повторяет. Никому, соблазняя, не сулит ада, а сулит рай. Соблазняет тебя и все время: eris sicut Deus! – будешь как бог! Повторяет во всем. И в искусстве. В этом своем темном, кривляющемся, в этом проклятом искусстве. Оно возносит тебя? Но не к небу. Гордость. Знаешь, что говорит святой апостол? Все, что в мире, – похоть плоти, похоть очей и гордость житейская. Так говорит святой Иоанн. И сказано это обо всем, что в мире, – и о вашем искусстве, ибо оно от мира сего. Что такое ваше искусство? Похоть плоти. Этого не оспоришь! Что такое ваше искусство? Похоть очей. Не оспоришь! Что такое ваше искусство? Хуже всего: гордость житейская. Не оспоришь. Не говори, что искусство одно. Есть дьявольское, а есть божье. Истинное и вечное – это божье. И в нем нет ни нечистоты, ни кощунства, ни идолослужения. Микеланджело прижал руки к вискам. Несколько шагов – и он уже стоит в низких дверях галереи. Но фигура монаха вдруг выросла прямо перед ним. Савонарола прислонился спиной к двери, и жгучий, палящий взор его впился в подростка.
– Куда ты хочешь идти? В мир? Останься! Видишь: буря! Христос позвал тебя к брату или к себе? Он отделил от тебя, по доброте своей, мир бури, а ты все-таки пойдешь? Ты художник. Здесь был фра Анджелико, и у нас, в Сан-Марко, есть его произведения. С нами сейчас живописец делла Порто, он отрекся от искусства дьявольского и принял одежду нашего ордена, – ныне он фра Бартоломео. Скольких тебе назвать еще? Боттичелли еще пишет? А Поллайоло? А Филиппино? А фра Бартоломео – разве не великий художник, и не расцветает ли искусство его тем больше, чем усердней он следует дисциплине и правилам иноческой жизни? Куда же ты идешь?
Буря билась в монастырские стены. Ливень молний озарил небо и землю. Страшный громовой раскат потряс город, и словно земля расселась. Мальчик посинел, а монах выпрямился. Фигура его в темноте галереи и свете факелов стала огромной.
– Мы приняли не духа мира сего, а духа от бога, дабы знать дарованное нам от бога, – продолжал он. – А от кого принял ты? Не верь тем, кто льстит тебе, говоря, что твое искусство – хорошее. Придет время, бог скажет, хорошее оно было или нет. Тебе сейчас говорят, что хорошее. Это люди говорят. А потом придут другие и скажут, что краски твои – сажа, камень твой – кал и пепел. Люди скажут это. Хочешь идти туда? Останься. Там буря, оттого что там – мир. А здесь крест, – а близ креста нет бури. Я не предлагаю тебе лавров художника, но венец мученический. И такая в нем сладость и прелесть, какой не найдешь ни в каких почестях. Предлагаю тебе лютню любви божьей и пиршество вина, мирры и желчи. Предлагаю тебе розы рая его и алмазы слез его матери. Предлагаю тебе отказ от своей воли во имя бесценной воли господней. Предлагаю тебе терпенье во имя бесценных страданий, что претерпел Христос. Предлагаю тебе служение во имя бесценного, сладчайшего сыновства его. Предлагаю тебе наивысшую свободу во имя бесконечного милосердия и обетований его. Там – разодранные лохмотья дел мирских, здесь – одежды брачные.
Микеланджело смотрел, вытаращив глаза, на костлявые руки монаха, простертые к нему для объятия. Он чувствовал, что не в силах слова сказать. У него язык прилип к гортани, а руки до того отяжелели, что их никакими силами не приподнять. Он готов был кинуться в объятия монаха, но знал, что прежде свалится на землю без сознания. Колени – как гранитные, не согнуть. Нельзя. Рыданье окаменело в груди. Хочется плакать и нельзя. Здесь что-то сильней его воли. Здесь приказ: нельзя!.. Монах ждал. Потом вдруг распахнул окно.
Это было страшно. Буря упорствовала. Молнии остриями своими зарывались в растрескавшуюся землю, и сквозь решетку лиловел и вновь покрывался серной желтизной город. Расщепленный молнией дуб против окна пылал голым стволом. Смерть дышала из вырванных кустарников и каменистой почвы, и дыханье ее было шипеньем. Из черных туч, сгрудившихся куполом и разбухших, доносились ледяные звоны, беспрестанно напоминающие о себе. Снова падала тьма, и снова озарялись небо и земля, и оглушительные удары рассеивали черный свет далеко окрест. Монах остановился и холодно указал на эту картину разрушения и гибели.
– А теперь ступай и подумай, есть ли бог! – вдруг воскликнул он. – Где ты найдешь его? Но тебе хотелось туда? Ступай!
Улицы. Улицы, проваливающиеся куда-то в глубину, – дорога, все время возвращающаяся обратно. Под порталом дома, которого я никогда больше не увижу, которого днем не узнаю, скрывшись не от бури и мира сего, а от самого себя, я ломаю теперь руки в судорожных рыданьях.
Во имя отца, и сына, и духа святого – аминь. Вчера я окончил рельеф мадонны. Впервые создавал произведение о матери божьей. Этот камень уже не был нечистый. Я работал, не жалея себя, бился и окончил. Боже мой, зачем не остался я в Сан-Марко среди братьев, где нет бури и дел мирских? Отчего не мог ни слова вымолвить, а вот теперь, в одиночестве, – говорю. Боже, услышь молитву мою – отче наш, иже еси на небесех, да святится имя твое. Матерь божья на камне моем глядит не на людей, которые возносят к ней свои молитвы, а куда-то в пространство; и все-таки нет, не в пустое пространство, не в никуда, – я сделал так, чтобы знали, чтобы помнили, чтобы каждый невольно задавался вопросом, куда глядит матерь божия, да приидет царствие твое, да будет воля твоя яко на небеси и на земли, чтобы меня спрашивали, почему она сидит у лестницы, – я не знаю, а вы? Куда ведет эта лестница? На лестницах сидят нищенки. Хлеб наш насущный даждь нам днесь. Сидит величавая, прямая, царица, все знают, что царица, царица у лестницы! А младенец уснул. Сын божий спит, а мать бодрствует, глядя куда-то вдаль, не на людей… И остави нам долги наша, якоже и мы оставляем должником нашим, – куда ведет эта лестница? Сын божий устал и заснул. Мать глядит серьезным, строгим взглядом, глядит перед собой, Мария охраняет младенца, охраняет сына божьего, который устал. Куда ведет эта лестница? И не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого, аминь. Торжественно, серьезно глядит Мария, одеянье еще взволновано только что отзвучавшим движеньем, оттого что она приподняла руку, чтоб крепче прижать сына к сердцу. Почему говорят, что она глядит в пустоту? Не понимаю, что же тут страшного… Радуйся, благодатная Мария, господь с тобою, да, господь всегда с тобою. Младенец уснул, и ты укрыла его, господь всегда с тобою; взгляд полон предчувствий, но все же взгляд повелительный, откройся и наполни сердце, благословенна ты в женах и благословен плод чрева твоего, аминь. Маэстро Бертольдо поглядел на работу мою с изумлением, стал изучать наклон головы и мощь фигуры. Подивился тому, что я нашел новое наполнение плоскости, ничего не оставил вокруг, тело примыкает тесно к камню. Младенец не благословляет, он спит, это показалось ему странным, этому он удивился. Все привыкли к тому, что младенец всегда благословляет, – ну да, так привыкли… Он долго всматривался в выражение лица Марии. Перечислял мне образцы, от которых я отклонился. Назвал имена: Бенедетто да Майано, мессер Росселино, Лука делла Роббиа. Называл и другие. Сказал, что самое главное – моей мадонне не хватает улыбки. Привыкли, чтоб она улыбалась, – ну да, привыкли… Мария снисходит к человеческим скорбям. А моя божья матерь не улыбается. Моя божья матерь не снисходит. Она повелительница, царица. А все-таки сидит у лестницы. Так сидят одни нищенки. Тоже с ребенком на руках. Моя царица сидит у лестницы и охраняет младенца, а куда смотрит? Ждет молитв? Но иные молитвы человеческие попадают в ад…
В эти страшные времена неуверенности и смятенья матерь божия – у лестницы. Видно, скоро конец света.
Он встал и пошел. Жестокий ливень слепил его, промочив до нитки. Гроза утихла, – верно, нашла добычу, цену которой знала. Ливень стоял стеной, которую надо раздвинуть. Он шел, – даже стражи не было на улицах, – шел один…
Даже стражи не было на улицах! Шут Скарлаттино, видя, что гроза прошла, осторожно открыл дверь своего домика и кивнул старухе, чтоб выходила. Ведьма, до того безобразная, что, когда она отваживалась выйти днем на улицу, в нее кидали камнями, скользнула во тьму.
Скарлаттино на рассвете нашел на ступенях храма Сан-Пьетро-Маджоре мертвого ребенка. Было неясно, погиб ли ребенок от голода или от материнской руки, но шуту стало жалко трупик, и он заплакал над ним. Потом взял его себе под мышку и стал бегать с ним по городу, прося похоронить его по-христиански, – но дурака отовсюду гнали, так что горб его весь покрылся синяками. Эти шутки были ему не по вкусу, отовсюду его гнали, а он все продолжал ходить от одного храма к другому, от одного приходского дома к другому и просил, просил безуспешно. Потому что не задаром земля освящена, а у шута не было денег, да и были бы, так ни священникам, ни похоронному братству не хотелось докапываться, окрещен ли ребенок-то, ведь нынче по всему краю множество еретиков бродит, и ну как сгниет ребенок в освященной земле, станет пугать, а то еще мор начнется. И вот шут пробродил целый день, осыпаемый насмешками, а вечером вернулся домой с трупиком. Положил его на стол, обмыл, зажег свечку и стал ждать, когда ребенок проснется, – он будто спал. Шут взял тарелку, сварил кашу и стал себя ругать за то, что сперва счел его мертвым: теперь свет от свечки трепетал на личике ребенка, так что была опасность, как бы он не проснулся слишком скоро и не стал плакать от голода. Но, видя, что ребенок долго не просыпается, шут потрогал его – он был холодный. Тогда шут зарыдал о том, что у него умер ребенок, начал с воплями рвать волосы у себя на голове, горько сетуя, что княжескому забавнику отказано во всех радостях на свете. Потом успокоился и стал надеяться. Сел к очагу и принялся ждать чуда. Но чудо не пришло, пришли буря и старуха. Обе вместе, и поэтому он сперва взвыл от ужаса, решив, что обе пришли за ним. Старуху звали Лаверна – на смех. Она жила в домишке с такими прогнившими стропилами, что они только благодаря заклятию не обрушивались ей на голову. Никто не знал, почему она еще жива, – один только дьявол. Но она не всегда была старухой, когда-то у нее было другое имя, – ее звали Джанеттой, – такое же красивое имя, как она сама, и происходила она из рода Фоскари, цвет лица у нее был белей нарцисса, а губы слаще гиметского меда, патрицианские сынки ходили в храм ради нее и мечтали о любви, страстно клянясь своим именем и родом, но она отдала безраздельно свое сердце и тело дворянину Джано Торелли, который всегда ждал ее у кропильницы, плача от любви. Но братья ее ненавидели Джано, они проникли однажды ночью к ней в спальню, где она предавалась со своим милым любви, и пронзили его мечами прямо на ее обнаженном теле, она стала кровавой невестой, и ни один мужчина уж не дотронулся бы до нее. Братья отрубили ее милому голову, но прекрасная Джанетта нашла ее, положила в цветочный горшок, засыпала землей и, когда мясо сгнило, посадила цветок и стала поливать его слезами. Цветок рос, благоухая любовью, благоухая поцелуями любимых губ. Джанетта все время сидела у окна, целовала цветок, оплакивая любовь. Братьям это показалось странным, они разбили горшок, нашли череп и выгнали сестру из дома, натравив на нее собак. Теперь она старуха, никто не знает, откуда она взялась во Флоренции, – она старуха в лохмотьях, безобразная, отталкивающая покровительница злодеев, поэтому ее зовут Лаверна, и еще для того, чтоб у нее было какое-нибудь имя. Лаверна – имя нимфы, pulchra 1 Лаверна – это звучит смешно, но вот молитва убийц и мошенников в Древнем Риме: "Pulchra Laverna, da mihi fallere, da justo sanctoque videri peccatis et fraudibus obice nubeni…" – "Прекрасная Лаверна, пошли мне уменье обманывать и при том казаться праведным и святым, опусти покров ночи на грехи мои, злоумышления мои мраком окутай…" Вот какая молитва! Старуха была Лаверна, хоть и не нимфа. Услыхала о трупике и, как зверь на падаль, пришла за ним к шуту, крадучись в буре и тьме. Потому что от мертвого ребенка все части идут в дело, коли сварить их с соответствующими снадобьями и толково подобранными примесями. Сердце сердцу весть подает, это таинственная правда, а сердце ребенка, сваренное с миртовыми эссенциями, поможет брошенной девушке, которая должна, опозорившись, родить. Нужно колоть детское сердце, сваренное вместе со свадебным миртом, длинной иглой, приговаривая: "Prima che'l fuoco spenghi, fa ch'a mia porta venghi…" – "Прежде чем огонь погаснет, заставь его вернуться к моей двери, пусть его пронзит любовь моя, как я пронзаю это сердце…" Детская рука, копченная над горящим обломком виселицы, полезна для разбойников, а у кого в кошельке есть кусок детской печени, у того удачно пойдет любая торговля. Неуязвимость дает частица ребер, а хитрость черепная кость ребенка, самые красивые девушки будут ложиться к тебе в постель, если ты имеешь его лобковую часть, и у того не падет конь, кто заполучит легкие детского трупика. Все идет в дело, коли хорошо проварено, с соответствующими обрядами и ядами в час могущества дьявола и потом высушено в лунном свете, probatum est 2 по старым книгам, – и пупок годится, и обрезки ногтей.
1 Прекрасная (лат.).
2 Проверено (лат.).
Сначала старуха принялась доказывать шуту, что это не его ребенок, но шут закричал не своим голосом, что старуха – из ада и пришла, чтоб наказать его за то, что он не похоронил ребенка. Только когда она забренчала деньгами, он, услышав золото, перестал бояться ада, но ребенка все-таки не отдавал. Старуха рассердилась, ей не хотелось идти в бурю на кладбище, выкапывать там других мертвых детей, но шут этого не понимал, он стал ругаться со старухой; она не осталась в долгу, а в это время тени их на стене обнимались, оттого что всякий раз, как они, со сжатыми кулаками, наскакивали друг на друга, тень одного тоже наскакивала на тень другого, чтоб ее поцеловать.
Наконец шут понял. Старуха пришла, чтоб похоронить ребенка! Он стал со слезами благодарить старуху, смеясь и ликуя, что ребенка опустят в освященную землю и старуха умней попов и похоронного братства, – не старается первым долгом докопаться, крещен ли ребенок и не вызовет ли мора. Он отдал ребенка, и старуха убежала в ливень и тьму, крепко прижав холодное тельце к высохшим грудям; она спешила: только рассветет, к ней придут два дворянина за неуязвимостью, а потом – одна красивая девушка, купеческая дочь, по имени Джанетта, с которой любовник перестал спать, бежал, боясь ее братьев, не спит с ней больше, не целует ее прекрасную обнаженную грудь, ее обнаженное сердце, в которое вдруг робко толкнулась детская ручка. Лаверна, страшная, как ночь, отвратительная, как дьяволова ухмылка, с промокшими от дождя, обвисшими седыми космами, прыгала через лужи, словно противная большая лягушка, меж тем как шут у себя в домике смеялся и плясал: он похоронил ребенка, да еще и деньги получил. Тучи медленно разошлись, и вновь на небе появился бледный возничий-месяц, развевая свой серебряный плащ. Земля вздохнула после дождя. Буря где-то перегорела внутри себя. На востоке забрезжил шафрановый рассвет.
Скарлаттино доплясал, а старуха дошла до дома.
Микеланджело, сжав голову руками, стоял перед своей работой и упорно смотрел на камень. Матерь божья у лестницы. Младенец уснул. Взгляд матери повелительный, а все-таки она сидит у лестницы, как нищенка. Младенец…
Проснулась Флоренция и любая ничтожная деревушка вокруг. Проснулись люди и, преклоняя колена для молитвы, поняли, что возродились для жизни. Но опустошение, произведенное ночной бурей, было велико. И летописец сел и записал это.
Проснулся и Рим, где кардинал-канцлер, вернувшись с представления Плавтовой комедии о привидении, до сих пор сидел в своем глубоком кресле, оперев голову на руки, погруженный в размышления. Родриго Борджа этой ночью не спал. Малейшая ошибка могла погубить великое предприятие, надо все продумать до мельчайших подробностей. За высокими окнами светало, тишина ночи сменилась ватиканским молчаньем, а Борджа все сидел, размышляя, слишком уж долго правит Иннокентий, – каноник Маффеи, верный флорентийский доверенный, пишет о болезни Медичи, а тут еще французское влиянье, несчастная миланская политика, курия ненадежна, яд и золото, тень, кошмарная тень, от которой он тщетно убегает, дон Сезар, сын…
Комедия о привидении!
Рассвело и за городом. Слуги, держащие коня, склонились в глубоком поклоне, и из виллы доньи Кортадильи вышел епископ пампелунский дон Сезар с довольным видом. Доставленные шпионами сведения благоприятны, женщины прелестны, дон Мигелетто уже получил указания, и вино было отличное, – не здешнее итальянское, а доброе вино из Сьюдад-Реаль, старое испанское вино.
КАПЛЯ ЛЕТЕЙСКОЙ РОСЫ
В ту грозную ночь, которая так взволновала Флоренцию, что многие думали – настал конец света, сдох любимый лев князя, огромный Ганнибал, исполнитель судебных приговоров.
Вызывали лекаря, мессера Адживио да Ронки, вычитавшего древние тайны римских гаруспиков из редчайшей рукописи, найденной в монастыре св. Аннунциаты. Он прочел ее и сжег. Но тогда страшно разгневался отец Лоренцо Медичи, правитель Пьер, и лекарь да Ронки был наказан конфискацией и пожизненным изгнанием. Однако при Лоренцо старик вернулся и жил теперь в уединении, лишь изредка применяя свое врачебное искусство, причем отличался такой набожностью, что, прежде чем приступить к лечению, требовал от пациента покаяния перед богом. Теперь, позванный к сдохшему зверю, он сперва не хотел идти, но потом вспомнил, что ласковый князь отменил отцовский приговор, избавил его от необходимости есть горький хлеб чужбины и примирился с утратой драгоценного пергамента, чтоб пощадить тоску изгнанника по родине. Произведя вскрытие павшего зверя и вынув его внутренности, он нахмурился и не стал ничего говорить. Сообщил только, что зверь пал во время бури – от страха. Так и было помечено в книге записей о княжьем зверинце, и все бы уж давно об этом позабыли, но на другой день утром служанка, пришедшая прибрать у мессера Адживио, обнаружила, что он ночью съехал. Тут и стража вспомнила, что видела, как ученый с небольшим узлом в руках вышел из города. Но если старик опять, на этот раз добровольно, выбрал горькую участь изгнанника, – значит, он прочел страшные вещи по печени и сердцу льва; и многие испугались, говоря, что этот город уж ничем не оградить и лучше самим спасаться бегством, как поступили умные люди, оставившие Иерусалим, не дожидаясь прихода Титовых войск. Но другие считали, что беда ждет только семейство Медичи, так как зверь был княжеский, и вспоминали слова фра Джироламо, сказанные им в одной из проповедей: "Я чужой в этом городе, но останусь. А кто правит здесь, тот уйдет".
Так что никому ничего не было известно ни о городе, ни о судьбе Медичи, ни отчего была буря, во время которой подох лев.
Стало немножко легче, после того как пришли первые известия о разрушениях и пожарах, вызванных той же ночью бурей в Перуджии. Там гнев божий выразился явственней и понятней. Потому что в окрестностях Перуджии крестьяне взаимно друг друга истребляли из-за междоусобицы, свирепствовавшей не только между Бальони и Одди, – сами Бальони убивали друг друга, так как им заволок мозги кровавый туман семейной вражды. Даже на папертях храмов ручьями лилась человеческая кровь, и не было церкви, где бы можно было молиться. В один день было убито и повешено сто тридцать пять человек, и участников резни, и ни в чем не повинных. На окнах храмов вешали схваченных на улицах, хоть они знать не хотели никакой войны между семьями и партиями, а шли просто в лавку или к мессе. Сто тридцать пять их повесили, случайно оказавшихся на улице, и среди них одного, который нес своего больного ребенка к врачу, – ребенка у него отняли и разбили об угол дома, а ему самому накинули петлю на шею и втащили его на церковное окно. Но прежде чем веревка удавила его, он проклял город страшным проклятьем; это был торговец полотном, по имени Фачо, его все знали, он не принимал никакого участия в распре родов. И после этого проклятья город пришел в ужас. На пьяцце было поставлено тридцать пять алтарей, и три дня подряд перед ними служили молебны о том, чтобы проклятие торговца было снято. Воюющие стороны отложили мечи, и в процессии враг шел возле врага со свечой в руке, все глаза были устремлены на хоругви с изображением Refugii peccatorum – матери божьей, заступницы грешников. Перед тридцатью пятью алтарями возносились мольбы к богу, чтоб он смилостивился, не карал города из-за проклятья полотнянщика. В Риме обрадовались, и для примирения сторон срочно был послан кардинал-легат, но в Перуджии не пожелали, чтоб их мирил римский кардинал-легат, так что кардинал-легат на другой же день после приезда был найден на улице убитым, и война забушевала с новой силой. Город был залит кровью, наполнился смертью и дымом пожарищ. В Перуджии стало невозможно жить и дышать, по городу ходили только толпой. Взывала к богу о помощи монахиня-чудотворица, сестра Коломба из Риета, доминиканка, избранная жертва господня, – со слезами и молитвами побуждала к примирению, но – тщетно. И вот буря уничтожила в Перуджии то, чего еще не тронула война.
"Нет, такого у нас еще не было, – говорили флорентийские жители. Со всего света приходят все новые заказы на наше вино и шелк, флорентийский золотой повсюду славно звенит, а все-таки здесь фра Джироламо вещает о конце света, и здесь бушевала дикая буря…"
Анджело Полициано в последнее время очень поседел. Он понять ничего не мог, что творится во Флоренции, да и в Платоновской академии. Ведь Марсилио Фичино, светило платонизма, не шутит с кафедры, что Платон был Моисеем, говорящим по-гречески, нет, он сам стоит возле кафедры фра Джироламо, стоит и бьет себя в грудь, лисье лицо его искажено рыданьями, и молится он по молитвеннику, полному варварской латыни… А Пико делла Мирандола уже не мечтает о новой церкви с папой-аристотеликом во главе, а ведет переговоры о вступлении в доминиканский орден, куда вступают сыновья самых богатых семей, сливки патрицианства – Ручеллаи, Строцци, Альбицци, а девушки срывают с себя подвенечную фату и становятся инокинями, уничтожаются картины и статуи, библиотеки и творения философов, – нет, Анджело Полициано ничего не может понять. Платон молчит. Говорит фра Джироламо. Полициано качает склоненной седой головой. Разве он не предупреждал тогда Лоренцо?
А молодой кардинал Джованни Медичи поехал в Рим – по совету канцлера Медичи – Бернардо Довиции Биббиены, – в связи с новостями, полученными от доверенного Биббиены каноника Маффеи. Каноник Маффеи – человек хитрый, проницательный, его сведения неоценимы. Не следовало бы ему только так дурно думать о канцлере церкви Родриго Борджа и его грехах! Что ж, разве каноник Маффеи без грехов? Его приключения так интересны, что Биббиена недавно решил положить одно из них в основу пьесы для ближайшего карнавала – именно то, когда каноник Маффеи, воспользовавшись проповедью Савонаролы о близком конце света, послал одного здешнего супруга следить всю ночь на дворе за звездами, не начинают ли они уже падать с неба, – а сам в это время старался как можно лучше и с наибольшим удобством для своей тучности тешить его молодую жену. Но если каноник Маффеи прознает о том, что это написал Биббиена, он придет в ярость, так что это – тайна, об этом знает только Полициано. За каноником Маффеи нужно ухаживать, его сведения из Рима неоценимы. Никому не известно, как Маффеи установил такие замечательные связи с Римом, но Биббиена изумлен точностью его сведений, в которых главное внимание уделяется Борджа, это нехорошо, Медичи не должны сейчас сердить кардинала Борджа, говорит Биббиена, и он, пожалуй, прав. Но Маффеи – верный, надежный, Биббиена потирает руки от радости, что раздобыл его, – правда, Маффеи добивается Пизанского архиепископства, это ясно, – ну, что ж, пускай добивается. Биббиена уверен, что сумеет перехитрить его, – потому что не надо хитрецов сразу делать архиепископами, и потом – Маффеи слишком неоценим, чтобы куда-нибудь его переводить.
Тяжело шагают дни. Теперь холмы и равнина все время покрыты туманом. Солнце бледно, несмотря на весну. На дворе март, близится пост, а потом будет пасха… Полициано сидит над стихами Горация, но не читает. Он знает их почти все наизусть. Ведь еще недалеко то время, когда ему самому приходилось держать корректуру, следя за правильным воспроизведением рукописного текста, подготовляя окончательную редакцию, исправляя non semel Ilion на non semel Ilios, в Эподах – вместо Tellure porrecta super на Tellure projecta, вместо Jupiter sacravit читая Jupiter secrerat и многое другое, – работа нелегкая, но радостная и плодотворная. А сколько усилий потратил он на правильную декламацию, как трудно было объяснить ученикам его аудитории, всем этим фламандцам, шотландцам, немцам, полякам, французам, англичанам, что такое трибрахий, бахин, антибахин, дихорей, дихерей, ямб и диямб, ямбический триметр, диметр, трохей октонарий, фалеций, сафическая строфа, логаэдический триметр… Он стоял, выпрямившись во весь рост, в своей длинной тоге гуманиста, с золотой медицейской цепью на шее и говорил:
– Слово "videre", правильно скандируемое, представляет собой амфибрахий, примером амфимацера является слово "trinitas". Слово "nobilitas", если ты произнесешь его правильно, есть хориямб, а слово "propinquitas" – диямб.
Но теперь уже не придется никому преподавать. Опустели аудитории, вопли Савонароловы занимают умы больше этих вечно живых, изящных стихов, недавно даже один из учеников отказался толковать диалог "Гиппий" и вдруг выступил с сочинением Петра Ломбардского. Правда, все засмеялись над этой неожиданной стрелой старой схоластики, но разве несколько дней тому назад не объявил другой ученик, что единственно, кто по-настоящему понимал Платона, это блаженный Августин?
Полициано выглянул в окно. Город был словно осыпан пеплом. Фра Джироламо во время поста до того усилил жар своих проповедей, что люди в церквах падали в обморок, на всех улицах был слышен плач, жизнь стала робкой, унылой.
Тут Полициано вспомнил о Микеланджело. Хоть этот юноша не сдается…
Потому что Микеланджело, чтобы сделать удовольствие князю, создал для него рельеф "Борьба кентавров и лапифов". Сперва Полициано долго и подробно рассказывал ему о происшествии. Описал царя лапифов Иксиона, который воспылал страстью к Юноне, а Юпитер обманул его, послав облако в обличье Юноны, и с помощью этого призрака Иксион породил кентавров, полулюдей-полуконей. Описал лапифов, мужественный, горный народ, царь которого – сын Иксиона Пейрифой позвал на свою свадьбу с прекрасной Гипподамией кентавров, но этих приглашенных зверей охватила похоть к невесте, и, опьянев за свадебным пиром, они завязали страшный бой, в котором принял участие и Тезей, и кентавры потерпели такое же поражение от лапифов, как когда-то в Аркадии – от героя Геркулеса.
– Это сказание имеет глубокий смысл, – продолжал серьезно Полициано. Запомни: грешное человеческое существо, смертный Иксион воспылал страстью к бессмертной Юноне, его не удовлетворяла человеческая любовь, он захотел смертное тело свое соединить с телом владычицы Олимпа, а вместо этого соединился с облаком, понимаешь? Захотел любить самое возвышенное, а полюбил призрак и породил зверей. Да если бы еще зверей! Кентавры были ведь полулюди, одаренные разумом, страстями, похотью и волей. Хотя у них был общий отец с лапифами, они были сильными, яростными врагами лапифов. Страшного врага своему народу породил тот, кто хотел свести с Олимпа в свои объятия ту возвышеннейшую. Я думаю, мысль об этом была для него более страшной карой, чем ожидавшее его в подземном мире колесо, получившее известность как колесо Иксиона. Да, пришлось людям, настоящим людям, лапифам, фессалийскому племени, одержать победу над этими дикими получеловеческими чудовищами, – настоящим людям, рожденным человеческими женщинами, чтоб оградить человека от этой наделенной волей, страстями, похотью, развратными влечениями и разгулом материи. – Полициано замолчал, походил взад и вперед по залу, полному недавно выкопанных античных статуй, в котором работал Микеланджело, потом прибавил: – Только один из кентавров был добрый. Только один… Его звали Хирон. Он был бессмертен, но отказался от своего бессмертия в пользу Прометея. Да, один он был добр и бессмертен, вечная тайна, величайшая тайна человечества. Один он был добрый – и он отказался от бессмертия.
Наступила вдруг такая тишина, что стал слышен шорох деревьев и кустарников в садах.
– Отказался для другого, который должен был дать людям огонь. А тот как бессмертен? Он прикован. По его телу проходят бури, он прикован на вершинах, на гребнях гор, орел каждый день терзает его внутренности, вот каково его бессмертие…
Полициано вдруг подавил горькую улыбку и сказал в заключение:
– Изобрази это для князя – битву кентавров с лапифами, – понимаешь, как простой, веселый и мужественный народ одолел и разбил гнусных насильников, материю, наделенную похотью и страстями, конских чудовищ, зверей, порожденных в грехе, – великую победу над вторжением варварства; изобрази это, доставь князю радость. И не забывай при этом о смысле сказания, Микеланджело, о глубокой мысли, в него вложенной…
Но Микеланджело после первых же ударов по камню забыл о смысле этого сказания и о том, что в него вложено. Ему сразу сделалось все равно, чего хотел Иксион, и безразличны стали свадьба Пейрифоя, и вторжение варварства, и все, о чем говорил Полициано. Он нашел форму. Почувствовал до тех пор не испытанное острое наслаждение от возможности пропитать камень пленительной, гибкой формой борющихся друг с другом тел, создать произведение из сплетенных рук и ног. Он познает человеческое тело и видит, как оно прекрасно. Тело, в котором движенье. Заставить играть множество форм, слив их при этом в единый образ силы и напряженных мышц; человеческие тела, яростно связанные узлом и спутанные; обрисовать в борьбе разнообразнейшие и сложнейшие движения мужской фигуры – выпрямленной, замахнувшейся, падающей, поверженной, вырвавшейся из клещей вражеских рук, снова кидающейся в борьбу и прессующей противника ударами, как на огромном кровавом винограднике. Какое ему дело до античности! Он чужд идее, развитой Полициано. Тело! После первого обтеса – контуры человеческого тела. Не античное спокойное тело, а тело в стремительнейшем напряжении формы, тело в непрерывном движении. Выразительны руки тех двух, что душат друг друга, выразительны, потому что движутся, трепещут, искрятся силой, из каждого мускула пышет жизнь, натянутая, как тетива. От того, который поднял глыбу, чтоб метнуть ее в гущу битвы, пахнет потом. Вся картина кричит. Это формы, обладающие голосом. Формы горячие, распаленные. Жизнь, хлещущая сквозь пластическое напряжение сражающихся мышц. Вот свирепо наклоненное одутловатое лицо – лицо, пьяное от вина, с выпяченными в боевом усилии губами, из которых вырывается хрип. Пот блестит на двуглавой мышце того, который ударом кулака сбивает врага с ног, и враг валится узловатым движеньем. Вновь вздымается прилив тел, сухожилия и мышцы напряжены, губы разодраны, вон тот – уже мертвый, голова повисла, а все щерится оскаленной пастью. Длинные, округлые линии бедер, сильных и грубых мужских бедер, выступают из глубины пространства, эти тела несутся вскачь, ржут, отчаянье раскидывает их во все стороны – и снова сбивает вместе, они ревут и глотают прах земной, с оторванными кусками конечностей, тела на коленях, тела выпрямленные, тела взбесившиеся, мускулы натянуты на костях, которые трещат. Тело. Все требует формы, чтоб быть познанным.
Потом он отдал рельеф князю. Граначчи этой его работы еще не видел. Граначчи редко бывает теперь в Медицейских садах. Он помогает Гирландайо, они вместе пишут большую картину "Прославление девы Марии". Гирландайо сам пришел за Граначчи и просил князя вернуть ему на время его бывшего ученика, и Граначчи сжал руки на груди, казалось, он сейчас вскрикнет, щеки его побледнели, словно покрытые пылью дороги, дороги в Нурсию, город Сполетского герцогства, никто еще не удостаивался такой чести, чтобы старый маэстро приходил к Медичи просить о возвращении ученика, который должен дописать с ним картину. Граначчи отложил начатые копии, встал и пошел. Теперь они вместе пишут картину, большую картину, тщательно выполненную, – краски пестрые, яркие, блестящие. "Прославление девы Марии"… и поломничество в Нурсию! И уже два раза между ними были размолвки из-за Гирландайо, оттого что Граначчи не может допустить, чтобы о старом маэстро говорили иначе, как с безграничным восхищением, а Микеланджело не может говорить о нем с безграничным восхищением… Кроме того, Граначчи твердо надеется, что недалеко время, когда он перерастет Гирландайо. Он начал самостоятельно писать мадонну на троне со святым Михаилом и святым Иоанном. Паломничество в Нурсию…
Микеланджело отдал рельеф, и благодарность Лоренцо доставила ему тем большую радость, что он очень уважает князя и в тайнике сердца любит его. Он не хочет признаться в том самому себе, думает обо всем, что говорит в проповедях Савонарола, и все-таки знает, что любит князя. Не за то, что Маньифико ставит его выше остальных учеников, а за то, что тот одинок. Чувствует, что одиночество это становится все более полным, что Лоренцо покинули все, все, кроме Полициано. Лоренцо принял "Битву кентавров и лапифов" с восторгом и радостью, не говоря ни слова о глубоком смысле сказания и о царе, который пожелал самого возвышенного, а овладел лишь призраком и породил зверей. Он очарован порывистой игрой этих созданий и их напряженьем. Осматривая свои коллекции, он часто возвращается к этой вещи, всегда долго стоит перед ней и всегда умеет сказать о ней что-то новое. Поэтому рельеф был поставлен во дворце на переднее место, и все на него любовались.
Тела борются, играя множеством мышц, тела в мощнейшем выявлении форм, существа горячие, распаленные, длинные линии сплетений, связанных в узлы рук и ног. И нагота. Гладкая нагота мужских тел, – хоть одну только форму прикрой, и мужское тело это утратит свою волю и свою скорбь. Она должна быть видной и страстной для каждого взгляда. Тела сплетаются, сверкая наготой, как пролитое масло. Нагие плечи сгибаются, трутся друг о друга в судорожном сжатии и напряжении мышц, бедра прильнули друг к другу, напряженные, отверделые. Кулаки бьют по наклоненным головам, нагота их молотит насмерть. Соски, покрасневшие, полиловевшие, как вереск, сморщились в обхвате жестоких тисков рук, нагота с головы до пят, напряженная и уязвимая, но еще отстаивающая каждую секунду жизни. Нагота, в которой есть что-то замкнутое, – скорбь, страстное желание, мечта и кровь. Угрюмый пыл этих тел тоже обнажен, и колени их бьют в грудные клетки поверженных, как в барабаны смерти. Славная нагота боли, уничтоженья и боя – все вписано в эти борозды лбов, горл и животов. Кривизны, дуги, трехмерности, контраст глубины и напряжения. Бой. Мрамор.
После этой работы Микеланджело отложил резец и покинул Полициано, скрылся от Джулио и Джулиано Медичи. Он не хотел никого. Пил одиночество, словно терпкое темно-красное вино, и опять страдал от сознания своего уродства. Наклонившись над зеркалом водоема в садах, он ощупывал свое лицо, обезображенное, навсегда заклейменное ударом кулака мордобойца. Уходил все глубже в сады. Перестал ходить на проповеди, перестал ходить во дворец, перестал ходить в город, перестал ходить с другими копировать, не хотел видеть даже Граначчи, – хотел быть один, один, хоть всю жизнь один. Вокруг тишина. Глубокая, бездонная. Апрель жил в почве садов и в тучах.
Пришло письмо от кардинала Джованни из Рима, позабавившее князя и всех остальных. Папа Иннокентий на самом деле превосходит сам себя в проявлении дружбы к семейству Медичи. Он устроил такую торжественную встречу, что привел в бешенство сердитого папского церемониймейстера маэстро Бурхарда. Римское население сбежалось толпами, так как шел слух, что папа, из уважения к семейству Медичи, назначил кардиналом ребенка. Все изумились, увидев мальчика верхом на коне, в плаще цвета высохшей розы. Потом утром явились все кардиналы и торжественной процессией повели его к папе, который поднял его с колен, обнял и поцеловал. Маэстро Бурхард, нетерпимый ко всему не предусмотренному ни традицией, ни Рубриками, немедленно подверг нового кардинала строгому испытанию, но ни к чему не мог придраться – ни в его благословляющем жесте, ни в коленопреклонении и полуоборотах, ни в уходах, поступи и поворотах, ни в интонации голоса громкого и голоса приглушенного, ни в чем, подлежащем соблюдению in ordine genuflectend, sedendi et standi 1, ни в чем, относящемся к обуви, одеянию и головному убору, ни в способе кланяться profunde, devote et humiliter 2. Ни к чему не мог придраться маэстро-черимоньере, относящийся раздраженно и враждебно ко всем молодым кардиналам; старик, сам тщетно мечтающий о пурпуре, на покупку которого нет денег, ни к чему не мог придраться, так велел хоть увеличить ему тонзуру. Теперь молоденький кардинал живет во дворце Орсини на Кампа-Фьори, прямо против дворца кардинала Риарио делла Ровере, и они смотрят друг на друга в окна… Это письмо доставило большое удовольствие во Флоренции, а канцлер Бернардо Довицци Биббиена особенно обрадовался, прочтя приписку о том, какой торжественный прием был оказан Джованни самим канцлером церкви, кардиналом Родриго Борджа… очень обрадовался Биббиена, что послушался умных советов каноника Маффеи, сведения которого неоценимы, и настоял на поездке юного кардинала в Рим. А разве не предсказывал Фичино в своем гороскопе, что Джованни Медичи когда-нибудь сам станет папой?
1 В способе коленопреклонения, сидения и стояния (лат.).
2 Глубоко, набожно и смиренно (лат.).
Микеланджело бродит в садах. Каждое слово причиняет боль. Никогда еще не был он так растревожен, как теперь. Словно вокруг него – одни страшилища, он чувствовал горечь при одной мысли о человеческом лице. Время умерло, не было надобности думать о том, день сейчас или ночь, время возникало ниоткуда и бежало к вратам ада, – там найдут его те, кто не умел правильно пользоваться им здесь, на свете. Садовые аллеи все время извивались, словно выписывая какие-то безысходности и не желая дописывать до конца. За свое короткое пребывание у Медичи он успел создать три произведения: ""Фавна", "Мадонну У лестницы", "Битву кентавров и лапифов", "Фавн" – вещь нечистая, насмешка, злая, мстительная материя, ужас крадущихся ночей, дьявол подсунул ему этот камень, и так как у этого дьявола было лицо и обет ангела, – его нельзя было одолеть. Коварство, подобное чуме, притаившейся в корке хлеба, под покровом милостыни, поданной нищему, в оброненной веточке розы. Мадонна у лестницы смотрит в вечность. Люди думают, что в никуда. Когда заходит речь о вечности, они обычно всегда подразумевают взгляд, устремленный в пустоту. Это царица, лицо властительницы, она правит – и сидит, как нищенка, на ступенях. Сын божий, усталый, заснул. Но над ним бодрствует взгляд, перед которым нет оговорок, ни уверток, ни запирательств, ни лукавства, – взгляд, вперенный в вечность. Привыкли к тому, что сын божий благословляет. Но здесь он устал, спит, не благословляет. Привыкли, что матерь божья улыбается. Но здесь она не улыбается. И оттого что привыкли, говорят о взгляде, устремленном в пустоту. Царица у лестницы. Ave, господь с тобою. Скоро конец света. Нагие тела борются. Водомет нагих мышц в борьбе. Упрямо раскоряченные, напряженные тела, покрытые пылью и прессуемые битвой, как в кровавом винограднике. Форма, длинные линии бедер, плечи, прижатые друг к другу, груди, выгнутые под тяжестью, колени бьют в грудные клетки поверженных, как в барабаны смерти. Тело и нагота его, полная скорби, покров крови, желанье и мечта, угрюмый огонь тел, торжественная нагота мужской боли в судорожном сжатии трущихся друг о друга мышц. В узловатом движенье валится сраженный человек, кривая живота его просочилась в мрамор, над ним встал победитель, жизнь натянулась, как тетива.
Микеланджело бродит в садах, не в силах работать, словно его обступили страшилища и он стал их другом, приятелем мороков и кошмаров, чувствующим горечь при мысли о человеческом лице. Время умерло, не было надобности думать о том, день сейчас или ночь. Но однажды ночью он в испуге вскочил под листвой смоковницы и в изумлении, с сжавшимся сердцем, стал смотреть на вход в дом.
Шесть факелов кровоточили там во тьму, светя чадным пламенем, и слышались мужские рыдания. Это плакал Полициано. Носилки были уже теперь подобны гробу. В них клали князя, долго скрываемая болезнь которого вдруг свалила его с ног. Он не хочет лежать во Флоренции. И его перевозят в его резиденцию – Карреджи, чтобы он ждал смерти там.
Юноша побежал к носилкам. Джулио прижался к его груди, и они стали плакать вместе. Горело шесть светочей, как возле славного покойника, ночь была покровом, свечниками – одиночество. Носилки привязали, всадники быстро сели на коней, в мерцающем свете факелов все было – будто игра призраков. Перед глазами подростка мелькнуло пепельное лицо князя с закрытыми глазами, – он тихо стонал. Жена, Кларисса Орсини, наклонилась над ним, смиряя муку ладонями, но он звал Маддалену, повторяя: девочка! Тронулись. Карреджи, тупик смерти. Путь был недальний, но тьма удлинила его. Хотя была уже пасха, на улицах оставался еще не свеянный влажным апрельским ветром пепел покаяния, и город тяжело дышал во сне. От стен храмов, мимо которых они ехали, до сих пор не отлипли выкрики фра Джироламо, и всадники тихо указывали друг другу появившуюся на небе новую звезду – ядовито-зеленую, от которой, конечно, горькими станут воды, куда упадет ее свет, и имя сей звезде – Полынь. Тьма не давала дышать. Шесть светочей чадили, и только конские копыта да стоны больного отсчитывали время. Флоренция спала. Не знала, что по улицам везут ее князя – на смерть. Не знала ничего. Только ждала конца света и, в ужасе от этого, тяжело дышала во сне.
Нет большей пустоты, чем место, где еще за минуту перед тем сидел живой человек, думая о завтрашнем дне, а пришла смерть. Это великий проем тишины, тщетно прячущийся, он прошел в него еще живой, оставив здесь мелкие вещи, которые только что держал в руке, от которых еще не отлип его последний взгляд, – прошел, оставив их в двойной заброшенности; страшно это ожиданье вещей, тяжко взять их вдруг в свои руки, чужие для них. Проем тишины удлинился, став галереей без огней. Дом остался в ночи.
А в Карреджи уже светало. У ложа князя встали Пьер и Полициано. И Лоренцо, положив исхудалую руку на голову сына, стал давать ему последние указания о том, как править. Пьер преклонил колена.
– Если кто из Медичи станет тираном, – окончил Маньифико, тяжело переводя дух, – он лишится Флоренции. Иди, молись.
И остался наедине с Полициано. Пепельное лицо его осунулось и постарело. Никто бы не сказал, что это – лицо сорокачетырехлетнего человека. Но он постарался улыбнуться. Утром у него был священник со святыми дарами, исповедовал правителя и причастил его. Теперь оставалось только умереть.
Флоренция! Город, пылкий и любимый, город прекрасней всех городов на свете, город смятенный и заблуждающийся, город, во всякое время возлюбленный, даже звезды стоят над тобой по ночам не в обычном своем порядке, но это от нежности и любви…
В разболевшейся голове Полициано, который сидит на краю постели, мелькают самые разнообразные картины. Два мальчика с греческой грамматикой Ласкариса в руках идут в аудиторию византийца… Благоухает флорентийская роза, в ней музыка и мечта и всегда что-то металлическое и кровавое. Роза цветок, посвященный Венере. Лоренцо двадцати одного года, стройный и прекрасный, в золоте и белом атласе, устраивает турнир в честь Лукреции Донати, прекрасней которой не было с тех пор девушки во Флоренции. Но вышло по-другому. Жена – Кларисса Орсини, величественная, надменная, римская княжна по происхождению, а теперь и по браку равная королевам. Она всегда не любила Полициано. Она – Орсини. И хочет видеть вокруг себя одних придворных, а он – философ. Полициано тоже всегда ее не любил. А Пьер – в нее. Он Орсини по матери, и женился тоже на Орсини – Альфонсине, римской княжне. Он – не Медичи. Бряцает мечом, тискает женщин. Смеется над тогами философов и восхваляет меч. Мечтает о крепкой, твердой власти, презирает народ, пренебрегает патрициями. Как это сказал Лоренцо? "Если кто из Медичи станет тираном, он лишится Флоренции. А теперь иди, молись". Холодная волна ужаса обдала Полициано, так что он в испуге сжал руки и еле слышно произнес Лоренцово имя. Но тот, казалось, спал. Глаза его были закрыты, искаженное страданьем лицо – теперь спокойно. Но по легкому дрожанию век и руки Полициано понял, что правитель не спит. Он встал и пошел за книгой. Лоренцо поглядел.
– Нет, – прошептал он, – не эту…
По римской дороге мчался во весь дух к воротам Флоренции покрытый пылью и потом гонец. Но еще было далеко.
– Помнишь, мой Анджело, – прошептал Медичи, – как мы с тобой мальчиками начали вместе читать тексты у Аргиропулоса Византийского? Мне хотелось бы услышать сейчас один из них, знаешь, тот!..
Полициано понял и взял другую книгу. Ну да, да, где мудрая Диотима беседует с Сократом о бессмертии.
– Не ищи, – продолжал князь слабым голосом. – Ты можешь наизусть. Знаешь – у Софокла? Помнишь, – "Эдип в Колоне"? Это прекрасный хор: "Кто жаждет…" Прочти мне это…
Апрельское солнце. Оно мечет фейерверк своих лучей на кусты, которые мучительно жаждут его и дрожат от желания. Окрестность приобрела ослепительную гамму красок, как на миниатюрах в старинных сборниках антифонов, с преобладанием голубца и золота. Окна открыты. Бронзой гремит эллинская речь в полном солнца зале.
Тот, кто жаждет свой век продлить,
Мерой дней не довольствуясь,
Говорю не колеблясь, – тот
Не лишен ли рассудка?
Что нам долгие дни! Они
Больше к нам приведут с собой
Мук и скорби, чем радостей.
Если пережил ты свой век.
Позабудь наслаждения!
Срок придет, и всех сравняет
Лишь раздастся зов Аида
Песен, плясок, игр чужда,
Смерть – всему окончанье.
Голосом, горьким от слез, Полициано в тягостной тишине продолжал декламировать стихи антистрофы:
…Так, лишь юность уйдет, с собой
Время легких умчав безумств,
Мук каких не познаешь ты,
Злоключений и горестей 1.
1 Софокл. Эдип в Колоне, стихи 1262-1272 и 1279-1282.
У него сорвался голос. Философ закрыл лицо руками и умолк. Заговорил Лоренцо:
– Знаешь, Анджело, я не жалею ни о чем из того, что сделал… Часто приходилось разрушать даже папские замыслы, когда тиароносец воевал ради интересов рода и в ущерб церкви; я узнал много такого, о чем буду молчать даже перед престолом божьим, – пускай другие жалуются. Я боролся за мир даже против пап, ты знаешь, – Джироламо Риарио! И другие! А что из этого вышло? Теперь Иннокентий… тоже, говорят, уже при смерти! И кандидатов на его место двое: кардинал Джулиано делла Ровере – от него спаси бог Флоренцию, и кардинал Родриго Борджа – от него спаси бог церковь…
Он говорил так тихо, что Полициано пришлось к нему наклониться, чтоб разобрать.
– Нет, право, не жалею… Только об одном! Это была самая крупная моя ошибка, но и самое большое горе… Единственный промах – и так дорого пришлось мне за него заплатить!
– Приглашенье… Савонаролы? – прошептал Полициано. – Вот видишь, я тебя предостерегал тогда… удерживал…
– Нет… – с трудом промолвил Лоренцо. – Не то. Об этом я не жалею. Савонарола – великий человек, и он был нужен, утверждаю даже теперь, когда он повел наступление на меня. В лице фра Джироламо восстала сила, которая должна была прийти, я только ждал, когда уляжется первая ее волна. Фра Джироламо и я – оба мы боролись за чистоту церкви, против симонии пап, о которой идет молва по всей Европе, – каждый на свой лад… Если бы мы помирились, от этого произошло бы много добра… Но он и во мне видел врага, платоника. И против меня пошел. Но как я боролся с ним? Я мог бы добиться от папы, чтоб тот посадил его в римскую тюрьму. А вместо этого я позвал его сюда, под свою охрану. Мог потом выслать его из города. А вместо этого осыпал его самого и монастырь подарками и пожертвованиями. Мог добиться от генерала ордена, отца Турриано, запрещения его проповедей, а вместо этого настоял на его назначении приором, а потом представителем ордена доминиканцев от Тосканской провинции. Вот как я боролся с ним. Я ни разу не сделал ему ничего плохого, хотя мог. А теперь еще одно… Позвал его к себе…
– Ты… позвал Савонаролу… сюда… в Карреджи?.. – пролепетал в изумлении Полициано.
– Да… а почему бы нет? Он призывал на меня кары господни, называл меня язычником. А я позвал его затем, чтоб он дал мне благословение.
– Лоренцо… несоответствие сущего… ты помнишь? Еще раз предостерегаю тебя… Ты говорил, что над каждой твоей трагической минутой, над каждым твоим судьбоносным мгновением всегда появляется какая-нибудь плоская острота, грубая шутка, насмешка, – помнишь тогда Фичинов смех? А потом Скарлаттинов лай и всякое другое… Я тебя всегда предостерегал… говорил: "А не кажется тебе, что ты часто устраиваешь это сам?"
– …чтоб он дал мне благословение, – повторил Лоренцо. – Ради двойной пользы. Во-первых, я предстану перед богом с этим благословением, а кто знает, что скрыто в презираемом фра Джироламо. И, во-вторых, – для семьи, понимаешь, для нашего рода… понимаешь, для Пьера. Великая моя забота Пьер! Пускай узнают во Флоренции, что Савонарола помирился с Медичи… даже если будут говорить, что Маньифико на смертном одре унизился перед Савонаролой, – да, пускай говорят повсюду, – понимаешь, это для Пьера! Савонарола теперь в силе, и Савонарола благословляет своими руками. Кого благословляют, тому желают добра, того прощают, на того призывают милость божию. Пускай об этом говорят во Флоренции, это важно для Пьера – понимаешь?
Он умолк, изнеможенный. В голосе его было столько печали, тоски и тревоги, что стесненное Полицианово сердце стало новой плавильней боли.
По римской дороге мчал во весь дух к воротам Флоренции покрытый пылью и потом гонец. Но было еще далеко.
В сенях послышался шум и шепот многих голосов. Приехала Кларисса Орсини и сноха Альфонсина Орсини, урожденные римские княжны, приехали мальчики Джулио и Джулиано, пришла вся Платоновская академия в полном составе, старенький маэстро Бертольдо, ничего не видя от слез, пришел, пошатываясь, поддерживаемый учениками, среди которых был Микеланджело; Бернардо Довицци Биббиена, невыспавшийся, но бодрый и важный, оживленно беседовал с Пьером. Появился гонфалоньер республики Кристофоро Ландини, появились представители Совета пятисот и Синьории. Все теснилось в сенях, все ждало, когда правитель позовет проститься. Полициано слышал этот глухой гул. Для их беседы вдвоем оставался лишь малый срок. Он наклонился к Лоренцо, так что лица их соприкоснулись.
– Так в чем же самая большая твоя боль, Лоренцо, твой промах, за который ты дорого заплатил?..
Медичи открыл глаза и поднял было руку, но она опять упала.
– Маддалена… – прошептал он. – Брак Маддалены… кровавый, продажный Рим… истасканный Франческетто Чиба, картежный мошенник, папский сын, торговец индульгенциями… завсегдатай публичных домов и трактиров… расхититель папской казны… ему-то отдал я самое дорогое свое дитя, все свое счастье, свою Маддалену! Величайший мой промах заключался в том, что и я однажды пошел навстречу папским замыслам, один только раз… а когда спохватился, было уже поздно… Подумай, какой был бы ужас, если б умирающий Иннокентий захотел сохранить за своим родом власть и вдруг опоясал бы эту куклу, своего сына, негодяя этого, – мечом… Ах, Педро Луис, Джироламо Риарио, какие это были противники! Тоже папские племянники… Но Франческетто этот! Если б из-за него вспыхнула война, теперь, когда французы стоят у ворот, из-за него, только что вставшего от объятий какой-нибудь девки за Тибром…
– Понимаешь, – прошептал Полициано, – это невозможно. Вся власть – в руках князя Сансеверино, папского кондотьера, и потом, кардинал Родриго Борджа, – эти двое не допустят…
– Я знаю, – с трудом кивнул головой Лоренцо. – Хоть этого мне не надо опасаться… И можно умереть. Как это там сказано? "Если пережил ты свой век, позабудь наслаждения. Срок придет и всех сравняет, лишь раздастся зов Аида, песен, плясок, игр чужда, смерть – всему окончанье… Лишь юность уйдет, с собой время легких умчав безумств… Бог же летейской росой отягченную ветвь…" Нет, это откуда-то еще… Откуда, Анджело?
Лицо его пылало. Пересохшие губы потрескались от жара. Руки уже не дрожали, а тряслись. Полициано в испуге привстал.
– Я позову их… – выдохнул он.
– Откуда? – прохрипел Лоренцо. – Анджело, не уходи… Откуда? "Капля вод из реки подземной…" – это не выходит у меня из головы… "Бог же летейской росой отягченную ветвь…" Откуда это, Анджело?..
– Вергилий…
– Скажи еще раз… я не помню дальше… у меня все туманится.
Лицо пылало, и волосы на лбу слиплись от пота. Руки бегали по одеялу. Глаза блестели, как стеклянные. Он отрывисто приказал открыть дверь.
Стали входить. Склонив головы, кидая беглые взгляды на постель, словно слишком тяжел был для них печальный обряд смерти. Пол, стены, окна – все как обычно. Но в то же время все словно покрыто тенями. Потому что последние из пришедших принесли известие о том, что свод храма Санта-Мария-дель-Фьоре дал трещину, и в этом видели знаменье, полное непостижимо страшного смысла. Почему именно в Санта-Мария-дель-Фьоре – там, где была кровавая месса Пацци?.. Все теснились, ожидая услышать, что скажет умирающий, и, благодаря их множеству, им казалось, что они в склепе. А вдруг и здесь треснет свод появится темнеющее апрельское небо с ядовито-зеленым металлическим блеском новой звезды… Многие поспешно опустили головы в ожидании слов умирающего правителя.
Губы больного горели, истомленные лихорадкой и жаждой.
Люди стояли вдоль стен, подобные неподвижной фреске. Их пугала мысль, что здесь, вместе с ними, стоит смерть. Кто заговорит первый? Правитель или она? Но первый пожелал говорить гонфалоньер республики. Выступив немного вперед, отделенный от остальных саном и ученостью, он распахнул плащ, и засияли золотые регалии, насмехаясь над бледностью смертного ложа, откуда послышался хриплый голос:
– Анджело!..
Полициано подошел, положил ладонь на влажный лоб.
– Скажи мне… скажи сейчас… это меня мучит… с остальным успеем… я не могу вспомнить…
Бред. У многих вытянулись лица, оттого что чин нарушен, другие были похожи на свирельщиков у постели дочери Иаира. Некоторые глотали слезы, тем более горькие. Полициано, не без колебанья, опять склонился к лицу друга и глухим голосом начал:
Ессе deus, rarum Lethaeo rore madentem,
vique soporatum Stygia…
Бог же летейской росой отягченную ветвь и стихийной
Силой снабженную сна к обоим вискам приближает…
…cunctantique natantia lumina solvit
И против воли ему смежает поплывшие очи… 1
– Laudetur Jesus Christus! 2 – вдруг прокаркал резкий голос в дверях.
1 Вергилий. Энеида, кн. 5-я, ст. 851-856.
2 Слава Иисусу Христу! (лат.)
Все остолбенели. Такой гость, что прощанье с умирающим – из головы вон! Затаив дыханье стали ждать, что будет дальше.
– Pax huic domui et omnibus habitantibus in ea, – произнес монах, входя.
Фигура его прошла вдоль стен, подобно призраку. Каркающая латынь заглушила последний отзвук Вергилиевой латыни. "Мир дому сему и всем обитающим в нем…" – так приветствовал он. "Мир дому сему…", но гонфалоньер республики со своими золотыми регалиями скрылся где-то среди свирельщиков дочери Иаира, а здесь стоял во весь рост монах, призывавший на город гнев божий, и горячее дыхание великого постника мешалось с жарким дыханием человека, томимого жаждой.
– Ты звал меня, я пришел, – сказал монах.
Пронзительный взгляд его скользнул по постели. На мокром от пота батисте, под одеялом, волнующемся от дрожи объятого лихорадкой тела, лежит тот, кто двадцать лет управлял судьбами страны, разрушал папские замыслы, содержал войска и школы художников, строил храмы и руководил Платоновской академией.
Quid est homo? 1 Глаза монаха сверкали.
– Ты звал меня, я пришел, – повторил Савонарола. – Хочешь, удалим всех и останемся одни?
Он произнес это, как власть имущий.
Лоренцо позвал глазами, Пьер и Полициано подошли, приподняли его, подложили ему под плечи подушки, и он, уже полусидя, вперил свой взгляд в лицо монаха.
Тут гонец с маской, слепленной из пота и пыли, влетел в ворота, и конь его пал. По отрывистой команде гонца караульные подали ему другого и указали дорогу в Карреджи. Конь взвился с болезненным ржанием, оттого что гонец слишком глубоко вогнал шпоры ему в бока. Он взвился высоко, и всадник изо всех сил задергал узду, яростно чертыхаясь. Повернул коня и, согнувшись над его шеей, ринулся вперед, в Карреджи.
– Прошу вас… отец мой… благословить меня, – прошептал Лоренцо.
Савонарола выпрямился. Пылающее лицо его было величественно и ослепительно. Он опять окинул взглядом больного.
– Ты получишь благословение от меня, недостойный, – промолвил он. – Но прежде, anima christiana 2, ответишь на три вопроса. Веришь ли ты в милосердие божие?
1 Что такое человек? (лат.)
2 Христианская душа (лат.).
Голова умирающего горячо склоняется – движением, полным смиренья и веры. И подымается вновь. Поддерживать его больше не нужно.
– Вернешь ли все незаконно приобретенные поместья и богатства?
То же движение, говорили голова и все тело, только не потрескавшиеся губы.
Монах поднял руку для благословения. И, наклонившись над постелью, медленно проговорил:
– Вернешь ли свободу народу, сделаешь ли народ господином, вверишь ли народу власть?
Тишина была как каменная, она раздробилась от вздоха присутствующих. Полициано взглянул испуганно. Это для Пьера… Понимаешь, великая моя забота – Пьер, для Пьера хочу я, чтобы Савонарола благословил Медичи, – для Пьера…
Стеклянный взгляд умирающего, подернутый пламенем лихорадки, впился в монаха. А монах, с поднятой для благословения рукой, твердо взглянул в изможденное лицо. Потом Лоренцо медленно, с нечеловеческим усилием стал приподниматься. К нему подбежали, но он прохрипел, что не нуждается в помощи. Сам, совершенно один, медленным движением, на которое было страшно смотреть, повернулся к стене, вновь упал на постель и остался так. И – ни одного взгляда на монаха. Горящими глазами он молча смотрел в стену. Говорили голова и все тело, только не потрескавшиеся губы.
Савонарола ждал. Пронзительный взгляд его видел только темя больного да стену. Одеяло было в трепете. Секунды шли. Лоренцо, повернувшись спиной к монаху, умирал. Время. Секунды растягивались. И монах опустил руку и прервал благословляющий жест, так и не завершив его. Натянул капюшон и, склонив голову, вышел, не прощаясь.
Лоренцо смотрел в стену. Кларисса в слезах опустилась на колени у постели. Биббиена торопливым шепотом стал совещаться с Пьером и гонфалоньером, – надо что-то сейчас же предпринять, скоро народ узнает. Савонарола ушел, не дав благословенья. Но народ как можно скорей должен узнать: гонфалоньер горячо благодарил, Синьория воздала хвалу, те, кому по закону принадлежит власть, преклонили колена в знак благодарности… Гонфалоньер, растерянный, снова выступил вперед и уж хотел говорить…
Гонец, грубо расталкивая всех стоящих на пути, измученный ездой, пошатываясь, подошел к постели, как ему было приказано. И, не дожидаясь, пока ему дадут слово, огласил сообщение.
Франческо Чиба, сын папы, неожиданно назначен верховным кондотьером церкви. И, опоясавшись мечом, выступил в поход.
И показалось тут Полициано, что на землю пала кромешная тьма, поглотившая все на свете. Ослепленный ею, он зашатался и упал ничком на землю, стуча зубами от ужаса. Издевка, циничная, грубая насмешка… бесстыдная шутка… здесь умирает правитель и с ним – мир в Италии… а там бездушная кукла, бесчестный негодяй, карточный мошенник опоясался мечом…
Резкий, судорожный вопль Лоренцо разорвал напряженную тишину.
И все повалились на колени в молитве.
АГОСТИНО, БЕЗУМНЫЙ СИЕНСКИЙ ВАЯТЕЛЬ
На горячем камне затаилась ящерица, блестящая и пестрая, как брошенный браслет принцессы, из-за низкой стены свесилась длинная сероватая ветвь, бадья колодца поет, как во времена Иакова. Над двором тихий полет голубок, плющ вьется по стене, сложенной еще рукой прадеда, на всем – глубокий голубой покой. Микеланджело стоит в раздумье перед каменной глыбой, на покупку которой потратил часть денег, полученных еще от князя. Каморка Микеланджело опять очищена от паутины. Он уже не доедает на кирпичных ступенях и у придорожной канавы куски, оставшиеся от братьев, но все-таки до сих пор ест отдельно, каменотес.
Ведь сколько уплатил он за этот камень! Не лучше было бы раздать это бедным либо – вложить в дядину меняльную контору на Ор-Сан-Микеле? И то и другое хорошо: и в доме был бы мир, и перед небом заслуга. Да ему. видно, не дороги небесные сокровища, ни мир в семье. Столько хороших денег – а что на них купил? Камень. Знает, что жизнь дорога, что он в тягость, а чем помог? Купил камень. Время тревожное, одно только золото в цене, мог бы хорошо поместить, а куда поместил? Купил камень. Есть и такие, что собирают себе сокровища на небе и все раздают, по требованию фра Джироламо, бедным, – а он что сделал для бедных? Купил камень. Другие закапывают богатства свои, чтоб быть во всякое время готовыми к бегству, а он что скрыл? Купил камень. Столько добрых золотых! Венецианцы всегда ловят рыбу в мутной воде, у дяди Франческо полно расписок от деловых друзей с Риальто, славные проценты принесли бы эти деньги, но на них куплен камень.
Отец сложил руки, как человек, покоряющийся судьбе, и ушел, братья говорили о путаной голове и о бирючах, дядя Франческо цитировал книгу Сирахову под названием "Екклезиастикус". За дядей Франческо теперь всегда решающее слово в семье, потому что слова его всегда оправдываются. Разве не предупреждал он насчет Микеланджело? Не предвидел этой истории? Не говорил уже давно, что думает об этом парне, который вернулся теперь без носа, как от позорного столба? И не говорил еще тогда, что думает об искусстве? Но ему не верили, и надо было, чтоб пришел святой человек, фра Джироламо, и убедил их. Фра Джироламо возвращает сейчас Флоренцию христианству, а Микеланджело вернулся, напоенный язычеством. Фра Джироламо крушит языческие картины и статуи, а Микеланджело, вместо того чтоб поместить деньги в дело, купил камень. И уж не хочет навещать своего брата монаха, не ходит в Сан-Марко… Дядя Франческо все это предвидел, и никогда не нужно спорить с дядей, чьи слова всегда оправдываются и у которого меняльная контора, а детей нету…
Микеланджело стоит в раздумье перед каменной глыбой. Ходит вокруг мрамора, изучает плоскости. Это не тот камень, о котором он мечтал, тот оказался не по карману, а за этот взяли недорого. Он остановился, положил на мрамор обе ладони. Это было движение чистое и любовное, как если б он нежно прикоснулся к любимой голове, успокаивая ток крови в ее висках. Он чует, чует. Таинственная, стремительная, лихорадочная жизнь бурлит где-то там, в темной материи, он слышит, как она зовет, как кричит ему, чтоб он освободил ее, дал ей форму и язык. Темная жизнь камня рвется к нему наружу, бьет невидимыми, но ощутимыми волнами в кожу руки… Эти длинные, нежные волны соединялись у него в руке, он мог разбросать их, как лучи, и камень снова всосал бы их в себя. Поверхность его была ледяная. Поверхность была обнаженная. Но под ней, как под холодной кожей страстной красавицы, терзаемой своими желаниями, томятся и страждут все наслаждения, мучительные до смертельных судорог. Обнаженный и морозно-холодный, камень пылал жарчайшим внутренним огнем. Сосуды, которыми он пронизан, были напряжены и наполнены пульсирующей мраморной кровью, – сухие на поверхности и горячие внутри. Все это кипучее биенье так и трепетало при его прикосновенье. Он передвинул руки немного выше. Здесь трепет затихал, здесь находилось тайное спокойствие, но и оно было глухое, там, наверно, большая глубь, омут гармонии, созвучье форм, взаимно друг друга проникающих. Но чуть дальше руки его пронзила острая боль, там было, видимо, самое уязвимое место камня, вся материя вздрогнула, словно он коснулся обнаженной раны; вгони он сюда резец, сердце камня тут же разорвется и глыба рассядется. Нет, сюда нельзя, нанести удар сюда – значит умертвить камень. Даже если б не раскололся, так все равно умер бы, медленно зачах и рассыпался бы в конце концов. И придай он ему самую чистую, самую пленительную форму, камень будет мертвый, будет страшить. Под этим местом – в камне таится смерть. И, наоборот, наклонившись ниже, чтоб поласкать форму материи, округлой, как самые нежные женские лядвеи, томящиеся желанием, сжатые и трепещущие, он учуял в глубине место, где таилась, быть может, какая-то большая тяжелая гроздь, налитая застывшим соком, которая только и ждет, чтоб ее выдавили, ждет и благоухает, сильное благоуханье подступило прямо к ладоням. Он гладил камень трепетной, чуткой рукой, словно успокаивая. И вдруг смутился. Да, это здесь. Это уж не прикосновенье, а ощупыванье, уверенное, вещественное, сильное, грубое. Здесь сила камня, узлы его вздутых мышц, которые нужно разъять, чтоб открыть доступ к сердцу. Здесь он раскроет камень и вырвет его сгорающую внутри жизнь, здесь мощь, и объем, и начало удара. Он выпрямился. Ничего вокруг не видя, ничего не слыша, думая только о камне. С лицом твердым, каменным, неподвижным. Сердце его билось где-то там, внутри глыбы, кровь его текла по мраморным жилам, камень стал сильней его, он высился перед ним, как огромные тяжелые ворота, как судьба. И он сжал в руке резец, как единственное оружие, как оружие и против самого себя…
– Я давно на тебя смотрю, Микеланьоло, – послышался рядом шепелявый старческий голос, – а ты меня не видишь, знать не знаешь обо мне, ты далече…
– Фра Тимотео!
– Так, так, – укоризненно продолжал старичок. – Тебе, видно, не до людей, когда ты беседуешь с камнями. Не лги, Микеланьоло, лгать великий грех! Я долго на тебя смотрел, у тебя губы шевелились, ты беседовал с этим камнем… – Во взгляде старика появилось страдание. – Если у тебя какой грех на душе, доверь его мне, мой мальчик. Мы встанем с тобой на колени, попросим господа милосердного, и отец наш небесный отпустит его. Пойдем, исповедуйся мне, ангелы обрадуются, и тебе легче станет. Мне страшно за тебя, ты вырос на моих глазах, которые скоро закроются. А как фра Тимотео умрет, как братья монастырские скажут тебе: "Умер фра Тимотео, монах недостойный, который столько в жизни бродил, а ныне предстоит суду божьему", – как скажут это братья монастырские, скоро уж скажут, кто тогда поможет тебе? Я все время о тебе думаю, боюсь за тебя, – что же ты отвергаешь меня? Встанем вот здесь на колени и воззовем согласно и смиренно к заступнику нашему святому Франциску, а он скажет богу: "Эти двое там взывают ко мне, не могу я, боже милостивый, оставить их без помощи!" Вот что скажет святой заступник наш, и бог услышит его. Ведь брат Илья был уже совсем заточен, понимаешь, заточен накрепко, а попросил святого Франциска – такая, мол, вера у меня в силу просьбы твоей, что, окажись я в самой середине ада, а ты бы помолился за меня, это принесло бы мне прохладу, – понимаешь ты, помолился заступник наш святой, и бог отменил заточенье ради заслуг святого Франциска, вот видишь, а ты не хочешь довериться мне и молиться со мной, душу твою омрачает тень, а ты не хочешь, чтоб она вместе со всеми тенями сегодняшнего дня туда ушла, где ей быть надлежит.
– Фра Тимотео, – с изумлением промолвил Микеланджело, – я вас не понимаю…
– Я видел, – продолжал монах, – как ты беседовал с этим камнем, и я не узнавал тебя, мой Микеланьоло. Как будто это был не ты. Тут что-то неладно, нет, неладно! Микеланджело, признайся мне, ты там, у Медичи, среди философов этих, научился темным делам, грешным делам, ты этот камень заклинал? Да, заклинал. Заклинал, чтоб и эта работа тебе удалась, признайся мне! Потому что это – великий грех, смертный грех, за это полагается смерть – духовная и мирская. Знаешь, кого нынче жгут у нас за городом? Колдунью, старуху, Лаверной звать, вот кого жгут там, и жертву, совращенную ею, девушку одну, по имени Джанетта, – жгут ее, колдунью, а ты не хочешь покориться. Ты хуже этой старухи, Микеланьоло!
– Вы ошибаетесь, фра Тимотео… – сказал Микеланджело. – Я этого камня не заклинал, я не умею этого делать, никогда не учился таким вещам и не собирался даже, и у Медичи не учился этому.
– С богом не беседовал, – тихо промолвил старичок. – А с камнем беседовал. Берегись, Микеланьоло, мне страшно за тебя, ты не такой, как я думал, – когда я на тебя смотрел, а ты об этом не знал, я видел: в тебе не было силы.
– Что вы говорите?! – воскликнул мальчик.
– Да, не было, – повторил монах. – В руках твоих не было силы, сила была в камне. Уж извини, коль нескладно говорю, я – сборщик подаянья и молитвенник, не умею красно говорить, как ты там, у Медичи, слушать привык, но именно как сборщик подаянья и молитвенник говорю тебе, что сила была в камне, а ты был слабенький. Ты гладил камень, ласкал его, и он высасывал из тебя всю силу. Стало мне жутко, мальчик мой, смотреть на это, у тебя лицо было измученное, лицо больного, и ты все что-то шептал, – ну да, ты об этом не знаешь, теперь верю, что не знаешь. Ты был как заклятый, и это было страшное зрелище… Тебя одолела та сила, которую ты должен одолеть. Ты ослабел перед камнем, лишился своей силы, и камень высасывал ее, я видел это. Ты забыл, что я тебе всегда говорил: приступай к своему делу со смирением, работай так, как будто хочешь молиться. С богом беседовал? Нет, с камнем… Теперь пойдем, я пришел за тобой. Приор в Сан-Спирито хочет с тобой поговорить, он послал меня за тобой, пойдем, по дороге я успею еще кое-что тебе сказать. Он хочет дать тебе работу, пойдем!
– Для обители Сан-Спирито? – удивился Микеланджело.
– Да, – кивнул старичок. – Только камня не будет. Тебе, видно, придется сделать из дерева изображение нашего Спасителя, страдающего на кресте за грехи наши.
Они вошли в город. Монах шел медленно, то и дело останавливаясь, чтобы перевести дух. Полдневный покой, дорога тянется, дома будто застыли.
– Я скоро умру, Микеланьоло, знаю это и жду эту желанную минуту, – тихо промолвил старик. – Довольно уж понищенствовал в жизни и потаскал в монастырь брошенных хлебных корок да погнутых монеток, все молитвы свои излил за других и теперь, когда нужно перед смертным часом за себя помолиться, вдруг вижу, ничего-то у меня не осталось, все вознес за этих других… И как весь хлеб отдал, так и все молитвы отдал, и ничего мне не осталось… Но, может, может, все-таки… – он тоскливо вздохнул, – может, найду все-таки одну какую-нибудь, и она-то как раз будет самая прекрасная, самая сильная и последняя. Но и самую прекрасную, самую сильную и последнюю не оставлю себе, а вознесу за тебя, за тебя, Микеланьоло, потому что ты всегда был мне дороже всех.
Жгучесть слез в глазах мальчика, пылко и застенчиво сжимающего худую стариковскую руку. Монах тяжело дышит. Рваная ряса его полна дыр. А сандалий и вовсе нету, – он ходит по камню и пыли босой. Веревка вокруг иссохших бедер затянута, и на ней – четки с крупными зернами, чтоб ни одна молитва не выскользнула из негнущихся, дрожащих старых пальцев.
– Я знаю тебя с тех пор, как ты пешком под стол ходил, – продолжал старичок. – Помню, как ты смеялся и хлопал в ладошки, когда я рисовал тебе, как сестры рыбки прислушивались к словам святого брата Антонино, всякий раз дружно высовывая головки из воды, чинно и в полном смирении, чтобы лучше слышать и хвалить господа. Ты рос… Я все время следил за тобой… видел твои лишенья и муки, страдал твоими страданьями, плакал твоими слезами, молился за тебя. А ты стал художником Медичи и забыл меня. Когда, после смерти Лоренцо, правитель Пьер, по высокомерию своему, выгнал тебя, я пришел опять – и что же увидел? Увидел тебя, беседующего с камнем. Увидел, как ты теряешь силу свою и камень берет ее у тебя. Так вот – я тебе кое-что расскажу. Этот случай произошел в городе Сиене много лет тому назад, когда я там был, дурно служа господу, монах никогда ни на что не годный. Слушай внимательно, что было в Сиене.
Посмотрев испытующе на мальчика, монах начал свой рассказ.
– Жил там один юноша, очень красивый и богатый, по имени Агостино да Уливелло, родом патриций, проводя время в удовольствиях и развлечениях, служа греху и пренебрегая спасением души. Но в сердце у него все время горела мысль, что это – не настоящая его жизнь, что все эти наслаждения только птицы пролетные. Чем больше он об этом думал, тем ясней ему становилось, что он разрушает свое вечное блаженство и, гоняясь за птицами, становится посмешищем людей. Решил он от праздной жизни отречься и отрекся. А так как весьма возлюбил красоту и милосердный господь вложил в сердце его, хоть и грешное, превеликие дарования, поступил он в мастерскую одного славного мастера и стал, как ты, ваятелем. После этого он с великой любовью и рвением предался занятиям искусством, но не переставали манить его призраки прежних радостей, так как был он молод и хорош собой, а дьявол не терпит, чтоб человек жил в мире со своей совестью. Все время расставляли ему ловушки и силки сиенские женщины и девицы, и не мог он в храм божий прийти, чтоб не ждала его там ведьма с письмом от какой-нибудь сиенской мадонны, у которой муж как раз в отъезде и она горячо предлагает юноше вкусный ужин, огонь в очаге и место в постели. Вся Сиена знала веселого и красивого ваятеля Агостино да Уливелло, который молод, счастлив и любит все радости жизни. Он ходил, припевая, а так как рвал все цветы по пути, было ему суждено сорвать и черную гроздь своего несчастья. Случилось однажды, что, гуляя за городом, набрел он на какую-то длинную стену, и пришло ему в голову посмотреть, что за ней. Не видя нигде калитки, он вспрыгнул на стену, и оказался там чудный большой сад, а в том саду – девица с поднятыми руками, срывающая с дерева цветок. И тут Агостино закричал от ужаса, такой у нее был страшный вид!
Старый монах остановился в изнеможении. Сильней оперся на Микеланджело, слегка навалившись, – комочек пыли, грудка чего-то совершенно ненужного. Потом продолжал:
– Сад был полон сверкающих, чистых цветов, руки девушки были светлые, белые, тело ее – натянуто, как лук. Каждым движением рук своих она словно манила к себе ангелов – за отсутствием кого-либо еще, с кем вместе погулять по саду. Но лицо ее было все покрыто черной тканью, как у преступников, куском черной ткани с отверстиями только для рта и глаз. Это черное покрывало было как печать мрака, оно говорило об опустошенности и уродстве при такой молодости. Услыхав его крик, она убежала, а он, спрыгнув со стены и жестоко палимый внутренним огнем, сам не свой, кричал во весь голос. Потому что понял, что сейчас видел. В городе Сиене как раз жила девица, до того прекрасная, что другой такой не было на свете. Но суетный мир не создан для такой красоты, какую мы увидим, когда к нам вернется рай, и люди, подвластные греху, не поняли этой красоты во всем ее величии, а поняли ее по-своему и захотели ею овладеть, выкрасть ее, ограбить, наслаждаться ею во грехе, тщете и похоти. Невесты были оставлены, браки разрушены, богачи теряли именья свои, мужи – честь, все воспылали страстью к прекрасной Андреуоле, все махнули рукой на свои обязанности, нравственный долг и заповеди божьи, мужчины покинули свои должности, семьи, оружие, брат возненавидел брата, друг стал пренебрегать другом. И чем все это кончилось? Гибелью и смертью. Стали, в суете своего желания, из-за нее убивать друг друга, и ни один из тех, кому она подарила хотя бы только улыбку, словечко или взгляд, – не доживал до вечера. Тогда сиенский правитель, старик, никогда не снимавший доспехов, повелел ей всегда ходить с закрытым лицом, пряча его под черным покровом. И это было исполнено. В последний раз вывели ее на весенний праздник, целый дождь роз пролился на нее со всех балконов, она медленно опустила покрывало и с этой минуты уже лишилась права являться в ином виде. Только однажды приказ был нарушен, и это опять принесло смерть. Живописец Луиджи Аскольто, прозванный за свое великое благочестие Кьеппанино, Святоша, приступая к росписи стен Сиенского собора, попросил у правителя позволения увидеть лицо Андреуолы; собираясь писать предметы божественные, он захотел посмеяться над вожделениями, пробуждаемыми этой великой красотой. Для посмеяния хотел он поглядеть на Андреуолу, чтоб лучше написать картины для алтаря. Ни разу еще не познал женщины живописец Аскольто, по прозванию Кьеппанино, Святоша, и правитель позволил на минуту раскрыть для него лицо Андреуолы, и после этого Луиджи Аскольто, с язвительной улыбкой на губах, заперся в соборе и велел подавать ему пищу не иначе, как через отверстие в стене, желая работать в тишине, уединении и молитвах. Видя, что роспись длится очень долго, правитель приказал взломать дверь храма и вошел внутрь. Глазам его открылось страшное зрелище. У матери божьей были лицо и поза Андреуолы, у всех ангелов вдоль главного нефа, несущих пальмовые ветви и богослужебные облачения, было лицо Андреуолы, у всех святых, сколько их здесь ни было написано, было лицо Андреуолы, а Луиджи, живописец, стоял посреди храма на коленях, бил себя в грудь, стонал от ужаса и наслаждения, отовсюду на него глядела Андреуола… Тут правитель страшно рассердился на это кощунство, приказал соскрести живопись со стен, отдал Луиджи Аскольто, по прозванию Кьеппанино, Святоша, в руки палача, чтоб тот его удавил, и строго-настрого приказал девушке больше никогда в жизни не открывать лица. И это было исполнено. С тех пор ничего подобного не повторялось. Но вот теперь девушку с закрытым лицом увидал Агостино да Уливелло, молодой сиенский ваятель, пламенный поклонник прекрасного…
Они медленно идут по улицам, почти совсем пустым. Редко попадется какой-нибудь прохожий, жизнь замерла. Большинство жителей – в церкви либо на лобном месте, где сжигают колдунью, старую Лаверну, и соблазненную ею жертву, купеческую дочь Джанетту.
– Теперь слушай внимательно, Микеланьоло, – продолжал слабым голосом старый монах. – Агостино тоже загорелся страстным желанием увидеть лицо девушки. Собрав верных друзей, он осадил ее дом, был разбит солдатами правителя и приговорен к смерти, но сиенские женщины, по-прежнему любившие его, со слезами вымолили У правителя помилование. Тогда он был заклеймен палачом, наказан пожизненным изгнанием и прошел в рубище нищего все края, всю дальнюю чужбину – только для того, чтоб узнать, что если даже все колодцы и родники превратить в целебные источники, то все равно не вылечить сердца, раненного желанием. И он вернулся, открыто вошел в ворота Сиены, сознательно нарушил запрет, и народ сбежался отовсюду, его узнали, хоть он сильно постарел и опустился. Все шли за ним длинной молчаливой процессией до самого дворца, и вышел на балкон правитель, старик, никогда не снимавший доспехов, – узнать, чем вызвано это великое сборище. Он был страшно разгневан Агостиновой дерзостью, но, поглядев ему в лицо, замолчал. Тут народ упал на колени и стал просить за Агостино, который и в дальних странах не мог победить своего желания и пришел за смертью. Правитель уступил, и Агостино смог остаться в городе, – он остался и завел мастерскую, начал ваять… Не забудь, что он никогда не видел ее лица, кроме как в страстном желании своем, а желание это было безмерно. Он стал создавать одни только девичьи головы, одну прекрасней другой, все они должны были быть Андреуолой, но ни одна не была Андреуолой. Часто казалось, что он уже не в силах создать из камня ничего более прекрасного, возвышенного и совершенного, а он, с ввалившимися глазами и поседелыми висками, снова хватал камень, глину и создавал новое девичье лицо, еще прекрасней, чище и очаровательней прежнего, и ему опять было мало. Вся Сиена в изумлении глядела на эту борьбу Агостино с его мечтой, – ах, любовь! Какая мука и какая скорбь! Влюбленные плакали над ваятелем Агостино, все это должно было быть Андреуолой, а не было Андреуолой, и правитель стоял перед его созданиями – старик, всегда окованный железом, обремененный тяжким грузом своей власти, – пока наконец не уступил вновь умиленным просьбам. И спустя столько лет опять привели эту девушку и открыли лицо ее перед Агостино. И на этот раз он издал страшный крик, и, не в силах вынести внутреннего жара, сам не свой, кричал громким голосом. Оттого что, понимаешь, Андреуола стала безобразной. Столько лет не снимала она черной повязки – и лицо приобрело свинцовый оттенок, скулы резко выступили над провалившимися щеками, покрытыми мокрой, зудящей сыпью, лоб избороздили морщины, словно на нем потрескалась глина, покривившийся нос был неописуемо уродлив. Глаза – цвета щелока, губы – пожелтелые. Но хуже всего были волосы. Когда повязку сдернули, отвалились целые космы, обнажив над лбом, на висках и на темени большие проплешины, наподобие парши. Но стояла и смотрела она так, будто была по-прежнему молода и прекрасна. Столько времени ждала она этого мгновенья, так молилась о нем! Наконец-то солнечный свет на лице! Наконец-то без маски! Наконец – для любви! И тут Агостино понял, что только мечта его была прекрасна, а эта действительность – жесточе всех самых мучительных его ночей и часов. Что мечта одержала победу над ним и над жизнью этой девушки, но разбилась, погибла, как только он захотел увидеть эту мечту в действительности. Что теперь у него ничего в жизни не осталось, потому что та девица, из-за которой он столько выстрадал, стала безобразной, и только мечта его придавала ей красоту, но теперь перед ним уже не мечта, не красота, а отвратительная действительность, все пропало, борьба его была напрасна, он окончательно повержен. И, оставшись ночью наедине с самим собой, он раздробил молотком в мраморную пыль все свои создания, а потом бросился на меч, – таков был конец Агостино да Уливелло, безумного сиенского ваятеля.
Им оставалось пройти еще небольшую часть дороги, но на них уже пахнуло удушливым запахом гари, и они увидели железные шлемы солдат, охраняющих горящие костры, опершись на копья. Они пошли медленней.
– Ты еще ни разу со мной так не говорил… – прошептал Микеланджело. Бедный Агостино сиенский…
Тут старик встал перед ним, выпрямившись, и сгорбленная фигура его словно выросла высоко над мальчиком. И остался стоять, глядя сурово и твердо.
– Глупец Агостино! – воскликнул он. – Глупец Агостино! Тогда зачем же я тебе это рассказывал? Ты сказал, что я до сих пор никогда так с тобой не говорил, но фра Тимотео скоро умрет, у него мало времени, я должен был это тебе сказать, а ты мне вдруг: "Бедный Агостино"! Ты сейчас такой же слабенький, каким был тогда, перед камнем. Ослаб – есть здесь еще вещи, которые отнимают у тебя силы, – слабенький, оттого что чужд смирения. Задумал камень одолеть? Нет, это он тебя одолел. Вещи, в нем скрытые, хотят быть выявленными, как дары божьи. Но если они для тебя – не дары божьи, так что же они для тебя такое? Твори, но не ради гордыни и алчбы своей, как Агостино сиенский, а ради того, чтоб не была утрачена красота. Агостино глупец, говорю тебе! Потому что, приступи он к делу со смирением и пожелай увидеть не одну мечту свою, так знал бы, что только теперь девица эта стала прекрасной!
Схватив дрожащей рукой Микеланджело за рукав и притянув его к себе, он продолжал:
– Только извне была она прикрыта уродством, как до этого той черной завесой. Но красота, прожегшаяся внутрь, благодаря этому горела еще упоительней, чем когда была явной для всех. Только теперь она стала чистой, истонченной страданием и таинственной, – красотой, не вызывающей убийств, гибели, смерти. Ничего не было в той девице безобразного, просто она опять закрылась завесой, только теперь уже не тканью. Такая стояла она перед ним, он мог видеть и не увидел. А она так ждала! Так молилась! Была такая желанная и так желала. Как хотела она теперь отдаться, раздать себя, наполнить! Как богата была она теперь красотой! Под черной тряпкой она страдала от пренебрежения, но кто ее об этом спрашивал? Гнались только за ее прелестью, но стоило ей занавеситься, так все и кончилось, она осталась одна со своей красотой, занавесилась красотой, стала богатеть красотой. Тут ее замкнули в самоотреченье, и красота ее разгорелась еще пламенней, пока не появился пепел в виде серой маски, но это был только пепел томительных, тяжких дней, пепел одиночества, пепел заброшенности, а не пепел уродства, и кто имел мужество развеять его? Тот, кто жил одной мечтой и не думал о ее жизни? И потому – глупец Агостино, говорю я! Отведи он это новое покрывало от ее лица, все они там задрожали бы, как перед чудом, при виде возвышеннейшей красоты, украшенной болью и жертвами, как бы венчанной нимбом и отдающей теперь свои богатства даром. Развей этот пепел, раскрой девичью жизнь, дай новую форму страданья этой жизни, напряженной, как ребро ее тела, вырази одиночество – и поймешь, почему она теперь так прекрасна! Но у Агостино уже не было силы сдернуть это покрывало, оттого что ослаб от мечты, – не видел ее страданья, а видел свою мечту! Не видел мученичества красоты, да если б и увидел, то уж напрасно, – он ослаб от своей мечты. Не открыл божьего дара и потерял самого себя. Мечты высосали из него всю силу, как вот камень – из тебя, мечта его была тяжелая и черная, как камень перед тобой, мечта застыла, окаменела, сила в ней была, – но красота, понимаешь, та чистая, властная, таинственная… она всегда, как душа, выше этой мечты. Он об этом забыл, и ты об этом забываешь. Вот почему я должен был рассказать тебе про этот случай. Он не увидел жизни этой девицы и потому не увидел и своего создания. Не увидел его. Оттого что не увидел ее боли.
У Микеланджело было такое чувство, что впереди стало светлей, тучи разорвались и этот старик стоит в отвесном столбе света – в конце пути. До сих пор никто так со мной не говорил. Я его не узнаю. Неужто это в самом деле фра Тимотео, вечно опасающийся, как бы монастырская братия не признала его ненужным? Скользнул по нем взглядом и впервые увидел его рваную латаную рясу, которая до того пропотела, что даже заскорузла, рясу, прошедшую сквозь бесчисленные ливни и бури, одежду, утратившую свой цвет и покрой, разодранную во время евангельских хождений – терниями и зубами деревенских собак, одеянье монастырское и могильное, одежду праздничную и погребальную его рясу… Да, это в самом деле фра Тимотео. Он до сих пор никогда так со мной не говорил. Я стоял перед камнем, который высасывал из меня силу. Я не знал об этом. Красота всегда выше мечты… будь это камень чистый или нечистый, будь зверь, пророк или могила, я должен каждый раз овладеть этой материей, не покориться ее обману, биению ее мраморной крови. Я – человек. Тьма, имеющая форму. Нечистый камень, фавн, желающий драться, страшные сны, невозможность дальше работать после "Битвы кентавров", жизнь, натянутая, как тетива, пустые ночи и пустые дни, материя, которая сопротивляется, не хочет быть выраженной, обманывает, мечта, мечта. Агостино ослаб и не мог ничего сказать, как раз когда все шло ему в руки. Душа… Тучи разорвались, и в конце дороги в отвесном столбе света стоит этот старик. Не узнаю его. Это в самом деле фра Тимотео, всегда такой нерешительный, робкий? Я скользнул взглядом по его сгорбленной фигуре и в первый раз увидел его босые морщинистые ноги, стариковские ноги, жилистые и мозолистые, со сбитыми пятками, ноги, изможденные блужданьями, ноги нищего, с синяками, ссадинами, кровоподтеками, струпьями, и понял: да, это в самом деле фра Тимотео.
– Фра Тимотео… – всхлипнул он. – Вы так меня любите?
– Люблю, – подтвердил монах, и полное морщин, загорелое лицо его озарилось улыбкой. – Люблю, Микеланджело, и потому нынче рассказал тебе это. Я за тебя испугался, когда увидел, что мечта разрастается выше твоей силы, как мечта Агостино разрослась выше правды красоты. Мне уж недолго осталось жить, и все, что я в мире сделал, я почитаю ничем. Ничего мне от мира больше не надо, кроме полдюжины досок да двух кирпичей под голову. Но насчет тебя верую, что ты когда-нибудь премного прославишь творца. Сколько раз меня брал страх за тебя, сколько ночей провел я в молитвах о тебе, и всякий раз такая сладость вступала в сердце мое и наполняла душу, словно преблагой господь хотел мне показать, что молитва моя о тебе не напрасна. И посвятил я тебя патрону нашего города святому Иоанну Крестителю, а ты бы должен был еще выбрать в хранители себе какого-нибудь святого апостола, – сделай это, Микеланьоло, по-моему, каждый христианин должен себе выбрать одного из святых апостолов и всю жизнь ему отдать, ибо написано, что они будут судить двенадцать колен. Каждый просил бы тогда не только заступника своего, но и судью.
Старичок еще сильней оперся на плечо подростка и продолжал.
– Много я о тебе старался, очень много. Слышал я, что дома тебя бьют, так, думаешь, легко мне было? Ласточкой хотел я полететь к тебе, спеть тебе песню доверчивую, веселую! Видел, что ты в презренье и посмеянье ото всех, так что делал я? С мыслью, к небесам воздетой, смиренно просил господа, что лучше бы мне то посмеянье нести, ведь я привычен. И когда ты перешел к Медичи и пошла молва о том, что правитель любит тебя, ступайте, сказал я, тати угрюмые и полные ненависти, – так я сказал всем сомненьям своим, – вы его раните, но убить не можете. И видишь, мальчик мой, видишь, отошли тати с великой злостью, изранили тебя, а убить не могли. Как я люблю тебя… А ты потом, как состаришься, забудешь монаха нищенствующего, но поверь, немало ударов я от тебя отвратил, и это хорошо. Да не к тому я эту речь веду, чтоб мы плакали, а к утешенью нашему и в надежде на жизнь вечную и на будущее наше, а ты не благодари меня и ничего мне не говори, а прибавь только: аминь.
– Аминь! – прошептал Микеланджело.
– Так. А теперь постучи в калитку, успокоимся.
Микеланджело постучал в калитку, и они успокоились.
В ЧАС РЫБЬИХ ЗВЕЗД
Полдень длился. Небо было прозрачно-синее. С лобного места разносился во все стороны глухой гомон. Там в дыму и пламени погибали две женщины.
Потому что шут Скарлаттино, княжеский забавник, вдруг вспомнил о мертвом ребенке и пошел искать его могилу. Нигде не найдя, он стал расспрашивать про старуху, описав ее безобразие так верно, что сразу узнали Лаверну, и она, хоть не могла указать шуту могилы ребенка, все-таки свела его на кладбище и сказала, что он похоронен вот здесь. И шут стал носить туда цветы, плакал и причитал, так что наконец об этом проведал богатый купец, чей ребенок лежал в этой могиле, и пришел в ужас от срама, устроенного забавником Медичи. Его слуги избили шута, но Скарлаттино так яростно защищал могилу и так вопил, что сбежался народ, пришли бирючи и разгневанный священник, и Скарлаттино, рассказав им все, проклял старуху, указавшую ему не ту могилку. Выяснилось, что старуха занимается колдовством, священник и бирючи насторожились – а куда дела ребенка? Только под пыткой призналась она, и на дому у нее были обнаружены страшные вещи. Раскрылась тайна многих загадочных преступлений. Найдены также странные скелеты – не только детские, но и звериные, затем – адские предметы, высушенные змеиные тела, разные кости, черепа, и черные книги, чародейные амулеты, окровавленные котелки, зодиак из рыбьих костей, строго запрещенный Святой инквизицией, тигли под названьем Terrae vivificatio 1, месилки, испещренные пятнами странных оттенков, загадочные минералы, обрубки деревьев, ртуть, сурьма и сера, в склянках – быстро действующие яды, и всюду – запах падали, гнили, брожения, гноя и нечистот. Ядовитые грибы, гнилостная плесень заставляли скользить ноги входящих, марая своей слизью их башмаки. Летучие мыши спали среди стропил, повиснув друг подле друга, как живая колдовская азбука, филин, разбуженный блеском лат, испуганно заухал на старуху, повинную суду, огню и аду. Матрона грабителей еще надеялась на своих друзей, но они попрятались кто куда, как только услышали о заточении нимфы Лаверны. Тогда она стала надеяться на помощь вражьей силы, но у нее не было при себе ни книг, ни волшебной палочки, ни предмета, выкраденного из церкви, и, кроме того, она была вся выбрита, лишена всех порослей и волос, чтоб ничем этим не могла колдовать, призывая на помощь дьявола. Домик ее разрушили, место, где он стоял, посыпали солью, и священник торжественно прочел над ним начало Евангелия от Иоанна, главу первую, стихи с первого по восемнадцатый, но, читая, вдруг увидел, как из болотистой почвы выбился длинный зеленый пламень, – это дьявол высунул им язык. Все разбежались и вернулись только после полудня – подобрать брошенные кропило, епитрахиль, шлемы и флаг города.
1 Оживление земли (лат.).
Прекрасная купеческая дочь Джанетта, брошенная любовником, наведалась как-то к старухе, оттого что в ее покинутое сердце вдруг робко толкнулась детская ручка. Джанетта приняла лекарство, приготовленное из трупика, чтобы в ней умерло ее дитя, но оно слишком долго росло в ней, стало уже упираться ножками в живот, и она чувствовала, что ребенок не хочет умирать. Тогда старуха взяла черную книгу, сварила еще более сильных, крепко настоянных зелий, дала Джанетте выпить и – probatum est 1 – ребенок умер. Но злоязычные кумушки кое-что заметили, и стража застала Джанетту еще в постели. А в это время старуху пытали, и когда у нее затрещали дробимые железными тисками ноги, она, вопя, призналась, что убили они вдвоем с Джанеттой, что ребенок вышел при свете месяца и что она объяснила Джанетте, как свернуть ему шейку, призывая на помощь семь адских чудищ, которые вскоре пришли и радовались тому, что ребенок погиб от материнской руки, а не в тряпье старой Лаверны. Всего этого было довольно для мучительной казни, ибо в книгах Городового права записано: maleficos non patieris vivere – чародеев не оставляй в живых. И вот обе они горели вместе, потому что вместе занимались колдовством и вместе убивали.
1 Средство испытанное (лат.).
Кругом было полно народу, все с любопытством следили, которая раньше умрет и не появится ли в огне особое знамение, обычно указывающее на присутствие поблизости дьявола. Никто не уходил, к ужасу примешивалось все больше любопытства, – долго ли еще будут гореть, хоть, правда, судьи, сжалились над юной красою Джанетты и приговорили ее к более быстрому сожжению. Поэтому палач сложил костер для Джанетты из одних только сухих дров, устроив ладные продушины, проходики и расстояния, согласно правилам своего ремесла, да еще облил горючим и не наложил на сердце Джанетты холодной повязки, как старухе, которой предстояло умереть медленной, мучительной смертью и костер которой был сложен иначе – так, чтоб столб хорошенько вытарчивал, продушины были устроены по-другому, и малые проходы между дров были тоже не такие: чтоб хлестал только чистый огонь, а дым не задушил старуху раньше времени, и цепь тоже была довольно длинная, потому что ведь старуха будет плясать, прыгать по горячим доскам, пока искалеченные ноги ее не прожжет самый жгучий жар.
Костры пылали. Вот заблестело обнаженное девичье тело у столба, оттого что первый пламень смел с нее смертную рубаху. Огонь охватил нежный изгиб ее бедер, один пламень поцеловал маленькие груди с набухшими сосками, поцеловал и, оставив на них розовый след, ушел в дрова. Волосы у девушки были уже полны жгучих искр, но вскоре эта рубиновая сетка превратилась в пламя, и горящие волосы рассыпались по плечам, груди и спине, а болезненный крик ее прорвался сквозь гул огня и ветра. Молодую наготу ее уж лизали со всех сторон пламена, ползали по ее животу и напряженным ляжкам, грызли ей бока и колени, а один вскинулся выше всех, вырвал кусок предплечья и опять свернулся, лег к ногам, как пес. Народ глядел и кричал. Столб начал понемногу наклоняться, – было ясно, палач облегчил, как только мог, слабо утвердив столб, и дерево с девичьим телом валится теперь в огонь, покрытая пурпуром девушка падает на огненное ложе. Огонь взметнулся одним стоязыким пламенем. И тут палач, как обычно в миг смерти, трижды прокричал ее имя. И люди, ее знавшие, наконец с ней простились, и вслед за этим все воскликнули: "Джанетта! Джанетта!" – в то время как она, неистово натянув тетивой свою наготу, с глазами, покрытыми серой повязкой пепла, все время извиваясь, отдавалась смерти. "Джанетта!" – крикнули ей в последний раз, но она не ответила.
Но тут старуха, чья покрытая струпьями кожа уже лопалась от сухого жара, в минуту невыразимых мук вспомнила, что это – ее имя, что она и есть та самая Джанетта, которую кличут последний раз – в утешенье умирающему. Все вдруг пропиталось белым зноем жадного огня. Она – Джанетта, у нее имя, прекрасное, как она сама, она из рода Фоскари, цвет лица ее белей нарциссов, фигура полна прелести и услад, сыновья патрициев ходят в храм ради нее, мечтая о любви, пылко клянясь своим именем и родом, но она отдала свое сердце одному – это дворянин Джано Торелли, который всегда ждет ее у кропильницы и стонет от любви. Она была Джанеттой, а теперь вокруг тела ее обвилось жаркое пламя, как голый любовник, в спальню ворвались братья, они ненавидели Джано из-за родовой вражды и пронзили его на ее теле, голова его жжет и палит, она ее нашла, положила в цветочный горшок, голова сгнила, она посадила цветок, поливала слезами, а теперь из-за паденья горящего тела купеческой дочери часть костра обвалилась, расстроились замысловатые продушины, поднимается запах гари, тщетно палач, подбежавший со своими подручными, старается поправить и выровнять дрова длинными крючьями, поднимается дым, все выше и выше. Цветок рос и благоухал, благоухал, как поцелуи любимых губ, она долго нюхала гарь, не могла нанюхаться, цветок тянулся к самым ее губам, она наклонялась к нему, цепь была достаточно длинная, чтобы плясать, но она не плясала, а наклонялась, нюхала, запах гари поднимался, цветок рос, и она вдыхала это благоухание, пока душу ее не взял дьявол.
Прозрачно-голубой день длился. Народ стал расходиться, а палач собрал пепел в большие сосуды, сошел, окруженный стражей, к Арно и кинул все в волны.
Микеланджело вышел из монастыря. Он шел медленно, погруженный в свои мысли. Приор Сан-Спирито – отец Эпипод Эпимах говорил с ним мудро и ласково. Он много слышал о лучшем ученике старейшего маэстро Бертольдо Микеланджело, а клирос в Сан-Спирито нуждается в красивом распятии. Монастырь щедро заплатит, но приор хочет наградить молодого художника еще иначе. Только Микеланджело никому не скажет? Ну так приор, ученый муж, будет тайно пускать его в мертвецкую, где Микеланджело сможет изучать анатомию на трупах. Конечно, Святая инквизиция это строго запрещает, но приор, ученый муж, убежден, что Святой инквизиции придется однажды признать не одну свою ошибку и не считать оскверненным кадавер, которым пользовался для своих занятий художник. Приор Сан-Спирито – отец Эпипод Эпимах, ученый муж, с улыбкой думает о том дне, когда Святую инквизицию поставят на место, чтоб она не мешалась в вопросы веры и искусства. Ведь художник должен знать решительно все, что ему потребно для его искусства, иначе он никогда не вырвется из плена этих искаженных, неправдоподобно высохших, вытянутых или скрюченных форм человеческого тела, в котором коснели предыдущие столетия, чье искусство теперь просто смешно… Тут примером должен служить мессер Леонардо да Винчи, изумительное искусство которого так насыщено свежими анатомическими познаниями, и приор получил от своих миланских собратьев сведения, что мессер Леонардо простаивает целые ночи, запершись с человеческими трупами – казненных или умерших своей смертью, которые он покупает за большие деньги и подвергает вскрытию… Мессер Леонардо теперь надолго забросил живопись и пишет книгу по анатомии, где описывает и рисует конечности, мышцы, кровеносные сосуды, кости, внутренности, все, что можно распознать в мужском и женском теле, и он успел разъять уже более тридцати человеческих тел… Приор восхищен мессером Леонардо и сам знаком с разными тайнами трав, металлов, звезд, знает многие de miraculis occultis naturae 1, о которых пока не следует громко говорить.
1 Из тайных чудес природы (лат.).
Микеланджело с радостным удивлением принял заказ и опять поцеловал гладкую белую приорову руку, вдохнув горьковатый запах растительных соков, которыми была продушена ее кожа.
– Ты не принадлежишь к этой грубой черни вокруг нас, – серьезно промолвил отец Эпипод Эпимах. – Не принадлежишь к тем, которые считают, что служат богу бормотаньем молитв и уничтоженьем красоты. Ты – художник Медичи, и я говорю с тобой как с таковым. Ты будешь ходить в нашу покойницкую и можешь оставаться там, сколько хочешь. Но сохрани это в тайне. В пору, когда Савонарола морочит народу голову своими воплями, не надо, чтоб прошел такой слух.
Вот о чем думал Микеланджело, возвращаясь теперь домой, – он будет с великой любовью ваять распятие… и в то же время будет изучать анатомию! Изучать так же настойчиво и упорно, как мессер Леонардо в Милане. Нельзя упускать такую замечательную возможность. Но если б только об этом прослышал дядя Франческо! Порыв страха развеял эту мысль. Дома теперь, наверно, уж тревожатся, куда я пропал! Но я их успокою, скажу, что буду ваять распятие для монастыря Сан-Спирито! А деньги все, все им отдам, потому что у меня будет прибыль посущественней: изучать анатомию на трупах…
Войдя, он сразу почувствовал царящую в доме напряженность и понял: произошло что-то, имеющее отношение к нему. Он тревожно и растерянно огляделся. Дядя Франческо и братья, вернувшиеся с казни старой Лаверны, сидели хмурые, дядя при виде его встал и, заложив руки за спину, принялся расхаживать взад и вперед по горнице; отец – какой-то странный, немного смущенный, как будто чему-то рад, но при этом не уверен, следует ли ему радоваться, имеет ли он для этого основание… Юноша поздоровался и робко сел за стол. Сейчас дядя Франческо, конечно, уйдет к себе в комнату, он не ест с каменотесом. Но дядя Франческо не уходит! В чем дело? Микеланджело глядит на огонь в очаге, – как долго длится тишина, все молчат… Монна Лукреция поставила на стол дымящуюся кастрюлю с кашей. Каша кипит, еще не перестала кипеть, но успеет остынуть, прежде чем дядя Франческо прочтет до конца все молитвы, потому что сейчас дело идет уже не только о короткой молитве перед принятием пищи, как бывало прежде, – теперь молитвы долгие, без перерыва, дядя молится перед кастрюлей, как перед алтарем. Но что же уравняло меня с ними?
– Пока ты пропадал, Микеланджело, – важно начинает отец, – к тебе тут приходил один дворянин по делу.
Юноша с изумлением привстал, схватившись обеими руками за край стола.
– Да, – продолжает Лодовико Буонарроти, – его прислал за тобой Пьер Медичи, хочет, чтоб ты вернулся к нему, ко двору…
Микеланджело уставился на отца и побледнел.
– Пьер присылал за мной… – выдохнул он. "Это Джулио и Полициано!" мелькнуло у него в голове.
– И ты пойдешь? – прошипел дядя, подойдя вплотную к нему.
– Пойду! – ответил Микеланджело, и голос его дрогнул от счастья.
Значит, он опять сможет оставить эту духоту, этот спертый воздух, это тюремное существование и вернуться в сады, в Медицейские сады.
– Значит, опять пойдешь к своим, к язычникам! – язвит дядя, и лицо его становится красным. – Тебя, видно, только могила исправит. Ты – позор семьи, и притом навсегда! Будешь и дальше работами своими навлекать на Флоренцию гнев божий, который мы своими молитвами стараемся отвратить.
– Я перестану быть в тягость… – прошептал Микеланджело.
– Так изменись! – вскипел дядя и ударил кулаком по столу. – Стань порядочным человеком, как твои братья, выбери себе приличное занятие – вот и перестанешь быть в тягость. Но это пустые слова, ты совсем пропащий и вернешься к своим отвратительным Медичи, этому позору Флоренции!
Тут в сердцах вскочил с места и подошел к столу Лодовико Буонарроти. К нему тотчас подбежала и повисла у него на руке монна Лукреция, но старый Лодовико ударил по столу другой рукой. Никто не смеет, будь это хоть его родной брат, дурно говорить о Медичи. И мальчик прав. Коли уж он стал каменотесом, так пускай хоть работает под покровительством правителя. А Пьер знает, что значит править, Пьер знает, что такое меч и сильный кулак, Пьер не станет якшаться с любым канатчиковым подмастерьем, как делал Лоренцо Маньифико, – тем больше чести для парня…
– Если Лоренцо был язычник, – крикнул дядя Франческо, – так Пьер в сто раз больше язычник. А насчет правительственных способностей… Знаешь, какого о них мнения Синьория? Не знаешь, так я тебе скажу! Как раз нынче Синьория обратилась, через своих особых посланных, к Савонароле с просьбой разработать для Флоренции новый основной закон.
– Не может быть… – воскликнул иссиня-бледный Лодовико.
– Почему не может быть? – торжествуя, возразил дядя Франческо. – Это правда. Разве ты не знаешь, что Пьер хочет быть тираном, не знаешь, что он хочет при помощи насилия отнять последнюю свободу у города и забрать всю власть в свои руки? А какая у нас защита от него? Савонарола! А Медичи потеряют последнее, что имели. И к такому человеку ты посылаешь своего сына!
Лодовико ошеломлен, – удар слишком неожиданный. Не хватало только, чтобы великому и славному городу, более могущественному, чем Рим, писал законы доминиканский монах. Да это просто смешно. Что они все – рехнулись, ошалели?.. И тут дядя Франческо выкрикнул фразу, звучащую как призыв, как боевой приказ, который слышен теперь на всех улицах города:
– Иисус Христос – царь Флоренции!
А братья встали и нараспев, как стих церковного песнопенья, восторженно подхватили:
– Мария – ее царица.
– Аминь, – набожно прошептала монна Лукреция, услыхав имя матери божьей и не поняв, о чем спор.
Лодовико Буонарроти не знает, что сказать. Ничего не может понять в том, что творится вокруг, бывший член Коллегии Буономини, которому принадлежит теперь место у ворот, приносящее восемь золотых доходу. Останется ли это место за ним, после того как Флоренция получит монашеский закон? Ведь в Евангелии мытари выступают всегда носителями зла, – не упразднит ли Савонарола мытарей? Но, с другой стороны, – мытарем был Закхей, а Христос трапезовал у него, мытарем был раньше и святой евангелист Матфей, – нет, не упразднит мытарей Савонарола! Лодовико опустил голову с видом человека до крайности утомленного. Нет больше на свете правителей… монахи диктуют свою волю государствам, и славная, могучая Флорентийская республика просит чернеца дать ей закон и порядок, нет больше правителей, удивительно устроен мир! "У тебя слишком скромные желанья, Лодовико", сказал тогда печально правитель. И хорошо, что у меня скромные желанья, Савонарола не упразднит мытарей. А у Пьера желания нескромные, он хочет быть тираном, и против него восстают народ и Савонарола. С Медичи покончено. Ихние желания были нескромные.
А дядя Франческо все гремит. Папский Рим осужден на погибель, ибо злодеяния Иннокентия вопиют к небу. Так сохраним, по крайней мере, Флоренцию, а потом создадим новый мир, новую землю, покорную единому богу! Микеланджело сидел, повесив голову, прижав руки к груди с такой силой, что даже было больно. Он пойдет, непременно пойдет, вернется к Медичи. На радостях он забыл, что произошло после смерти Лоренцо. В доме воцарились новые нравы, Пьер всегда строго следит за тем, чтоб не допускать малейшей близости с людьми низкого происхождения. И не хочет иметь ни художников, ни философов, а только придворных, и это по душе жене его Альфонсине Орсини, матери – Клариссе Орсини, римским княжнам. Давно миновали те времена, когда Лоренцо Маньифико гулял в садах с мессером Поджо и мессером Никколо Никколи, разбирая на основе Пятой книги Аристотелевой "Политики" вопрос о благородстве: что определяет место человека – ценность его или происхождение, – и Лоренцо отстаивал слово eugenia, означающее "благородство", а Никколо доказывал, что дворянин только тот, кто хлопочет об общем благе, – это nobilis, что значит "превосходный". И Лоренцо склонился потом к точке зрения своих друзей, перестал признавать благородство просто по рождению… Давно миновали те времена, Пьеру никогда не пришло бы в голову беседовать о том, применимо ли к нему только понятие eugenia или также и nobilis, он никогда не читал Аристотеля, и единственная книга, которая его интересует, это сочинение мессера Морпурго "О женских проделках". Впрочем, сейчас здесь в моде испанцы, а испанским гидальго никогда бы в голову не пришло вести такие речи, гранды разговаривают о благородстве мечом, а не спором с философами. Другие нравы воцарились в доме Медичи, и ушли все художники, Платоновская академия нашла приют во дворце Ручеллаи, только Полициано остался… Ушел и Микеланджело… а теперь Пьер послал за ним своего дворянина, зовет обратно. Он вернется, вернется! Жизнь утонченная, благородная, всюду красота, благоухающие сады, умные речи, мне семнадцать лет, я пойду! И буду работать, опять много работать, творить среди великих сокровищ искусства, окруженный любовью Джулио и Джулиано Медичи, работать, не встречая обид, презрения и ненависти. И всегда найду там возможность создать распятие для Сан-Спирито и заодно изучать анатомию. Мне привалило счастье. И жизнь передо мной – богатая, плодотворная. Научусь и придворным манерам, буду слушаться Пьера, буду ему служить. Разве придворные нравы окажутся для меня тяжелее вот этой жизни, полной обид от братьев-менял, ненависти дяди, который теперь громко и гневно повторяет сегодняшнюю послеполуденную проповедь Савонаролы, брызгая вокруг словами, как слюной? Там у меня будут друзья, работа. Там никто не будет надо мной смеяться, наоборот, там будут ждать от меня новых и новых, все более прекрасных произведений… Микеланджело встал. Решено. Он глубоко и блаженно вздохнул, будто избавившись от великой тяжести… Но в тот же миг в голове его мелькнула мысль, властно заставившая его опять сесть на лавку. Все рухнуло. Нет, никогда больше не вернется он к Медичи. И, снова сжав руки, он застонал.
Материнская рука. Вперив взгляд в догорающий уголь очага, он не заметил, что монна Лукреция тихонько подсела к нему и ласково погладила его по волосам.
– Ну как, сынок? – прошептала она. – Что решил?
Наклонившись, он приник головой к ее плечу, потому что это был удобный отдых и к тому же так можно было не глядеть ей в глаза, а она не видела его.
– Не пойду никуда, мамочка… – нежно шепнул он в ответ.
Она промолчала. Рука ее соскользнула с его волос ему на руку и остановилась там, слегка дрожа. И в молчании ее было такое изумленье, что он прибавил:
– Здесь Граначчи… я вспомнил о нем, и – все решилось. Мы с ним клялись друг другу, да если б и не клялись, пора мне отблагодарить за его тогдашний поступок. Я сделаю, что он сделал тогда. Я могу сказать Пьеру то, что Граначчи сказал Лоренцо: "У меня есть друг, и я не пойду без него". Но Пьер – другой человек. Граначчи слишком горд и никогда не будет служить, Пьер это знает и никогда не позовет Граначчи к своему двору. И все решено. Я не могу идти без него, а он никогда не будет позван. Так что остаюсь у вас.
Сказав это, он как будто только тут ощутил всю тяжесть своего решения. Духота вокруг сгустилась так, что у него отнялось дыханье. С очага поднялся пепел и покрыл его от головы до ног. Изрезанный грубый стол с засохшими пятнами еды, обшарпанная жесткая лавка, узкие окна, пропускающие лишь слабый свет, потолок провис, и стропила его полны червей, гусениц, насекомых. Пауки все ткут вечные свои сети, много уже накопили, а все ткут, все густо завесили паутиной, – он будет пробираться к своему будущему, облепленный их волокнами. На что ни глянешь, к чему ни притронешься, всюду следы ненависти. Ни один угол ему не принадлежит. И миску, из которой он прежде ел, после его ухода сейчас же отдали собакам. Все вещи насмехаются над ним. Ничего нет здесь милого, душевного, все – отчуждение и насмешка, ненависть, все здесь дышит дядей Франческо. Микеланджело останется здесь. Это решено. Он опустил руки. Монна Лукреция прижала его горящую щеку к своей. Он услыхал, что она тихо плачет.
Дядя Франческо резко повернулся к ним.
– Если он не слушает слов Священного писания, это не удивительно. Но тебе следовало бы прислушаться!
– Микеланджело не пойдет к Медичи, – ответила она.
Тишина. Дядя захлопнул книгу и вопросительно, испытующе поглядел на юношу.
– Он – друг Франческо Граначчи, – продолжала монна Лукреция голосом, в котором слышались слезы. – И никуда не пойдет без него. Они обещали друг другу.
– Я так и знал! – воскликнул, ликуя, дядя и подошел к Микеланджело вплотную, словно собираясь взять его за плечи и вытащить из теней, в окружении которых тот сидел.
Торжествующий голос дяди забрался теперь так высоко, что срывается. Он говорит быстро, торопливо.
– Ты знаешь, кого сожгли нынче за городом, Микеланджело? Колдунью сожгли, а тебя там не было, и Франческо Граначчи не пришел посмотреть, а ведь там собралось столько добрых христиан. Вы оба отсутствовали, вам не захотелось смотреть на казнь колдуньи, – понимаю, что не захотелось! Потому что знаешь, кого там когда-нибудь сожгут? Приятеля твоего Франческо Граначчи сожгут там, ведь он тоже колдун.
Микеланджело вскочил, смертельно бледный.
– Колдун, который пишет святые картины! – засмеялся дядя. – Вот оно как. Ты ничего не знаешь насчет его путешествия в Нурсию, город Сполетского герцогства? Не знаешь? Странно: друг, а не знаешь! Но мы знаем! Фра Джироламо усердно печется об искоренении всего, что мешает царству божию во Флоренции, мы внимательно следим за вами, мы создали особые группы, которые изучают всю вашу жизнь, художники и философы, и основательно изучают, ничего не остается тайного. Был Граначчи в Нурсии у колдуньи Сивиллы или не был? А коли был, что там делал? И каким образом ты к этому причастен? Он ничего тебе оттуда не привез, ничего там для тебя не просил? Вы дали друг другу клятву? Верю, охотно верю, что дали, ведь дело идет о жизни. Верю, что ты теперь не хочешь никуда без Граначчи, верю, что он – твой лучший друг. И так было еще до того, как сюда пришел святой человек фра Джироламо! Мальчишки еще, а уж один отправляется к колдунье, а другой, тоже язычник, ждет его и обещает ему верность! Но там сожгли, понимаешь, славно сожгли там, за городом. Кричать будете от ужаса и боли, просить о пощаде, – не поможет. Так-то вот, Микеланджело! Сношения с колдуньей? Против этого есть булла Summis desiderantes affectibus, есть строгие гражданские законы, а теперь будут новые, еще строже. Не рассчитывай, что каждого, уличенного в сношениях с колдунами, мы будем подвергать быстрому сожжению, чтоб сократить их муки, не думай, Микеланджело, что знавшие о злодеяниях этих проклятых служителей дьявола и не донесшие будут сжигаться быстрей, нет, нет. Костры горели. И костры еще будут гореть, Микеланджело, помни об этом, будут…
Лодовико Буонарроти встал, подошел к брату, – его нельзя было узнать. Черты лица его сковал мороз, глаза стали серые. От снега волос веяло холодом. Он шел не как старик, а выпрямившись, тяжелый, каменный.
– Ты… смеешь… грозить… моему сыну… костром? – прохрипел он.
Пронзительный испуганный крик монны Лукреции, кинувшейся с раскрытым объятием к Микеланджело. Но юноша опередил ее. Одним толчком открыл дверь и, ни на кого не глядя, ушел во тьму.
Перед ним ночь и пустота. Он сделал несколько шагов и, как подкошенный, упал в траву, влажную от ночной росы, охладившей его пылающее лицо. Веки были тяжелые и болели, словно раздраженные каким-то воспаленьем. Пальцы впились в землю. Хватая открытым ртом воздух, он чувствовал, что вот-вот извергнет всю кровь из сердца, подступившую к самому горлу. Мозг был сухой, выжженный. Юноша лежал, как неодушевленный предмет, лежал долго. Не подавал голоса, – и глаза его тоже были сухи, их жгло и резало. Он лежал так под грузом ночи, тьма навалилась на него, словно усеянный прожилками мрамор. Долгое время прошло над ним, пока снова не наступил час рыбьих звезд и он не продрог, – видно, скоро рассвет. Тут он медленно встал, тяжело и неуверенно опустился на камень, поглядел прямо перед собой; голова тупо болела. Медленно, нерешительно возвращались мысли. Куда теперь идти? Куда? Ясно, он свяжет свой узел нищего, узел слоняющегося по княжеским дворам и монастырям безносого странника, – и пойдет. Куда? Где теперь фра Тимотео? Мы пойдем с ним вместе, будем читать молитвенник нищеты, шагая вдоль канав, под лай заляпанных грязью злых собак, – два человеческих камня на пути, подобных дорожному праху. Нет, пойду один. Буду всегда один. Он прижал руки к вискам. Ночь волочила свое бледнеющее покрывало по его разгоряченному лицу. Куда угодно, только вон из Флоренции, подальше от этого города, где меня страшит каждый камень. По улицам ходят мертвецы с сжатыми руками, на небе горит новая ядовито-зеленого цвета звезда, люди видели, как на статуях выступает кровавый пот. Вон из Флоренции, где говорят только о гибели, исчезновении, где грозятся сжечь, где сулят только костер, вон из этого города!.. Но куда? Куда же теперь?
Вдруг его озарило. Папа. Рим. Папа ищет новых художников.
Иннокентий Восьмой пышно принял в Ватикане Полициано, и Полициано, конечно, сейчас же напишет мне рекомендательное письмо к его святости. Иннокентий Восьмой до сих пор ни в чем не отказывал Медичи, вот я и попрошу Пьера, и он напишет письмо к его святости. Иннокентий Восьмой, нарушив церемониал, устроил торжественную встречу юному кардиналу Джованни, – вот я, как приеду в Рим, и попрошу кардинала Джованни, и тот введет меня к его святости. Как это мне раньше в голову не приходило? Папа ищет новых художников, я явлюсь с рекомендацией Медичи. А если вернусь когда-нибудь сюда, так только затем, чтоб посмеяться над этим городом… Я был медицейским художником. А теперь стану художником папским.
Одно прибежище: папа. И я устремлюсь к этой последней своей надежде так пламенно, что бог, наверно, услышит меня.
Теперь июль, паркий июль. Что – римские ночи в июле такие же паркие и душные, как эта? Июльский жар. Но сейчас начнет светать… Час рыбьих звезд… В эту пору улицы там, наверно, безлюдны, пустынны, город дышит зноем, всюду мир и покой, все кардиналы и богачи уехали за город…
Час рыбьих звезд.
Но в этот час римские улицы не были безлюдны и пустынны, в городе не было мира и покоя, и все кардиналы поспешно вернулись из своих летних резиденций, потому что в этот час умирал папа.
Тяжелым шагом маршируют по улицам войска церковных сановников. Канцлер церкви кардинал Родриго Борджа и кардинал св. Петра в оковах Джулиано делла Ровере, давние недруги, поспешно укрепляются в своих дворцах. Между солдатами их уже кипит настоящая битва. Четыреста воинов в полном вооружении осадили Ватикан. Потому что умирает папа. У Понте-Систо идет ожесточеннейший бой между баронами. А чернь штурмует ворота, в город ворвались разбойники из окрестностей, до сих пор не внесшие положенной платы за безнаказанность. Граф Питильяно, главнокомандующий, ударил по ним со всей силой, но уже прибежал гонец с известием, что командование римским гарнизоном поручено Жану де Вилье де ла Гросле, представителю французского короля. И велел графу Питильяно повернуть пушки против города. Умирает папа. Савелли уже пробились к новым улицам и хлынули кровавым половодьем, грозя испанцам смертью. Кардинал-канцлер приказал увезти принца Джема под охраной, не забывая о сорока пяти тысячах Баязетовых дукатах, хоть и умирает папа. На Эсквилине бушует пожар. Через ворота Портезе бежит переодетый папский сын Франческо Чиба, не пожелавший остаться у смертного ложа отца, так как дело идет о жизни и смерти. Недолго длилось его пребывание на посту верховного кондотьера церкви, это была грубая, бесстыдная проделка, насмешка, – не война, так как он быстро распродал все, что должен был охранять, – имущество церкви, церковные города и земли к северу от Рима, потом область вокруг Витербо и Браччано, выгодно продал все это врагу, Вирджинио Орсини, верховному кондотьеру неаполитанского короля. И вот бежит, чувствуя на себе коготь Борджа, бежит папский сын, вымогатель, торговец индульгенциями и картежный мошенник, оставив жену с ребенком на милость врага – в Риме. Перед базиликой св. Петра идет отчаянная резня, там бьются воины семейства Фарнезе. Умирает папа.
Гул пушечной пальбы доходит даже до постели умирающего, вокруг которого идет жестокая перебранка. У стен стоят коленопреклоненные монахи бенедиктинского ордена, – молятся, но никто не слышит их молитв из-за дикого галдежа и рева кардиналов, спорящих о ключах от замка Святого Ангела. А папа уже не может говорить, он только кивками головы показывает, что ключи должны быть у канцлера церкви кардинала Борджа. Монахи молятся, умирающий папа кивает головой, с окровавленных улиц доносятся выстрелы, а кардинал Борджа, через постель умирающего, тычет кулаком в нос кардиналу Джулиано и орет, что тот – негодяй и разбойник. А кардинал Джулиано, через постель, где в агонии кивает головой папа, – мечет ругательства в кардинала Родриго, называя его цыганом и сыном испанской курвы. Под их размахавшимися руками с тяжким хрипом умирает папа Иннокентий Восьмой. У стен стоят коленопреклоненные бенедиктинские монахи и усердно молятся о блаженном успении. И молитва их услышана. Потому что, когда Родриго и Джулиано уже хотели, сжав кулаки, броситься друг на друга, подскочили кардинал Сфорца и кардинал Колонна, развели разъяренных противников, и, воспользовавшись этим мгновеньем тишины, папа поспешно умер, что совершилось в час рыбьих звезд, когда ночь распахнула свое бледнеющее покрывало, в час рыбьих звезд, на рассвете двадцать пятого июля в лето господне тысяча четыреста девяносто второе, под шелест молитв и грохот пушек.
СНЕЖНЫЙ ВЕЛИКАН
Хотя над Флоренцией стояла морозная зимняя полночь, приор Сан-Спирито отец Эпипод Эпимах, ученый муж, все сидел за столом, покрытым пергаментными свитками, книгами и географическими картами. Келья под звездообразным сводом была переполнена книгами, и на полках, на столиках было множество физических и астрономических инструментов, перегонных аппаратов, колб, хрустальных сосудов с редкими реактивами, пузырей, битком набитых заморскими семенами, разных удивительных оптических и баллистических приборов, магнитных маятников. Целый угол кельи занимал охваченный обручами большой планетарий. Два вытянутых вверх узких окна прорезали южную ее стену, оконечины их были искусно перевиты свинцовыми полосами и розетками. Время – полночь. За окном – сильно снежит. В очаге пылает огонь.
Декабрь.
Никто во Флоренции не запомнил такой массы снега, и нет ничего удивительного, что многие отнесли это к прежде наблюдаемым знамениям и предостережениям, – таким, как выступавший на церковных статуях кровавый пот, два восходящих порознь на зимнем небе солнца, зеленый свет новой звезды и обнаружение семи раскрытых могил.
Худое лицо отца Эпипода Эпимаха изборождено длинными глубокими морщинами. Читая, он затеняет себе глаза белой-белой рукой, так как у него слабое зрение, а свет свечей слишком резко падает на белую широкую плоскость фолианта. Он читает медленно, внимательно, время от времени записывая на узких полосках пергамента свои замечания и вкладывая их между теми страницами, к которым они относятся. Отец приор читает сочинение Петра д'Эйи "Jumago mundi" 1, внося в него поправки на основе новых данных, сообщенных ему нынче одним его старым другом, знаменитым флорентийским астрономом Паоло дель Поццо Тосканелли, который уже за двадцать лет до того давал советы португальскому королю, а теперь дает их испанскому мореплавателю Колумбу относительно более короткого пути на запад, к пряностям и золоту, чем через Гвинею. Говорят, этой весной мореплаватель Христофор Колумб вернулся из путешествия, и сообщения, содержавшиеся в пространном письме приора отца Хуана Переса из испанского монастыря Ла-Рабида, которое он прислал своему ученому другу, были настолько важны, что старенький ученый без колебаний взял это длинное письмо и побрел по снежным сугробам в Сан-Спирито, к своему другу, отцу Эпиподу Эпимаху, чтобы сообщить ему новость, после чего оба ученых, запершись в келье, весь день обсуждали ее, сопоставляя сообщения заграничных друзей со старыми географическими картами и данными прежних исследований. Астроном Паоло дель Поццо Тосканелли давно уже предвидел те открытия, которые сделал теперь Колумб, состоящий на испанской службе, вернувшийся летом из плавания и приставший в месте своего отплытия, на Сальтесской песчаной отмели, близ устья Одиелли и Рио-Тинто. Тосканелли очень хотел бы узнать, что скажут об этом все его друзья за границей, с которыми он усердно переписывался, например, немец Мартин Бехайм из города Нюрнберга, светило науки, составивший, вместе с арабскими учеными, таблицы, с помощью которых мореплаватели получили возможность по высоте солнца определять географическую широту, затем – испанский прелат дон Педро де ля Карриеда Барреда и Зарза, приславший им во Флоренцию такое подробное сообщение о путешествии португальских мореплавателей, затем ученый Джон Колет, сын лондонского лорд-мэра, который приезжал во Флоренцию, вывез отсюда сочинения Марсилио Фичино и поддерживает с обоими тесные дружеские отношения, наконец, Иоганн Региомонтанус, чьи слова были прямо законом, так как никто не мог сравниться с ним в знании движения звезд и астрономических законов. Надо сказать, что многие письма Иоганна Региомонтануса могли бы дать повод к расследованию со стороны Святой инквизиции и говорили о нем только шепотом, причем отец Эпипод для верности выходил из кельи посмотреть, нет ли кого на галерее, так как ученый Региомонтанус намекал кое-что насчет шаровидности и полушариях, о вращении земли, о том, будто центр земли – не наша планета, на которой жил и претерпел муки Спаситель, а будто центром является солнце, а наша земля будто бы шар и вращается вокруг солнца и будто есть звезды, гораздо более крупные и более яркие, чем земля, которая относится к самым маленьким звездочкам вселенной, – вот на что таинственно намекал в письмах своих ученый Региомонтанус, и потому оба ученых беседуют об этом понизив голос, – с Святой инквизицией шутки плохи. Но отец Эпипод Эпимах убежден, что Святая инквизиция когда-нибудь должна будет признать много своих ошибок, и приор, муж науки, улыбается счастливой улыбкой при мысли о том дне, когда Святой инквизиции дадут понять, что в вопросах искусства и науки ей лучше помалкивать. Недавно Святая инквизиция перехватила письмо Джона Колета, сына лондонского лорд-мэра, но ничего плохого не произошло, так как Джон Колет еще верит в открытие райских островов Антилии, в остров Семиградья и в остров Св. Брандана. Это успокоило Святую инквизицию, и отец Эпипод Эпимах, который уже не верит в остров Св. Брандана, с удовлетворением потер руки.
1 "Описание мира" (лат.).
Весь день сидел астроном Тосканелли в келье у отца Эпипода Эпимаха, и они беседовали, рассматривая старые географические карты и сличая. Совершенно ясно, что в свете новых данных сочинение Петра д'Эйи потеряло всякую ценность, хоть оно и основано на древних авторитетах, считавшихся непогрешимыми, – на Аристотеле, Сенеке, Плинии, Марине Тирском, Птолемее. У отца Эпипода мурашки по спине бегали, пока он со своим другом обнаруживал все эти несоответствия. Рушились старые устойчивые авторитеты.
Мир выглядит совсем иначе: на экваторе нет такого страшного зноя, который сжигал бы дотла каждого, кто туда попадет, нет там великанов с щупальцами вместо рук, земля не переходит на востоке в рай земной – в страну вечной молодости, и нет, может быть, магнитной горы, вытаскивающей гвозди из кораблей, неосторожно к ней приблизившихся! Оба ученых, склонив друг к другу головы, сидели с разгоряченными лицами, не смея сделать все выводы, которых требуют новые данные, и отец Эпипод с уважением смотрел на своего старого друга, который уже двадцать лет тому назад составил здесь, во Флоренции, на основе лишь собственных своих расчетов, план путешествия на запад, оказавшийся ныне таким верным, и послал его португальскому королю, но португальский король Альфонс Пятый пренебрег этим замыслом, – он вел войну в Кастилии, желая присоединить к своему королевству еще Кастилию и Леон, но все проиграл, не добыл ни Кастилии, ни Леона и не присоединил к своему государству огромные золотоносные заморские края, оттого что не послушался мудрого совета ученого Тосканелли из Флоренции, убеждавшего не воевать, а развивать мореходство. Оба ученых в тишине кельи намечали дальнейшие задачи, которые теперь встают, – например, необходимость определения географической долготы. И прибегали к помощи новых фолиантов, исписывали пергамент цифрами, стояли в раздумье перед планетарием, размышляя о пространстве, море, звездах и земле.
Под окнами ревела чернь, наводнившая улицы, с факелами в руках. Был рождественский пост, строгий пост, а чернь обнаружила, что мессер Фабиано, старшина цеха шелкомотальщиков, оскоромился яичницей и держит у себя картину "Суд Париса" с изображением голой богини. И чернь потребовала обязательных обысков жилья, так как ее молитвы не доходят из-за разврата и язычества других. Тяжелые ворота дворцов торопливо закрывались перед толпами, которые валят по улицам, требуя обязательных обысков жилья и соблюдения закона покаяния для всех слоев населения. Потом новая волна тревоги прокатилась по городу, и многие стали требовать призыва к оружию. Дело в том, что Пьер Медичи, чтоб расчистить себе дорогу к единоличной власти, велел схватить двух своих дядьев, Лоренцо и Джованни Медичи, двоюродных братьев его отца. Это было как удар грома. Хорошие нравы заводит Пьер в семье Медичи! Никогда до сих пор Медичи не подымали руки на своих, предоставив взаимное истребленье семействам Бальони, Малатеста, Скалигеров, Бентивольо, Сфорца и д'Эсте, никогда до сих пор решетки и кинжал не заправляли у них в роду политикой, – славные арагонские нравы заводит среди Медичи Пьер! Но пускай себе рвут друг друга как волки. Еще более ошеломляющей была новость, что оба дяди перед казнью бежали из тюрьмы, да прямо к Карлу Восьмому во Францию! Вот это был громовой удар! Теперь уж и Медичи бегут к этому предсказанному Савонаролой Киру просить защиты от Пьера, жаждущему лишить граждан последних остатков свобод! Но многие смеялись. Никогда бы не подумал Лоренцо Маньифико, что Медичи будут в борьбе друг против друга прибегать к помощи Карла Восьмого французского! Пьер…
Оба ученых не обращали внимания ни на рев черни, ни на тревогу в городе. Погруженные в свои вычисления, они говорили о земле, морях и звездах. Как много времени прошло с тех пор, как Гиль Эаннес и Гонсальвес Бальдайя, проплыв вокруг таинственной горной страны Боядор, привезли растения и берберийских туземцев! А после них – знаменитый Диниз Диас, завладевший Кабо Верде, Сенегалом, Гамбией и Гвинеей и нашедший золото. И так как он нашел золото, вслед за ним поплыл Педро де Синтра, мореплаватель африканских далей, муж бурь, не боявшийся вихрей, лишений, морских- чудищ, голода и ненависти экипажа, месяцами питавшийся сам и кормивший своих товарищей тухлым мясом и заплесневелой мукой, но плывший вперед и вперед, пока не высадился на Перечный Берег, на Золотой Берег, на Берег Слоновой Кости. Не существует людей с такой длинной шеей, чтоб они могли объедать макушки деревьев, нет троеруких уродов, говорящих пупком. Это знал муж бурь и африканских далей, мореплаватель Педро де Синтра. Были и другие. Мартин Бехайм из города Нюрнберга, светило науки, плавал с Диегу Кан и потом написал отцу Эпиподу Эпимаху о находках в устье Конго, об удивительных темнокожих людях и загадочных растениях, невиданных хищниках и змеях. Но пусть другие ищут золото, Мартин Бехайм изучал там бурю. В тех местах удивительно быстро изменяется погода, там – другое воздушное давление, туманы над горными хребтами вдали производят другое действие, чем здесь, в Европе… И открываются не только новые земли, открываются также неизвестные до сих пор звезды. Пусть другие жаждут новых земель, Мартин Бехайм жаждет новых звезд, – и ученый из Нюрнберга проводил ночи без сна в устье Конго, тщательно изучая новые пути их и новые сочетания. Потом отправился в плаванье Бартоломео Диас на ветхих кораблях, – питались червивой мукой, в мачты ударяли молнии, плыли все время среди бурь, так что неоглядная морская гладь превратилась в водяную пустыню, – это было страшное плаванье. Вскоре на корабле стало полно помешанных, которых пришлось кидать на поживу морским чудовищам, потом потеряли руль и направление, и просто ветер гнал их дальше и дальше, и волны, волны, волны, неоглядная водная пустыня… А все-таки одержал победу над морем Бартоломео Диас с кораблем, полным помешанных, – он открыл самую южную оконечность Африки и назвал ее горько мысом Бурь, Кабо-Торментозо, но после его славного возвращения король Иоанн Второй с папой Иннокентием рассудили иначе и, в надежде на золото и новых христиан, папа и король решили лучше назвать этот мыс Кабоде-Бон-Эсперанца, мысом Доброй Надежды… Идут поиски пути в Индию и Китай. Астроном Тосканелли писал из Флоренции королю португальскому, но король пренебрег, предпочел воевать и проиграл. Христофор Колумб, состоя на испанской службе, поплыл и дошел до Саргассова моря, надеясь найти там твердую землю. Но не нашел, плавание длилось гораздо дольше, – новое доказательство, что венецианец Марко Поло говорил неправду и был справедливо посажен в темницу. И когда наконец Колумб, открыв остров Сан-Сальвадор, Гаити, а за ними новый материк, высадился таким путем в восточной Азии, он не обнаружил там никакой Китайской империи, не было там ни городов, ни мандаринов, ни императоров, ни ханов, ни сокровищ, выдуманных Марком Поло, который оказался лжецом, как все венецианцы. Но, говорят, несмотря на это, Колумб привез много золота, новые минералы, неизвестных птиц, загадочные растения и диких людей. Опять была открыта новая, полная таинственности земля… Когда Паоло Тосканелли побрел по снегу домой, тяжело опираясь на посох, был уже поздний вечер. Отец Эпипод, оставшись один, с разгоряченной головой сел за свои книги и карты, вносить заботливой рукой поправки в старых авторов. Потом он встал, взял горсть трав и, подойдя к очагу, бросил их в огонь. Поднялось густое белое облако чада, вырвался язык пламени, сперва зеленого цвета, потом багрового, пополз по дровам и погас в густом белом дыму. По келье разлилось очень приятное, сладкое благоуханье, напоившее жаркий воздух. Отец Эпипод Эпимах с довольным видом сел опять за работу. Он очень любил благовония и охотно приправлял ими воздух своей кельи. Идя в город, он брал с собой в коробочке несколько пахучих зерен и то и дело их нюхал.
Через некоторое время он, опершись на подлокотники кресла и положив худые белые руки на книгу, стал отдыхать. Мысли его мало-помалу возвращались с чужбины на родину. Почему это выла нынче днем грубая, невежественная чернь под окнами? Обезумевший город! Верно, опять безумный проповедник Савонарола будоражит народ, и пока он здесь – не будет покоя. Слава богу, есть большая надежда, что бывший кардинал Родриго Борджа, а теперь его святость папа Александр Шестой, великий друг искусств и наук, прекратит Савонаролово карканье, и в городе опять воцарится мир, расцветут торговля и искусство, и Флоренция, над которой теперь всюду смеются, называя ее "слезливой Флоренцией", снова станет королевой городов, а об этом времени будет вспоминать со стыдом. Пьер должен был бы оказать больше твердости, чем у Лоренцо Маньифико, и прямо попросить папу, чтобы тот употребил свою власть против этого ошалелого плакальщика, которому ненавистен всякий духовный взлет, каждый шаг к новому познанию, который хуже, да, хуже Святой инквизиции, – вот что должен бы сделать Пьер… А его святость папа Александр Шестой в таких же дружеских отношениях с Медичи, как был Иннокентий, и, конечно, исполнил бы просьбу, – ведь этот проповедник нападает на самые основы папства! Отец Эпипод Эпимах вспомнил, что будет завтра обедать у Медичи, что он позван Пьером, вспомнил, что надо будет воспользоваться этим и навестить молодого художника Микеланджело, который лежит там больной. Напрасно он, приор, предостерегал юношу. Узнав о смерти Иннокентия, молодой художник принялся работать как сумасшедший. Из мраморной глыбы, которую он купил на деньги, полученные еще от князя Лоренцо, он изваял прекрасную, могучую статую Геркулеса, но ее пришлось отвезти в Медицейские сады, – говорят, дома юношу из-за нее хотели избить до смерти… и родной дядя донес на него Савонароле, – дескать, парень нарочно изваял языческого полубога, наперекор всему, в поношение истинного бога и семьи… Может быть, как символ своей силы, – слегка улыбнулся приор, – силы, а может – только строптивости, потому что поставил опирающегося на палицу великана лицом к двери дома, через которую каждый день ходят к дяде и братьям… Какая смелая мысль! – опять улыбнулся приор. – Очень я люблю этого малого, жалко, что, спасая статую от уничтожения, Пьер увез ее в сады, – я бы велел купить для монастыря и поставил у ворот. Отец Эпипод улыбнулся теперь тихой, иронической улыбкой, ведь это в самом деле будет Геркулесов труд – опять все привести в порядок! Прекрасная статуя, но дядя из-за нее донес на юношу Савонароле, однако Савонарола оказался умней дядюшки, не обратил внимания на донос, и будто бы братья решили статую разбить, но Пьер вовремя узнал и приказал отвезти к себе в сады, где теперь работает Микеланджело со своим другом Граначчи, которого правитель, по настоянию Микеланджело, тоже пригласил. А одновременно с Геркулесом он изваял для нашего монастыря большое распятие, помещенное над главным алтарем. Это должно было успокоить семью, но не успокоило, дядя и братья никогда не ходят в Сан-Спирито, я не пользуюсь расположением сторонников Савонаролы, говорят, я для них подозрительней, чем думаю, – Савонарола не любит ученых священнослужителей, ему милей невежественный сброд, который, бия себя в грудь, поносил бы науку, как он поносит искусство… Не успокоило их распятие в Сан-Спирито; говорят, дядя объявил, что нельзя одной и той же рукой ваять Геркулеса и тут же распятие, что он не станет молиться перед этим распятием… нельзя служить двум господам, творить произведения языческие и христианские! Но юноша служит не двум господам, а только одному: этот господин – искусство, путь божий. Бог есть сама красота, его нельзя прославлять уничтожением прекрасных предметов, как это делает Савонарола… А деньги взяли' Все деньги, полученные от Пьера за Геркулеса и от нас за распятие, он отдал семье, – вот какой народ: за статую хотели парнишку до смерти избить, перед распятием молиться не желают, а деньги взяли, – взяли, глазом не моргнув, и вложили целиком в меняльную контору на Ор-Сан-Микеле, Микеланджело ни скудо себе не оставил.
Он набросился на работу как сумасшедший, словно хотел что-то в себе убить, погасить, заглушить. Странный паренек… Он меня любит, я знаю, любит, и я поверяю ему из своих научных сведений много такого, чего другому не сказал бы. Он любит меня, а все-таки не так, как того старого францисканца, простеца фра Тимотео… Ну, и пускай себе любит, старик своим добродушным шамканьем не может ничего испортить… Дивная была минута, когда мальчик в Сан-Спирито подвел старика к распятию… Нищий монах опустился на колени и стал молиться так горячо, так умиленно, – я до тех пор ни разу не слышал, чтоб так молились, в наше время вообще редко услышишь тихую, горячую молитву, все больше вопли; чем кто сильней воет, тем искренней считается покаянье… Старик молился горячо и тихо, воздев руки, по щекам его текли слезы, древо креста светилось на солнце, – мне казалось, что передо мной совершается чудо… вот какая была молитва! Старик уж стоит одной ногой в могиле, может быть, это была последняя его молитва перед алтарем.
Я не удивляюсь, что он молился так горячо, потому что распятие прекрасное! Надо, чтоб люди молились только перед прекрасными распятиями, а бывают, к сожалению, такие безобразные, что не способны вызвать подлинного благочестивого чувства. У нас в монастыре осталось несколько таких распятий от прошлых столетий, не понимаю, как люди могли перед ними молиться… Мы их все убрали, заменили прекрасными, потому что красота должна идти рука об руку с благочестием, нельзя хорошо молиться перед уродливыми изображениями… Наверно, фра Тимотео оттого и молился так горячо, что стоял на коленях перед прекрасным распятием. Юноша может радоваться, он сам видел, что его произведение зовет к молитве, видел и был счастлив. Потому нищенствующий монах и мог так усердно молиться, что мы благоговели перед красотой. Только искусство и наука, наряду с верой в бога, творца прекрасного, представляют собой те ценности, на которых человек может утвердить свою жизнь. И красота коснулась простого сердца фра Тимотео, нищенствующего монаха, который видел в жизни своей так мало красоты, и он стал вдруг горячо молиться, благодарно поминая в молитвах своих имя юноши, потому что мы должны быть благодарны художникам, создающим для нас прекрасные вещи, чтоб возносить души и сердца наши к богу, который – сама красота и мудрость.
Мальчик теперь болен, лежит в доме у Медичи. Он так упорно работал и изучал анатомию, что заболел. Часами, не разгибая спины, простаивал над кадаврами, рисовал, рассматривал, исследовал, изучал, – знаю, он не только усерден, но и болезненно честолюбив, так как даже при самом сильном утомлении, можно сказать, валясь с ног от усталости, всякий раз приобадривался и снова принимался за работу, стоило только заговорить в его присутствии о миланской мастерской мессера Леонардо да Винчи… Заболел от работы, заболел от утомления. Завтра пойду навещу…
Отец Эпипод Эпимах не спеша закрыл книгу, собираясь ложиться спать. Изборожденное глубокими морщинами старое лицо его с резкими чертами было бледно от света свечей и от усталости. Скоро уж рождество, нынче последний день поста, идет такой снег, какого еще не бывало. Но здесь, в келье, тепло, воздух полон благоухания, предметы прекрасные и предметы научные спят на своих местах, я лягу среди них. А завтра сразу напишу другу, маэстро Бехайму в город Нюрнберг о своей догадке, которая не давала мне покоя всю ночь… Я не хотел говорить про это своему дорогому Паоло Тосканелли, он такой ревнивый! А маэстро Бехайму напишу, обязательно напишу, он ответит мне откровенно, – да, меня все неотступнее преследует мысль, что мореплаватель адмирал Колумб не достиг ни Индии, ни Китая, а открыл что-то совершенно новое, загадочное, безмерное, огромное…
Приор стал на колени у своей постели для молитвы. Постель была иноческая, простая, жесткая, так как отец Эпипод относился очень строго к соблюдению монастырской дисциплины. Правила не запрещали окуривать келью благовониями, святой основатель об этом, видно, забыл упомянуть, но было предписано спать, отказывая телу в удобствах. Поэтому постель представляла собой суковатые, грубо отесанные доски с одной подстилкой, на которой спать было плохо, и вскоре все тело начинало жестоко болеть. Чтоб уснуть на такой постели, нужна была каждый раз страшная усталость, но отец Эпипод Эпимах, муж науки, без такой усталости никогда не ложился спать. Помолившись, он погасил свечу и лег. Тепло из очага разливалось по комнате, тишина была как бездна, над которой шуршит снег. Мысли засыпали дружно, только одна все никак не хотела угомониться, возвращалась снова и снова. До Индии ли доплыл Колумб? Или сам уже понимает, что открыл новую загадочную землю, благодаря которой изменилось все лицо мира? Как смешон Джон Колет, ученый сын лондонского лорд-мэра, со своими островами Святого Брандана! И мой дорогой Паоло, советуя португальскому королю, – тому, который должен теперь довольствоваться перцем вместо золота, – сам, наверно, не подозревал, что там нет ни Индии, ни Китая, нет, нет…
Ночь шла по снегу, мягко раздвигая его сугробы. Люди спали, спокойно легли праведные, потому что один господь дает жить их дому в безопасности, так говорится в вечерних молитвах, согласно псалму четвертому и псалму тридцатому, – благословен господь, что явил мне дивную милость свою в укрепленном городе! Но спали и те, которые были не в укрепленном городе, каждый бродяга нашел себе ночной приют и почивал под сенью небес.
Микеланджело провел эту ночь в жару: голова трещала, кровь сильно била в стенки сосудов, мысли обрушивались длинными волнами, а потом снова наступала великая бессильная пустота. Глаза горели, руки были влажные. Страшные призраки стояли у ложа, хотя он истово помолился на сон грядущий. Ослаб он так, что просто руки не поднять без мучительного напряжения. Снова нахлынула волна мятущихся мыслей, их было слишком много, он их не улавливал, оставалось только острое сознание, что они здесь и мучают, будто состоят сплошь из огня и соли. Хуже сделалось, когда жар снова спал. После него осталась такая страшная пустота, что он лежал, как мертвый, ничего не воспринимая. Стены отходили куда-то далеко, двигались, падали, выпрямлялись и опять ложились наклонно относительно друг друга, он не мог никуда поглядеть. Верный друг, лютнист Кардиери, уже две ночи провел, испуганный, у постели, боязливо глядя на больного, который все время его прогонял, так как у красавца Кардиери было странное лицо – оно беспрестанно менялось. Микеланджело не знал всех этих чужих людей, в которых превращался охваченный страхом Кардиери, чьи глаза поминутно выпучивались, словно желая проглотить Микеланджело, и Микеланджело кричал не своим голосом, не желая быть проглоченным глазами Кардиери. А верный друг Кардиери, в отчаянных усилиях помочь, все время приносил целебные снадобья, делал компрессы, прикладывал холодные камни к подошвам больного, который корчился от ужаса, – когда же кончится это мученье, – и не понимал, почему столько чужого народу валом валит в комнату. Только когда новый прилив путаных мыслей затопил охваченный бредом мозг, Кардиери во всех своих обличиях исчез и все исчезло в тумане, остались только огонь и соль.
Перед юношей летали странные, диковинные слова, написанные полыхающим пламенем свечей. Если б ему удалось схватить их рукой, он сжал бы их в стихи, в пламенный сонет. Они словно сверкали молнией – так звучал ритм их. Он метался с сердцем из серы, мясом из пакли, костями из сухого дерева. Стихи рассыпались искрящейся пылью. В огне и жару родится поэма. В огне, из бушующей крови, возникает стих. Летит пламенный сонет, угасает, поднялся пепел, покрыл стены, они исчезли, растет что-то серое, бесформенное, медленно ползет к постели, и с ним приближаются выпученные глаза Кардиери, плывут в туче поднявшегося пепла, ничего не видно, никаких очертаний, никаких форм, только эти бегающие белесые глаза плывут во тьме…
В полдень пришел приор Сан-Спирито, муж науки, расспросил испуганного Кардиери, осмотрел юношу, установил, что положение серьезное. Изнемогший от работы, измотанный паренек с болезненно напряженными и чувствительными нервами схватил теперь горячку, в его возрасте, да еще в зимнее время особенно опасную. Отец Эпипод, охваченный тревогой, не теряя времени, пошел в монастырь, поспешно взял нужные травы, накапал соков из склянок, приготовил хорошие мази и поспешил опять по снегу во дворец Медичи. От его лекарств больному полегчало: он проспал до вечера, когда приор пришел снова. Юноше было лучше, чем в полдень, он легче дышал, глаза у него не так блестели, и приор, чтоб развлечь его, поделился с ним тем, что его самого так волновало. Описал ему экспедиции мореплавателей, их возвращение и открытия опасных путей в страны золота и пряностей, таинственных гадов, птиц и темнокожих людей. Утром обещал прийти опять, но Кардиери думал, что ночью Микеланджело умрет от страха. Потому что все рассказанное приором выросло ночью у постели больного. В бреду он скрывался от темнокожих, пожирающих друг друга после кровавой битвы, убегал, преследуемый высокими растениями, у которых липкие цветы величиной с человеческую голову, убегал, отбиваясь от диковинных птиц, у которых клювы полны ядовитых зубов, – убегал, а навстречу ему открывались пасти отвратительных гигантских змей, разворачивающих толстые кольца своих тел, убегал и бился со всем этим, пока не упал с постели, причем его не могли удержать ни пришедший в отчаянье Кардиери, ни те, кого этот верный друг позвал на помощь. Тогда же ночью послали за приором, отец Эпипод жестоко корил себя за неосмотрительность, а юноша заснул, только выпив сильного снотворного отвара.
С того дня отец Эпипод Эпимах не отходил от его постели. Лишь двое чередовались с ним в бдении – Граначчи и Кардиери. Микеланджело, понемногу выздоравливающий под действием приоровых лекарств, с горькой улыбкой смотрел на эти смены лиц возле него. Все уплывало в дальние дали, как и во время горячки, но теперь было хуже, – стены не падают, пепла нет, а люди все равно проходят вдали, исчезают, уходят из глаз, а что после них остается в сердце?
Каждый день заходил и Полициано, но до того постаревший и подавленный происшедшими переменами, что это было – как если бы зашел чужой, безучастный человек. Надломленный спором с гуманистом Мерулой, всеми поносимый, оклеветанный, презираемый и пренебрегаемый гражданами из-за своей болезни, о происхождении которой скоро разнеслись по всему городу дурные и злорадные слухи, еле таскал нога и выглядел как тень знаменитый преподаватель греческого и латинского красноречия, у ног которого когда-то сидели ученики со всего света, сочинитель песен о розах и композитор "Орфея", лучший друг Лоренцо Маньифико, Он садился к Микеланджело на постель, глядя на него тупо, без всякого интереса, словно пришел к чужому, словно завернул сюда на минутку посреди своих блужданий, потом без всякой мысли шел дальше. Таким стал Полициано.
Изредка приходили юные Джулио и Джулиано Медичи, но ненадолго и как-то тайно, оттого что Пьер строго учил их вести себя, как подобает дворянину, и эти посещения ему не понравились бы. Молчаливый и задумчивый Джулиано больше не изучал сложных философских вопросов, а по совету канцлера Довицци Биббиены предавался усиленным упражнениям в испанском фехтовании и рыцарскому служению прекрасным дамам. Многие ночи провел в слезах лютнист Кардиери, узнав перстни, выставляемые напоказ прелестной Аминтой. Биббиена продолжал свое воспитание, и хотя Аминта вернулась к Кардиери, Джулиановы перстни носили другие дамы, а юноша побледнел от рыцарского служения, которое принесло ту пользу, что он перестал быть задумчивым, хоть и не перестал быть философом.
Джулио совсем забыл, как сопровождал когда-то Микеланджело в часовню Бранкаччи при Санта-Мария-дель-Кармине копировать фрески Мазаччо, – забыл, потому что получает теперь богатый доход от церковной должности, скоро поедет в Рим и, так как ему уже шестнадцать лет, будет там облачен в кардинальский пурпур. Поэтому посещения того и другого были всегда короткие, им не о чем было с ним говорить, Микеланджело преданно приветствовал знатных юношей, они его поздравляли, твердя, что выглядит он день ото дня все лучше, потом, заверив, что неизменно поминают его в своих молитвах, удалялись с великой учтивостью и многими поклонами. Таковы были Джулио и Джулиано Медичи.
Но отец Эпипод бдит неотступно и лечит искусно. Он не заходит сюда на минутку, по дороге, чтоб сейчас же продолжать свои блужданья, не поздравляет с выздоровленьем, не улыбается благосклонно, – нет, приор Сан-Спирито выполняет наложенную им на самого себя епитимью неослабно, героически: молчит в присутствии больного о пути мореплавателей. Все это просто-напросто приснилось в кошмарном сне – насчет темнокожих людей и диковинных птиц, липких цветов и змеиных тел, ничего этого нету, забудем об этом, перестанем об этом говорить, а то как бы не началась опять горячка. Лицо мира не изменилось. И отец Эпипод Эпимах до сих пор не написал маэстро Бехайму в город Нюрнберг о своих догадках, что, мол, адмирал Колумб, видимо, открыл огромную, загадочную, новую страну. Не написал, – не было времени. Такое письмо, чтоб быть в самом деле убедительным, требует долгого обдумыванья, подсчетов, накопления фактов и доказательств. А приор Сан-Спирито верен монашеской дисциплине, добросовестно исполняет свои пастырские и иноческие обязанности, а в свободные минуты еще и по ночам бдит у постели Микеланджело. Пускай уж другие пожинают лавры, вызывая восторг маэстро Бехайма в городе Нюрнберге, этого светила науки. Отец Эпипод честно расплачивается за свою неосмотрительность, просиживая у постели больного, как повелевает церковь, предписывающая посещения больных. Он не написал в город Нюрнберг.
А однажды Кардиери принес свою лютню. Ударил по струнам и запел. Над постелью больного полетела канцона, полная солнца и любви, и сам приор стал слушать с мягкой улыбкой, потому что канцона была прекрасная. Не спеша белейшей рукой своей он открыл коробочку с зернами крепких благовоний и долго нюхал, пока Кардиери, покачивая в такт головой, так что ниспадающие кудри двигались по плечам, сидя на полу со скрещенными ногами, бил, и ударял в струны, и пел о даме, по правую руку которой идет любовь, кто ее видел, тот вечно будет сгорать от любви, – одну только улыбку, мадонна, и будем трое верны друг другу – вы, я и любовь. Где ты, свет моих очей? Исторгнув из струн рыданье, он начал новую песню, нежную, как веянье ветра, под которым плыл челн с Гвидо Кавальканти, с Лаппо Джанни, с возлюбленной монной Ванной и монной Биче, и божественный мессер Данте стоял на носу челна и говорил к ним о любви неугасимой, вечной, прошедшей сквозь ад, чистилище и рай, и им было так хорошо, словно вечер на волнах, в челне, никогда не кончится и они всегда будут вместе плыть в дыхании роз по морю. И приор улыбался этой песне и глазам Микеланджело и опять думал о звездах, море и новой земле, а Микеланджело пил песню Кардиери длинными глотками, так что напоил благоуханьем ее всю кровь сердца. Тут лютнист Кардиери улыбнулся счастливой улыбкой и, вскочив на ноги, объявил приору, что Микеланджело совсем выздоровел, потому что это уже не улыбка больного. И отец Эпипод, радостно кивнув головой и простившись с юношей, снова вернулся к прежним своим дням и ночам.
Микеланджело встал с постели в начале января и сейчас же стал думать о новой работе. Потому что все уплывало в далекие дали так же, как это было, когда он лежал при смерти и бредил, но теперь было еще хуже, теперь он ощущал суровую действительность, – тут не пепел, стены не валятся, а все-таки люди проходят вдали. Он с горькой улыбкой видел их изменения – они теряются, пропадают, что же останется после них в сердце? Он вдруг почувствовал в сто раз сильнее свое одиночество. И страшную, жгучую тоску по людям. Сошел со смертного ложа снова в жизнь, иссушенный жаждой участливого слова, спокойного, безмятежного отдыха. Всеми оставленный. Каждый, в непрестанных изменениях, спешит за своей судьбой, не роняя ни слова, которое упало бы хоть как милостыня в ладонь нищего. Тоска по людям. Глубокая тоска, которой человек призывает судьбу, тоска о том, что некуда приклонить голову, только в одиночество, некому протянуть руку, только в пустоту, не с кем перемолвиться словом, только с молчаньем, некому передать и вверить самое бесценное, кроме как своей печали, некому улыбнуться, только своей скорби и беде. Тоска по людям, тоска по теплу их рук, по открытости путей и родных домов. Всегда один. Неизменно один. Он шел к ним, они не отвечали, каждый под своим бременем, – никто не несет боли вдвоем.
Тут он вспомнил о своих криках, когда он рухнул под ударом Торриджанова кулака! Что тот удар по сравнению с многими гораздо более сильными, нанесенными ему с тех пор! Люди, я, всегда стремившийся к побегу, теперь хочу из своего одиночества вернуться к вам. Я еще не очутился выше утесов скал, как хотел, не превратил горные вершины в фигуры гигантов, а уже стосковался о вас! Тоска по людям и при этом неодолимое желание создать произведение, способное воспламенить все сердца, чтоб во всех сердцах горела огнем сила искусства и пламя это вновь раздувалось от каждого поцелуя, ширилось от каждой улыбки, от каждой ласки росло. Что я до сих пор создал? Для вас еще очень мало, для вас я ничто, безносый бродяга, не имеющий куда приклонить главу, к кому протянуть руки, кому улыбнуться, кроме как своей скорби и беде. Вы по-прежнему ничего не знаете обо мне, каждый идет в своих изменениях другой дорогой, под собственным бременем. Значит, нужно произведение более возвышенное.
Я обещаю вам это произведение. Я создам его. Оно будет перед вами.
Дни шли. Он думал о своей работе. Но каждая идея казалась ему бедной, каждый удар молотком – в пустоту, нет, это совсем не то…
Время шло быстрей судьбы, легко раздвигая сугробы снега. Потому что снег валил, как никогда до сих пор, и к концу января его выпало столько, что он лежал на улицах слоем в три локтя, и это было причислено к прочим знаменьям и предостереженьям. Потому что гнет неуверенности увеличивался, все было в смятенье, и это смятенье – напитано кровью. А снег падал и падал вот уже третий день, по улицам не пройдешь, столько там снегу, город вымер под снегом. Народ волновался от этого знаменья.
Пьер советовался с канцлером Биббиеной, как успокоить город. Канцлер предложил устроить празднества, как делал Лоренцо, но это был негодный совет, – невозможно было расчистить улицы для карнавала и танцев. Тогда что же? Тут Биббиена вспомнил о Микеланджело. Недурно было бы, если б этот молодой ваятель потехи ради слепил большую фигуру из снега, которая смешила бы народ, и таким путем самый снег этот можно было бы обратить в шутку. Такого не было еще во всей Италии: статуя из снега, об этом сразу всюду заговорят, и это было бы доказательством, что во Флоренции совсем не такое настроение, как толкуют, сгущая краски. Народ забавляется снегом и не боится. Правитель Пьер с благодарностью принял совет Биббиены, позвали Микеланджело, и тот согласился.
Наступил вечер. Как нищий, сидящий в снегу на паперти храма, сунул себе за пазуху дотоле напрасно протянутую замерзшую руку, чтобы согреться биением своего собственного сердца, так я, Микеланджело, до сих пор напрасно протягивал руки, но не от слабости, а от избытка силы, так же мучительно рвущейся из меня наружу, как я ударами резца добывал жизнь из нутра камня. Это не нищий, которому вы подаете, это нищий, который всегда одаривает вас. Подайте жалкую монетку, он за это откроет пред вами небесные врата, он подарит вам дар бесконечный и ни с чем не сравнимый. Вы ему – подаянье, он вам – небо. Вы мне – рукопожатье, взгляд и улыбку, я вам в уродстве своем открою такое сокровище искусства, что вы остановитесь перед ним в изумлении. Я убог и смирен. Вам нужны звезды, мне писали стихи огни свечей. Я создавал огненные сонеты о своей беде, слова-судороги, слова-камни, но кто из вас дал мне лучшие? Я никогда не жаловался, моя боль была всегда молчалива. А теперь хочу говорить. Никогда еще не желал этого так сильно. Захлебнусь, если не получу возможности произнести слово, хоть вы его и не ждете.
Я вижу тени, которых вы не можете видеть, вижу, как приближаются железной поступью фигуры, пока скрытые в недрах гор. Это немыслимое терзанье. Когда музыкант в струнах своего инструмента заранее слышит музыку, которая только еще ждет, чтоб он ее в боли души своей пропел, – он может вспомнить ангелов, поющих ее у подножия престола божьего, в музыке сфер. А мне кто откроет мраморные громады, кроме меня самого? Но чем? Ударом резца, биеньем сердца. Для того я и положил теперь на это сердце свою напрасно протягиваемую руку, – чтобы ее согреть, чтобы приготовить ее к этому произведению. И повторяю вам, этот жест не от слабости, а от избытка силы. Благодаря силе своей тянусь я к вам, властелин над гранитными безднами, мраморными вершинами, красками сумерек и рассвета, стихами, написанными трепетаньем пламени. Я готов.
Микеланджело согласился выполнить заказ Биббиены, чтобы расположить к себе правителя. Ему нужен от Пьера камень, огромный, могучий камень, такая глыба мрамора, какой во Флоренции еще не было. И эту огромную глыбу он превратит в дар человечеству и городу. Он знает, что из нее сделать. Я обещал произведение, я создам его, оно будет здесь.
Необъятная, огромная статуя государя над всеми поэтами, высокая, больше человеческого роста, статуя Данте, которая будет повелевать городу и всему краю. И в ней будут втесаны, врублены, врезаны все надежды, боязнь и вера, все предчувствия и призраки, все дороги в рай. Данте в начале своего пути, вышедший camino alto e silvestro, на высокую лесную дорогу. Огромная статуя. Данте, положивший одну руку на грудь, а другую протянувший вперед, потому что вокруг уже темно, лес дикий, густой, непроходимый. Одежда в обильных складках, движенье ходьбы. Маленькая восковая модель уже готова и тщательно скрыта от посторонних глаз, так как это должно быть полной неожиданностью.
Но я должен получить камень. Самый большой, какой только привозили во Флоренцию. Весь свой жар, всю кровь, все свое искусство вложу я в эту работу, вы узнаете Микеланджело, никто больше не будет отворачиваться от меня, забывать обо мне, не знать меня… Тоска, тоска по людям. Но правитель Пьер должен купить камень. Ради этого пусть будет эта шутка из снега, чтоб легче было договориться.
Шутка – только для правителя. Он хотел ее и получит. Когда Лоренцо Маньифико не понял, что я создал в своем первом произведении, я выбил "Фавну" зубы. Дыру в пасти "Фавна" получил Лоренцо, Пьер получит снег. Что они хотели, то и получат от меня. А народ получит все мое, все, что я имею, – не правителям, а людям, среди которых где-то бьется одно сердце для меня, только для меня одного, отдам я все свое искусство.
Людям нужен от меня не снег, людям нужно мое произведение и камень.
Тоска, великая, страстная тоска по людям. Вам дам я свое произведение. А правителю – шутку.
Утром он принялся за работу, вокруг него слуги с лопатами, сбегается народ, новость облетела всю Флоренцию, страже пришлось осаживать любопытных, чтоб художнику можно было работать, толпы зевак стояли в снегу, напряженно наблюдая, как растет произведенье, а он на глазах у тысяч приглаживал, прибавлял снегу, статуя поднималась, толпы рукоплескали, смеялись, кричали, понадобились приставные лестницы, чтоб работать дальше. Теперь уже десятки рук катят новый снежный ком, слуги, стража, народ – все помогают, каждый хочет участвовать, – этого еще не было нигде в Италии, статуя из снега; Микеланджело, стоя высоко на лестнице, приказывал, распоряжался, ему помогали, он обтесывал смерзшийся снег. Вот уже готово ухмыляющееся лицо, и еще до наступления сумерек работа была окончена, статуя стояла высокая, белая перед тысячеглавой толпой. Веселая выдумка оказалась увлекательной. Собрались все, приходили даже те, кто бушевал против язычества, – статуя была не языческая, это был великан-снеговик, – приходили даже те, кто негодовал на Пьера, в этом предприятии не было никакого подвоха – под теплыми лучами солнца статуя опять растает, люди шли и шли, площадь была полным-полна народу, все стояли изумленные перед невиданным, – огромная статуя великана из снега, вся целиком из снега, чудеса, да и только!
Окна Синьории были открыты, и синьоры, не имевшие права во время исполнения своих обязанностей покидать здание, стояли перед окнами, не менее изумленные, чем народ. Потом принесли сотню зажженных факелов, и в их свете снег статуи заискрился, заблестел, стал метать во все стороны ломаные лучи. Стража всю ночь стояла на месте, и народ долго не расходился. Многие никак не могли дождаться утра: останется ли статуя? Она осталась, и с самого утра к ней началось паломничество со всего города.
На площади было черно от народа. На прилегающих улицах началась такая давка, какой не бывало даже во время самых пышных карнавалов. На углу завязалась первая драка, – это подмастерья разных цехов защищали своих Лап, Бьянок, Катарин и Лессандр от посягательств бродячих солдат. От Борго-Санти-Апостоли валили толпой помощники золотарей и кожевников, покинувшие свои мастерские. Они повытаскивали из харчевен свирельщиков и взяли их с собой. Со стороны Санта-Мария-Новелла нарастали голоса и смех, там горожане, шагавшие с достоинством, под руку с женами, столкнулись с толпой канатчиков. Так как многие горожане отличались дородством и преклонным возрастом, а жены у них были молодые и хорошенькие, канатчики, ликуя, окружили горожанок и, взявшись за руки и приплясывая, запели во все горло песню мессера Боккаччо: "Монна Симона, как бочка, полна, хоть октябрь еще далеко…" А студенты, хлынувшие из аудиторий при звуке этой песни, ринулись туда лавиной, так как между студентами и канатчиками Флоренции была давняя вражда. Встав на защиту горожанок, студенты оглушительно заревели песню "Моя миленькая любит петухов – вот за что?". Тут канатчики приготовили свои дубинки, а студенты быстро набрали камней, канатчики ревели "Монна Симона, как бочка, полна", а студенты в ответ оглушительно – "Моя миленькая любит петухов", а горожанки, бедные, метались между ними, безуспешно обороняемые своими почтенными толстыми и лысыми супругами, которые махали серебряными тростями и звали бирючей, не мешая ни поцелуям, ни драке. Мастерские и лавки закрылись, никто не покупал и не продавал, все устремилось на площадь Синьории, никто не хотел пропустить такое зрелище ремесленники, горожане, купцы, мужики, подмастерья, студенты, солдаты, все в мечущемся пестром хаосе, песни, выкрики, смех, шутки, оклики, галдеж. Свирельщики стали дуть в свои инструменты, послышался звук лютен и труб, шум разрастался. В толпу со всех сторон вступили нищенствующие монахи, клянча подаянье на выкуп христиан, томящихся в турецком рабстве. Но у продавцов святых мощей и испанских благовоний дела шли лучше, то и другое было в большой моде. Старуха – торговка всякой святостью – сулила кавалеру самую распрекрасную даму на свете, но только бедную, а кавалер подумал и, оттолкнув старуху, сунул записочку в руку толстой вдове, которая была отнюдь не самая распрекрасная, но вся в бархате, жемчугах – и признательно улыбнулась. Толпа росла, ворам была пожива, негодяи без чести и совести предлагали свои услуги, шепча, что в такой давке пырнешь ножом – никто не узнает. Вербовщики торопливо сговаривались с деревенскими парнями, тупо жующими свою краюху с луком, не понимая, чего, собственно, от них хотят, и с готовностью ударяющими по рукам, как только вербовщик подставит ладонь, будто речь шла о продаже теленка или домашней птицы. Поспешно назначаемые свиданья, обнаженные кинжалы, срезанные кошельки, сорванные и похищенные плащи, крики нищенствующих монахов, крики торговцев мощами и испанскими благовониями, нашептыванье старых сводней, перебранка горожан, рокот свирелей, протяжное пенье тромбонов, без конца переливающиеся волны народа. Снова на толпу спустились сумерки, и по-прежнему перед дворцом Синьории стоял великан-снеговик, искрясь снегом в свете факелов.
Пронзительно завизжали трубы, и народ неохотно расступился. Уж второй раз за день правитель Пьер со своим блестящим эскортом приехал смотреть на статую. Теперь с ним были и вдовствующая мать – Кларисса Орсини, и его знатная супруга – Альфонсина Орсини, урожденные римские княжны, а также Джулио и Джулиано Медичи и большая свита придворных. Канцлер Биббиена сиял по поводу своей удачной выдумки, – да, еще Лоренцо Маньифико говорил, что мало кто знает флорентийцев, как каноник Биббиена.
Пьер приказал выплатить Микеланджело двадцать золотых. Но того никак не могли найти. Никто не знал, куда он девался. Пришел он только на другой день и был такой бледный, что испугались, не заболел ли, может, слишком рано встал с постели и повредил себе, работая вот так весь день над статуей из снега, которая посейчас стоит перед Синьорией, вызывая ненасытные восторги толпы. О бледности Микеланджело сообщили правителю, и тот заботливо послал к нему своего врача, приказав сейчас же донести ему о положении. Биббиена тоже навестил юношу, пришли Джулио и Джулиано Медичи, теперь уже свободно, не скрываясь, так как правитель Пьер сам предложил им пойти навестить старого приятеля, пришли и долго сидели. Но Микеланджело не был болен, хотя по его речам можно было подумать, что у него жар, – это с неудовольствием отметили представители города, явившиеся днем в праздничных одеждах торжественно приветствовать его. После их ухода пришел патриций Анджело Дони с просьбой, чтоб Микеланджело создал для него какое-нибудь произведение, только не из снега. Так как семейство Дони принадлежало к самым богатым в городе, Анджело предложил много золота, но Микеланджело ничего не обещал и скрылся от спесивого Дони. Несколько старух с письмами флорентийских мадонн не были допущены в дом слугами.
Страшное впечатление произвел приковылявший Полициано. Микеланджело не знал ни латыни, ни греческого, не понимал гекзаметров, которыми сотрясал воздух Полициано, но понял его благословляющий жест, который тот произвел, почти как священник, так как считал себя уже иноком, договорившись о том, чтобы надеть на себя доминиканскую рясу в Сан-Марко. Ибо во всей Флоренции нет мужа более ученого и святого, чем Савонарола, – так заявил Полициано. Фра Джироламо – святой пророк, и Лоренцо Маньифико совершил великое деянье, послушавшись моего настойчивого совета и позвав Савонаролу во Флоренцию, так заявил Полициано. За это потом фра Джироламо благословил умирающего Лоренцо, благословил, и по его совету Лоренцо вверил власть народу, я сам был свидетелем этого, – так заявил Полициано, которого уже ждет одежда доминиканского терциария в Сан-Марко. И теперь он, с глазами, полными слез, благословил Микеланджело за снежную статую, благословил, проблеял стихи, полные торжества, но Микеланджело их не слышал, он убежал, оставив изумленного философа, с его дрожащим благословляющим жестом протянутой руки, стоять посреди комнаты. Правитель Пьер оповестил, что завтра устраивает в честь своего придворного художника Микеланджело домашнее празднество, и прислал ему красивый костюм зеленого шелка. Кларисса Орсини прислала перстень, а Альфонсина Орсини – золотую цепь.
Потом пришел отец, старый Лодовико Буонарроти, в одежде, какой уже давно не носят, но такого добротного сукна, что она выглядела новой, как с иголочки. Он держался робко, неуверенно, смущенно, – нет, ни в чем уже не чувствовался бывший подеста и член Совета двенадцати. Правители уважают юношу-каменотеса, отказавшегося от хорошей чиновничьей карьеры, – так, может, парень, мы и впрямь напрасно тебя обижали, как все время твердит мама Лукреция, она тоже придет на празднество, так что нельзя тебе болеть и отсутствовать, как ты говоришь, – ну, подумай, что она там без тебя будет делать среди всей этой знати, коли уж нам этого не миновать, понимаешь? И братья тоже придут, не удивляйся, что придут к Медичи, им хочется тобой похвалиться, и Джовансимоне чуть не проповедовал вчера перед соседями, как, мол, они тебя всегда любили и во всем тебе помогали, и знаешь… – тут голос Лодовико вдруг надломился, и старик продолжал уже шепотом… – дядя Франческо тебе дивится и поклон велел передать, – ты можешь себе представить, милый? Передаю тебе поклон от дяди Франческо…
Ночь, ночь, ночь, снег перестал, морозит. Дьявол мчится в воздухе, гоня перед собой жесткие тучи, которые словно скрежещут, сталкиваясь друг с другом. Одинокая свеча горит в темной комнате, где он сидит, запустив пальцы себе в волосы, прислушиваясь к этому скрежету и раздающимся в воздухе голосам. Боли нет, есть отвращение. Брезгливое отвращение и противный вкус в горле, во рту, в сердце, горечь на языке, сменяющаяся ощущением гнили, словно ты поел падали. Ему противно все, даже его собственное дыхание, собственные руки, собственные мысли. Кровь течет мутно и медленно, словно похоронная процессия, тянущаяся с горы на гору, без передышки. Скрежет ветра, туч, ставней. Ночь. Холодно. Значит, статуя будет жить еще долго. Распустится, растает, только выслушавши весь смех и восторг города. До сих пор возле нее стоит стража, чтобы никто не испортил такую драгоценность. Ночь. Гниль в мозгу и в сердце. Часы поступили на службу к аду. Они пахнут серой, напоены всхлипываниями отверженных, набухли их бессильными слезами. Вот погасла единственная свеча, какая была в горнице. Его затопила волна тьмы. Он сидит не шевелясь. Сердце изголодалось, и надо было нанести ему эту обиду. Теперь оно бьется во тьме. Отвращение стало твердым и укоренилось навсегда. В сердце, в жилах, в мозгу, в печени, в руках, во лбу, в груди. Навсегда останется там, гранитное, несокрушимое, неподатливое, крепкое, как панцирь. Никогда не будет раздроблено и извергнуто. Тьма. Догорающий огонь в очаге разлил последний свет, и выступило, словно вырезанное из тьмы, посиневшее лицо. Потом огонь погас. Микеланджело медленно встал, тяжелыми шагами подошел к постели и бросился на нее, прямо как был, в новой красивой одежде зеленого шелка, с цепочкой на шее, с перстнем на руке. Вслед за его паденьем ночь сразу осела, завалив его тяжкой, непроницаемой тьмой, в которой, вместе с последним лучом света, по красным поленьям растекался остаток модели статуи Данте, с одной рукой на груди, на сердце, а другой протянутой вперед: Данте – в то мгновенье, когда он вышел на свою темную дорогу, одежда в богатых складках, движенье ходьбы, восковая модель, превращающаяся в противную грязно-серую кашу, полную головешек и пепла.
БЫК, ЗАЧАТЫЙ ОТ СОЛНЕЧНОГО ЛУЧА
Над Альпами бушевала буря.
Молнии бороздили свинцовый небосклон, ударяли в гудящие скалы. Тучи с грохотом катились по склонам гор, буря била в отвесные скальные стремнины, наклоняя их. Гром перелетал с одной пламенеющей вершины на другую, как огненный орел, который, нацелившись, вот-вот ринется вниз. И за ним упадет оглушительный каменный обвал. И солнце взметнется в поднявшемся к небу шквале. Почерневшая от столетий пустота бездн и утесов светится лиловым светом. С грохотом выбился из скал высокий столб пламени, волнобой отголосков, бездны ревут.
Король Карл шагает между герцогом Монпансье и маршалом де Ги. Каждый раз, как молнии расколют стену скал, король, бледный, испуганный, смотрит на своих друзей, лица которых тверды и суровы. Это мужи бури и войны, и королю всякий раз становится легче при взгляде на тех, кого он гонит на смерть. Длинная зигзагообразная молния расколола небо прямо у него над головой и сбежала в глубь стремнины, сорвав сверху несколько глыб. Слюнявый рот эпилептика из рода Валуа, всегда разинутый, закрылся от страха и ужаса. Король оперся на маршала, и тот предложил, что отыщет какую-нибудь пустую пещеру, где королю можно будет переждать бурю. Но господин де Монпансье посоветовал остаться при войске, по примеру паладинов Карла Великого, и этого было достаточно, чтобы Карл сделал новое усилие подавить дрожь всего тела, на котором даже панцирь дребезжал от страха. Они стали спускаться вниз по извивам тропок, освещаемых одними молниями, – хотя был только полдень, тьма среди скал стояла полночная.
Ущельями возле Монте-Джиневра, среди бури, французское войско катилось в Ломбардские низины.
Девяносто тысяч человек в полном вооружении, орды бойцов, закаленных в нидерландских, пиренейских и рейнских битвах, старые арманьяки, несущие на своих рваных знаменах кровь еще Столетней войны, армада убийц, согнанная со всех концов Франции. Девяносто тысяч обученных солдат, не считая швейцарских отрядов, где каждый – хоть простой пехотинец, а стоил кучу золотых. Они шагали вперед, распевая песни, зная и бури и горы, не без презренья поглядывая на испуганные толпы французов, владея новым военным искусством, с помощью которого, наступая густыми рядами, разгромили золоченое рыцарство под Грансоном, у Муртенского озера, а потом в лютый мороз – у Нанси, где так круто расправились с противником, что только через два дня в снегу нашли обгрызенный волками труп герцога Карла Смелого, которому при жизни никакое золото, никакие диадемы не казались достаточно ослепительными, чтоб украсить его голову. На швейцарцах были куртки в черную и белую клетку, к буре они относились спокойно, искусно пробираясь по извивам троп, среди пропастей. За ними, под звуки свирелей и барабанов, шагали взводы наемников – ландскнехтов из Верхнерейнской области, ядро отряда составляли пищальники в широкополых шляпах, разукрашенных желтыми и красными перьями, несущие свое тяжелое орудие на плече, опираясь на рогатину. Пронзительно звучали в бурю резкие ноты их свирелей, выводящих на походе старые военные песни. С ландскнехтами шло также много немецких господ, многим из них не по вкусу был Максимилианов ewig Landfried 1, слишком горяча была кровь и тесны замки, тверд кулак у епископа Вормсского, ландграфа Гессенского, курфюрста Майнцского, непристойно было драться с бунтующими крестьянами Верхнерейнской и Брейсгауской областей, дворянский стяг должен реять в иных сражениях, против славнейших знамен, чем Бундшу, мужицкий лыковый лапоть, насаженный на рукоять вилы, – единственный боевой значок малохольных мятежников. Авангард составляли задорные рыцари, жаждущие первых стычек. Воинство катилось под бурей по горным тропам, среди пропастей и высоких пиков, под оглушительные раскаты грома. Девяносто тысяч бойцов и четыреста больших бронзовых пушек, до сих пор не виданных тяжелых орудий, несущих ужас и смерть. И, кроме того, бесчисленное количество малых. Стрелки, копейщики, мушкетеры, саперы, пищальники, ландскнехты, пушки, фальконеты, свирельщики, знаменосцы – все на твердом жалованье, аккуратно выплачиваемом. Да четыреста кораблей под командованьем Пьера д'Юрфе плыли по морю, ощетиненные оружием на носу…
1 Вечный мир в стране (нем.).
Предсказание исполнялось. Альпы расступились. Только один человек мог остановить этот поход, совершаемый в грозе и молнии, так же как он его сдерживал много лет, но человек этот был мертв, и когда он умирал, свод в Санта-Мария-дель-Фьоре дал трещину, как теперь трещат своды под ударами снарядов из французских фальконетов. Кривобокий сумасброд с обезьяньей физиономией и всегда разинутым слюнявым ртом, сутулый пасквиль на рыцарство, король милостью сестры своей Анны Бурбон-Божё, приказал – и смерть и гибель двинулись в поход, распевая песни бахвалов и шлюх.
В страну вступили французы.
Кое-где рокотали барабаны и плакали колокола, народ вопил молитвы и бежал в леса, но в других местах ставились триумфальные арки, и девушки, перед тем как попасть в плен к поджарым рыцарям Куртье, рядились в Чистоту, Стыдливость и Целомудрие. Уже горели первые деревни, и едкий дым пожарищ доходил до Турина. Опустошенная, ограбленная до нитки страна, с отравленными или засыпанными колодцами, была покрыта пеплом. Орды, наторевшие в убийствах и разбое, благословляли короля, который привел их в этот богатый край. На сучьях деревьев, на балках обгорелых домишек, повешенные по туреньскому способу – с обожженными подошвами, с вывернутыми из суставов коленями, с вырезанным языком – висели те, кто не сразу указал, где спрятаны деньги. Обнаженные тела женщин и девушек стыли на крыльцах, у лестниц, вдоль горящих нив. На кольях изгородей, на тычинах виноградников насажены младенцы, детская кровь текла по тяжелым налившимся гроздьям, – люто было вино войны. А в это время вдовствующая герцогиня Бьянка Савойская встречала в Турине короля постановкой духовной пантомимы, где начальные пастушеские сцены изображали "закон природы", а затем – сонеты, воспеваемые патриархами, выражали "закон милости". Потом были представлены "Приключения Ланчелотто". Утром король сел на коня и, окруженный борзыми и придворными, велел ехать для дальнейших увеселений в Асти, где ему приготовил торжественную встречу Лодовико Моро со своей супругой Беатриче д'Эсте. Там торжества обошлись особенно дорого, так как руководил ими знаменитый Леонардо да Винчи, с которым король желал тоже познакомиться. И вот перед королем, который глядел как завороженный, раскрывши рот, закружились огненные шары планет, стали подыматься в воздух, улетать и прилетать поющие гении, заговорили статуи, запылали фейерверки, забили разноцветные каскады воды и растянутый во всю ширь дворца ковер вдруг ожил, вышитые на нем фигуры оказались живыми людьми, – напрасно пробовала убежать нагая Галатея, пришлось ей упасть в объятия короля-рыцаря, пускавшего слюну.
А отряды все валили по разоренной стране. Свирельщики весело играли, поддерживая ритм шагов, рокотали барабаны, разливались песни, и за потоками войск ехали богато украшенные крытые колымаги с французскими проститутками, сопровождавшими войска из самой Франции и собиравшими богатую дань среди солдат, у которых было уже много золота, широкополые шляпы этих женщин были полны шелковых лент и алмазных пряжек.
На королевских знаменах был вышит девиз: "Voluntas Dei – missus a deo", что значит: "Воля божья – я послан богом".
Потому что эпилептик страстно желал, покорив Неаполь, низложить папу, подчинить себе Италию, вновь отвоевать Византию, разрушить сарацинское государство, покорить Азию и, по следам Александра Великого, дойти до Индии, чтобы вернуться в Париж с титулом короля Иерусалимского, в персидской одежде и со слонами вместо коней. Еще выше подкручивали концы усов французские господа при мысли об этих завоеваниях, и ни один из них не боялся пустить с молотка свои владения в Артуа, деревеньки в Оверни, замки в Шампани, – Индия за все щедро заплатит. А пока платили Синьории городов, обложенных золотою данью – хуже чумы. И платили не только золотом. Они платили картинами, гобеленами, мощами святых, драгоценными рукописями, статуями, сокровищами искусства, а главное – женской красотой. Платили. Уже тысячи тяжело навьюченных мулов были отправлены во Францию. Платили. И будут еще платить. Потому что потребуется еще много денег, прежде чем гасконские дворяне, единственной собственностью которых были отцовский меч да тощая кобыла, дойдут до Индии и наденут персидские наряды. Разве они идут не затем, чтобы освободить гроб господень? Идут крестоносцы, – так пусть же их поход оплачивают итальянские города, изнежившиеся в наслаждениях и неспособные к отпору! Разве недостаточно потратился эпилептик для подкрепления своих притязаний на Неаполь – в качестве наследника герцогов Анжуйских? А раз он будущий правитель Неаполя, так в силу этого звания он же является преемником королей иерусалимских из дома Штауфенов, и пусть христианский мир платит будущему освободителю гроба господня! А кто возместит ему расходы, связанные с откупом у последнего из династии Палеологов претензий на византийский трон? Правда, у Андрея Палеолога, кроме этих претензий, ничего не было, но он сумел выгодно обратить их в деньги, хитрый грек, имея дело с королем, который всегда слушает собеседника, раскрывши рот. А кто должен оплатить ему поспешные уступки в Нидерландах и на Пиренейском полуострове, сделанные ради того, чтоб ускорить начало Итальянского похода? Так пусть же пока расплачиваются Синьории и князья – деньгами, а прелестные дамы – своей красотой, прежде чем начнет платить Азия и слоны повезут индийские сокровища, как теперь везут сокровища мулы.
Неаполитанское наследство…
Потому что там умер арагонец, король Ферранте, – после страшных мучений, в том самом зале, уставленном его бальзамированными жертвами, где он любил сидеть, съежившись в высоком кресле, как подстерегающий паук, наслаждаясь видом мумий, одеваемых слугами по воскресеньям в праздничные одежды, – так как он тоже чтил день господень. Три дня старик выл от ужаса, чуя свою смерть, ползал на коленях перед мумиями убитых и выкрикивал их имена, челядь разбежалась, никто не хотел входить в зал, где безумствовал помешанный король, даже родной сын Альфонс боялся войти и просил отцовского благословенья, стоя на коленях за дверью, между монахами. Монахи держали в руках зажженные свечи и кропильницы со святой водой. Призвавши на помощь архангела Михаила, они велели королю открыть дверь в зал, покаяться в грехах и собороваться. В ответ старик стал выкрикивать имена мертвых, и выходило, как будто это кричат монахам и королевичу убитые королем. Потом стало слышно, как мумии падают, видимо, старик начал с ними драться; тут Альфонс вышиб дверь и вошел, чтоб помочь отцу, которого увидел в объятиях первого министра Антонетто Петруччо, поседевшего, одряхлевшего и нашедшего свой конец на его службе, отравленного за трапезой ядом под названием basium, что значит "поцелуй", по-испански – osculo. Наверно, Петруччо был уже с молодости морщинистый, робкий, испуганный, – над ним много издевались. Король Ферранте немало позабавился на его счет и никогда не отпускал его от себя, так что тот утром, перед посещеньем дворца, всякий раз просил добрых людей помолиться святым патронам о ниспослании ему легкой смерти. Он часу не проводил без опасения за свою жизнь и скоро состарился, не имея возможности из-за вечного страха ни веселиться, ни плодить детей, ни, кажется, есть. Он задаривал короля подношениями, и король брал, уверяя, что никогда его не казнит, и в благодарность за то, что не казнит, Петруччо отдал королю последнее свое поместье. И тут король пожалел его худобу и бедность и, тронутый до глубины сердца, позвал его к себе во дворец, на пир, чтобы тот поел как следует, и Петруччо поел там из королевских рук яду под названием basium, что значит "поцелуй", – и умер. Его набальзамировали, как других, и он, в одежде первого министра, стоял прямо перед королевским креслом, так как высушенный горемыка был и после смерти сам не свой от страха, королевский поцелуй пришелся ему не по вкусу, он после него кривился, а королю было смешно, он находил потешной его высушенную физиономию, покрытую и после смерти идиотскими морщинами. Возле него стоял купец Франческо Капполо, упершись только пятками да теменем в стену и выпятив живот, потому что он был непомерно толстый, а после его смерти король приказал набить ему живот, чтоб толщина сохранилась. Король Ферранте сосредоточил в его руках всю неаполитанскую торговлю, он один имел право нанимать корабли, продавать пряности, описывать имущество должников, торговать вином, зерном и солью, но Капполо знал, что это значит, и чуть не со слезами упрашивал короля отпустить его на обследование филиалов в Отранте, но король слишком опасался за его здоровье и не разрешил ему опасной морской поездки, так что Капполо долго хлопотал по торговой части, пока его тоже не набальзамировали и не стали одевать по воскресеньям в лучшую одежду. Вдоль стен стояли остальные, было их сорок девять – высохших, сморщенных, и только пятидесятая мумия была живая, ползала на коленях вокруг, билась головой об пол, выла от ужаса, этой мумией был король. Потом он задел за Антонетто Петруччо, тот упал на него, глупо осклабившись, но королю его улыбка теперь уже не нравилась, он стал драться с мертвым, так что свалил на себя и толстого Капполо. Тут Альфонс вышиб дверь и, увидев эту борьбу, позвал на помощь доминиканцев. Монахи вбежали под защитой святого архангела Михаила, и в то время как один помогал королевскому сыну вытащить старика из-под навалившейся на него тяжести, другой стал кропить все вокруг святой водой и читать, стуча зубами:
– "Exorzisamus te, omnis immunde spiritus, omnis satanica potestas, omnis incursio infernalis adversarii, omnis legio, omnis congregatio et secta diabolica, in nomine et virtute Domini Nostri" 1.
Но король оторвал кусок руки у Капполо и кинулся на священнослужителя, который отступил перед этим оружием, в то время как лежащий навзничь Петруччо при виде этого глупо ухмылялся. Альфонс крепко схватил отца и в конце концов, посулив богатое вознагражденье, уговорил нескольких слуг, одевавших мумии и потому привыкших к ним, помочь ему оттащить старика на постель, в спальню. Но король не хотел расставаться со своими мертвецами, он пришел в ярость, когда его потащили насильно, начал рваться обратно, в зал, и успокоился, только когда увидел, что мумии идут к нему. Тут он с довольной улыбкой стал называть их имена – по мере их появления, в то время как доминиканец, бледней бумаги в книге, которая была у него в руках, продолжал кропить вокруг святой водой и читал дальше:
– "Imperai tibi sacramentum Crucis omniumque + christianae fidei Mysteriorum virtus +. Imperat tibi excelsa Dei Genetrix virgo Maria +, quae superbissimum caput tuum a primo instanti Immaculatae suae Conceptionis in sua humilitate contrivit Imperai tibi fides Sanctorum Apostolorum Petri et Pauli ceterumque Apostolorum +. Imperat tibi Martyrum sanguis" 2.
1 Изгоняем тебя, весь дух нечистый, вся власть сатанинская, вся сила вражья, весь легион, весь синклит и сонм дьявольский именем и всемогуществом господа нашего (лат.).
2 Повелевает тебе тайна креста и сила всех таинств веры христианской. Повелевает тебе чистейшая богоматерь дева Мария, которая надменнейшую главу твою неодолимой силой непорочного своего зачатия в уничижение привела. Повелевает тебе вера святых апостолов Петра и Павла и прочих апостолов. Повелевает тебе кровь мучеников (лат.).
Однако старик, занятый перечислением, не слышал. Он часто сбивался и начинал сначала, но потом заметил, что сбивается из-за распятия, которое другой доминиканец тщится прижать к его губам, как печать. И он осыпал священнослужителя неистовыми ругательствами, боясь, что не удастся довести перечисление до конца. А когда получилось-таки сорок девять, стал призывать всех повешенных и обезглавленных, погибших в тюрьме от голода, – людей, не принадлежавших к знати. Вдруг распространилось странное зловоние, так что не продохнуть от гнилостного смрада, от которого все свечи погасли. В тот же миг разлетелось в осколки, словно вышибленное чьей-то невидимой рукой, окно. Заслышав звон разбитого стекла, все с воплем кинулись к выходу, только монахи и королевский сын остались возле старика, вытаращенные глаза которого горели и дыханье обдавало жаром. Когда и сын отпрянул, старик сел на край постели и засмеялся. Под его пронзительный смех доминиканец читал прерывающимся голосом:
– "Ergo, draco maledicte et omnis legio diabolica, adjuramus te per Deum + verum, per Deum + vivum, per Deum + sanctum, per Deum, qui sic dilexit mundum ut Filium suum Unigenitum daret…" 1
1 Итак, проклятый змей и весь легион дьявольский, заклинаем тебя богом живым, богом истинным, богом святым, богом, который столь мир возлюбил, что сына своего единородного предал (лат.).
Но король Ферранте уже лежал на земле, словно разбитый параличом, бездыханный и весь черный. Все члены семьи и челядь вышли из зала на лестницу и опустились там на колени. Новый король Альфонс пригрозил пыткой и смертью каждому, кто вздумает разглашать виденное. И так как новый король был не лучше прежнего и взгляд у него был черный, а волосы сожжены огнем, во время его правления на самом деле никто не говорил об этом, и только в глубокой тайне о короле Ферранте было записано, что он умер жалкой смертью, sine luce, sine cruce, sin Deo – без света, без креста, без бога.
Альфонс взошел на неаполитанский престол и, так как Неаполь был леном церкви, получил утверждение от его святости папы Александра Шестого, который прислал на коронацию в качестве кардинала-легата своего племянника. А вскоре после этого внебрачная дочь короля Альфонса, донья Санция, была выдана за папского сына Жоффруа, князя Сквиллаче, графа Червиати, тринадцатилетнего папского протонотария и местоблюстителя королевства Сицилийского по самый Фарос. Тогда кардинал Джулиано делла Ровере решил действовать, не откладывая. Принял назначение легатом святого престола при французском дворе и той же ночью отплыл во Францию. Кардинал делла Ровере – твердый, неуступчивый противник, многие почуяли, что обозначает его отъезд. Если Лодовико Моро только хвастает, что призвал французов, то кардинал Джулиано не хвастает, кардинал Джулиано действует. Уехал ночью во Францию. Кости брошены.
Но папу Александра не тревожит отъезд кардинала Джулиано, его давнего непримиримого врага. Двенадцатого июня прошлого года правитель Пезаро Джованни Сфорца, двадцатишестилетний молодой человек, статный, с хорошими манерами, повел к алтарю свою невесту – папскую дочь, очаровательную Лукрецию, чьи роскошные золотые волосы все называли солнечными прядями и которой только что исполнилось четырнадцать лет. Дружкой был старший сын папы – герцог Гандии, носивший по сарацинской моде тюрбан. А подругой невесты – молоденькая папская любовница Джулия Фарнезе, выданная за Орсо Орсини, который не роптал. Папу она называла дядей и недавно родила ему прелестную дочурку Лауру. Папа ждал свадебную процессию, в которой трены дам несли арапы, – сидя на троне, в окружении всей Святой коллегии, никто не хотел отсутствовать на свадьбе папской дочери, где дружкой был папский сын, как сарацин, в тюрбане. Торжественная проповедь о святости брака, обращенная к молодым, была поручена епископу Конкордии, и остальные завидовали ему, так как удачная проповедь, произнесенная в присутствии папы, была всегда ступенью к кардинальскому креслу. Обед был сервирован на двести золотых приборов, а вечером, во время торжественной иллюминации, среди римских толп было разбросано столько сластей, что для этого понадобилось растолочь сто фунтов сахара. На пиру папа сидел между дочерью Лукрецией и любовницей Джулией Фарнезе, и у него было прекрасное настроение. Потому что он любил детей своих svisceratissimo amore – любовью, проникающей всю внутреннюю, а пока все шло, как по-писаному. Возле каждого кардинала посадили молодую женщину, и шла игра в сахарные шарики, кидаемые в глубокий вырез у них на груди. По окончании пира посланники и князья поднесли невесте драгоценные подарки, потом начались танцы и была представлена пантомима.
После обычных свадебных шуток папа отвел новобрачных с факельным шествием во дворец Санта-Мария-ин-Портико. Подруги невесты уложили молодых в постель и удалились, а его святость и кардинал Асканио Сфорца еще остались, но отошли. Когда жених сообщил с постели, что брак осуществился, его святость, вместе с кардиналом, вернулся к себе во дворец.
Во Флоренции Савонарола повел в храм тысячу одетых в белое детей молиться об отвращении гнева господня. Кардинал Джулиано делла Ровере не водил детей в храм, а поспешно заключил крепкий союз с Орсини. А между тем его святость, нимало не интересуясь ни кардиналом Джулиано, ни Орсини, ни Савонаролой, назначал новых кардиналов, среди них – своего сына Сезара, до тех пор епископа пампелунского, теперь назначил кардиналом валенсийским – от Санта-Мария-Нуова. Было известно, что кардинал не имеет никакого посвящения, но ведь это папский сын, кому же придет в голову возражать? Далее, кардиналом назначен был юный Алессандро Фарнезе. Было известно, что это из-за красоты его сестры Джулии Фарнезе, юной любовницы папы, поэтому нового кардинала называли в Риме не Фарнезе, а кардиналом "fregnese", то есть кардиналом "того, что под юбкой". Третьим был Ипполито д'Эсте, – это в угоду герцогу Эрколе: в то время было очень важно иметь хорошие отношения с Феррарой. И в Риме нового кардинала пока не называли никак, оттого что он был еще маленький, играл в Ферраре с свитскими пажами в войну.
Многие уже возложили свои надежды только на бога. Савонарола во Флоренции, призывая во всех проповедях своих к покаянию, возлагал надежды не только на бога, но и на Карла Восьмого французского, этого "Кира, который все исправит, переменит, восстановит". Но французский Кир страдал падучей, читал рыцарские романы об Амадисе Галльском, о роге Роланда, о рыцарях короля Артура, слушал, открывши рот, новости из Италии и не решался.
Между тем папа Александр не думал ни о Савонароле, ни о кардинале Джулиано, ни о короле Карле. Еще есть время. Он сидел, погруженный в размышления, в тихом ватиканском зале, положив тучную руку на важные письма, лежащие на столе. Его святость был доволен. Сколько воды утекло с того вечера, когда он сидел здесь и молился за Лоренцо Маньифико, думая о том, что Иннокентий правит слишком долго и к тому же нелепо и пора уже подняться повыше, – нельзя же весь век оставаться канцлером церкви… Тогда он еще боялся привидений, неожиданно появлявшейся темной тени, чуял ее, тень отбрасывал человек в маске, – тогда он еще боялся этой тени и считался с ней. Надо было все продумать во всех подробностях, малейшая неосторожность могла все погубить… Комедия о привидении!
Пухлые губы его святости сложились в довольную улыбку. Теперь он уже не боится. Но помнит по-прежнему – для верности. Какое теперь положение? Всем членам конклава, которые оказали поддержку на выборах своими голосами, уплачено, как было обещано:
кардинал Колонна получил Субиако со всеми поместьями – на вечные времена,
кардинал Микьель – богатую епископию Портус, – не может пожаловаться,
кардинал Склафетано – город Непи,
кардинал Савелли получил Чивиту-Кастелляну,
кардинал Асканио Сфорца получил пост канцлера церкви,
кардинал Ардичино, кардинал Палавиччини, кардинал Сансеверино, кардинал Чезарини и остальные – каждый по четыре мула, навьюченных подарками и деньгами, и даже дряхлый венецианский патриарх Маффео Герардо – полужилец могилы, принял в свои дрожащие руки пять тысяч золотых дукатов.
Остаются те, кто отвергли дары, отказались от них: Рафаэль Риарио, потому что он – делла Ровере; кардинал Караффа, который постится, занимается самобичеванием, размышляет о реформе церкви и которого мы, не мешкая, назначим легатом куда-нибудь подальше, в чужие края; кардинал Зено, слишком гордый и слишком богобоязненный; кардинал Пикколомини, – ах, где счастливое время бедного сиенского гуманиста кардинала Пикколомини, папы Пия, которому я помог тогда добраться до тиары!.. Кардинал Адриано ди Корнета, такой же ожесточенный мой враг, как этот Джулиано. И кардинал Джованни Медичи, – да, он тоже все отверг, не принял ничего, потому что он – Медичи, а может быть, из богобоязни? Их сопротивление просто смешно! Двое, трое, четверо уже померли, поев отравленного, как этот кардинал Адамо из Генуи, который слишком много проповедовал насчет симонии, явно намекая, в кого метит, или племянник мой кардинал Джованни Борджа, он был мой племянник, но и по отношению ко мне тоже – hombre de danado intencion, человек коварный и вероломный, – они поели отравленного и умерли; два, три, да, уже четверо… И я назначил кардиналами новых – д'Эсте этого, потом Доменико Гримани из Венеции, Бернардино Лунато из Павии, Карваяла из Испании и Казимира, сына польского короля. Эти будут верными. А сопротивление отвергнувших смешно. Союз с Неаполем прочен, замок Святого Ангела опять укреплен, и славно укреплен, Модена и Феррара связаны благодарностью, султан Баязет честно платит за Джема, Венеция о Риме не думает, у нее другие заботы. Пезаро, благодаря замужеству Лукреции, – в моих руках, ни одно итальянское государство не отважится сейчас поднять против меня оружие. Все идет как по-писаному.
А дети? Его святость опять улыбнулся довольной улыбкой. Он обеспечил всех детей своих от других женщин, но больше всего – in gradu superlativo любил он тех, которых имел от прекрасной Ваноццы де Катанеис. И теперь Джованни – герцог Гандии и, получив руку принцессы доньи Марии Энрикес, породнился с испанским королевским домом их католичнейших величеств. Дон Сезар – епископ пампелунский, епископ валенсийский и кардинал от Санта-Мария-Нуова, обладает мечом и войсками. Жоффруа вступил в родство с неаполитанским королевским арагонским родом и является князем Сквиллаче и наместником Сицилийского королевства. Лукреция вышла за князя Пезарского, но судьба ее не сводится к этому. Звезда Сфорца закатывается, и святой отец решил устроить дочери развод с мужем, под предлогом его полового бессилия, хоть Лукреция и перестала быть девственницей и сам святой отец с кардиналом Асканием дождался в свадебной комнате осуществления супружества. Что из этого? Видно, епископ Конкордии проповедовал о святости брака не к месту, здесь есть Альфонс Арагонский, который женился бы на ней, и владычество Борджа от этого еще больше увеличилось бы. Лукреция стала бы герцогиней Бишельи, – это не то, что какая-то княжна Пезаро!
Ибо золотой бык Борджа поднялся. Теперь остается только осуществить план до конца, сочетав воедино три вещи: расцвет церкви, благо Италии, власть рода Борджа. Объединить под скипетром Борджа не только города, давно уже составляющие собственность тиары и борджевского быка, но прибавить к ним еще Перуджию, Сиену, Пьомбо, Эльбу, герцогство Урбинское, Романью с Равенной, Римини, Чезену, Форли, Фаэнцу, Иммоллу, Камерино, Модену, Реджо, Болонью со всеми ее городами и территориями, наконец, герцогство Феррарское. Что же останется в Италии за пределами этого государства? Флоренция? Но Пьер Медичи вступил со мной в соглашение! Венеция? О ней постарается союзник мой Баязет. Неаполь? Мой сын породнился с неаполитанским королевским родом. Ах, не достигли того, о чем мечтали, ни Педро Луис, племянник папы Каликста, ни Джироламо Риарио, сын папы Сикста, ни Франческо Чиба, сын папы Иннокентия, но этого достигнет мой сын, герцог Гандии, свойственник рода испанских королей… Все папские сыновья проигрывали, словно над ними тяготел какой-то темный рок. Это потому, что отцы их не умели взять все в свои руки – так, как это сделал я! И мой сын не проиграет…
Золотой бык Борджа!
Но Лодовико Моро в Милане не хотел быть задушенным в объятьях растущего Папского государства, он бросил свои войска к границе и призвал короля Карла Восьмого французского. Кардинал Джулиано вел переговоры, ездил в Париж. Горели деревни, горели нивы, земля покрылась пеплом, на сучьях деревьев висели повешенные по туреньскому способу, на улицах стыли тела изнасилованных женщин, на кольях плетней, на виноградных тычинах были насажены грудные младенцы, и кровь их струилась по тяжелым, налитым гроздьям, – люто было вино войны.
Первое сражение разыгралось у Фивицциано. Герцог Монпансье уничтожил все войска кондотьеров, до последнего бойца. После битвы у Рапалло от неаполитанского войска остались одни развалины. Там дрались швейцарцы и генуэзцы. Ужас обуял всю Италию. Сбывались все пророчества. И Пьер Медичи решил сдать французам остальные свои крепости без боя. Но и тут его святость не заколебался. Еще есть время, еще на все есть время. Каждую игру нужно заранее продумать до мельчайших подробностей, не допускать никакой опрометчивости, смешны те, кто полагает, будто у меня нет никаких скрытых сил в засаде. Папа не спеша протянул руку к шнуру звонка. Тихими, неслышными шагами вошел секретарь, тоже испанец, и сел за свой столик. Его святость, не спеша, обдумывая каждое слово, продиктовал письмо султану Баязету. Разве у них обоих не общий враг? Этот смешной крестоносный король хочет, завладев Римом, вторгнуться со своими силами в Азию и выступил с огромной армадой, большим флотом кораблей, хочет стать Александром Великим. Но еще есть время, поэтому я пишу Вашему величеству Баязету, милостью божьей государю двух материков, радуясь тому, что Ваше величество – в добром здравии и, конечно, приложит все силы, чтоб отстоять дело мира, и не позволит Карлу стать королем над сарацинами…
Его святость не спеша диктовал, секретарь-испанец писал. Его святость уже не боится привидений, он теперь с ними советуется. Дон Сезар остановился в углу комнаты и слушает, вставляя время от времени поправки, улучшающие, усиливающие то или иное выражение в письме.
И будто бы той ночью в Ватикане вдруг сами собой загорелись все свечи, а потом опять погасли. Стража разбежалась, крича от ужаса. На плитках пола в зале были обнаружены кровавые следы босых ног. Кто-то прошел здесь, тяжело ступая, ноги его, избитые камнями дороги, точили кровь, он ступал тяжело, падая под бременем, которое нес на своих плечах – высоко, высоко, на лобное место, длинная борозда, словно вырытая волочащимся концом крестного древа, тянулась рядом с кровавыми следами ног…
И вспомнили многие Сикстов сон.
Султан ответил письмом, посылая одновременно сорок тысяч дукатов, в письме он ставил свои условия, датировав его так: "На нашем султанском дворе, нашего правления в Стамбуле в лето от рождения пророка Иисуса 1494-е". Но гонца с письмом схватили в Синигалии, передали королю Карлу, и кардинал Джулиано распространил письмо по всему христианскому миру, который содрогнулся. Это было похуже поцелуя в плечо.
Французские войска наступали. Не было уже такого кондотьера, который отважился бы дать бой. Французы в продвижении своем не могли обременять себя пленными. Альфонс со своей последней армадой отступал к Риму. Пьер Медичи сдал без боя крепости Сарзано и Ливорно. Пиза восстала против Флоренции, вышла из подданства и ударила в тыл остаткам отступающего Пьерова войска. Поток ужаса и крови разливался все шире и шире.
Взбунтовались крестьяне Перуджинской области, они устраивали засады против солдат Бальони и Одди, хватали их и отправляли с выщербленными глазами, оставив одного зрячим, в город. В округе Терни настала такая нищета, что жители убивали друг друга, а потом, разграбив деревню, где еще оставалось сколько-нибудь спрятанного зерна, тянулись длинными толпами в город, воя от голода. Одна женщина отведала трупика своего ребенка и угостила соседок. Другие жители, почуяв запах жареного, убили женщин и, сами усевшись на их место, принялись жадно глотать куски мяса, кидая обгрызенные кости себе за спину. Один из них узнал по найденным остаткам, что ели ребенка. Наевшиеся сочли это страшным злодеянием и стали слезно просить господа бога смилостивиться над ними, но, изголодавшись в дальнейших безнадежных скитаниях, перестали думать, что это такой уж великий грех. Многие еще подвергали сами себя бичеванию, чтобы преодолеть алчбу, но дети в толпе продолжали исчезать.
Из скал выходили колдуны и чародеи, никто не выдавал их палачу. Все теснились вокруг них и слушали, что они говорят. По ночам разводили костры во славу черного козла и разрывали могилы. С лобных мест, после заклинаний, сходил призрак и вещал народу, что, когда минует нынешнее опустошение, на земле снова будет рай и все станут как боги. Не будет ни голода, ни жажды, ни бедности, ни страданий, ни печали, ни болезней, ни старости. Но не будет и святости – этой выдумки, выгодной одним попам. Вы будете как боги, вещал призрак, и радуйтесь, милые: то, что вы творите между собой, – не разврат, а лишь прообраз райского жития. Пока веселитесь телесно, чтобы при будущем пришествии моем веселились уже души ваши. Так вещал призрак, обнаженные плясали вокруг костра и утопали в ночных радостях, как в бездонном море.
Над Моденой в самый полдень, среди бела дня, разыгралась битва в облаках, какие-то существа, огромные, как тучи, лупили друг друга дубинами. Народ на улицах пал на колени, ожидая Христова пришествия. Во многих деревнях, нисколько не скрываясь, бродили дьяволы в виде бешеных собак.
Голодная толпа во время своих блужданий повстречала стадо безголового скота. Люди разбежались, а стадо в дорожной пыли прошло к скалам, которые за ним с грохотом закрылись. В деревне Каббия сошел с ума священник, – он похоронил живого осла, всунув ему в пасть освященное распятие. Тотчас от страшной бури разверзлись небеса, помешанный священник был убит молнией, а земля вокруг ослиной могилы почернела. И долго еще по ночам из глины выбивался огонь, пока деревенские, вне себя от страха и не имея, с кем посоветоваться, не убили на этом месте девочку, восьмилетнюю нищенку, бесприютную жертву военного времени, которую нашли в деревне. В день убийства в сумерках земля раскрылась и отдала остов осла. И все увидели, как душа девочки, вся прозрачная, светлая, с серебряным распятием в руках, воспевая чудную песню, вознеслась к вечернему небу и исчезла в облаках. И с тех пор на том месте стало спокойно и опять зазеленела трава.
В лесных дебрях ставились скиты. Там святые праведники, отвернувшись от мира крови и бед, одетые в скотьи шкуры, преклоняли колена перед грубыми, самодельными распятиями и имели виденья. Беглые бойцы из разбитых отрядов проникали и в эти дебри, – солдаты, уволенные без жалованья, оборванный сброд, одна кожа да кости. С кое-как перевязанными ранами, в лохмотьях, с отражением пережитых ужасов в ошалевших глазах, они садились близ этих праведников у лесных костров, а потом разносили повсюду их пророчества и виденья.
Французы наступали. Позади них оставался пепел сожженных деревень и нив, трупы убитых, – и дальше ехали веселые колымаги с проститутками в широкополых фетровых шляпах с развевающимися лентами и алмазными пряжками.
Пистойя отпала от Флоренции и уничтожала ее солдат.
Священник Луиджи Биджони чуть не опустошил город Анкону, выступив с проповедью на текст книги пророка Иеремии: "Оставьте города и живите на скалах, и будьте как голуби, которые делают гнезда во входе в пещеру". И поднялся народ и, собрав самое необходимое, потянулся длинными вереницами из города. Синьория пришла в ужас, приказала скорей запереть ворота и загнать обратно тех, кто успел выйти, но между народом и войсками поднялась резня, народ предпочитал жить, как голуби на скалах, чем ждать врага в городе. Священник Заннино из Бергамо вещал, что Христос принял крестные муки не из любви к людям, а под влиянием звездных констелляций. Священник Понтано вещал, что нет ангелов-хранителей, а есть только гении древних богов, и звал приносить им жертвы. Священник Аламани вещал, что мир – создание дьявола и возник наперекор богу. Священник Поливицци из общины Рачемо вещал, что все исполнены бога и безгрешны, и создавал союзы братьев и сестер, объединенных общностью имущественной и телесной. Священник Адриано, августинец, распространял письмо султана Баязета и, перепутав, вещал, что папа считает Христа только пророком. Опять подняли голову яхимовцы, твердя, что все существующее на земле должно быть уничтожено, чтоб могло наступить третье царство божие, то есть царство святого духа. Ибо царство бога-отца было во времена ветхозаветные, царство бога-сына длится со времен первых христиан поныне, а теперь наступит царство третьего лица божьего – приготовьте путь ему! И знаком царства бога-отца была крапива, означающая строгость и суровость закона. Знаком царства бога-сына – роза, означающая благоуханье покорности и кровь, пролитую ради любви. Ныне же знак царства бога-духа есть лилия, означающая смирение, чистоту и рай, бесконечное милосердие девы Марии. Не тревожьтесь ни о чем, пусть опустошается земля, приготовляемая для царства третьего лица божьего, которое – дух.
Французы катились вперед. Пророчества исполнялись, отчаянье росло. Альфонс предложил папе укрыться где-нибудь в неаполитанских пределах. Но Александр гордо отверг, он не покинет patrimonium Sancti Petri 1, останется в Риме.
1 Наследия святого Петра (лат.).
Пьер Медичи решился на отчаяннейший шаг. Сдав свои крепости и потеряв власть над восставшими городами, он предложил французскому королю вступить во Флоренцию, заключив с ним союз и приняв от него двести тысяч золотых флоринов. Это означало, что Пьер отпал от его святости. Это означало, что Пьер сдался. Не выстояли его черботаны, пушки, снабженные лишь кожаными щитами и очень низкие, против тяжелых бронзовых французских орудий. Перед Карлом была уже открыта дорога через Романью. Все города отдавали ему ключи. Но он объявил, что такой обходный путь недостоин его крестоносного войска. И отдал приказ наступать через Тосканскую область, где Пьер ждал его в отчаянье, а Савонарола – ликуя. Чем ближе подходил предвозвещенный Кир с разинутым ртом к Флоренции, тем сильней разгорался там мятеж! Папа Александр остался один.
Он редко теперь выходил и совсем не созывал консистории, по большей части оставался в своих ватиканских апартаментах, где предпочитал сидеть, как он выражался, por lo bajo, в уединении. Здесь были фрески работы Бернардино Бетти, по прозванию Пинтуриккьо, писанные бледным золотом и светлым ультрамарином, такие легкие, мечтательные и чарующие, что папа навсегда полюбил этого мрачного глухого художника, отказавшись от остальных римских художников, даже от модного Перуджино. Была здесь также большая картина "Воскресение господне", где папа стоял на траве, коленопреклоненный перед вставшим из могилы Христом, и молился. Было изображение всей папской семьи на фреске "Страдания святой Екатерины" кисти Пинтуриккьо. Император Максенций, самодержец, – это дон Сезар. У его трона стоит герцог Гандии в тюрбане и рядом – приятель герцога принц Джем, равнодушный зритель. С ними прекрасный Жоффруа. Перед этим высокопоставленным сонмом обвиняемая в христианстве святая мученица дева Екатерина защищает свою веру, – здесь она в облике папской дочери Лукреции, с шелковистыми золотыми волосами и глазами до того голубыми, что их называли белыми. Все это написано здесь Пинтуриккьо в утеху папе, но Александр и здесь не останавливается. Он проходит дальше, где изображен золотой бык Борджа, а против этого быка – еще один. Перед ним-то и стоит всегда папа в глубоком раздумье.
Это Апис. Солнечный бык, живое подобие Осириса.
Так сказал ему Помпоний Лет, так объяснил: Осирис и сестра его Исида еще в материнском лоне полюбили друг друга кровосмесительной любовью. Потом эти боги добра родились вместе, но одновременно с ними родился и Тифон, бог зла. Осирис научил человечество полезным делам, но Тифон задумал лишить его власти, сумел коварно его обмануть и, положив в гроб, опустил на дно морское. Это было, когда земля находилась в созвездии Скорпиона. Но верная Исида, после бесчисленных мук, нашла гроб с своим братом возлюбленным, открыла его и спрятала. Однако Тифон, прознав об этом, разорвал тело Осирисово на куски и разбросал их по всему свету. Но Исида, эта живая, рождающая сила природы, нашла и их, сложила вместе и целовала до тех пор, пока Осирис не ожил на мгновенье, и объятия их двоих привели к зачатью Гора, который потом победил Тифона. Апис – подобье Осириса, тайна смерти и воскресения, воплощенная в божественном числе три – Осирис, Исида, Горус, трое в едином, божественная троица, прадревняя мистическая наука древних египтян. Бык, зачатый яловой телицей от солнечного луча. Золотой бык древнего рода Борджа…
Солнечный бык Апис.
Здесь подолгу стоял папа в глубоком раздумье, por lo bajo, в уединении. Древняя темная тайна проступала все явственней. Ибо солнечный золотой бык Борджа – не миф, а живая действительность. Здесь стоял папа, когда дважды закачалась его тиара, а все-таки не свалилась совсем. Здесь стоял он, когда многие римские бароны подняли голову, когда не только Орсини и Колонна, но и множество других: де Анджелис, Чиприани, Синьоретти, Синибальди, Тартари, Леони, Ченчи, Реццози, Пики, Ильперини, Катаньи, Санта-Кроче, Барбарини, Джаноцци, Оддони, Баффи, Сальвиати, Вульгамини, Цуккари, Капогалли – стали виться, как оводы, вокруг золотого быка. Здесь стоял он, узнав, что кардинал Джулиано уехал ночью во Францию. Здесь стоял после того, как велел задержать канцлера церкви, кардинала Асканио Сфорца. Здесь стоял много раз и еще не раз остановится.
Французы подкатывались ближе и ближе к Риму. Они наступают через Тоскану, уже вступили во Флоренцию, – через сколько же дней будут они у ворот Вечного города? И Александр Шестой вдруг выпрямился, словно встал с папского престола. Он был в коротком черном испанском камзоле с желтой оторочкой, на голове – берет, на поясе – узкий, длинный испанский меч. Он стоял гордый, уверенный в себе, вперив острый взгляд в золотого быка, жест руки – властный, повелительный. Бык, золотой бык, только от солнечного луча зачатый, согласно древнему мифу египетских тайных культов, бык Апис, живое подобие вечного Осириса в божественном числе три.
С соседнего люнета на него глядел золотой бык Борджа. Оба тонули в сумерках осеннего вечера.
Папа ждал врага, гордо улыбаясь.
МЕРТВЫЙ ПРЕДОСТЕРЕГАЕТ
Танцовщица Аминта сидела на низкой табуретке, подперев подбородок ладонями, тихая и неподвижная, прислушиваясь у шуму дождя в садах. Потом медленно опустила руки, плавно поднялась и подошла к окну. Долго стояла там без движения, словно заколдованная в стекле, – казалось, отойди она прочь, на нем останется очертание ее стройного тела. Но она вдруг сразу разрушила этот молчаливый стеклянный образ: резко повернулась и прошла взад и вперед по комнате, сжав руки от нетерпенья и прищурившись. Цветы в вазе были уже вялые, словно плесневеющие, и ей почему-то показалось, что от них в комнате дурной запах, она выдернула их из вазы и открыла окно, чтобы выбросить. Сырой, пасмурный день, полный дождя, дохнул ей в лицо, и это было отрадно. Она осталась у окна, дыша осенью, грустью и многим, чего не умела назвать. Но потом ее вдруг пробрало холодом, потому что она была голая – в ожидании любовника, который не пришел. Она выбросила увядшие цветы, закрыла окно, опять нетерпеливо прошла взад и вперед по комнате и от нечего делать распустила свои волосы, прекрасные, длинные и очень светлые, что до сих пор было в моде – со времен Лауры и Беатриче. Она знала, что волосы у нее красивые, и ухаживала за ними, часто мыла их в отваре плющевого корня с ревенем, иногда прибавляя для большего блеска немного селитры, сваренной с тмином. Она гордилась тем, что волосы у нее светлые от природы и ей не надо прибегать к сложным смешениям красок, как вынуждены делать те, которые красят себе волосы дорогими снадобьями, покупаемыми тайно у знахарей и бабок, и часами, до одури и головокружения, просиживают на солнцепеке. У нее волосы всегда светлые, блестящие, красивые, брови – черные, изогнутые, цвет лица – белый, очень нежный, так что ей не надо пользоваться притираниями, приготовляемыми из адраганта, серебра и сублимата, вложенных в голубиные потроха и тушенных в горшке, с медленным подливанием воды, в которой был сварен уж. Это средство для белизны и чистоты лица изобрела Катарина Сфорца, оно превосходное, им пользовались и Альфонсина Орсини, и все знатные флорентийские дамы, но танцовщице Аминте было смешно думать о том, чтобы вдруг натирать свое тело и лицо мазью, запеченной в голубе, на которого поливают ужиным наваром. Ей это ни к чему.
Пока Аминта расчесывала свои пышные, длинные светлые волосы перед венецианским зеркалом, подарком юного Джулиано Медичи, которого она избавила от задумчивости, но не могла отучить от философии, мысли ее разбрелись в разные стороны. Дождливый день вновь навеял печаль, угнетавшую ее с самого пробуждения до сумерек. События не интересовали ее, ей было безразлично, где там наступают французы и когда они появятся здесь, во Флоренции. Ей решительно все равно, танцевать ли в пантомимах перед неаполитанскими дворянами, папскими или французскими, – это стало решительно все равно после смерти Лоренцо Маньифико, времена которого никогда уж не вернутся и ничем их не заменишь. Величие и все очарование жизни исчезло вместе с жизнью Лоренцо, все, что творится на Пьеровых празднествах, – смешно, просто нелепая карикатура, подделка какая-то под прежние празднества и развлечения. И Аминта, распустив волосы, стала вспоминать лучшую свою роль, – когда она танцевала нимфу Аретузу, и с таким успехом, что пьесу пришлось повторить, и все молодые патриции влюбились в нее, осыпая ее подарками и клянясь своим родом и именем. Пьер не отважился бы теперь устроить карнавал, где изображалось бы бегство нимфы Аретузы. Кто пришел бы смотреть? Савонарола со своими монахами?
Расчесывая длинными движениями свои волосы, словно набирая в ладони тишину, женщина приподымала их и опять отпускала к земле, взвесив их тяжесть. Падали волны волос, и падал дождь за окнами; женщина, причесывающаяся при дожде, всегда полна легких грез и очарованности. Золото волос и волны тишины, шум дождя, стройные нагие руки, любовные воспоминания. Это была как бы игра, в которой кости могли выпадать в разнообразнейших сочетаниях. Воспоминания, золото волос и шум дождя, нагие стройные руки, волны тишины. Волны тишины, нагие руки, золото волос, воспоминания, любовь. Дождь, золото волос, воспоминания нагих рук, любовь и мечта, прилив и отлив тишины. И еще многое другое. Но внешне это были только длинные, протяжные движения, которыми она расчесывала свои волосы. Словно ручьи поют, так звучали волосы у нее в руках, и красота ее обновлялась над челом, над нагой шеей. В этих волосах – тепло и холод, былое и скорбь, поцелуи и ласки, печаль и радость, они улыбались и рыдали, – это были волосы женщины и, значит, всегда таинственные. Расчесывая их, она блуждала в своих прошлых днях и при этом думала о будущих минутах, потому что как ручьи поют, так звучали волосы в ее руках, и порой она словно касалась тут озерной глубины, а там – лишь лунного света, здесь – оставшихся следов ласк, там – огня страсти, а там еще – одиночества среди теней, – и все это было богатством ее волос, их тайной речью и их молчанием. А дождь за окном шелестел, как длинная песня тоски.
Потом она кончила причесываться, повернулась и оглядела себя в зеркало, как чужую. Но лицо той, другой, было слишком похоже на ее лицо, – две красивые сестры, одна живая, другая – ее отражение, одна настоящая, другая из стекла, но волосы у обеих одинаковые, – ей пришлось снова думать о любви.
Значит, Франческо Граначчи не пришел. На последний его сонет она ответила своим сонетом, в котором ясно дала ему понять, что ждет его сегодня. Он не пришел! Граначчи – прекрасный юноша, ведущий жизнь, полную отречения. И она тоже еще прекрасна. Гибкая, стройная нагота ее с упругими грудями снова засверкала в зеркале, подарке философа. Две нагие сестры, глядящие друг на друга, внимательно друг друга осматривающие, нагота, блестящая в зеркале под тихий шелест дождя, две нагие сестры, одна – из стекла, но, судя по задумчивому взгляду, все время ожидающая, как и та, живая. Отчего Франческо такой? Его сонет говорил о любви, которая никогда уже не проснется после мертвого объятия, но теперь – напрасно зарытая жжет, как погребенное солнце, сонет его говорил об обетах, давних и полных боли и отречения, о любви, ожившей при взгляде на нее, о любви, смеющейся мукам, любви, суровой, как лавр… Она не поняла и в своем сонете написала о любви ожидающей, идущей навстречу с простертыми руками. А он не пришел. Мне хочется, чтоб он был здесь. В такой час тоски и печали, час дождя, час любви – почему он не пришел?.. Хочется, чтоб он был здесь, чтоб смотрел на меня своим полным отреченья взглядом, чтоб был здесь. День печален, я поставила нынче две свечи в церкви – о том, чтоб он пришел, молилась о том, чтоб пришел. Не понимаю его стихов, может быть, тут скрыто какое-то несчастье, но я не перестану томиться о нем наперекор всему. Тоска, мертвый день, идет дождь, город как будто вымер, небо как будто охвачено страхом и жаждет крови, по улицам ко двору Медичи непрерывно тянутся какие-то вооруженные, он не пришел, не придет, со мной говорят одни эти долгие часы дождя, я гляжу только на самое себя в зеркало. Никогда не представляла себе так свое томленье, я готова себя возненавидеть, возьму и разобью зеркало, значит, мне суждено остаться одной, навсегда одной, будут опять весенние и летние розы, весенние и летние поцелуи, весенние и летние губы, опять, а я буду всегда одна, – так всегда: когда любишь сильней всего, остаешься одна… Он не пришел, теперь все равно, кто ни придет, неаполитанские, испанские, французские ли рыцари, уже не вернутся времена Аретузы, которая потом превратилась в источник, но и возлюбленный ее, от которого она убежала, – тоже, чтоб соединиться с ней, превратился в источник, и оба они оказались в глубях подземных, в глубях без солнца, на темных подземных дорогах, там оказались и слились друг с другом, а потом уже вышли одною рекой на земную поверхность, два потока в едином теченье, вместе катятся волны, волны любви, волны волос, тишины, одиночества, волны речные…
Послышался короткий стук в дверь. Аминта поспешно встала, завернулась в плащ и пошла отворять.
Вошел лютнист Кардиери, скинул мокрый плащ. Сел, обхватил колени руками и остался в этой позе.
– Я как раз думала о тебе, – тихо промолвила Аминта. – Мне было грустно, – как хорошо, что ты пришел.
Он не поверил, что она думала о нем, но сделал вид, будто верит, так как любил ее, любил по-прежнему, любил не так, как другие. А она знала, что он не поверил ей, и была ему благодарна, что он не спорит и все таит в себе. Но как раз из-за этого чувства благодарности стыд не позволил ей прижаться к нему, и она села поодаль, опять подперла подбородок ладонями и устремила на него глубокий взгляд своих черных глаз. Молчание обоих и дождь слились в созвучие тишины.
– Есть какие-нибудь новости? – спросила она.
– Плохие, – ответил он и опять замолчал.
Глаза его блуждали. Она только сейчас заметила, как он бледен. Наверно, из-за нее. Подсела к нему, взяла его руки в свои, чтоб согреть. Они были мокрые от дождя.
– Я на самом деле рада видеть тебя, – сказала она, и ей показалось, что она говорит правду, – жаль, что не пришел раньше…
– Я ищу Микеланджело…
– Если ты будешь искать его больше, чем меня, я начну ревновать…
Она улыбнулась. Он посмотрел на нее резким, отчужденным взглядом, но она опять улыбнулась. Тогда он встал и протянул руку к плащу. В это мгновение присутствие любимой женщины, к которой он пришел отдохнуть, стало ему в тягость. Она испугалась.
– Почему ты уходишь?
– Я просто зашел повидать тебя и спешу дальше. Пойми, я должен, должен найти Микеланджело.
Лицо его искривила гримаса.
– Не уходи, – попросила она. – Если ты уйдешь, я буду думать, что…
– Что?
– Что ты пришел только затем, чтоб проверить… одна я или нет.
– Я уже давно этого не делаю.
– А знаешь… – она поколебалась, – я бы хотела, чтоб ты это делал…
Он пожал плечами.
– Коли захочешь уйти от меня, так уйдешь, проверяй не проверяй. Мне это ничего не даст!
Она встала, подошла к нему вплотную, так что он почувствовал такое мучительно знакомое ему благоухание ее тела. Он закрыл глаза, чтоб хоть не видеть ее.
– Я никогда от тебя не уйду… ты знаешь, – промолвила она. – И я тоже знаю. Я не хочу уходить. Куда? В случайное объятие? А если б даже ушла, разве ты не найдешь меня снова и снова – еще больше тоскующей по тебе?
– Горькое утешение, – возразил он.
Она поцеловала его.
– Нет, правда, я пойду, – сказал он. – Ты каждому даришь на прощанье поцелуй?
– Иногда еще меньше… – ответила она холодно.
Он стоял, опять уже плотно закутавшись в плащ, и бледное лицо его жалобно молило.
– Останься, – прошептала она, сжимая его руки. – Останься… Ну куда ты? Ведь знаешь, что мы с тобой не разойдемся никогда. Не только потому, что я не знаю, как бы я могла быть в такое тревожное время без тебя, – не только поэтому.
– Мне надо! – твердо ответил он. – Надо поговорить с Микеланджело. Ты не представляешь себе, что значит для меня этот разговор! Никто не поможет мне, кроме Микеланджело, единственного друга. Я не буду знать покоя, пока не поговорю с ним.
Она отпустила его руки. Оглядела быстро, любопытно и отступила.
– Тогда ступай и возвращайся… вечером…
Он молча кивнул и ушел.
Она опять села в одиночестве, сложила руки на коленях. Кардиери… она в самом деле никогда не уйдет от него, они связаны навсегда. Любовью? Это любовь, если только близ огня его сердца в душу к ней нисходит ясный покой и мир, если ей кажется, что только под взглядом его угрюмых, полных горечи глаз она чувствует себя в безопасности? Это любовь? Она сжала руки и устремила взгляд в дождь. Им хорошо вместе, но она будет всегда одна. Хоть и любит, а будет одна. А Граначчи не пришел. Под его темным, тревожным взглядом она не была бы в безопасности, – наоборот, в нем угадывается что-то маняще сумрачное, какое-то тайное горе, которое поразило бы их нежность, как гром. И все-таки она по нем томится. Какой страшный час грусти и дождя! Волны, волны, волны… Нимфа Аретуза превратилась в источник, и так они друг друга нашли и соединились вместе в глубях, где нет солнца, на подземных путях, а потом вместе вышли на поверхность, как река… как один поток… да, она напишет это ему – в ответ на его странные стихи… Сев за столик, она стала выводить красивыми узкими буквами свое письмо к Граначчи. Укоризненный сонет – за то, что он не пришел в час проливного дождя над садами.
Кардиери пробирался под ливнем. Он обошел все любимые Микеланджеловы места, но пока нигде не нашел его. А ему нужно поговорить с ним сегодня же, этого напряжения дольше не выдержать, никто не даст ему такого доброго совета, как Микеланджело, ведь – Кардиери хорошо помнит бред Микеланджело, когда тот был при смерти, да, Микеланджело понимает многое, что скрыто от остальных, он умеет говорить с темнотой, Микеланджело поможет. Кардиери сдернул берет и подставил голову под сильные струи дождя, – как был отраден студеный хлещущий ток для больной головы!
Встретились нос к носу у ворот в сады. Микеланджело уже уходил, но сбивчивая, прерывистая речь друга принудила его остаться. Они укрылись от дождя в садовой лоджии, и Кардиери, смертельно бледный, начал.
Уже второй раз он видит один и тот же сон. Ему приснился Лоренцо Маньифико. Сперва просто какое-то серое облако встало у его постели. Потом в облаке стало медленно вырисовываться Лоренцово лицо, измученное, посиневшее, каждая морщина – глубокая, полная тени. Кардиери в испуге вскочил на постели и вытаращил глаза на призрак. Туча совсем рассеялась, и у постели лютниста стоял Лоренцо Маньифико в рубище, оборванный, нищий. Рука его была – одна кожа да кости, но не хрустела. Он медленно поднял ее предостерегающим жестом, требуя тишины, потому что Кардиери хотел закричать. И в глубокой тишине послышался такой любимый голос Лоренцо: "Пойди, скажи моему сыну Пьеру, чтоб он приготовился к скорому и безвозвратному изгнанию из дома. Это – оттого, что он не послушался моих советов". Потом опять встало серое облако, окутало правителя в одежде нищего, и все исчезло.
Весь остаток ночи Кардиери прошагал взад и вперед по комнате, запалив все свечи, а утром заказал мессу за упокой души правителя и для умилостивления. И, полный страха и смущения, сообщил Пьеру о том, что было ночью. Пьер побледнел, позвал Биббиену. Сперва они велели лютнисту выйти и долго совещались. Потом опять позвали его и заставили повторить: все – под насмешливым взглядом Биббиены, поминутно прерывавшего рассказ вопросами. Кардиери поклялся, что говорит правду, – нет, он не служит у Савонаролы, не бывает на его проповедях, давно не бывает, со смерти доброго мессера Полициано не был у св. Марка, ни с кем из приверженцев фра Джироламо не встречается. И Пьер с Биббиеной отпустили его так, словно выгнали вон дурака.
На следующую ночь видение повторилось. Опять у постели встало серое облако и из него выступил Лоренцо Маньифико – не как правитель, а в виде нищего. Плаща его не взял бы бродяга, такой он был рваный и весь прожженный. И взгляд Лоренцо был невыразимо печальный, скорбный. Вокруг запахло гарью, паленым, волосы у него были сожжены, и костлявая рука опять поднялась предостерегающе и укоризненно. Взгляд его стал строже и суровей. "Как же ты не заставил моего сына поверить? – хрипло произнес Лоренцо. – Скажи ему еще раз, чтоб он приготовился к бегству, из которого он никогда, никогда уже не вернется во Флоренцию. Никогда не вернется и погибнет не в сече, а в волнах. И ты, плохой исполнитель моих приказов, тоже получи наказание…" Тут Лоренцо быстро ударил Кардиери остовом своей правой руки по щеке. В тот же миг все исчезло. Кардиери соскочил с постели, стуча зубами, зажег все свечи и до утра, не смыкая глаз, молился, хорошо теперь зная, что это не сон, что правитель на самом деле был здесь, – щека болела, ее жгло, как будто клейменную огнем. Он молился до рассвета, потом пошел к Пьеру.
Вести с полей сражения были дурные, и Пьер едко приветствовал его библейскими словами:
– Вот идет сновидец!
Опять подле правителя стоял Биббиена, и они, конечно, продали бы лютниста израильтянам, если бы те потянулись со своими верблюдами из Флоренции. Но Кардиери, до сих пор чувствуя жжение на щеке, передал все в точности, как было. Тут Биббиена рассвирепел:
– Ты что же думаешь, бездельник, что правитель любил тебя больше, чем своего сына? Или у тебя до того помутился разум от Савонароловых проповедей, что ты тоже захотел стать пророком? Неужто отец не сказал бы сыну во сне такую важную вещь? Ступай, бесстыдный лжец, и радуйся, что отделался так легко!
Так как по мере его бушевания возрастал и гнев Пьера, правитель в конце концов поднял палку и отлупил Кардиери, так что тот убежал, получив удары от отца и от сына. Таков вечный удел слуги, так всегда ненавистен вестник несчастья. Но страшней было то, что с тех пор Лоренцо больше не приходил, не являлся. Что же теперь делать? Кардиери боится уснуть, боится оставаться один, боится ночной тишины, не оттого, что призрак мог появиться опять, а оттого, что он больше не появляется, так что, очевидно, уже решено… И Кардиери терзал руку Микеланджело, ожидая ответа на свои мучительные вопросы.
Микеланджело посинел. Да, гробы разверзаются, мертвые являются живым. Недавно город был потрясен известием, что сожженная колдунья Лаверна застигла каноника Маффеи в ночную пору и стала его обольщать. Прошла с ним часть дороги, все время улыбаясь, любезно предлагала ему себя, нежно ворковала, сулила всевозможные услады, толстый каноник не мог убежать, только сопел от ужаса, да хоть и побежал бы, старуха не отставала от него, только перед порталом Санта-Кроче она исчезла, и священника нашли там утром без сознания. Он неосторожно рассказал об этом тем, кто привел его в чувство, и толкущиеся на паперти старые сплетники и сплетницы сейчас же разнесли это по городу. С тех пор каноник не выходил ночью из дома, боясь огненной старухи, но она стала являться другим. Сожженная старуха страшна, но мирянину нет причины ее бояться, она любезнейшим образом предлагается только духовным особам. Разверзаются гробы.
Время такое, что даже мертвый правитель возвращается в свой возлюбленный город, чтобы предостеречь. Микеланджело держит руки Кардиери в своих. И опять то самое, хорошо знакомое ощущение ужаса, столько раз испытанное еще в отцовском доме… Страшные, мучительные кошмары, полные ночных привидений и душ умерших… Иногда ему казалось, что он умрет от ужаса. Страх. Мало кто из людей знает по-настоящему, что такое страх. Ведь большинство боится лишь реальных предметов. А самое страшное – бояться того, что не имеет формы… Вдруг это подымается, расплывчатое, бесформенное, растущее и растекающееся во все стороны, и медленно подползает, подползает… Уехать! Но разве не всюду – край такой тьмы? Бежать! Но разве не всюду – места таких несчастий? Так в Писании сказано, я столько раз читал, что наизусть запомнил.
Он встал, твердо решившись. Высвободил свои руки из рук Кардиери, жалобный взгляд которого молил ответа.
– Лучше всего – подождать, – хрипло промолвил он. – Скоро приедет из Рима кардинал Джованни Медичи, умный человек и честный священнослужитель. Он всегда тебя любил. Он скоро приедет, ты расскажешь ему все, он отнесется к твоим словам, конечно, не так, как Пьер и Биббиена, а ты сделай, как он скажет…
– Ты прав, – с облегчением вздохнул Кардиери, – мне в голову не пришло. А кардинал Джованни очень меня любит, он музыкант. Ты дал мне хороший совет, я знал, что ты правильно посоветуешь, Микеланджело. Я передам Лоренцов приказ кардиналу Джованни. А ты как?
– Я уеду из Флоренции, – прошептал Микеланджело. – Здесь меня больше ничто не удерживает, ведь и святое Евангелие советует нам среди таких ужасов бежать. Поеду!
– Тебе страшно? – тихо промолвил Кардиери.
– Очень страшно. Я в ужасе! – склонил голову Микеланджело.
– И я тоже, – прошептал Кардиери.
– Бежим вместе, – сказал Микеланджело.
– Нет…
– Возьми с собой Аминту…
В жесте Кардиери была горечь и боль.
– Она не захочет ехать в изгнание.
– Она ведь любит тебя… Поедет…
Но Кардиери опустил руки, словно перед огромной тяжестью. И ничего не ответил.
– А без нее ты бы не поехал? – спросил шепотом Микеланджело.
– Нет…
– Но я здесь ни с чем не связан… У меня больше нет ничего общего с Медичи… И никого больше нет… Я уже раз хотел бежать – в Рим, к папе… теперь в Рим, к папе, не поеду… но куда-нибудь уеду, сбегу… бродягой стану, скитальцем… только вон из этого города, где живые и мертвые пророчат гибель…
– Микеланджело! – застонал Кардиери.
– Уеду, уеду, может, нынче же, самое позднее – завтра… Я твердо решил!
– Поговори с кем-нибудь, посоветуйся…
– С фра Джироламо? – горько улыбнулся Микеланджело.
– Нет… но хоть с фра Тимотео.
– Я как раз шел к нему, когда ты меня встретил. Но мое решение твердо. Потому что мной руководит кто-то сильней меня…
– Кто?
– Ужас.
Кардиери склонил голову и стал смотреть на размытую почву. Дождь перестал, но все кругом словно заплесневело, стало каким-то отвратительным. Всюду вязкая холодная глина, даже кусты облеплены ею, словно большими противными клейкими цветами. Дорожки покрыты лужами. Было хуже, отвратительней, чем когда шел дождь. И вдруг начало жарко палить солнце… Стало так скверно, словно вся окрестность, в свете жгучих лучей, вдруг покрылась мутным, загрязненным стеклом.
А когда Кардиери поднял голову, он увидел, что с ним никого нет.
ПЕЧАЛЬ НАД САДАМИ
Микеланджело торопливо шагал по улицам – к францисканскому монастырю, где находился фра Тимотео. Он шел по Флоренции, словно прощаясь. Смотрел и вспоминал. Бардиа с работами Мины да Фьезоле и дорогого Филиппо Липпи. Крещальня! Двери Гибертино, творения Донателло, Микелоцци; Барджелло с работами Никколо д'Ареццо, Бертольдо ди Джованни, всюду здесь оставили лучшие свои мечты и создания – Брунеллески, да Маджано, Поллайоло, Лука делла Роббиа, Росселино, да Сеттиньяно, дель Верроккьо, ди Банко, и дальше, куда ни кинешь взгляд, куда ни забредет душа, всюду дивно-прекрасные творения. О, Флоренция, сокровищница искусства, пестрый ларец красоты, каменная скрижаль, заполненная сверкающими именами, куда ни кинешь взгляд всюду Джотто, Учелло, Мазаччо, Бертольдо, Порта делла Мандорфа, ди Креди, фра Анджелико, Сандро Боттичелли, Доменико Гирландайо, да Сангалло, Гоццоли, Бальдовинетти, дель Кастаньо, Перуджино, фра Липпи, Беллини, да Фабриано, Мантенья, Синьорелли, Венециано, все – увенчанные лаврами и кровью, в их ряды жаждал и стремился вступить и я, все они, чьи творения отданы теперь на милость либо французских фальконетов, либо неистовства Савонаролы… Всюду, куда ни кинешь взгляд, куда ни забредет душа, всюду красота, величие, горение духа, бессмертные создания, Кампанилла, собор, Питти, Чертоза-ди-Валь-д'Эма, Сан-Марко с бесценнейшей библиотекой в мире, Лоджия-ди-Сан-Паоло, Оньиссанти, Ор-Сан-Микеле с работами Донателло, Луки делла Роббиа, Верроккьо, – всюду; Оспедале дельи Инноченти, дворец Кваданьи, Гонди, Ручеллаи, Строцци, – всюду; Сан-Лоренцо, Сан-Амброзио, Сан-Франческо-аль-Монте, Сан-Миньято, Сан-Никколо, Сан-Спирито, Санта-Аннунциата, Санта-Аполлония, Санта-Кроче, Санта-Мария-дельи-Анджели, Санта-Мария-дель-Кармине, Санта-Мария-дель-Фьоре, Санта-Мария-Новелла, Санта-Тринита, Палаццо-Веккьо…
Флоренция! Никогда я не забуду тебя, вечно буду умирать от тоски по тебе, Флоренция, вдова, лишившаяся красоты, вдова, вероломно преданная, вдова, отданная в плен, вдова обезумевшая…
Уеду, нет другого выхода. Ужас.
Он спешил, задыхался. Словно мука его час от часу усиливалась. Шел с глазами, сожженными страхом. Что, если и перед ним вдруг встанет Лоренцо Маньифико, в нищенском рубище, распространяя вокруг себя запах гари, оборванный, с сожженными волосами… Я сошел бы с ума!.. Но он знал, что решенье – у фра Тимотео… Довольно одного слова старичка, одного его задушевного взгляда, его призыва к молитве… Нет, не так уж он одинок, пока у него есть этот старик… Он замедлил шаг, словно чего-то опасаясь. Ничто не ускользнет от внимательных глаз монаха. Ты ослаб, Микеланджело, – слышит он его шепот, – ослаб, потерял силу, пойдем, попросим святого покровителя нашего, синьора Франциска, и он скажет богу: двое там взывают ко мне, не могу я, боже милостивый, их оставить… Ты ослаб, как дурачок Агостино, юродивый Агостино, – или думаешь, что при мысли о красоте он не испытывал ужаса? Но виденье…
Подходя к монастырю, он услыхал похоронный звон. У него сердце упало. А брат привратник сообщил ему, что полчаса тому назад отошел фра Тимотео. "Как раз когда я говорил с Кардиери о явлении Лоренцо! – промелькнуло в голове у Микеланджело. – Если б Кардиери не остановил меня, я еще успел бы".
Брат привратник затащил его в свою келью за калиткой и там, глотая слезы, рассказал о блаженной кончине старичка.
Почувствовав приближенье последней минуты, фра Тимотео обошел, ковыляя, все кельи, прося у братьев прощения, если он кому когда сделал обиду, но ни один из них не мог вспомнить, чтобы фра Тимотео причинил ему какое-нибудь зло, так что они простились с ним многими лобызаньями, в свою очередь прося его простить им, если они когда ему согрубили и досадили. Но он со слезами уверил их, что они ни разу ничем не досадили ему, – наоборот, это ему, монаху недостойному, надо во многом каяться, но больше всего он жалеет о том, что у него – только одна жизнь, а будь у него их тысяча, он бы все их отдал служению господу Христу, – и это не для своей услады, а ради вящей славы Христовой и распространения хвалы святого покровителя нашего, нищенького синьора Франциска. И, простившись со всеми, тихо удалился к себе в келью, – как раз когда остальные ушли в часовню слушать часы, – затем и время такое выбрал, чтоб умереть, никого не обеспокоив. Воздав хвалу богу, братия вернулась и тотчас стала с великим тщанием искать фра Тимотео и нашла его лежащим на полу, на соломе, и готовящимся к смерти, с великим смирением глядя на простое и грубое, неискусно сработанное распятие на стене, которое он больше всего любил и перед которым охотней всего молился. Потом он слабым голосом исповедался и причастился святых тайн, а причастившись, почувствовал прилив сил и исполнился такой отрады душевной, что все порывался вымолвить что-то прекрасное, но не мог, а только вдруг возгласил:
– Sursum corda! Sursum corda! 1
1 Горе имеем сердца (лат.).
Единственное, что он знал из латыни.
Все опустились на колени вокруг него, полные великого порыва ко Христу, вслушиваясь в радостное взывание старичка, как вдруг он умолк и продолжал молиться уже не устами, а только сердцем. После того как они довольно долго возле него простояли, коленопреклоненные, он так встревожился, что даже молиться перестал и начал шепотом спрашивать то фра Массео, не ждет ли того какая работа, то фра Джинепро, не отвлекает ли он его от чего-нибудь, то фра Симоне, приготовлена ли для всех пища, то фра Якопо, не будет ли какого ущерба для дома, оттого что все они вот так стоят тут на коленях, – и все горячо уверяли его, что ничто не мешает им с великим сорадованием присутствовать при его отходе из здешней жизни. И он, видя, что смерть долго не идет, попросил у настоятеля отца Льва позволения читать часы по способу святого Франциска, когда у того еще не было молитвенника. Отец Лев позволил, чтоб фра Тимотео в смертный час свой читал часы по способу святого синьора Франциска, когда у него еще не было молитвенника, тогда старичок подозвал к себе фра Массео и, заклиная ради любви божьей повторять за ним то, что он будет говорить, начал:
– Ты, брат Тимотео, всю жизнь был сыном греха и не сделал никакого добра!
Но фра Массео от слез не мог произнести ни слова, и старичок подозвал фра Джинепро и попросил его, ради любви божьей, повторять за ним:
– Ты, фра Тимотео, – так скажет тебе господь, – был самым дурным из моих монахов, – чего ты хочешь от меня?
Но фра Джинепро от слез не мог говорить, и старичок подозвал фра Симоне и просил его, ради любви божьей, повторять за ним, точно повторять:
– Ты, фра Тимотео, неразумный сын Антонио Тоццоли, всегда питался гордыней и суетой, горе тебе будет на Суде божьем!
Но ни фра Симоне не мог повторить, ни фра Анджело, ни фра Якопо, ни фра Руфино, ни фра Бернардо, так что старичок, сжав руки, попросил отца Льва, чтоб тот велел им сделать это из иноческого послушания. И решил "отец Лев сам читать с ним эти часы без молитвенника, старичок обрадовался и с великой горячностью попросил:
– Повторяй за мной, прошу тебя, отец Лев: ты, фра Тимотео, незаконно пробрался к нам и был позором нашим, иноком нерадивым, и дальше так, читай, прошу тебя, отец Лев!
И тут отец Лев, склонившись над ним к самой земле и обняв его, промолвил:
– Ты был, брат, больше всех нас достоин носить честное одеянье святого ордена нашего, и ангелы радовались, видя тебя в нем. Ныне ожидает тебя милосердный господь во царствии своем, и будет прославлена на небесах обитель наша, ибо за сердце твое воздаст тебе бог, да святится имя его во веки веков. Аминь.
С этими словами отец Лев широко осенил его крестным знамением, так как увидел, что старичок в это время на руках у него отошел.
Кончив свой рассказ, брат привратник вытер глаза и улыбнулся сквозь слезы. С улицы доносился глухой, беспокойный шум. Нет, это – мягкое, ласковое послеполудня, скользящее на ласточкиных крыльях, покой дышит отовсюду – от старого колодца, от плюща, свисающего со стены, подобно старому прадедовскому плащу, покой тихо восходит ввысь, словно совершая какое-то великое и святое дело, а потом все окутывает сумрак, тень родит тень, – прошу вас, отец мой, ради любви божьей, скажите мне, в чем истинная радость…
И, сжимая теплую мягкую руку юноши в своих заскорузлых ладонях, монах отвечает: "Лишь скорбью и гонениями можем мы хвалиться, ибо только это принадлежит нам. И потому говорит святой апостол: Я не желаю хвалиться, разве только крестом господа нашего Иисуса Христа…"
Великая тайна смирения. Ибо все, что дает нам сестрица боль, – а она всегда любит нас, – мы должны принимать с радостью… Они идут рядом. Я уж скоро умру, Микеланджело, и жду этой желанной минуты. Но должен еще рассказать тебе об Агостино, безумном сиенском ваятеле, который тешил свою душу пустыми обещаниями, не видел жизни этой девицы, потому что не видел боли…
День длился, небо было прозрачно-сине.
А теперь один. Всегда один. Судорожное рыданье подкатило к горлу и не могло вырваться. Шейные мышцы словно напряглись, и кровь в них вызывала резь, словно там были мелкие раздробленные осколки стекла. Старый привратник заметил, что он тревожно прислушивается к глухому шуму толпы на улице. Микеланджело положил ему голову на плечо, и стало легче. Коричневый цвет рваной рясы. Наружу вырвался стон, потом рыданье и поток слез. Как только он ощутил жесткость этой грубой ткани, судорога отпустила и слезы хлынули таким бурным потоком, что снова стало легче дышать. Он удалился.
Толпа уже схлынула. Он шел. Ни с кем не буду прощаться. С Флоренцией он уже простился, идя в монастырь. Отец? Братья? Нет. Уйдет каменотес, безносый бродяга, – он не будет докладывать о своем позоре. Не хочет видеть торжества тех, чьи слова, несмотря на снежного великана, все-таки сбылись. Он не может ставить только статуи из снега, он каменотес. Сын бывшего члена Совета двенадцати… скиталец по монастырям и княжьим дворам. Отец только сжимал бы руки, усталое лицо его отуманила бы тяжелая печаль, он встал бы на свое место у ворот с видом человека, которого всю жизнь преследуют неудачи. Нет, не буду прощаться. Мама монна Лукреция? Нет, не буду докладывать всем о своем страхе. Граначчи? Нет! С семейством Медичи? С Джулио и Джулиано? Он улыбнулся горькому воспоминанию. А Полициано умер в одежде доминиканского терциария, он, величайшее светило платонизма…
Не к чему прощаться ни с кем и ни с чем. Ничто его здесь не удерживает. Конь бежит ленивой рысью по улицам города. Последний взгляд. Но – искоса, лицо склонено, не надо быть узнанным, как раз в последнюю минуту может случиться что-нибудь самое коварное.
У Палаццо-Веккьо он столкнулся с чернью, устремившейся к дворцу Медичи с дикими криками и поднятыми кулаками. Потому что прошел слух, что Пьер отправил послов к Паоло Орсини просить помощи и тот наступает с войском на Флоренцию… Тут к народу присоединились и патрицианские роды. Будто бы Строцци и Ручеллаи нынче утром были у Савонаролы, и старик Альбицци обещал отдать свое имущество монастырю, если Орсини будет отражен от стен Флоренции. А монастырь очень нуждался в крупных вкладах. Прежде в Сан-Марко бывало самое большее сорок с лишним монахов, а теперь их там – около трехсот. Толпа растянулась по площади, призывая к оружию. Во главе возбужденного народа шли представители всех шестнадцати кварталов города. А гонфалоньер республики поспешно заучивал текст своего ораторского выступления по-французски.
Конь бежит рысью. Последний взгляд на Палаццо-Веккьо, где прежде стояла снежная статуя, подарок народу. Конь бежит рысью. Воротами Аль-Прато? Воротами Сан-Джорджо, Сан-Кроче, Сан-Никколо? Или Сан-Фриано? Не все ли равно, – лишь бы вон, вон из этого города…
У ворот он остановил коня, перекрестился перед высоким придорожным распятием. Бегу, матерь божия, сам не знаю куда, измученный своим страхом, бегу один, всегда один, позади – горе, разверстые гробы, гибель и смерть, впереди – неизвестность, разверстые гробы, гибель и смерть. Только ты одна, звезда утренняя, твердыня Давидова, Ковчег завета, не покидай меня! Я бегу, не вернусь никогда, передо мной праздные дали. Пустота…
– Что же ты покидаешь меня, милый сын? – послышалось за его спиной.
Кровь застыла в жилах. Это призрак? Лоренцо, мертвый правитель? Нет, это действительность.
Савонарола. С ним два монаха, как тогда… Но теперь они не шли смиренно в город, неизвестные путники, а пеклись о городе, как о своем, осматривая укрепленья… Но если господь не охранит города, напрасно бодрствует страж.
Савонарола подошел вплотную к коню. Ему довольно поднять руку, позвать стражу, и беглеца задержат, отведут обратно. Пронзительный взгляд монаха вперился в его лицо.
– Я вижу, ты бежишь… – закаркал знакомый неприятный голос. – Куда?
Микеланджело, склонив голову, промолчал.
– Ты видишь? – продолжал монах. – Стоит мне только сказать одно слово, и стража отведет тебя обратно… Я не скажу этого слова. Поезжай! Я тебя отпускаю… Бежишь? От Христа не убежишь!
Микеланджело молчал.
– Ни от чего здешнего не убежишь, – резко продолжал монах. – Поэтому и отпускаю. Напрасно бежишь… И от меня не убежишь тоже!
Савонарола отошел от коня, костлявая рука его выпустила узду.
– А знаешь, зачем едешь, Микеланджело Буонарроти?
Микеланджело закусил губы, глядя прямо перед собой.
– Едешь затем… чтоб вернуться.
Тут юноша дал шпоры коню, подняв его с места вскачь. Только на повороте остановился и оглянулся.
– Ave Maria! Это – мое прощанье с тобой, Флоренция. Ave Maria!
Монахи уже вошли в ворота. Палящее солнце осушало всю влагу, оставшуюся после дождя, – кусты, деревья, почва, все было обожжено его лучами. Страшно разболелась голова. Никогда, никогда больше не вернусь, Савонарола ошибается. Оставляю здесь все свои несчастья, свою девятнадцатилетнюю молодость, передо мной праздные дали, но на всех путях своих я найду две вещи, которые никогда от меня не отступят: камень и боль, камень и боль… Почему я бегу из Флоренции? А чем бы я был без Флоренции? Лоренцо Маньифико, которого я так любил… что осталось от его жизни, от всех его усилий?
Спокойствие Италии? Французские войска наводнили Тоскану и Романью, движутся на Рим, грабят и убивают, земля пропитана кровью, флорентийские крепости дрожат…
Сохранение власти рода Медичи? Но народ вышел на улицы с оружием в руках против Пьера, Савонарола составил основной закон, скажи моему сыну, что он будет изгнан навеки, без возврата.
Княжеский город, изукрашенный всеми сокровищами искусства? Но Савонарола сулит костры на площади Делла-Синьория, и на них будут гореть творения Боттичелли, Венециано, Липпи, народ валит и разбивает статуи, уничтожает бесценные библиотеки, кидает в огонь творения философов и списки античной поэзии…
Платоновская академия? Полициано кончил одеждой Доминиканского терциария. Пико делла Мирандола умер монахом, Марсилио Фичино стоит на коленях у ног Савонаролы, Луиджи Пульчи был выброшен из кладбищенской ограды, как язычник, медицейские платоники посрывали с себя золотые цепочки, отреклись от своих писаний, творят публичные покаяния, как Маттео Франко…
Ограничение влияния папской родни? Но они – князья и собирают войска более многочисленные, чем при Сиксте, тести у них – короли…
Ничего не осталось от жизни Лоренцовой, словно ее никогда и не было. Все на свете текуче и непрочно… так говорилось в песне, которую он сам сочинил… Всему конец. Тщета. Ничего после него не осталось. Вот только…
Сады! Чудные, великолепные сады, до боли прекрасные, горячо любимые Медицейские сады мои, вы останетесь, а я покидаю вас и оставляю в вас свои девятнадцать лет, над вами будут всегда сиять звезды, любимые сады мои, целую вас глазами на прощанье, последнее Лоренцово наследие, последнее, что осталось, единственная подлинная моя родина – Медицейские сады мои!
Он перекрестил их широким крестом. Потом тронул коня.
И в тот же миг отвернулся, чтобы не видеть густого, едкого, черного дыма, вдруг повалившего из садов к небу.
СТАРЫЙ АЛЬДОВРАНДИ
Колокола затихли, металлический голос их расплавился в раскаленном горне заката. Болонья, черный город, врастал еще больше во тьму, и только дворец Бентивольо пламенел до самого захода солнца кровавыми стенами. Геральдическими красками вечера были черная и красная. Высокие укрепления кидали длинные тени на окрестность, и зубцы их вгрызались в свинцовый небосклон, пока совсем не впились в него. Солнце зашло, и с грохотом закрылись ворота, за чьими крепкими бронзовыми створами, задвинутыми длинным железным засовом, под сводом из плит караульные зажгли светочи в железных корзинах и, опершись на длинные копья, повели беседу о войне и добыче. На их черных шлемах заиграли отблески пламени. Острия копий торчали вверх. На дубовой скамье в воротах спал их бородатый альфьере 1, похожий на терракотового сатира. Теперь у Болоньи – цвет запекшейся крови. А дворец Бентивольо стал во тьме еще огромней и страшнее, только в одном месте в окнах его мерцает свет, и это не свет над мертвецами – на окнах его сейчас нет повешенных, – это свет важных решений. И в высоком зале совещаний Синьории тоже светло, – Большой совет, il Maggior Consiglio еще заседает. Но городские просторы уже, притихли, наступает ночь, и стража перетягивает улицы тяжелыми цепями. Каждую ночь с укреплений можно видеть пылающие деревни, похожие на огненные грибы во тьме. Хотя война передвинулась по ту сторону Апеннин, здесь еще продолжают драки и убийства беспокойные орды. Появились какие-то странные люди в масках – fratres pacifici 2, которые нападают на города, пробираясь в них переодетыми на все лады, и поднимают там страшную, беспощадную резню. Но Болонья засыпает в сознании, что ворота ее хорошо охраняются и крепостные стены только недавно починены.
1 Начальник (ит.).
2 Братья умиротворители (лат.).
Факел стражи закровавился на площади и пропал за углом. Два грабителя в сумраке ожесточенно спорили с евреем, предлагая ему дворянский плащ, совсем новый, только в одном месте незаметная маленькая дырочка – след от кинжала, на два перстня и шляпу. Шли поспешные переговоры с помощью быстро мелькающих пальцев, пока грабители не обозлились и не накинулись на еврея, который, скуля от боли, заплатил им, сколько они требовали, а потом пустился бежать во тьму, с плащом на руке и кольцами в горсти, удовлетворенно посмеиваясь, так как порядком нагрел обоих! Открылась дверь публичного дома, и оттуда вышли две-три под руку, со слугой впереди, который, прикрывая фонарь плащом, повел их по вызову – в дом патриция Гаспара Альвиано, где шла попойка. Но на углу они натолкнулись на группы слепых с нищим поводырем, который видел даже впотьмах. Почуя гулящих девок, слепцы обступили их, но те, смеясь, проскользнули под их вытянутыми вперед руками и остановились на углу подождать, когда слуга переломит свою палку о голову нищего, единственного, кто видел впотьмах. А слепцы, не зная о том, что женщины убежали, стали в погоне за любовью кидаться друг на друга, хватали друг друга руками, ловя тьму, а не женщин, которые были уже далеко и, натянув на голову капюшоны, спешили на пир. Встревоженные потасовкой слепых, прибежали два исхудалых студента, которые рылись с голодухи в отбросах под окнами богача – не найдется ли чего съестного. Они принялись весело подзадоривать слепых драчунов, корчась от смеха при виде такого зрелища и хватаясь за животики, набитые объедками мяса и овощей. Тьма была густая, волнистая, и любовник, взбирающийся по длинной веревке к окну мадонны, муж которой уже спит, рябил тьму широкими движениями рук, как пловец, подымающийся с илистого дна на поверхность, пока женщина с лицом русалки и распущенными волосами не охватила его быстрым нетерпеливым объятием. Факелы стражи зачадили на другом конце улицы, и бродяга, спавший у каменного портала Сан-Доменико, проснулся как раз вовремя, чтобы скорей схватить четки и забормотать молитву с видом кающегося, на которого patres 1 наложили ночное покаянье вместо паломничества в Рим. Тьма жила своей жизнью. Болонья спит в цвете запекшейся крови, а там, за крепостными стенами, где-то в окрестностях пылают деревни, словно огненные грибы во мраке, с башни видно, как сверкает огонь, и замаскированные fratres pacifici крадутся вдоль окованных бронзой ворот. Глубокая ночь.
1 Отцы (лат.).
В стороне от площади – тюрьма, двери которой угрожающе горят во мраке двумя огнями, словно глаза хищника. Дверь стонет, когда ее открывают, потому что это железо – проклятое. Дальше – длинный коридор, такой узкий, что даже те, у кого руки не связаны, должны крепко прижать их к телу, чтобы пройти. Свод понижается так, что надо идти, либо сильно наклонив голову, либо вовсе без головы. Стены потеют и покрыты грязью. Тяжелый воздух пахнет плесенью, как в склепе. Голос не разносится, а застревает в грубых камнях, распластается там, как паук, потом замрет, отцепится и слетит наземь. В глубине горят огни караульни, и там огромные тени играют в кости и наливают себе из кувшина, отирают усы и чистят пищали, бродя по потолку и стенам. Тут же рядом – низкая дверца, серая, как рассвет последнего дня, и от нее идет вниз мокрая винтовая лестница, на которой приходится искать опоры только у бога, – глубоко в подземелье, где крысы, сырость и прикованные люди с облысевшими черепами. Звеня кандалами, они перед сном всегда воют свои имена, производя перекличку, потому что их много. Если кто из них умрет, прикованный стоя, и не ответит, длинные ряды их поднимают громкий рев под гулким сводом, чтобы пришла стража, потому что они не хотят быть с мертвым, лицо и тело которого быстро зеленеют в плесневеющей сырости. Там, дальше, застенок, высокое сводчатое помещение, устроенное так, чтобы судьям и писарю, сидящим на возвышении за столом, было все хорошо видно. А этажом ниже, уже в сплошной тьме, место для осужденных на пожизненное заключение или, по выражению, употребляемому в папских тюрьмах, присужденный к in расе – к миру. Слова эти отзываются такой отвратительной слащавой гнилью, что некоторые сходили с ума сейчас же по вынесении приговора и умоляли лучше замучить их до смерти в застенке, только не присуждать к in расе – к миру. Узников в Болонье приводит в ужас слово "мир": осужденные вступают даже в драку с конвойными, когда те увидят их в in pace. A Дамассо Паллони разбил себе голову о грубые плиты коридора, предпочтя муки ада жизни в мире – in pace. Это глубокий подземный ход, разложенье заживо, знаменье вечной тьмы, гниение на илистом дне. Мы живем в такое время, когда страданья и страх прикрывают лестью. Все надо красиво назвать и искусно осуществить, – сонет и убийство, карнавал и пир, полный отравленных чаш, перстень любви часто несет смерть, скрытую под драгоценным камнем, едкая щелочь разъела палец, сгнили мясо и кость, отвалилась рука. Не надо называть все вещи своими суровыми именами. Поэтому и гниение заживо в заболоченных тюремных подземельях называют, на ватиканский лад, пребываньем in pace, и палач уже не палач, а носит торжественное наименование fra redemptor – брат искупитель. И здесь, в темнице мира, – единственное место на свете, где время не движется, такой здесь глубокий мир. Здесь – великая тишина, и в ней – тела, по-разному скорченные, все в язвах и крови, глаза уже не видящие, покрытые пленками гноя, губы, искривленные идиотской усмешкой, здесь нет времени и человеческие сердца бьются в пустоте, повсюду во тьме валяются вороха перекрученных человеческих тел, одни – еще покрытые истлевающими лохмотьями, другие – уже нагие, но какой-то странно белой гангренозной наготой, словно ворох мучных червей, которые еще извиваются, шевелятся, живут, живут in pace.
Ключ от этой норы мрака – наверху, в караульне, где так весело. Синьоры Бентивольо всегда стараются, чтобы солдатам в Болонье было весело, а теперь об этом стараются и французы, которые скоро избавят их от этого нудного валянья на нарах чистилища, проверки количества лысых черепов с вбитыми в стену железными ошейниками, спускания корзин с хлебом и кувшинов с водой в подземелье, где нет времени и человеческие сердца бьются в пустоте. А капитан стражи – высокий, взлохмаченный, загорелый – рассказывает о битвах, расстегнувши рубаху до пупа и показывая рубцы. Служил он под начальством кондотьера Коррадо Бени, прозванного за непомерную толщину "Лардо", что значит "Шпиг", и вспоминает об этом времени с великим сожалением, потому что Шпиг был превосходным кондотьером, знал своих солдат, спал и ел с ними, три раза продавал их неприятелю и три раза сейчас же выкупал обратно, но всякий раз, прежде чем состоится покупка, они получали жалованье и свою долю награбленного на той и другой стороне, – вот каков был кондотьер Лардо, сиречь Шпиг, он любил своих солдат; да – убит в сражении под Фаэнцой против папского сына; неприятельский кондотьер, сиенский дворянин Антонио Чалдере выбил его из седла и проткнул ему горло, и вот так геройски, перед лицом любимых своих солдат, погиб славный кондотьер Коррадо Бенн, по прозванию Лардо, что значит Шпиг. И капитан перешел на службу к папскому сыну, который победил в битве при Фаэнце, но которому плохо пришлось, оттого что он схватил французскую болезнь, не мог носить оружие и уехал в Пизу, где только зря потратил время и свое жалованье. Три золотых дуката взял с него ученый пизанский доктор и так напичкал его ртутью, что он чуть не отдал богу душу, да спасибо друзья посоветовали не принимать больше ртути и взять свои деньги обратно. Он так и сделал, но жена доктора ревела как дьяволица над телом своего ученого супруга и бежала за капитаном ночью по всему городу в одной рубашке, и когда утром нашли у нее в окоченевших руках лоскут от его мундира, пришлось ему скрыться из города, а французская болезнь так при нем и осталась. Он уж думал – конец пришел, да один добрый августинец в Пьяченце продал ему папские индульгенции и посоветовал пить горячую воду, купил он индульгенции и стал пить горячую воду, и – глядь! – французскую болезнь как рукой сняло, и он опять стал носить оружие. Знай он об этом в Пизе, не пришлось бы убивать ученого доктора, ни дьяволицу его, ни жрать ртуть, как зверь саламандр. Потом он стал объяснять изумленным молокососам, слушавшим его, выпуча глаза над недопитыми кружками, что можно достигнуть чего угодно на службе богини Фортуны, которая любит отважных, украшенных рубцами людей. Но лучше всего было на венецианской службе, под командованием кондотьера Антонио Чалдеры, того, который зарезал храброго Коррадо Бени, по прозвищу Лардо, сиречь Шпиг. Чалдере очень скупо расходовал своих солдат, не хотел растрачивать их во всяких дурацких сражениях, ведь они стоили ему больших денег, так что при нем воевали без единого выстрела, неприятель обычно предпочитал заплатить Чал-дере, чем вступать в бой с его войском, так великолепно оснащенным, и битвы покупались и продавались, и солдаты шли в бой и возвращались из него франтоватые, лощеные, начищенные, разодетые, так что приставленный к кондотьеру Светлейшей Венецианской республикой чиновник, суровый проведитторе 1, проникнув в эту двойную игру, выждал момент, когда кондотьеровы денежные ящики наполнились до отказа, и посадил Чалдеру-сиенца, торговавшего битвами. Потом, во дворце Джудекки, Чалдеру ослепили с помощью металлических зеркал, а там приковали к каторжной скамье галеры, которая потом была где-то возле Родоса потоплена турками. А навьюченные его денежными ящиками мулы перешли в руки венецианцев, получивших таким путем много денег и продолжавших войну с врагами. На чем только венецианцы не грели руки!
1 Попечитель (ит.).
Потом капитан рассказал о том, как он служил Скалигерам в Вероне, где, между прочим, научился заклинать дьявола по имени Астанетоксенетос, но род Скалигеров был одержим жаждой взаимного самоистребления, и капитан решил оставить их после того примирительного пира, на котором все вспарывали друг другу животы, так что кровь потекла из сеней на улицу, и перешел на службу к синьорам Бентивольо, в Болонье, и только тут зажил весело, – ей-богу, ребята, уж недолго ждать, поведу вас в сражения, или не быть мне Гвидо дель Бене, а по-военному Рубиканте, что значит Феникс, – ну кто еще раз нальет полные кружки всем за столом? Они пили, грохотали, колотили по столу, говорили о добыче, о женщинах, наконец, запели песню. Каменная караульня была полна крика и боевого задора, и всякий раз, сдвигая кружки при новой здравице, они орали так, словно шли на приступ. А тени их, кривляясь, скакали на потолке.
По тихой ночной площади, в свете не прикрываемых плащами фонарей, медленно приближались к тюрьме несколько человек. Это были высокородный мессер Джованфранческо Альдовранди, первый патриций, глава знатного рода и знаменитый член Consiglio dei Sedici – Совета шестнадцати и друг Альдовранди – Лоренцо Коста, феррарский живописец, ныне покровительствуемый семейством Бентивольо, чей дворец он расписал настенной живописью с дивным искусством.
Впереди них и по бокам шли слуги, до того послушные, почтительные, неслышные и невидимые, что, казалось, свет сам скользит над поверхностью пьяццы, сопровождая высокородного мессера Альдовранди и его друга, придворного художника дома Бентивольо. А позади шагали вооруженные, составляя эскорт знаменитому члену Consiglio dei Sedici, возвращающемуся с заседания таким странным кружным путем – через тюремные затворы. Старый Альдовранди, опираясь на высокий черный посох с большим круглым набалдашником слоновой кости – признак не только роскоши, но и власти, – был закутан в сборчатый пурпурный плащ, а куртка его была расшита золотом. Он выступал важно, величественно, княжеской походкой, весь в багреце, как правитель или дож. Оба молчали, так как Коста стеснялся нарушить ход мыслей своего высокопоставленного друга и еще потому, что ночная тишина была ему приятней почтительной беседы со стариком. Ибо Коста по большей части мучился теперь сознанием полного творческого бессилия при наличии бесчисленных замыслов, – так всякая слабость старается обмануть, заглушить самое себя судорожной подготовкой к новым трудам, от которых она ждет больше, чем дали прежние, уже осуществленные. Он все время менял темы своих будущих работ, не зная, на чем остановиться. Сперва это должно было быть изображение святой Цецилии, и его прелестная возлюбленная монна Кьяра уже радовалась, что лицо и фигура ее останутся вечным памятником ее великой красоты на картине, среди нежных голубых облаков, между ангелами, в руках – музыкальный инструмент и орудие палача, то и другое, воздеваемые ею к богу – музыка и мука. Но Коста уже отказался от этой темы и решил писать мадонну в окружении святых, среди которых не будет ни одной женщины – одни аббаты и епископы. Но и этого он не окончил, а вынашивает теперь другой замысел – написать для Сан-Джованниин-Монте большую запрестольную картину "Последняя вечеря" – по образцу славного маэстро Леонардо да Винчи из Милана. У него был уже готов эскиз композиции, сделанный углем, и теперь он, опять-таки следуя мессеру Леонардо, подыскивает лица апостолов. Услыхав, что Леонардо ходил каждый день на распутья перед миланскими укреплениями и останавливал прохожих, крестьян и бродячих солдат, ища себе среди них прототипов, Коста хотел начать то же самое, но в последнее время бродить перед болонскими стенами стало слишком опасно, и потому он попросил своего высокопоставленного покровителя, чтоб тот разрешил ему посетить тюрьму, где он, уж конечно, найдет среди злодеев хотя бы лицо Иуды.
Мессер Альдовранди до сих пор никому еще не отказывал, когда речь шла об искусстве. Одинокий старик в пурпуре больше всего любил искусство. Богатый патрицианский дом его был до отказа полон драгоценных коллекций; еще недавно он купил часть библиотеки Лоренцо Маньифико из Флоренции и до сих пор довольно улыбался, вспоминая, как ловко он тогда перехитрил римских и миланских агентов. За столом его челяди каждый день сидело много исхудалых граверов, неведомых ваятелей, не признанных пока мазил, будущих художников с еще безвестными именами, и мессер иногда спускался к ним, просматривал их работы и о тех, чьи ему понравились, в дальнейшем пекся. К себе во дворец он принял молодого Франческо Косса, Марсилио Инфранджипани и Томассо Филиппи, которые по его отзыву получили работу в семье Санути, построившей потом дворец, – самый красивый дворец в Болонье. За его стол садились Симон Маруччи, Никколо д'Антонио ди Пулья, прозванный впоследствии дель Арка, и многие другие, преисполненные мечтаний, страстных стремлений, лихорадочных порывов, веры и обид судьбы. Художники умирали, а старик жил, храня их творения, художники умирали, города сжигались войной, правители теряли власть, а женщины – красоту, но старик в пурпуре жил, и то искусство, которое он так ревниво оберегал и любил, жило и дышало с ним. Теперь он провожал Лоренцо Косту в тюрьму, несмотря на то, что устал от длинного совещания в Синьории. В глубине души он не верил, чтобы Коста вообще приступил когда-нибудь всерьез к своей "Последней вечере", ему были понятны его муки, так как он часто наблюдал их и у других художников, но он был слишком умен, чтобы пытаться направлять его внутреннюю борьбу своими советами и поученьями. Он величественно шествовал, размышляя о Косте. Совершенно ясно, что Коста стоит теперь на великом распутье и должен выбрать себе дальше дорогу сам. И нужно, чтоб он встретил на ней что-то совсем другое, а не каких-то бродячих солдат и проходимцев с лицом Иуды. И старый отшельник, идя молча рядом с Костой, грезил о распутьях.
Огни в руках внимательных слуг плыли в ритме их шагов по поверхности площади, пока не остановились у ворот тюрьмы, где щетинистый капитан Гвидо дель Бене, услышав о приходе гостей, приказал своим людям скорей убрать кружки, вытереть стол и составить вместе пищали. Потом беспрекословно выслушал приказание члена Совета вывести на свет несколько мерзавцев, которые пострашней на вид. Но как только открыли дверку в подземелье, узники почуяли это и ужаснулись появлению капитана в такое неурочное время, решив, что с ним идет и палач, они подняли страшный крик. Подземелье загудело, голоса, вырываясь из всех его темных глубин, бились в могучие стены. Местами этот многоголосный поток подымал глубинные водовороты, ревели своды и откликались камни, вопило железо и выла земля, подземные голоса, бушуя во тьме, разрывали воздух даже на поверхности. Вот снова вырвался черный поток рева, и под напором его задрожала дверь караульни. Мессер Альдовранди удивленно приподнял свои густые белые брови, а Лоренцо Коста быстро сосчитал солдат стражи. Но капитан с успокоительной улыбкой объяснил, что здесь так всегда и высокородный синьор сам может видеть, какая здесь тяжелая служба, которую Синьория так низко оплачивает, и, может быть, добрый синьор замолвит словечко насчет повышения жалованья… Узники продолжали выть, и Альдовранди кивнул. А капитан пожалел, что они ревут еще недостаточно громко. Он приказал караульным взять плети и вывести несколько злодеев наверх. Но узники не хотели наверх, где их ждут пытки и смерть, они сопротивлялись даже под плетьми, и когда удалось наконец вытащить двоих на поверхность, вид этих двух лысых черепов, гнилых щек и выпученных глаз был до того отвратителен, что мессер Альдовранди, не выдержав, отвернулся. С этих Коста мог бы скорей писать сцену из какого-нибудь круга Ада, – скажем, встречу Данта с Каччанимиче Болонским в восьмом круге, а не "Последнюю вечерю"…
Но Лоренцо не отступил, взял факел и спустился с солдатами в подземелье, чтоб посмотреть мерзавцев прямо на месте, готовый сойти по лесенке хоть на болотистое дно in pace, лишь бы отыскать для своего Иуды такую физиономию, как нашел на миланских распутьях божественный маэстро Леонардо.
Старик в багреце обратился к капитану стражи с вопросом:
– Есть здесь что нового?
– Нет ничего, – доложил тот, почтительно вытянувшись, но с расстегнутой рубахой.
Гвидо дель Бене никогда не стыдился своих рубцов, охотно показывал их друзьям, а еще охотней женщинам, – и зачем же скрывать их перед членом Консилио деи Седичи, который только мигнет, и тебе сразу повысят жалованье.
– Ничего нового, – повторил он, – кроме того, что несколько малых сидят у меня сейчас под особой охраной, оттого что задержаны только нынче утром и еще не допрошены.
Альдовранди охотно сел бы, но не пристало такому высокому лицу, как член Консилио деи Седичи, сидеть на солдатской скамье. А Коста вернется из подземелья, видно, нескоро…
– За что арестованы?
– Прошли ворота, не отметившись, задержаны в городе, не имея красной печати на пальце.
Альдовранди махнул рукой.
– Пустяки!
Болонья опасалась за себя не только по ночам, но и в дневное время. И Бентивольо распорядились, что каждый иностранец, желающий войти в город, должен объявить караулу в воротах, кто он такой и с какой целью прибыл. В подтверждение того, что он отметился, ему ставили на большой палец правой руки красную печать. Не подчинившийся этому и пробравшийся в город, не отмечаясь, подвергался штрафу в десять дукатов, а у кого таких денег не было, того сажали в подземелье и держали там до тех пор, пока кто-нибудь не сжалится и за него не заплатит. Но кто теперь захочет пожертвовать десятью золотыми дукатами ради иностранца? Написать родным в далекий город? Но какой гонец в нынешнее военное время пустится в путь, чтобы доставить узнику золото? Так что о ввергнутых во тьму, о людях без роду и племени думать было некому. А синьоры Бентивольо наполняли свои денежные ларцы дукатами, получаемыми от тех, кто их имел, и одновременно ограждали город от переполнения беглецами, могущими вызвать голод и мор. Каждый день задерживали людей, не имеющих печати на пальцах, прибывших не по торговым делам и не к родственникам, а бежавших от ужасов войны, – и здесь их ждали тюрьма и смерть.
Так что высокородный мессер Альдовранди только рукой махнул. Но капитану этот жест пришелся не по вкусу. Ему почудилось в нем полное пренебреженье к его обнаженным рубцам. Человек, служивший кондотьеру Коррадо Бени, по прозванию Шпиг, кондотьеру Чалдере сиенскому и синьорам Скалигерам в Вероне, не любил презрительных мановений руки со стороны знатных господ. Роль его здесь далеко не ничтожная, и он мог бы привести немало случаев, когда начальник тюремной стражи оказывался хитрее всей Синьории. Разгладив себе усы таким же безразличным жестом, каким был жест Альдовранди, он промолвил:
– Это не простые бродяги. Они говорят, что пришли из Венеции.
Альдовранди пожал плечами. Из Венеции, из Рима – не все ли равно, каждый теперь идет к гибели сужденной ему дорогой… Капитан дель Бене пожал плечами еще равнодушней, чем член Совета.
– Похоже на то, что это fratres pacifici, – сказал он усталым голосом.
Холеная старческая рука Альдовранди мелькнула в воздухе, будто отогнав назойливую муху. Что это Коста так долго не идет? Он там в подземелье словно замечтался о давнем прошлом, а не ищет Иудиной физиономии. И его теперешнее состояние ему нужно переболеть иначе, совершенно иначе, Костов стиль стал вдруг мягче, гармоничней, совершенней… Но Коста этого не чувствует, изнуряет себя сомнениями, терзается безнадежностью, ну да, – старик кивнул головой, – муки творчества…
– Говорят, что из Венеции. – рассеянно промолвил капитан. – Признались без пытки. А теперь, там, в соседнем помещении…
Он махнул рукой в ту сторону. Ах, ведь там судейское кресло, на котором можно посидеть, откинуться, отдохнуть, пока Коста не найдет своего Иуду!
– Из Венеции, ты сказал? – переспросил Альдовранди, словно недослышав.
– Из Венеции, – повторил капитан Гвидо дель Бене, мужественно набрав воздуху в легкие.
– Хорошо, я пойду допрошу их, – сказал Альдовранди.
Тут у капитана возникло страстное желание, чтоб они оказались на самом деле fratres pacifici, потому что он их славно обобрал, объявив, что этого требуют тюремные правила… Альдовранди вошел к ним.
Двое, сидя на нарах, спали, сломленные страшной усталостью, но третий, самый младший, беспокойно ходил взад и вперед по камере, словно охраняя сон спутников и в то же время обдумывая план совместного побега. Услыхав скрежет засова, юноша быстро повернулся и весь сжался, готовый к прыжку. Но при виде величественного старца в пурпуре, опирающегося на длинную черную трость, склонился в глубоком поклоне, дожидаясь, когда тот сядет. Потом повернулся к своим товарищам.
– Не буди их, – приказал Альдовранди и сел в судейское кресло.
Только тут он почувствовал, до чего устал. Нынешнее совещание в Совете было исключительно напряженное, и ему, следуя совету врача, давно пора спокойно лежать в постели, а вместо этого он сидит здесь, допрашивает арестованного, до которого ему нет никакого дела, – заурядный случай не отмеченного вхождения в город, дело, в котором должен разобраться обыкновенный судья… А у него найдутся заботы поважней, ему не до бродяг; так почему же он здесь? Да потому, что Лоренцо Коста до сих пор расхаживает где-то там, в подземелье, ищет лицо для картины, которая никогда не будет написана… И старик устремил из-под густых белых бровей своих суровый, злой взгляд на юношу из Венеции, стоящего перед ним, учтиво склонившись в ожидании.
– Ты пришел в Болонью… – начал Альдовранди с раздражением.
– Я не собираюсь здесь задерживаться, – ответил юноша. – Только на ночь. У моих друзей не было денег для уплаты сбора, только у меня одного. Но я не хотел их оставлять!
Альдовранди пренебрежительно махнул рукой.
– Но у тебя золотой перстень и цепь…
– Этого я не отдам! – воскликнул юноша.
– Воспоминания? – язвительно улыбнулся Альдовранди.
– Да, – кивнул юноша. – Но несчастливые…
– Так почему же не расстаться с воспоминаниями, если они несчастливые? – холодно возразил старик. – Женские подарки?
– Да.
Старик поглядел на него с любопытством и промолвил:
– Верю, что воспоминания – несчастные: у тебя лицо мордобойца.
Юноша густо покраснел.
– Ты знаешь, что тебя ждет? – спросил Альдовранди, рассеянно поправив складки своего длинного сборчатого плаща.
– У меня много кое-чего впереди, – ответил юноша и склонил голову. Большие дела, работа…
Старик взглянул на него удивленно и со спокойным презреньем подумал: хвастается, такой же враль и болтун, как все венецианцы. Потом спросил:
– Ты дворянин?
– Да.
Ответ прозвучал гордо, быстро. Молодой человек стоял, расставив ноги, упершись левой рукой в бок, а правой поигрывая золотой цепью на груди.
– За тебя заплатят твои родные в Венеции?
– Нет, – ответил юноша. – У меня нет родных в Венеции, я не оттуда, а просто возвращаюсь из Венеции на родину.
– Где твоя родина?
– Я флорентиец!
Ответ был опять гордый, мгновенный, как и на прежний вопрос о принадлежности к дворянству. Но Альдовранди от этого насупился еще больше. После падения Медичи ни один город не радовался появлению в своих стенах граждан из Савонароловой общины, союзницы французов. Лучше было бы юноше оставаться хвастливым венецианцем, вместо того чтоб так гордо заявлять, что он флорентиец. И Альдовранди почувствовал всю тяжесть своей усталости. Ему уже давно пора быть в постели и, почитавши Данта, покоиться мягким, заслуженным сном посреди своих бесценных свитков, созданий искусства… А Косты все нет! Неужели так трудно найти в in pace Иуду? Старик вялым движением провел своей надушенной пергаментно-желтой рукой по морщинистому лбу и, не думая уже ни о чем, как только о том, чтоб поскорей в постель, сказал:
– Кто ты такой? Как тебя зовут?
– Я – Микеланджело Буонарроти, ваятель.
Альдовранди в изумлении быстро встал. Сквозь сухую желтизну его лица проступил легкий румянец, у него задрожали руки. Пурпур одежды кроваво зардел в свете факела, и старик, коснувшись длинной черной тростью плеча юноши, воскликнул взволнованно:
– Говори правду, флорентиец, потому что от меня зависит, отпустить тебя или отдать палачу. Ложь не спасет тебя, а только усугубит кару! Ты в самом деле – ваятель Микеланджело Буонарроти или обманно выдаешь себя за него?
Микеланджело быстро шагнул вперед, и голос его был резок и прерывист.
– Я – Микеланджело Буонарроти и ни за кого себя не выдаю… Я – это я… Я бежал из Флоренции… хотел спастись… но не спас ничего и себя тоже… всюду одинаково темно… это было напрасное бегство, напрасные дороги… в Венеции я не мог найти работы… я – беглец, который хочет опять на родину… Я – Микеланджело… вот эта цепь – от княгини Альфонсины… перстень – от Клариссы Орсини… посмотри, на нем вырезан герб Медичи… я получил оба подарка за одно свое произведение… может быть, ты слышал… за статую из снега… я – Микеланджело… погляди на мое лицо… меня все знают – из-за этого уродства… а коли не веришь, дай мне камень… прошу выдать мне камень – как личную препроводительную грамоту… погляди на лицо мое и дай мне камень… тогда узнаешь, что я – в самом Деле Микеланджело, ваятель… коли слышал обо мне…
Между тем Альдовранди подошел вплотную к нему, наклонил его голову к себе и промолвил:
– Я много слышал о тебе, Микеланджело…
Потому что старик тщательно следил за всем, где что было выдающегося, беспрестанно мучаясь мыслью, что не может так прославить Болонью художниками, как прославилась Флоренция, которой он всегда завидовал. Сколько, сколько раз по ночам, проведенным в старческой бессоннице, мечтал он о том, будто он, патриций, глава знатного рода, живет при дворе Лоренцо Маньифико в качестве его друга и советника, беседует с медицейскими платониками, слушает, как декламируют Эсхила и Овидия, руководит устройством карнавалов и политикой Италии… А просыпался всякий раз в Болонье, где могущественные Бентивольо думают только о новых крепостях, толпах солдат алчные, грубые, кровожадные, такие непохожие на обаятельного князя Лоренцо… Старик не забывал, как никогда не забывает зависть. Отшельник в пурпуре, любитель гармоничной жизни, переутонченный собиратель сокровищ искусства, гнушаясь пустоты жизни в Болонье, ревниво следил за всем, что делалось во Флоренции. И вдруг вот он перед ним, один из художников Маньифико, очутившийся в тюрьме, как бродяга, вот он, о котором агенты доставляли ему сведения, что именно этого художника Лоренцо особенно любит и ценит, вот он, с лицом, отмеченным ударом кулака мордобойца, с горящими глазами, в измятой, выцветшей одежде, вот он, найденный в тюрьме и безоружный, твердящий все время одно и то же: прошу выдать мне камень, как личную препроводительную грамоту, дай мне камень и увидишь, что я в самом деле Микеланджело Буонарроти… Альдовранди повторял только:
– Так это – Микеланджело; значит, ты – Микеланджело Буонарроти…
Он повторял это так, что Микеланджело поглядел на него с безмолвным изумленьем, и это было изумленье изгнанника, который вдруг опять услыхал, как имя его снова произносят с любовью. А прижатые к его вискам руки старика напомнили ему родной край.
Старик, снова обняв его, промолвил в восторге:
– О, beata nox, блаженная ночь, в которую я познакомился с тобой, Лоренцов ваятель! Как удивительно сводят боги друг с другом людей! Еще немного – и тебе пришлось бы горько пожалеть о своей опрометчивости и о том, что ты – флорентиец!.. Но с этой минуты ты – мой гость! Ты приехал ко мне в Болонью, Микеланджело, и мой дом, мой дворец, мои коллекции – все теперь твое. Никогда больше не возвращайся во Флоренцию, – там французы, они жестоко хозяйничают там, творя казни и насилия, радуйся, что ты у меня, я тебя никогда, никогда не отпущу, о, felix dies, о, beata nox 1, когда я тебя узнал! Ты будешь теперь работать для Болоньи, нет, мы тебя никогда не отпустим, как эти глупые венецианцы! Что венецианцы сделали когда умного? Видел ты в Венеции искусство? О юноша! Как ты еще молод и неопытен! Венеция и кошель – это да. Но Венеция и искусство? Теперь конец твоему странствованию, ты здесь, а об остальном позабочусь я, и синьоры Бентивольо тоже будут рады, спроси моего дорогого Косту…
1 О, счастливый день, о, блаженная ночь (лат.).
И Альдовранди, вдруг вспомнив о Лоренцо Косте, распорядился скорей привести художника из подземелья. Капитан, порядком сбитый с толку происходящим, обрадовался, что можно уйти. И факел его, под влиянием воспоминанья о пятнадцати золотых дукатах, дрожал.
– Мои друзья… – осмелился завести речь Микеланджело.
Альдовранди улыбнулся.
– Не беспокойся, их отпустят, я прикажу! И коли ты всегда так заботишься о своих случайных приятелях, Микеланджело, так возьми и меня под свое покровительство, я не побоюсь объездить с тобой весь свет!
"Кто этот человек? – раздумывал Микеланджело. – Ясно, что кто-то имеющий власть выпускать узников и передавать их палачу… Одежда его пурпур, жезл – черная трость с слоновой костью… Он пришел судить меня, а уводит, предлагая свое гостеприимство, и я не умею даже поблагодарить… Кто этот человек, прикрывающий меня сейчас своим могуществом, словно краем своего пурпурного плаща?"
– Ты видел Болонью? – спросил старик, когда они опять были в караульне.
– Очень мало. Нас задержали вскоре после того, как мы пришли.
– Якопо делла Кверча… – благоговейно промолвил Альдовранди, подняв палец. – Помни, флорентийский ваятель, – Якопо делла Кверча…
– Да, – кивнул головой Микеланджело. – Не было ваятелей выше Донателло и божественного Кверчи.
Старик в восторге сжал его руку.
– Ты прав, Микеланджело! Божественный Кверча! Я хорошо знал Якопо, он часто бывал у меня: это был великий художник, и оттого-то после его смерти здесь особенно чувствовалась пустота…
– Но у вас был здесь Никколо Пульо…
Лицо старика болезненно сморщилось.
– Году нет, как умер дорогой мой Никколо Антонио, я держал его руки в час кончины, и дело его осталось неконченым. В Болонье ваятели скоро умирают… Но ты нет, ты нет, Микеланджело! – поспешно прибавил он, словно успокаивая. – Ты останешься очень надолго среди нас…
Сперва послышались шаги, потом появилась тень, но шагов тени не было слышно, а прервал их беседу человек. Лоренцо Коста вернулся – в одежде, пропитавшейся сыростью, и с взглядом, в котором любопытство было смешано с досадой. Видя волненье старика, бледный румянец его сухих щек и возбужденный взгляд, он с тем большим вниманием посмотрел на юношу, который сделал легкий поклон. Альдовранди взял обе руки того и другого, соединил их и, не в силах превозмочь своего волнения, сказал:
– Если б дочь Юпитера, дева Минерва, если б Аполлон были свидетелями этой минуты! Посмотри, Коста, какого узника я освободил! Знаешь, чью руку ты жмешь? Это – Микеланджело Буонарроти, флорентиец, только что приехал из Венеции, чтоб украсить Болонью своими бессмертными твореньями! Тот самый, которого бесценный Лоренцо Маньифико любил больше, чем всех других художников! Это – Микеланджело Флорентинус, покинувший неблагодарную родину, чтобы отныне посвящать дары своего божественного духа Болонье. А ты, Микеланджело, знай, что держишь руку знаменитейшего феррарского живописца Лоренцо Косты, который создал нам здесь чудеса искусства. Это – Коста, artifex egregius praeclarus, omni laude pictor dignissimus 1. А теперь, друзья, уйдемте отсюда, забудем про эти места. Знай, что с этой минуты Микеланджело – мой гость. Проводи нас, а завтра утром приходи и покажи ему Болонью, – все, что у нас тут самого прекрасного!
1 Художник превосходный, славный, живописец, всяческой похвалы достойнейший (лат.).
Коста поглядел на Микеланджело равнодушно. Рука его была холодная, влажная – след пребывания в подземелье. Микеланджело, с новым поклоном, сказал:
– Мессер будет так любезен, покажет мне прежде всего самое прекрасное, что есть в Болонье: свои собственные произведенья; я ничего другого не желаю и прошу его об этом.
– По вашим манерам и речам, – ледяным голосом ответил Коста, – сразу видно воспитание медицейского двора. Я не умею так льстить, но, конечно, выучусь у вас.
– Мы должны о нем позаботиться, – сказал Альдовранди. – Надо поскорей найти ему какую-нибудь работу, чтоб он от нас не сбежал, ведь флорентийцы такие непостоянные… А я еще сказал ему, что в Болонье ваятели скоро умирают! – засмеялся старик. – Это вздор, не думай об этом. Познакомлю его теперь с Бентивольо, да еще есть дома – Санути, Феличини, Кромассо, много других… И я…
– Вы, наверно, очень устали, мессер Альдовранди, – сухо произнес Коста. – И я корю себя за то, что ради меня было предпринято это ночное посещение тюрьмы.
– Ты себя коришь… а я радуюсь! – засмеялся Альдовранди. – Иначе я не встретил бы Микеланджело… И чем больше я об этом думаю, тем больше диву даюсь! Тут, конечно, великое предзнаменованье, как по-твоему, Микеланджело?
– Да, это – предзнаменованье, – кивнул головой Микеланджело и прибавил: – Но для меня в нем нет ничего удивительного. Меня всегда освобождают из какой-нибудь темницы…
– Ты так часто в них бываешь? – отозвался резкий голос Косты.
Микеланджело поглядел на художника и промолвил:
– Есть темницы не только из железа и камня, и попадает в них тот, кто добивается великой духовной цели, мессер Коста.
Коста равнодушно пожал плечами.
– В области духа нет темниц.
И улыбнулся.
Микеланджело ничего не ответил.
Они опять шагали по темной земле площади в сопровождении неслышных слуг со светильниками. Шествие медленно двигалось к палаццо Альдовранди. И пока старик воодушевленно беседовал с Микеланджело, Коста гордо молчал. Страшные, обезображенные лица узников, слабо освещенные его факелом, мелькали у него перед глазами. Одно из них было особенно ужасно. Угрюмое, почти нечеловеческое, со скрытыми проблесками безумия, оно в свете его факела злобно оскалилось на него. Человек стал бешено рваться в своем железном ошейнике, не обращая внимания на боль, так как хотел избавиться от этого света, хотел опять во тьму. В ожидании смерти стоя, прикованный к стене, он осклабился такой страшной гримасой презренья, что у Косты побежали мурашки по коже, он отскочил и чуть не выронил факела, чадящего во тьме.
– Завтра… – слышит Коста голос Альдовранди, – завтра, Микеланджело, я сообщу о твоем прибытии в Совете и буду счастлив, если мне удастся сделать так, чтобы первые же твои работы были для города.
Тут Коста, не выдержав, промолвил:
– Можешь быть уверен, Микеланджело Буонарроти, что ты станешь теперь первым художником болонским, будешь sculptor egregius, praeclarus, omni laude artifex dignissimus. Ты умеешь льстить. Но это положение незавидное. В одну прекрасную минуту неожиданно лишаешься всего.
– Если б я лишился всего, – спокойно ответил Микеланджело, – хоть о такой высоте не мечтаю, то поступил бы так же, как золотых дел мастер герцога Анжуйского.
– Что это за история? – поспешно спросил Альдовранди, словно желая что-то предотвратить.
– У герцога Анжуйского был один золотых дел мастер, – ответил Микеланджело, – искусством своим не уступающий древним художникам. Но однажды он лишился не только того произведения, которому отдал много лет жизни, но и всего, что создал прежде. Видя, что погибло все дело его жизни, и усмотрев в этом перст божий, он, смиренно упав на колени, обратился к богу с такой молитвой: "Благодарю тебя, всемогущий боже, царь неба и земли! Не дай мне и дальше вдаваться в это заблуждение, искать что-нибудь помимо тебя!" И, раздав все имение бедным, ушел бы в пустыню своего духа, потому что есть пустыни духа, мессер Коста, так же как и темницы духа…
– Насчет этого проповедует вам во Флоренции Савонарола? – усмехнулся Коста.
– Нет, – спокойно возразил Микеланджело. – Это еще задолго до Савонаролы написал для нас и для всех художников, ради смирения их духа, в Комментариях своих один из величайших сынов Флоренции, ваятель Лоренцо ди Чоне Гиберти, – может быть, ты знаешь его бронзовые двери в нашей крещальне, чудо света…
– Вы там всегда готовили путь Савонароле! – засмеялся Коста.
Альдовранди плотней закутался в свой плащ. "Мой промах, – подумал он, ведь я хорошо знаю Косту, и надо мне было скрыть от него свою радость. Самолюбивый Коста, засушенный, раздраженный, ни во что не верящий. Его разъедает, точит червь, а я даже забыл спросить у него, нашел ли он там, в подземелье, своего Иуду! Какая неосмотрительность! А Коста несдержанный, резкий, не особенно склонен считаться с законом, да к тому же феррарец, ему ничего не стоит пустить в ход кинжал…" Альдовранди нахмурился. Коста молчал. Перед глазами у него снова возник образ человека, прикованного в подземелье. "Потребую этого… пускай выведут мне его на свет… я сделаю лицо его, полное нечеловеческого отчаянья, знаменитым и бессмертным… болонский узник будет давно лежать в могиле, а на картине моей по-прежнему из века в век рассказывать людям о своем проклятье, о своей ненависти, о погибели своей души…" Уйдя в мысли об этом, Коста уже не замечал Микеланджело. Альдовранди был ему смешон. Никто до сих пор не видел, чтобы старик так изменился! Болонский патриций, трепещущий перед гневом Бентивольо, вздумал вдруг разыгрывать из себя Лоренцо Маньифико… Косте стало так смешно и в то же время противно, что он не мог скрыть усмешки. Они стояли прямо перед дворцом, и старик поспешно подал ему руку:
– Ты нашел, что искал?
Коста кивнул.
– Да, и буду просить вашего разрешения, мессере, чтобы этого человека привели ко мне в мастерскую. Он мне понадобится.
– Где он? – спросил Альдовранди.
– Очень глубоко, страшно глубоко, но не в in pace.
– Обещаю тебе, – заверил его Альдовранди, – что ты получишь этого человека.
– Что вы пишете, мессер Коста, – спросил Микеланджело, – что вам нужны такие модели?
Коста улыбнулся и промолвил небрежно:
– Да задумал большую картину "Пробуждение весны", темперой…
Альдовранди успокоительно положил ему руку на плечо и сказал:
– Мой дорогой Лоренцо шутит. Он готовит алтарную картину "Последняя вечеря" и сейчас искал модель для Иуды. Поэтому я и ходил с ним в тюрьму.
– И нашли? – с любопытством спросил Микеланджело.
– Да, – отрезал Коста. – И если вам интересно, могу сказать, что у этого Иуды лицо совершенно расплющенное, словно отмеченное, нос…
Микеланджело, побледнев, сжал кулак.
– Покойной ночи, Коста, – поспешно простился Альдовранди и, взяв Микеланджело под руку, вошел с ним в широко открытые ворота дворца.
ТЕНЬ ОХРАНЯЕТ, ТЕНЬ СТЕРЕЖЕТ
Коста остался один. Он зашагал по улицам в глубокой задумчивости. Этот приблудный флорентиец совсем овладел сердцем старика как раз в такую минуту, когда Альдовранди так необходим безраздельно мне… Нужно действовать быстро! Пойти сейчас же, с утра, к Бентивольо и устроить, чтобы Микеланджело либо изгнали из города, либо опять посадили в тюрьму. Но тогда я навсегда восстановлю против себя Альдовранди, – старик мне никогда не простит! Нет, надо как-то иначе… Злоба росла с каждой новой мыслью. Коста сжимал кулаки и говорил с ночной темнотой. Спит уже монна Кьяра или еще нет? Как хорошо было бы пойти сейчас к ней, положить голову ей на грудь, закрыть глаза и только дышать… слушать, как бьется ее сердце у твоих висков, почувствовать на волосах ее тонкие миротворные пальцы, потом легкое, чуть влажное прикосновенье ее губ к твоему лбу, поцелуй и поглаживанье… мир и покой… нега глубокой тишины в ее молчаливой, понимающей ласке… молчать и только вдыхать ее… Но монна Кьяра теперь уже не одна. Муж, верховный военачальник болонских скьопетти, вернулся из Рима, да еще привез с собой гостя Оливеротто да Фермо, молодого римского дворянина на службе у церкви, кондотьера на службе У папского сына дона Сезара. Вечером, конечно, долго пили да, того и гляди, теперь еще сидят за столом, среди серебряных блюд с фруктами и сосудов с вином, в свете розовых свечей… Молодой дворянин рассказывает всякие истории из жизни папского двора, от которых монна Кьяра краснеет, прелестная, очаровательная, длинные черные волнистые волосы искусно причесаны, глаза как фиалки… Косте кровь ударила в виски. Нынче все отмечено дьяволом – с самого утра. Бывают такие дни, в которые чуть не с рассвета до всего коснулся нечистый коготь дьявола, словно день этот не посвящен никакому святому и темным силам позволено вредить, выворачивать все наизнанку, каждую надежду тотчас обращать в пепел… Мерзкий день и мерзкая Болонья, город, который он уж столько раз проклинал, где приходится драться за каждую работу, клянчить у Бентивольо, пресмыкаться перед ними, почтительно целовать руку каждому аббату, отвешивать глубокие поклоны всяким лавочникам и писаришкам из Синьории… А теперь еще этот шатун! Значит, безумный старик нашел себе нового любимца! Меценат в пурпуре, однако не очень-то склонный сорить дукатами, строящий свои оценки применительно к отзывам молвы, корчащий из себя знатока, жалкий подражатель великим благодетелям из числа князей… С легким сердцем покидающий одного художника ради временной выгоды, ожидаемой от другого… Любитель модных изяществ, потчующий теперь своего нового баловня у себя во дворце, осыпающий его там всякими посулами, обхаживающий, улещающий… Сейчас! Наверно, вот в эту самую минуту, когда я блуждаю здесь в темноте, словно выгнанная из дому собака!
И муж монны Кьяры вернулся. Наверно, уже не пьют, наверно, пошли спать. Командир скьопетти, победоносный Асдрубале Тоцци вернулся из Рима после двухмесячного отсутствия, человек отважный и страстный, и жена его монна Кьяра – самая прекрасная женщина в Болонье… наверно, больше уже не пьют с римским гостем, наверно, пошли спать… Сейчас! Наверно, вот в эту самую минуту…
Коста задрожал под наплывом мучительных видений и остановился, всхлипнув от боли. Прислонился лбом к стене дома, – камень был ласковый, холодный. Костова рука понемногу подымалась к горлу, словно он хотел сорвать с себя что-то мерзкое, живое, вздрагивающее, которое там присосалось. Он прикусил губу, стиснув зубы, и медленно потекла кровь. Глаза его горели, жгли. Он дрожал, и зернистый камень царапал ему лоб. А перед ним – пустота. Густой кромешный мрак, в который он выкричал бы всю свою боль, не будь горло его захлестнуто тугой, заузлившейся петлей страданья. Все кончено, он не способен ни к какой работе, и будь сейчас при нем картон его "Последней вечери", он разорвал бы его в клочья… Все кончено. Лучше б оставаться ему в Ферраре, быть писарем…
Мне тридцать четыре года, а что я могу сказать о себе? Когда я был так молод, как этот флорентиец, я ходил в мастерскую моего дорогого учителя Козимо Туры и тоже был полон замыслов, мечтаний, веры в будущее… Это было золотое время фресок во дворце Скифанойя в Ферраре, как сейчас вижу старого Козимо Туру в длинном черном плаще, забрызганном красками, с черной бархатной шапочкой на лысой голове, стоящего на лесах и обращающегося к нам, словно с церковной кафедры. Шамкая беззубым ртом и размахивая руками, он кричал нам: "Никаких призраков, Джованни! Никаких химер, Франческо! Никаких привидений, Лоренцо! Каждый пиши, как видишь".
Никаких призраков, никаких химер, никаких привидений! Зачем не остался я ему верен? Зачем бежал от него сюда, зачем так мучительно преследует меня теперь мысль, что в краске и живописи непременно должны быть призраки и видения, чтоб было прекрасно?.. Зачем не могу я больше писать по-прежнему, подчиняясь правилу: пиши, как видишь!
Предо мной тьма и ничто. Я всеми отвергнут. Не могу работать, отвергнутый больше всего самим собой. Друг мой Франческо Франча на все мои сомнения – ни слова. Альдовранди нашел себе нового художника и закрыл для меня двери своего дома. Что же ты, моя единственная, что же ты, любовь моя, страстная и живительная, лежишь теперь на ложе другого, который слышит биенье твоего сердца у своих висков и чувствует твои миротворные пальцы на своих волосах и губах… любовь моя… в то время как я блуждаю здесь ночью, словно выгнанная из дому собака…
И тут перед ним вновь возникло найденное лицо, вдруг вырисовалось так отчетливо, в такой совершенной подробности, словно тот человек из подземелья встал прямо перед ним. Он видел его ясно, потому что лицо это, кажется, можно было хорошо видеть лишь во тьме. Его озаряла тьма. Оно требовало черного освещенья. Чем для других было солнце, тем для него была тьма. И было в этом лице, выпяченном перед его глазами, такое отчаянье, что он задрожал от той же самой жути, как там, внизу, при первом взгляде на него.
Вот его задача, а он совсем без сил. Столько мук видел он при осмотре закованных узников, а его собственная, личная боль все-таки жгучей всего. И мечущиеся глаза его вдруг помутнели от ужаса. Он со стоном отпрянул от стены. Потому что его вдруг молнией пронзило ощущение, будто, прижатый к холодной стене, он – такой же точно беспомощный темничный узник с вделанным в стену железным ошейником на шее, из которого он отчаянно, но тщетно хочет вырваться и никогда уже не освободится… Он с испугом поглядел на стену, невольно ощупывая шею. Улица. Город. Черная Болонья.
Он задохнется. Надо как-то умерить этот страшный гнет. В глазах у него был сплошной кровавый туман. Он постоял еще немного, по искусанным губам его пробегала злая усмешка. Да, да, он начнет с него, с этого, ближайшего. Хоть пригрозит как следует. Авось этот флорентиец поймет, что нельзя безнаказанно отнимать хлеб у других художников, лишать их будущего…
Стиснув зубы до боли в деснах, с волосами, слипшимися от пота, сжав руки, длинными шагами зашагал он обратно, к палаццо Альдовранди.
А в это время Микеланджело осматривал там в свете свечей самые ценные предметы из собраний старика, без конца восхищаясь, так как эти вещи были действительно прекрасны. Потом он рассказывал о Флоренции и о своем пребывании в Венеции, до тех пор пока у Альдовранди веки не отяжелели дремотой, и старик пошел ложиться, отказавшись на этот раз от привычного чтения Данте и удовольствовавшись обещанием Микеланджело, что завтра они будут читать Данте вместе.
Тогда пошел спать и Микеланджело, до того усталый, что все события сегодняшнего дня казались ему сном, – он стал нарочно перебирать их в памяти, чтобы запомнить хорошенько. Они тайно вошли в ворота Болоньи и затерялись на многолюдных улицах, но бдительное око стражи скоро распознало пришельцев, и в них сразу вцепилось несколько рук, как раз когда они проходили по галерее возле университета. У них не было печати на пальцах, и их повели сквозь равнодушные толпы, привыкшие к подобным зрелищам. Солнце погасло, воздвигся мрак темницы. Надежда покинула их, и только в нем одном заговорило упрямство. Он метался по камере, словно пойманный зверь, ища, как бы вырваться. Сюда доходил глухой гул голосов из подземелья, стонало железо, откликалась земля, ревели своды, снова хлынул черный поток подземных голосов. Он думал, что смерть совсем близко. А потом вошел этот старик в пурпуре. Сел, чтоб судить его, имея власть отдать узника в руки палача. И вдруг старые ладони прижались к вискам, как воспоминанье о родном доме. А теперь – золото, мраморная облицовка, великолепие красок и статуй, мягкие ковры и заморские ароматы, легкие ткани и княжеская роскошь, патрицианское гостеприимство… Днем шла речь о палаче, ночью – о славе и почете.
Беглец готовится лечь на батистовые подушки и увидеть во сне родной дом. Бывают дни, говорит он себе, когда словно все явно отмечено благодатью господней, отчетливей и ясней, чем обычно. Такие дни, когда как будто с самого рассвета ко всему прикоснулось ангельское крыло, и покров святого, которому посвящен этот день, простирается над чистым и нечистым, подобно солнечному свету, могущество злых сил слабеет, каждая печаль превращается в радость, каждый пепел в надежду.
Он никогда не ложился, не сотворив молитвы на сон грядущий, – так и нынче достал из-под плаща свой псалтырь. Вот уж несколько лет, как он привык каждый вечер читать один из ста пятидесяти псалмов, начиная с первого, доходя за полтораста дней до последнего и на другой день начиная опять первым. Вскоре он заметил, что книга эта для него – не только молитвенник, но и великая памятная книга, в которой как бы записано все, прожитое им за день, – подробней, чем сумел бы сделать это он сам. Лишь в зеркале псаломных стихов все события прожитого дня вставали в подлинном своем виде. Привык он и для грядущего дня искать в псалме, который на очереди, указания, объясняющего смысл всего, что иначе осталось бы загадочным, ключа, которым он этот смысл отпирал. Нередко ключом был один-единственный стих, но нарушь порядок, возьми другой псалом, и ключ к завтрашнему не подошел бы. И он стал верить, что, строго соблюдая порядок этих ста пятидесяти псалмов, он воспроизводит некий сверхъестественный остов своей судьбы. И на этот раз он встал на колени у постели, но в то же мгновенье вошел слуга, с поклоном подал ему лист бумаги и тотчас снова исчез за дверью, завешенной роскошной тяжелой занавесью. Микеланджело в изумлении прочел единственную фразу, с трудом разбирая наспех кое-как набросанные буквы. Написано было только: "В Болонье ваятели скоро умирают".
Ночь. Дни и ночи, все нанизано на четки времени. Светает, темнеет. Ночи и дни. Чужой город.
"…и потому, святой отец Доменик, равный патриархам, моли бога обо мне!"
Микеланджело встал от могилы святого Доменика и опять взялся за резец. Храм Санто-Доменико был светлый, радостный, полный благоухания от цветов и каждений, теплого света от свечей и солнца. Месса уже кончилась, и молящиеся отходили от распятия, возвращаясь к своим лавкам, мастерским, вину, оружию, горшкам и сковородам, – и в этом была великая тайна. Только минуту тому назад они были свидетелями совершившейся на Голгофе великой жертвы. И тотчас вслед за этим, выходя из храма, учтиво осведомлялись друг у друга о здоровье, озабоченно толковали насчет слабого спроса, насчет недорода. Никто из них не вопил от ужаса, что жертвой был не кто иной, как сын божий, не бил себя в грудь и не бегал по улицам, по которым среди живых ходили и мертвые. Расходились с улыбками. Горожанки поправляли свои наряды, девушки шли под ручку, несколько кавалеров торопились к кропильницам, чтоб их опередить, монах с досадой замечал, что никто нынче не покупает индульгенций, а проповедь была слабовата; служки бежали по длинному нефу, громко гомоня, старая сводница погасила свечи, потом стала договариваться с матроной, прикрывающей вырез на груди молитвенником, несколько зевак, остановившись у гроба святого Доменика, принялись глазеть на нового художника, флорентийца, которому поручена высокая задача – продолжить работу маэстро Никколо Антонио ди Пульо, заслужившего за прекрасную роспись свода надгробия почетное прозванье дель Арка. Но маэстро Никколо в прошлом году умер, не докончив своего творения, и смерть его горько оплакивали. Не только потому, что маэстро Никколо был добрый человек и хороший художник, – болонцы, оплакивая его, оплакивали также недоконченное надгробие. Велико было преклонение Болоньи перед святым Домеником, покровителем города. Очень многие полагались даже больше на защиту святого Доменика, чем на синьоров Бентивольо, и втайне шли разговоры о том, что лучше бы докончить надгробье святого, чем возводить тройные укрепленья у ворот. Но синьоры Бентивольо больше надеялись на стены, и после смерти Никколо дель Арка никто об окончании надгробья даже не заикался, – на деньги, предназначенные ваятелю, были наняты новые ватаги вооруженных. Как вдруг явился этот флорентиец, придворный ваятель Лоренцо Маньифико, и пристал у мессера Альдовранди, знатного члена Консилио деи Седичи, чье имя звенит как золото среди художников. И высокопоставленный патриций, разведав, откуда тот явился и на что способен, участливо предложил городу поручить работу пришельцу. Зеваки стояли вокруг, открывши рот. Они видели, что художник – набожный, так что с этой стороны препятствий для окончания надгробия святого нету, а им сказали, что он к тому ж и дешевый, за каких-нибудь тридцать дукатов взялся вытесать для надгробия три статуи "Ангела с подсвечником", "Святого Прокла" и "Святого Петрония". Так что они были довольны. Обычно набожные обходятся дороже.
Микеланджело по-прежнему жил во дворце у мессера Альдовранди. Днем он работал над надгробием, а по вечерам сидел у постели хозяина и читал ему Данте – до тех пор, пока дух старика не оставлял всякое мирское попечение и веки его не смежались. Однако время от времени Альдовранди останавливал чтение, и Микеланджело должен был рассказывать о Флоренции, о Лоренцо Маньифико, о его философах и художниках, а старик с восхищением слушал, вздыхал и сетовал в глубине души на то, что ему не довелось жить там, да, там, а не под властью жестоких и равнодушных ко всяким искусствам Бентивольо…
– Почему ты уехал, Микеланджело? – спросил он однажды, и Микеланджело не ответил, сделав вид, будто не слышал.
А когда Альдовранди спросил еще раз, Микеланджело ловко перевел речь на другое и стал распространяться об этом другом, радуясь, что сумел так обвести старика, заставил его, видимо, забыть свой вопрос. Но Альдовранди никогда не забывал. Особенно никогда не забывал знатный член Совета шестнадцати те вопросы, на которые не получил ответа. Он сам стал искать ответ. Отъезд вызван не Савонаролой… Микеланджело говорит о нем всегда с величайшим уважением, он даже имеет при себе запись двух Савонароловых проповедей и с увлечением их перечитывает, но Альдовранди от них не в восторге, – бесформенно, неизящно, нет стиля, сплошь одни вопли, выкрики, бешеные вспышки, зловещие предсказания; легкой гримасой тонких губ и вялым манием руки он прервал чтение, попросил – лучше что-нибудь из Петрарки. Нет, дело не в Савонароле… Тогда единственно, что может быть, это – женщина. Старик был очень доволен своей проницательностью, И чем больше глядел он на обезображенное лицо Микеланджело и наблюдал его застенчивость, тем больше укреплялся в этой мысли. Так, значит, – женщина! Жаль, потому что из-за этого душевная чуткость не позволит патрицию завести с Микеланджело речь о женщинах, а старик любил беседовать о женщинах, особенно с художниками, откровенно наслаждаясь рассказами последних о их любовных приключениях. Но каков бы ни был повод, заставивший Микеланджело покинуть Флоренцию, юноша теперь здесь и окончит роспись свода над святым Домеником, присоединив свое имя к славным именам Никколо Пизано, Никколо дель Арка.
А докончив надгробие покровителя города, он завоюет все сердца, ему будет обеспечена благосклонность Бентивольо, и Болонья больше не выпустит Микеланджело из своих стен. А за ним появятся другие, Болонья станет преемницей Флоренции, сделается итальянскими Афинами и прославится искусством, как теперь славится ученостью… Да, я стану новым Лоренцо Маньифико, соберу здесь художников и философов, осную для них школы и академии, и когда-нибудь Бентивольо признают, что я сделал для города, и перед дворцом Синьории мне поставят памятник работы Микеланджело, могила моя будет в Сан-Петронио на главном месте, с длинной надписью от благодарных сограждан, а мой племянник? Как это будет красиво звучать: кардинал Альдовранди…
Микеланджело ничего не знал об этих мечтаньях старика, Микеланджело работал. Святой Прокл – воин болонский и мученик времен кровавого зверя Диоклетиана, раба на троне цезарей. Воздвигнув веру свою против цезарских эдиктов, он скинул плащ, чтобы палачу легче было совершить свое дело, и, вступив на путь, ведущий к небесам, принял мученический венец с сияющим ликом… Святой Петроний, епископ болонский, залечивший раны, причиненные вторжением Алариховых орд. Победоносный посох пастырский, занесенный над разбойничьими наездами варваров, ныне отложен в сторону, и святитель сжимает в объятиях укрепленный город, вознося Болонью к богу.
Но болонцам на такой высоте страшновато. А с базиликой св. Петрония дело обстоит почти так же, как с незаконченным сводом св. Доменика. Много столетий прошло с вторжения Алариховых орд, прежде чем город решил возвести это здание, – видимо, тогда опять угрожал какой-нибудь наезд, что они вдруг спохватились. И чтоб загладить свою беспамятливость, решили поставить базилику таких огромных размеров, что никогда не забудешь. Разобрали множество домов, шесть улиц и восемь церквей, чтоб расчистить место, и начали строить. Больше ста лет идет стройка, а все никак не достроят, еще сто лет понадобится. Денег нет, а город смету составил неправильную, не хватает средств на такое огромное здание, из-за которого множество домов, шесть улиц и восемь церквей разобрали. Нет денег, а Бентивольо, хоть и добрые христиане, больше, видно, надеются на основательные укрепления да тройные стены, чем на силу молитвы. И вот нанимают новые ватаги вооруженных, покупают бронзовые пушки, а святой Петроний ждет, как ждал святой Доменик. В Болонье всегда что-нибудь недокончено – надгробье, базилика, молитвы. Потому-то болонцам на такой высоте страшновато.
Но над порталом недоконченной базилики – великолепная работа маэстро Якопо делла Кверчи, сиенца, которую Микеланджело никогда не забудет, перед которой всегда будет останавливаться в великом восторге. Сюда бы привести всех, кто твердит ему об античности, об античных примерах и образцах, об античном стиле! Микеланджело напряженно озирает эту драму, врезанную в камень, драму, в которой участвуют одни тела, формы, напряженья мышц, контраст движений, а все остальное – просто фон, обозначение среды. Никогда не забыть судорожного движения Адама, изгнанного из рая, движения, полного отчаянной жажды вернуться, – правый локоть высоко поднят, словно он хочет отразить им повелительный жест архангела, ноги согнуты в коленах, тело наклонено, а голова!.. Женщина – та уже глядит на новую дорогу, она уже пошла вперед, одна только Ева – путница в незнаемую землю, а мужчина судорожно оборачивается, он хочет обратно, он под острым углом повернул голову прочь от земли, он не хочет туда, он вопит о рае, он хочет в рай, его резкое движение – вызов богу, он будет бороться за рай; этого лица еще не орошал пот, а оно уже полно морщин, и страстной тоски, и муки, ибо первое, с чем они встретились, пустившись в путь, была боль. А за мощным, смелым движеньем поднятого локтя Адам скрывает глаза, глядящие в рай, взывающие о рае, жаждущие рая, устремленные к раю, упорно смотрящие туда – не на землю, не на женщину.
Микеланджело вернулся к своей работе, к мрамору "Ангела с подсвечником", который должен быть противнем "Ангелу" Никколо. Но не тому, который стоит выпрямившись, скрестив руки на груди, вещая "Ave", с крылами, еще трепещущими, а тому, который опустился на правое колено и держит подсвечник, – ангелу с лицом алтарного служителя, чьи кудри спускаются на спину, чья девичья красота полна смирения, нежности и преданности, ангелу священнослужительствующему. Микеланджело работал усердно. Он намеренно лишил своего "Ангела" всякой женственности, характерной для "Ангела" маэстро дель Арка. Никаких кудрей, спускающихся на спину, а густые волосы, обвивающие мелкими кольцами поднятую, иератическую голову. Это ангел из числа тех, которые под начальством архангела Михаила воевали в воздухе против злых сил дракона. Теперь он отложил щит и меч, взял подсвечник и опустился на колено перед алтарем в ожидании мессы. На кудрявую рыцарскую голову его можно хоть сейчас надеть шлем, как на голову "Ангела" маэстро Никколо – венок. И будут вместе – нежность молитвы и сила ее. Но так как "Ангел" Микеланджело готов тотчас встать и снова идти в бой, одежда его более оживлена, складки ее полны движенья, она жестче и мужественней. Только легкие и мягкие кривые воскрылий уравновешивают тяжелую материю подсвечника и тела. Только крылья здесь нежны, благостны, юны и женственно мягки.
В первый и последний раз Микеланджело ваяет крылья.
За колонной храма стоит тень и смотрит на него. Микеланджело чувствует, что за ним следят, но всякий раз, как обернется, позади – пусто, никого нет. Только несколько старых женщин еще остались в храме, но они стоят на коленях перед главным алтарем, застыв в долгой молитве. Тень крадучись, ползком подбирается все ближе и ближе, потом вдруг остановилась. Микеланджело вновь почувствовал ее взгляд, словно липкое прикосновение паука на своей спине, и быстро оборачивается. Нет, он совсем один, сзади никого, и старухи сердито ушли молиться в другое место, в другую церковь, где слова молитв не будут заглушаться ударами по камню. Он крепко сжал в руке резец, как оружие, и двинулся навстречу неведомому взгляду, ища его. Но тень неслышно скрылась между колонн, а там и вовсе выскользнула из храма, сняв в портале черную маску с лица и скинув с плеч черный плащ. И Микеланджело, никого не встретив, возвращается к своему произведению, чтобы вскоре погрузиться в него, забыв обо всех тенях, что бродят по свету.
В первый и последний раз Микеланджело ваяет крылья.
ЗМЕИНОЕ ОЖЕРЕЛЬЕ
По всему городу шли настойчивые толки о войне, и верховный командующий болонских скьопетти мессер Асдрубале Тоцци вернулся из дворца Бентивольо раздосадованный, оттого что опять не послушались его советов и Бентивольо по-прежнему не решаются выступить, хотя момент самый подходящий. Получается просто стыдно перед гостем Оливеротто да Фермо, молодым кондотьером папского сына дона Сезара… Асдрубале Тоцци, высокий, мускулистый, с раздражением откинул меч, сел за стол и стал ждать, чтобы жена принесла ему бокал вина.
Но вместо нее с подносом и кувшином вина появилась служанка неопрятно-жирная, толстая, с заячьей губой, до того противная, что от ее взгляда скисло бы вино, и лучше приправленное. На раздраженный вопрос хозяина она с готовностью ответила, что монны Кьяры нету дома, опять нету, она не ждала синьора так поздно… При этом служанка ухмылялась так, словно ее сообщение доставляло удовольствие ей самой. Асдрубале терпеть ее не мог, – часто ему казалось, что она приносит дому несчастье, – он несколько раз прогонял ее, но она каждый раз возвращалась обратно, так что в конце концов мессер Тоцци махнул рукой. И без того хлопот по горло. Порой ему приходило на ум, что эта уродина – необходимая принадлежность дома, как куча мусора и навоза под окнами. Нельзя отрицать, что при ней в доме всегда царит порядок и спокойствие, слуги ее боятся, а монна Кьяра – плохая хозяйка… Так что уродину оставляли, но Тоцци разговаривал с ней одними кулаками, и она, заслышав его голос, тотчас скрывалась. Тем сильней удивился он ее появлению с вином. В нем разыгралась желчь, и он уже нацелился кулаком прямо ей в зубы, но вдруг злая усмешка в углах ее мерзкого рта и насмешливый, язвительный взгляд остановили его, – зуботычина не состоялась. Девка явно смеется над ним… И Тоцци почувствовал, что по лбу у него покатились капельки пота. Потому что, если эта уродина над ним издевается, значит, у нее есть веское основание или она просто помешалась. Но нет – она не сумасшедшая. И, не скрывая язвительной улыбки, она снова загнусила, что госпожа опять ушла, уж давно ушла, вскоре после полудня, как всегда, пока господин был в Риме… Говорит, и держит поднос с вином, которое скисло, и ждет. Асдрубале Тоцци дал ей тумака, пристегнул опять меч, накинул плащ и вышел.
Ледяной пот, огненные круги перед глазами. Но на улице, где жизнь шла своим чередом, мирная, обычная, где лица пешеходов и лицо самой улицы – все было такое, как всегда, ему пришло на ум, что лучше не возвращаться домой, а пойти к лекарю, чтоб тот освободил его от избытка черной крови, а то у него начались, видно, какие-то наваждения, – слишком угнетают его эти бессмысленные совещания у Бентивольо, которые все колеблются, не слушаются ни его советов, ни указаний святого отца Александра Шестого. Но ехидная, злорадная усмешка уродины глубоко его задела. Тоцци шел по широкой улице, сам не зная куда. Несколько раз им овладевало желание вернуться и расспросить служанку, почему она так улыбалась. Но она того и хотела; для этого и пришла с вином, хорошо зная, что он ничего не примет из ее рук. Но если он не примет ничего из ее грязной руки, то не примет и ни слова из ее мерзких губ. Он задрожал от отвращения при одной мысли, чтоб уродина вдруг стала его поверенной. Нет, он дождется возвращения монны Кьяры. А пока ему казалось, что часы идут, как и он, без цели.
Но потом он опять ободрился и стал с наслаждением вспоминать о ласках монны Кьяры. Он убьет уродину. Пускай она на том свете смеется над обманутыми мужьями, которые уже мертвы. Он убьет уродину, потому что она может вызвать большое несчастье. Довольно и того, что он, победитель в битвах, он, перед кем дрожат взводы его скьопетти, из-за которых ему даже папа завидует, идет теперь как в воду опущенный, понурый, словно какой-нибудь зеленщик, словно болонский купец, терзаемый тревогой о жениной добродетели, проводящий дни без радости и ночи без сна. Разве он имел когда-нибудь повод, если не считать кое-каких пустяков, ничего не значащих и вызванных теперешней модой?
Повод? Может, только тот, что он никогда монну Кьяру не понимал. Завороженный ее волшебной красотой, по утрам всегда свежей, как роза, обрызганная росой, вечерами цветущей, как роза, целуемая лунным светом и не желающая спать, он никогда ни о чем не думал, кроме как о часах, отданных ласкам, о часах обладанья, часах алькова. Она была до такой степени его женой, что никогда не была его мыслью. Он любил ее за необычайную красоту и еще из тщеславия, – да, страсть и тщеславие привязывали его к ней. Ведь все ему завидовали, и если бы ее семья, принадлежащая к древнему роду Астальди, неожиданно не разорилась, он никогда бы ее не получил, она скорей предназначена для княжеского или дожеского ложа. А теперь она – его, хрупкая патрицианка знатного рода, Кьяра Астальди, чьи предки жили здесь, в Болонье, еще во времена римских цезарей, отмеченная своей нежнейшей, почти прозрачной красотой, как печатью долгих столетий, потому что это – красота наследственная, драгоценная, выдержанная. Она стала его женой, женой верховного командующего солдат – скьопетти, громил с Сицилии и из Абруццских гор, извергов, которых он собственноручно так здорово вышколил, что из-за них сам папа завидовал Болонье, – теперь она – его, и он может подшучивать над ней за вечерним кубком вина, пока она не замолчит, не отложит книгу и мечты и не приготовится, как подобает супруге, принять от него и ласку и обиду. Он никогда знать ничего не знал, кроме того, что она – его. Что в ней затаилось Отчего красота ее стала такой ледяной, словно обрастая все новыми слоями морозного инея? Отчего взгляд ее сделался таким жестким, и напрасно он увешивал ее золотыми цепочками, – она ласкала его, была вся живой поцелуй, добыча, наслажденье, но не та, что прежде. В часы супружеского ложа она была монна Тоцци, в силу незыблемого брачного закона – жена его, ключница его дома, госпожа над слугами. Красота ее не увядала. Но стоило ему на мгновенье выпустить ее из объятий, как она становилась уже не его, словно никогда и не была его. Это была Кьяра Астальди, полная иной красоты величественной, патрицианской, хрупкая и мечтательная, с отвращением скинувшая с себя объятья командира скьопетти и уткнувшаяся лицом в подушки жестом невыразимого омерзения, словно женщина, изнасилованная в захваченном городе и предоставленная самой себе и сознанию своей поруганности. Но он об этом не знал, она никогда не была его мыслью. Только по вечерам, за кубком вина, он перестал подымать на смех все, чего не понимал в ней, втайне желая даже, чтобы снова вернулись те первые мгновенья, когда она поверяла ему свои мечты и читала ему вслух… Но теперь она сидела, уронив руки и, видимо, отложив в сторону самую душу свою перед его приходом. Возьмет перстень, который он купил ей в городе, и станет вся – поцелуем и лаской. Завороженный ее тонкой, невянущей красотой, он не замечал, что слои морозного инея успели сделать ее скользкой, как змея. Теперь он шагал быстрыми шагами, с развевающимся плащом. Встречный верховой, осадив коня, склонился в глубоком поклоне, потом спешился. Золото, багрец, блестящий панцирь. Оливеротто да Фермо бросил поводья сопровождавшему его слуге, лепантскому мурину в полосатом желтом тюрбане, сверкающему белками глаз и золотыми серьгами. Раб привлекал к себе общее внимание в Болонье. Оливеротто часто ездил со свитой из нескольких принадлежащих ему негров, этот римлянин и здесь любил окружать себя роскошью, приличествующей кондотьеру папского сына. Асдрубале Тоцци не проявил особой радости, но рука юноши вкрадчиво, словно женская, проскользнула под его руку. Сверкая золотом и блеском панциря, встряхивая длинными черными кудрями, Оливеротто напросился в спутники. И командир скьопетти брюзгливо изложил ему итоги сегодняшнего совещания во дворце. Молодой кондотьер небрежно махнул рукой.
– Это меня не удивляет, я ничего другого и не ждал, – сказал он. Сообщу его святости и кардиналу Сезару. А дон Сезар не забудет, Болонье не поздоровится. Но и тех, которые хотели подчиниться, а им не дали, – юноша сверкнул глазами на Тоцци, – тоже не будут забыты, только в хорошем смысле.
Асдрубале Тоцци гордо поднял голову.
– Кардинал Сезар имеет в моем лице верного слугу, – сказал он. – Я без колебаний готов выступить. А синьоры Бентивольо колеблются.
Оливеротто засмеялся.
– Колеблются, колеблются! А почему колеблются? Французы уже оставили бы Флоренцию, – если б Савонарола все время не сдерживал народ, плохо пришлось бы Карлу в городе его собственных союзников! Теперь самое время ударить им в тыл… А Болонья хитрит, но придет день – она дорого заплатит за свою хитрость! Ведь и Лодовико Моро, миланский пес, отпадает от французов, Карл не поручился, что не затронет его власти, и Лодовико боится, что сам вырыл себе яму, призвав французов в страну, и отпадает… Почему же не выступают Бентивольо?
– Хотят, мол, сперва заключить договор с его святостью… – хмуро ответил Тоцци.
Оливеротто опять засмеялся.
– Понимаю, – промолвил он едко. – Их игра мне ясна. Они не забывают, что Болонья, по сути дела, – лен церкви и они правят здесь незаконно, как тираны. Потому и не хотят подчиниться, что, сделав это, они признали бы суверенитет святого отца. Хотят, чтобы его святость имел с ними дело, как со свободными правителями, хотят договора! Просто смешно. И в то же время не хотят ослаблять себя походом против французов – опасаясь, как бы дон Сезар не решил осуществить притязания церкви на Болонью с помощью оружия. Вот почему они колеблются!
Тут римлянин, будто не нарочно, прижал руку Тоцци тесней к своей груди.
– А ты, Тоцци? Говоришь, что ты верный слуга кардинала Сезара? Так докажи это! Нужен-то пустяк! Немножко мягкого воску…
Тоцци вздрогнул.
– Нет, – отрезал он, выпрямившись.
Да Фермо слегка пожал плечами.
– Что ж, хорошо. Не будем омрачать последние минуты такими разговорами, я ведь скоро уезжаю. Ты останешься здесь, а я вернусь в Рим. Я буду воином, обнажившим меч против врага, а ты – воином, который среди военных действий сидит сложа руки, – ты, победитель в битвах! Ах, Тоцци, не сердись! Я не хочу тебя обидеть! Поговорим о другом. Здесь у вас, в Болонье, было весело, хоть женщины здесь не такие податливые, как в Риме. Я уж соскучился по римским поцелуям, – ваших болонских мне досталось слишком мало. Даже в Пьяченце у меня бывали ночи лучше здешних! Ах, ваши женщины!
Он щелкнул пальцами и засмеялся.
Тоцци нахмурился. Ему всегда не нравилось, как этот римлянин говорит о женщинах. Конечно, когда-то он и сам говорил о них так, но это было давно, когда он командиром маленького отряда наемников проходил по Италии – от Сицилийского королевства до Альп. Теперь, занимая высокую воинскую должность в укрепленном городе и женившись, он не любил таких разговоров, втайне немного сочувствуя всем мужьям, к которым такие вот да Фермо пробираются в спальни, а потом весело острят насчет этого вокруг лагерных костров.
И в его палатке тоже когда-то звучали, под хохот приятелей, имена мадонн, обольщенных тем, кто нынче пришел, а завтра ушел закованным в панцирь искателем приключений, чья слава растет в кровавых боях, а не за столом ратуш или купеческих контор. Однако теперь он таких разговоров не любил. Но Оливеротто – человек неплохой. У него доброе сердце, в нем есть благородство. Он римский дворянин. Просто он действует и говорит, как все кондотьеры, да к тому же – он на кардинальской службе. Этим многое объясняется и оправдывается. И, слыша смех и живую болтовню юноши, Тоцци вдруг почувствовал печаль. Этот веселый парень, мальчишка, можно сказать, горделиво разъезжающий по Болонье, осеребренный блеском панциря, в сопровождении своих муринов, и толкующий со смехом о поцелуях, вдруг стал в его глазах свежим, пылким, страстным приветом, присланным жизнью, что идет там, наружи, за стенами. Он вдруг почувствовал к нему доверие. Потому что возвращались, оживая, дни его собственной молодости, когда – тоже, можно сказать, мальчишкой – сам он весело разъезжал по стране, опоясанный мечом, в поисках битв и женщин. Черная, душная Болонья! Сколько раз он проклинал ее! Тоцци бессознательно прижал к себе руку молодого друга. Что до того, что Оливеротто за минуту перед тем требовал, чтоб он изменил Болонье, передав тайно изготовленные отпечатки ключей от ворот Сезарову кондотьеру, и что это касается также его отрядов скьопетти, на которые зарится папа. Я просто сказал ему: "Нет!" – и поднял голову. "Не сердись, Тоцци, – ответил да Фермо, – не будем говорить об этом". И вопрос отпал. Оливеротто неплохой человек. У него доброе сердце, в нем есть благородство. Он говорит и действует, как говорил и действовал бы каждый кондотьер на его месте, к тому же он на кардинальской службе, и этим многое объясняется и оправдывается.
Горечь и печаль, не только простая жажда общения, но печаль, подлинная, тяжелая, мужская и солдатская, – росла. Тоцци чувствовал, как легко лежит рука юноши на сгибе его локтя, – ощущение необычайно мягкое, вкрадчивое – не товарищеское, а льстивое, услужливое. Тоцци выслушал с улыбкой рассказ о проделке лепантских муринов с двумя евреями в Отранто, улыбнулся еще раз или два. Льнущее прикосновение руки было ласковое. И Тоцци вдруг промолвил:
– Оливеротто, что бы ты сделал, если б… неожиданно вернулся домой… и вдруг тебе подала вино служанка?
Юноша сверкнул на него своими черными глазами и мгновенье помолчал – от обилия нахлынувших мыслей. Утаив их все, он вымолвил только последнюю:
– Что ж, я подумал бы, что в эту минуту моя жена наливает кому-то другому…
Тоцци поник, лицо его стало серым. Это было сказано так грубо, резко и обнаженно, что он на мгновенье заподозрил, нет ли в этой циничной откровенности какого-то умысла. Он вонзил свой взгляд во взгляд Оливеротто, их глаза встретились. Но взгляд да Фермо был так ясен и прямодушен, что первым опустил глаза Тоцци.
– И, подумав так… что бы ты сделал? – спросил он. Звонкий голос Оливеротто был полон мальчишеского удивления.
– Ты меня об этом спрашиваешь? А сам не знаешь? Я должен тебе советовать, – неженатый, которому чужие жены наливают вино?
Эта насмешка сопровождалась таким наивным взглядом и скольженьем руки выше, под мышку, что Тоцци растерянно пролепетал:
– Оливеротто… я определенно ничего не знаю… Моя жена…
– Тоцци! Когда же мужья знали что-нибудь определенно? Возьми меч, схвати монну Кьяру за волосы, приставь острие к горлу – и узнаешь определенно!
Асдрубале Тоцци поглядел на него сбоку и сказал надменно:
– Монна Кьяра не из тех женщин, которые говорят под угрозой меча! Она ничего не боится, и, если решит запираться, я не дознаюсь правды.
– Так выследи и застигни на месте, – засмеялся Оливеротто.
– Я отвечаю за вооруженные силы, – возразил Тоцци. – Должен быть готов в любое время явиться во дворец. Должен день-деньской хлопотать о своих отрядах, припасах, укреплениях. Меня теперь часто вызывают в Синьорию и в Совет. Как же тут следить за женой?
– У тебя есть слуги!
Тоцци вздрогнул от отвращения. Уродина!
– Я бы уж лучше просто не впустил ее в дом…
Оливеротто опять засмеялся и прижался тесней к нему.
– Бедный Тоцци! Чего бы ты этим достиг? Мессер Боккаччо по этому поводу рассказывает замечательный случай, – помнишь? – насчет мужа, который запер вечером двери дома, чтоб жена не могла вернуться и он мог бы ее наказать. А она бросила большой камень в колодец, и муж, услыхав плеск и решив, что это она с отчаяния и стыда сама бросилась, выбежал на двор. И пока он с слугами всю ночь шарил в колодце, жена первым делом вернулась к своему ненаглядному, и они славно провели ночь. А утром муж, вернувшись мокрый и замерзший, нашел ее опять в своей постели и был осмеян слугами и соседями, которые решили, что он спятил, и, поверив жене, подняли его на смех.
Тоцци сильно сжал свою мускулистую жилистую руку, и оливковое лицо его опять посерело.
– Я не стал бы всю ночь шарить в колодце, Оливеротто, – прошептал он сдавленным голосом.
На губах да Фермо появилась улыбка.
– Стал бы, Тоцци! Я тебя знаю, стал бы…
Тут Тоцци, смерив его таким долгим взглядом, что у того мороз побежал по коже, промолвил голосом, выдавшим всю его безмерную обиду и ненависть:
– Если это правда, Оливеротто, то клянусь, она понесет наказание, какого не понесла еще ни одна женщина в Болонье.
Кондотьерова рука опустилась, и взгляд его стал осторожным. Он не сразу решился заговорить, но голос его был полон участия.
– Монна Кьяра, – сказал римлянин, – самая прекрасная женщина в Болонье, все тебе завидуют, и ты никогда не будешь с ней счастлив. Такой женщине нужны пурпур, искусства, великолепие, пышность, жизнь, кипящая удовольствиями. А что она видит в Болонье? Ходит возле дома, когда-то принадлежавшего ее семье, мимо дворца, откуда вышли ее предки, чтобы занять высшие должности в управлении государством. Они никогда не будет здесь счастлива. Ты хочешь убить ее за измену. Но ты изменил сам себе, и это гораздо хуже. Чем должна быть жена для воина? Только отдыхом и наслажденьем. Это у купцов жена – честь, богатство, имя, вывеска товаров. А чем должен ты быть сам по себе, ты, гниющий здесь в бездействии, в то время как твое военное искусство в любом месте увенчало бы тебя славой? Какое наказанье выдумаешь ты себе, коли будешь медлить и дальше? А не выдумаешь сам, так оно все равно тебя постигнет, оттого что жизнь станет тебе немила, опротивеет, и судьба уже дала тебе понять: пропал человек, сам себя предавший и растративший. Чего ты здесь сидишь? Чего ждешь? Для кого стараешься? Для Бентивольо, которых в один прекрасный день выгонят отсюда, как из Флоренции выгнали род куда более могущественный – род Медичи? Зачем ты здесь? У тебя свет клином сошелся на одном: жена тебе неверна, и ты убьешь ее с любовником. Но позор на твоем имени останется. Всякий раз будут говорить о твоей великой мести, будут говорить и об ее великом грехе. А не лучше ли пойти другим путем? Замолчать все! Да, Тоцци, замолчать все! Убей любовника, но не жену, и никто не узнает, отчего этот малый умер. Я предложу тебе несколько испытанных римских способов, помогу тебе. Но потом – ты пойдешь со мной! Станешь кардинальским кондотьером, набирающим самых способных людей по всей Италии, станешь, – я знаю твои небывалые военные способности, – высшим его кондотьером. Существует огромное различие, Тоцци, между поисками камня в колодце и славой и почетом, стяжаемыми на Сезаровой службе! Я искать с тобой камней не стану, только вымокнешь на потеху всему городу. Да, Тоцци, пойми, никто тебе не поверит, что она, Кьяра Астальди, наследница древнего имени, забылась, словно обыкновенная купеческая красотка. А если б даже поверили, так будут говорить: вон начальник скьопетти, дед которого еще рыбачил в Таормине, вон начальник громил, расправившийся с красавицей женой, как северный варвар! И будут петь печальные канцоны о монне Кьяре, о ее красе! До тех пор пока хоть в одном мужчине сохранится капля рыцарской крови, не перестанут тайно грустить о прегрешении и красоте твоей жены, а не о твоем имени и твоей чести. Всегда будут жалеть о жестокой смерти той, что была ровня принцессам, а по бедности вышла за атамана наемных абруццских головорезов. Нет, это никуда не годится! Мы в Риме так не делаем. Я помогу тебе выследить любовника монны Кьяры, а убрать его – дело моих арапов, это пустяк, – смею тебя уверить, им не впервой вцепляться в человеческую глотку своими черными лапами. И все шито-крыто, без всяких печальных канцон и сонетов. Но ты поедешь со мной в Рим! Здесь ты никогда бы не был счастлив. Отомсти тому малому, но не ей. Иной раз умнее позабыть, чем устраивать кровавую расправу с женой. Благодаря ее прошлой ошибке ты всегда будешь держать ее в покорности, она станет тебе хорошей женой. Тебе будет завидовать Рим. Это женщина, которой нужны пурпур, искусство, великолепие, сверкающая жизнь. Я уже вижу ее – величественную, в блестящем римском обществе, среди князей, баронов и дворян, на кардинальских пирах, и тебя рядом с ней – в испанской одежде, украшенного званиями, знаками отличия, золотыми цепями. Ах, Тоцци, недалеко то время, когда имя твое будут произносить со страхом и почтением, и оно будет уже не именем командующего Сезаровыми войсками, а именем верховного кондотьера церкви!
Римлянин остановился, напряженно вперив испытующий взгляд в лицо Тоцци. Лицо это было страшное, темное. В морщинах, которыми оно было изрезано, словно глубокими длинными швами, залегли следы отчаянья. Глаза его лихорадочно блестели под низким бычьим лбом, теперь склоненным. Он твердо, тяжело положил руку на Оливероттово плечо и промолвил:
– Кардиналов кондотьер, в последний раз говорю тебе: ты не получишь ни меня, ни моих скьопетти!
Тут в глазах римлянина на секунду вспыхнул проблеск дикого бешенства, словно во взгляде змеи, упустившей добычу. Но яд этого взгляда тотчас рассеялся, и послышался опять звонкий, ясный мальчишеский голос:
– Ладно, твое дело. Не сердись, Тоцци! Я предложил тебе помощь и выгоды. Выгоды ты отверг, но помощь, надеюсь, не отвергнешь?
Они вошли в дом Тоцци. Оливеротто шел пружинистой походкой, на цыпочках, словно в любой момент готовый к прыжку. Они вошли в комнату, где была тишина, шалоны, лютня, картина. Оливеротто ждал, и риск игры напрягал ему все нервы. Тоцци крикнул, чтоб подали вина. Через минутку зашуршали шаги, и с кувшином на подносе вошла уродина. Тоцци, схватившись за грудь, отпрянул к стене, словно увидев привиденье или призрак. Чудовище приближалось медленным шагом, распространяя запах падали. Шло не спеша, грязное, нечесаное, отвратительное и торжествующее. Глядя на Тоцци неподвижным взглядом, страшилище сообщило, что госпожа, не ждавшая господина так рано, до сих пор еще не вернулась. Тоцци захрипел, словно задыхаясь. Оливеротто, выставив уродину за дверь, взял у нее кубки и вино. Вернувшись, он поспешно поднес кубок ко рту, чтобы скрыть свое удовлетворение, торжество и улыбку.
Было около пяти пополудни.
Как раз в эту минуту монна Кьяра, встав с постели Лоренцо Косты, художника, расчесывала себе волосы перед зеркалом. Лоренцо стоял у окна и нервно следил за ее неторопливыми движениями. Ему казалось, что Кьяра злорадно наблюдает его тревогу и, чтобы его позлить, нарочно причесывается все медленней. Издевается над ним. Взволнованно постукивая пальцами по оконной раме, он со злобой смотрел на ее медлительность, мешкотность ее рук, неторопливые наклоны головы, долгие взгляды в зеркало. В каждом ее ленивом движении было столько насмешки, что он закусил себе губы, чтобы гнев не вырвался наружу. Ведь она, конечно, знает, чем рискует, оставаясь так долго вне дома, когда муж в Болонье. Но ей нет дела. Она всегда такая… Высокомерная, – и теперь ему кажется, что она презирает даже его страх за нее, презирает и высмеивает, в презрении своем забыв о их близости. Словно все, что между ними было в эти часы, оказалось сразу зачеркнутым из-за того, что он с нетерпеньем следит за ее медлительностью и хотел бы, чтоб она была осторожней, раз муж опять в городе. Презирает и высмеивает. Вот сделала несколько раз длинное плавное движение рукой по прядям волос, – на его взгляд, совершенно излишнее. Встала, пошла к скамье, где у нее лежало платье, но по дороге остановилась перед поставом с начатой "Последней вечерей" и, прищурившись, долго смотрела. Глядя на ее стройную, статную фигуру, идеально сложенную, он перестал жалеть о ее медлительности. Но, сытый ласками, опять отвернулся и устремил внимательный взгляд на улицу. Потому что близилось время появления капитана Гвидо дель Бене, который каждый раз приводил под караулом человека из подземелья, модель Иуды. Было бы плохо, если б капитан, во всем послушный своему командиру Асдрубале Тоцци, застал здесь его жену раздетой и причесывающейся. И Лоренцо, по возможности подавив тревогу, тихо промолвил:
– Кьяра, пора…
– Знаю, – ответила она с горькой улыбкой, – ждешь не дождешься, когда я уйду. Ты трус, Лоренцо…
Он вспыхнул. Грубо схватил ее руку выше локтя и, вне себя, – стал ее ломать. Как она смеет говорить о трусости, – он не боится умереть за ее красоту. Но непонятно, почему из-за ее неосторожности и нелепо вызывающего поведения должно погибнуть то единственное, что у них обоих есть на свете. Теперь он понимает: любовь их всегда была только безумием и поэтому кончится этим безумным поступком. Сейчас здесь появится конвой с узником, а ее некуда спрятать. И нынче же вечером начнут трепать ее имя – имя монны Кьяры – за стаканом вина все болонские пьяницы, по всем трактирам пойдут толки, что она, благородная и неприступная патрицианка, она, знатная и гордая Кьяра, последняя из рода Астальди, валялась на постели феррарского живописца, когда к нему вошли солдаты с арестантом…
Она молчала, отвечая лишь холодным, насмешливым взглядом. Он не выдержал. Бешено пнул постав, так что картина отлетела в сторону. Что ж, ладно, пусть будет по ее. Смерть из прихоти. И даже лучше, что этим кончится. Он тоже ничем не дорожит и меньше всего – жизнью. Работа его бесцельна и никому не нужна, он в таком упадке, что последний мазила напишет лучше, – но что она знает о том безумии, в каком он живет? Не в первый раз за эти дни думает он о смерти. Но так получится хоть смерть из-за любви. Казнь легче, чем бесплодное прозябание. А так как на казнь их поведут вместе, этого требует закон…
При слове "казнь" губы ее искривила едкая улыбка.
– Все кончилось бы иначе, короче… – сухо возразила она.
Тут он окончательно вышел из терпения, взял ее одежду в охапку и яростно кинул в ларь. Потом сел на крышку и, постукивая башмаком в доску пола, устремил на нее злой, насмешливый взгляд.
– Через минуту здесь будет капитан с бирючами… Ты останешься так, как есть!
Она тихо села против него и погрузила долгий, спокойный взгляд в его глаза. Так они и остались сидеть.
В глубокой тишине сперва стали шевелиться их руки. Они неуверенно приближались друг к другу, отдалялись и опять приближались, наконец, еще не успев встретиться, замерли неподвижно, сломленные великой любовью, которой пылали друг к другу. Глаза, как потерянные, утонули друг в друге, но руки еще жили отдельно, пока она не сделала легкое, воздушное движение возврата, а он, охваченный жаждой этого возврата, не пошел ей навстречу. Еще немного, и они уже были рядом, но блуждали, не находя друг друга. Всплеск нового движения, и быстрая встреча их была как рыданье. И когда пальцы их снова сплелись и ладони поцеловались, тишина углубилась, доводя эту встречу рук до беспамятства. Потом зашевелились губы. Сперва это был шепот, как при засыпанье, – чары и легкость сна, но потом губы превратились в горячие угольки, пылающие набухшей кровью, которая пульсировала в лихорадочном напряженье, губы звали к себе, причитали, жаловались, рыданье и стон, блужданье губ было тяжелее блужданья рук, любовь моя! – шептала она, любовь моя, отчего мы так жестоки друг к другу, именно когда мы больше всего друг друга любим? Ах, – отвечал он, – как это прекрасно, я слышу твое желанье, как золотой благовест, как прекрасно, когда мы вот так, но прижмись еще тесней, еще тесней…
Когда они встали после нового объятия, она отошла к окну, поправила прическу и, словно вспомнив, что он перед этим выкрикнул о своей работе, прошептала:
– Лоренцо… я видела его…
Он стоял возле нее, держа зеркало.
– Кого? – спросил он.
– Того флорентийца.
Они говорили тихо, словно были не одни. Он отложил зеркало и взял ее в объятья.
– Где ты его видела?
– Я ходила к святому Доменико молиться. И потом осталась. Он работал. Ваял крылья… И еще несколько раз ходила туда.
Он молча гладил ее ладони своими. Вписанные в ладони черты и знаки их судеб соприкасались.
– Какой он безобразный! – сказала она.
– Он тебя видел?
– Нет, я не хотела, чтоб он меня видел. Я была в маске и плаще. Не надо, чтоб он меня узнал, если когда-нибудь встретит.
Коста вздрогнул, и длинная мучительная складка пролегла у него на лбу. Он явно хотел что-то сказать, но боролся с этим желаньем. Потом прошептал:
– Я хотел бы, чтоб он тебя видел…
Она подняла голову и вопросительно посмотрела на него, не понимая. Бегающий взгляд его уклонялся от встречи с ее взглядом. Он сжал руками виски и застонал. Тут она поняла, и глаза ее расширились.
– Ах! – вырвался у нее длинный вздох, и руки ее упали.
Он был бледен, у него дрожали губы. Лицо ее отуманилось глубокой, тяжелой печалью.
– Я люблю тебя больше жизни, Лоренцо, и сделаю это, – сказала она…
– Не знаю, что ты хочешь сделать, – прошептал он, – но я убил бы его и тебя, если б…
– Мы сегодня что-то слишком много говорим о смерти, тебе не кажется?
Он поднял сброшенную картину и поставил ее опять на постав. Услыхал, как она сказала:
– Чем он тебе мешает? Ты живописец, он ваятель.
Он снова взорвался:
– Нет, он тоже живописец. Он начинал в мастерской живописца. И потом… мне нужен Альдовранди, а старик после появления Микеланджело знать меня не хочет. Микеланджело нужно устранить, уверяю тебя, – так думаю не только я. Он мешает нам всем. Из-за него скоро никто из нас не получит ни одного заказа. Альдовранди все время обеспечивает его ими; если б у Бентивольо не было других забот, он давно привел бы его к ним – в их дворец, откуда мы все изгнаны, так же как из дворца Альдовранди. Старик спятил, а мы расплачиваемся. Вдруг в Болонье ни одного художника, кроме этого мальчишки! Он не только ваятель, он и живописец. Санути собираются поручить ему фресковую роспись своего дворца, член Совета Луиджи Феличини заказал ему большую картину. Нам, столько здесь поработавшим, остается только бросить кисти и смотреть, как он нас грабит. И Франческо Франча на днях тоже сказал: "Чем скорей Микеланджело умрет, тем лучше…"
– Мне холодно… – ответила она.
Она стояла перед ним, прямая, одетая в свою необычайную хрупкую, волшебную красоту, – завоеванье многих столетий.
Он подошел к ларю и подал ей одежду. Одеваясь, она говорила:
– Завтра Альдовранди устраивает у себя во дворце пир, на котором будем мы с мужем. Будет, конечно, и флорентиец. Он увидит меня там, но я еще утром пойду к нему после мессы.
Он опять прижал дрожащие руки к вискам.
– Если слово "смерть", – сказал он, – столько раз уже сегодня было словом нашей любви…
– …ну да, надо доказать это любовью, – ответила она.
На шее у нее была только одна драгоценность, которую она надевала, когда шла к нему, зная, что эта вещь ему нравится. Это была черная змея с золотой полоской, обвивающаяся своим длинным телом вокруг ее горла, почти прозрачно выделяясь чернотой своей на теплой розоватой коже. Золотыми зубами змея кусала свой хвост. Это было бесценное старинное украшение тонкой работы, вокруг него плелась какая-то темная легенда, и род Астальди приписывал ему такое значение, что оно передавалось от поколения к поколению, украшая даже мужских представителей рода. Коста не знал о поверьях, с ним связанных, но чем больше смотрел на него, тем больше изумлялся прелести и красоте этой редкостной вещи, и поэтому монна Кьяра охотно надевала ее – эту единственную драгоценность, которая была у нее не от мужа…
Теперь она стояла перед Костой, и веки ее дрожали. Он тихо промолвил:
– Если мы с тобой вместе, любовь моя, так уж будем хоть раз счастливы.
Тут лицо ее затуманилось. Может быть, так и в самом деле нужно, чтоб любовь их была полной… Ее залила темная, удушливо жаркая волна, и ей было сладко в этой волне. Она подняла тяжесть своих рук и возложила ее на Костовы плечи, а он обнял ее. Утопил губы в ее волосах, закрыл глаза, и в обоих стала проникать боль. Сперва пронизывала мелкими порывами, но потом стала усиливаться, расти. "Лоренцо! Лоренцо!" – шептали ее руки, сжатые на его волосах, а он скрывал лицо свое, искривленное болью, не в силах вымолвить ее имя, – так сжалось его горло, и боль превратилась в сокрушающий поток; они прижались друг к другу еще теснее, зашатались, закачались в объятии, пловцы боли, игралища ее волн, прерывисто дыша, пока три грохочущих удара в дверь не заглушили все, упав, словно три камня, неожиданно брошенных в этот черный поток.
Она отошла к окну. Он пошел, отворил. Капитан Гвидо дель Бене, увидев женщину, лукаво прищурился. Но коварная улыбка его перешла в изумление, когда он узнал жену своего командира. Патрицианка заморозила его изумление ледяным взглядом и продолжала рассматривать недоконченную картину "Вечери", хваля исполнение в тех модных выражениях, какие капитану приходилось слышать из уст знатных дам в церквах перед алтарными картинами. Потом она закончила переговоры с Костой о картине, которую собиралась поднести в виде сюрприза мужу, – с изображением Добродетели, венчающей Чистоту и Осмотрительность. Лоренцо учтиво поблагодарил богатую мадонну за внимание и заказ, обещая выполнить его как можно скорей. Потом он открыл настежь окно, и дневной свет, который вскоре медленно-медленно начнет клониться к сумраку, хлынул в комнату широкими струями. Это было как раз такое освещение, какое ему было нужно. Он учтиво попросил мадонну позволить ему приступить к работе; супруга верховного командира скьопетти, лестно отозвавшись о его искусстве, удалилась. Ее вежливо проводили оба – Лоренцо Коста и капитан, которому она тоже уделила несколько слов и улыбку. Капитан теперь уже понимал смысл этого посещения и глубоко стыдился своего недавнего непочтительного изумленья. Где же, как не у придворного живописца Бентивольо, должна была монна Кьяра заказывать подарок для мужа? Добродетель венчает Чистоту и Осмотрительность – предмет-то какой! И капитан, крутя усы, только приготовился сказать несколько галантных слов о добродетели и целомудрии, как вдруг…
Страшный, нечеловеческий крик разодрал тишину галереи, куда они вышли. Там, дико мечась среди конвойных, оторопело бьющих его плашмя копьями, взбесился злодей из подземелья – при виде женщины, которая остановилась, остолбеневшая, бледная, прижавшись к стене, чуть не впившись в стену своими длинными, стройными пальцами. Злодей был звероподобен, он выл, как волк, подняв скованные цепями руки, не чувствуя сыпавшихся на него ударов железом. Выпученные глаза его, словно рвущиеся из глазниц, куда их вогнали обратно после долгих мук в преисподней, пожирали горло этой женщины, теплое, розовое горло, с черным змеиным ожерельем, и Кьяра с ужасом смотрела на это чудовище, изловчившееся для прыжка даже под ударами. Она не закричала. Фиалково-голубые глаза ее побелели от страха. Лоренцо, подбежав, оторвал ее от стены и свел с лестницы, в то время как капитан, колотя злодея мечом, потащил его с помощью остальных в комнату.
В долю секунды перед глазами Лоренцо вдруг мелькнул образ двух ожерелий: изящное, черное, чеканное ожерелье женщины, произведение тонкой, старинной работы, с золотой отделкой, чернота которого обвилась вокруг горла, чтобы еще больше выделить нежный цвет кожи… и странное ожерелье мужчины, кровавая борозда, проведенная по дряблой коже горла, след боли, крепко врезавшийся круг от железного ошейника, прибитого к стене. На мгновенье мелькнул перед ним этот двойной образ, и в это мгновенье сердце в нем застыло, словно он приоткрыл какую-то глубокую тайну, насмешливо ощерившую на него свои зубы и снова исчезнувшую.
ЖЕНЩИНА В МАСКЕ
Их было три – и теперь их три. Клото начала прясть нить моей жизни, Лахезис продолжает прясть, старая Атропос перережет ее, – так говорил мне в свое время Полициано. Но никогда еще не слышал я прялку своей судьбы так ясно, как теперь.
Стоит мне минуту побыть в тишине, уже слышу. Веретено вертится, жужжит, шуршанье нити поминутно у меня в ушах. Великая пустота вокруг полна только этих звуков. И я все думаю о мало-помалу приближающейся дряхлой старческой руке седой Атропос.
Я еще не кончил своей работы. Ангельские крылья доделал. Но остается еще много другого. А мечты мои все возвращаются.
Пришла женщина. Мне девятнадцать лет. Пришла тихо, сперва, как тень, встала в церкви за колонной, я не видел ее, но моя тревога усилилась. Вдруг я почувствовал, до чего в церкви пусто, хотя на меня глядели со всех сторон фигуры святых. Но ее фигура была не из камня, и руки ее – не из холста и красок. Медленно подняв их, она сняла маску и плащ. Позади мерцали огни свечей. И я увидел, что эта женщина прекрасна. Длинные нити белого жемчуга в волнистых черных волосах, паутинное золото сетки. Под высоким выпуклым лбом сияли фиалково-голубые глаза. Цвет лица у нее был бледно-розоватый, нежный. Она спросила, нельзя ли ей поглядеть на мою работу, и мы заговорили о Флоренции. Она говорила о ней, как может говорить только женщина, которая никогда там не была, – как о мечте.
Я не знал, кто она, и подумал, что у нее, наверно, нет имени, в церкви было пусто, солнечный свет падал длинными волнами, – зачем ей имя? Она сложила свои длинные стройные руки на коленях, меж тем как я ударял по мрамору, осколки камня летели, как черный и белый снег, жемчуг в ее черных волосах дрожал при каждом наклоне головы, она говорила о Флоренции, а это моя родина.
Маска лежала у нее на коленях, плащ был небрежно свернут длинными мягкими складками. Почему она пришла в маске? Если забуду, так только не маску.
Она расспрашивала меня о моих прежних работах, о моих замыслах, спросила, будут эти фигуры из мрамора или из бронзы. Я ответил: "Как же я, человек из праха и пепла, могу создавать людей из мрамора и бронзы?" После этого она своего вопроса не повторила. Но я не хотел отговариваться. Я на самом деле так подумал. Ведь я действительно из праха и пепла, как все люди, и обращусь в прах и пепел. А мрамор и бронза – какая сила! Лишь помолчав, она встала – и словно ожило золото. Она спросила меня, не очень ли мне помешала и не забуду ли я ее. Так как она была слишком прекрасна, я ответил: "Если забуду, так только не маску".
Она быстро прикрыла ее руками и попросила, чтоб я объяснил, что хочу этим сказать. И тут я рассказал ей об Агостино, безумном сиенском ваятеле. Он тоже увидел женщину в маске, и она была прекрасней всех, но такой красотой, которая всюду сеяла несчастье и смерть. Но он не видел дальше этого, не видел, что красота этой женщины была только маской иной, непреходящей красоты, которую она хотела раздать, а не было никого, кто бы принял. И Агостино видел только красоту этой женщины, видел только свою мечту и не имел мужества развеять пепел ее усталости, тысячи обыденных дней, не видел дальше маски этой красоты, говорил только о своей боли, думал только о своей работе, о своем стремлении, – какая это была любовь? Он пал духом, ничего не создал, потерял сам себя. Оттого что видел только свою мечту, а не видел жизни этой женщины, не видел боли…
Вот что я ей сказал.
Тут она, ни слова не говоря, встала и торопливо ушла. "Чем я ее обидел? – думал я потом. – Чем рассердил? Придет ли она опять? Никогда больше не буду говорить при женщине о маске". Каменные фигуры святых глядели на меня со всех сторон, и я бил по камню, ваял крылья, пока не смерклось.
В тот же день я увидел ее опять. Снова огни многих свечей и золото, но на этот раз еще музыка – сладкие звуки флейт и виол. Она стояла гордая, величественная, тут я узнал ее имя. Вокруг нас было столько народа… вечером ей нужно было имя, ведь мы были не одни.
Рядом с ней стоял муж, держа ее руки, будто в кандалы заковал. Пояс его был усыпан квадратами драгоценных камней, ножны меча – как золотой слиток. Это военный человек, верховный командующий хорошо обученных войск, на знамени которых – три кровавых креста в лазоревом поле. Его кудрявые волосы уже тронуты сединой, глаза – суровые глаза воина. Своим властным голосом он спросил, как меня зовут.
Ее зовут Кьяра, она – из рода Астальди, древнейшего в городе. Юноши и старики обращались к ней с величайшим почтением, но она улыбнулась мне так, словно не гневалась и словно мы давно друг с другом знакомы. Подала мне бокал вина, – конечно, потому что я был единственным художником на празднестве. Альдовранди был очень доволен, говорил обо мне с многими стариками в пурпурных одеяниях. Хотя меня стесняло имя этой женщины, я изо всех сил старался участвовать в развлечениях, и скоро моя робость и стеснение растаяли в чаше вина; разговор стал непринужденным, полным шуток, и каждый мог видеть, что я получил хорошее воспитание при дворе Лоренцо Маньифико и усвоил там свойственную медицейской придворной жизни обходительность. И комплименты, которые я заслужил за изысканные манеры, порадовали меня, напомнив мне золотое время Лоренцовых празднеств и жизни во дворце Пьера. Было много выпито, а после пира молодой римский дворянин, кондотьер кардинала, научил нас новой игре, состоящей в том, что женщинам за вырез кидают сахарные шарики, и от желания и любезности женщины зависит, задержать ли шарик на груди, дав бросившему возможность вынуть сладкую награду обратно, или пропустить шарик дальше, чтоб он упал на землю, разбился и бросившему пришлось приобрести новый. Это веселая римская игра, сам святой отец и кардиналы играли в нее на свадьбе его дочери, мы очень смеялись, и так как после каждого кона все менялись местами, я несколько раз оказывался соседом этой женщины. И позабыл о своем уродстве.
Блестящий пир окончился шуткой, во время которой поцелуи, смех и вино били ключом вперемешку. Я вышел на балкон дворца. Месяц на небе был натянут, как лук Дианы.
Старик Альдовранди, которого я, как обычно, проводил в постель, был очень доволен и все время шутил. Улегшись, он приказал позвать лютнистов; пришли двое. Пока они играли какую-то песню, я читал ему книгу мессера Боккаччо. Потом предоставил его сновиденьям и ушел вместе с лютнистами, как если б был его слугой. Ночью мне опять снились Медицейские сады.
Теперь эта женщина приходит ко мне каждое утро, ждет, когда кончится месса, все уйдут и мы останемся одни. И мы с ней беседуем, пока я работаю. Я так жду ее прихода, что не делаю первого удара по камню, пока ее нет. Она выходит прелестной неторопливой походкой из глубины церковного нефа, хороша, как внезапно сошедшая с фрески и выступившая из темноты святая. Сядет, сложит руки на коленях и сидит так в колеблющемся у нее над головой свете свечей. Случается, что мы мало говорим, а она просто смотрит, и взгляд у нее темный, странный, какой-то уничтожающий. Бывают и такие дни, когда мы совсем не разговариваем. Я ничего не знаю о ее жизни, она сказала мне только: "Я передала твою историю об Агостино одному человеку, который тоже пал духом, думая только о маске красоты одной женщины, а не видел ее жизни…" "И что ж он на это?" – спросил я. Но взгляд ее потемнел, и она мне не ответила. Вот единственное, что я знаю о ее жизни.
Зачем она приходит? Хочет, чтоб я полюбил ее? Ждет, что в один прекрасный день я встану перед ней на колени и буду просить ее о любви, о том, чтоб провести с ней ночь? Не знаю, чего она ждет, но иногда она так растерянна, словно все представляла себе иначе.
Мы шли вместе по безлюдным улицам… но это был только сон. Я чувствовал ее теплые и будто прозрачные ладони в своей руке… это была уже действительность, не сон. Я наклонился к ее волосам, вдыхал их аромат и грусть, блуждал в них губами… но это был только сон. Она назвала мое имя… это была действительность, не сон. Я попросил, чтоб она повторила. Она тихо промолвила: "Микеланджело Буонарроти…" Что она этим хотела сказать? Просто назвать мое имя?
Зачем она приходит? Столько прекрасных, благородных юношей в городе, каждый из них гордился бы ее любовью, каждый был бы ей страстным, трижды пламенным и счастливым любовником. Почему эта женщина, самая прекрасная из всех, ходит именно ко мне, самому безобразному?
Однажды она пришла только вечером, когда церковь уже запирали, в сумраке она была как этот сумрак, но голос ее не был голосом вечерней женщины. Мы вышли вместе, и нам повстречался молодой римлянин, кардиналов кондотьер, потом еще кое-кто, – между прочим, живописец Лоренцо Коста, тот, что прислал мне тогда угрожающее письмо насчет того, что в Болонье ваятели скоро умирают, – встречались многие, которым она кивала в ответ на поклон. Мы с ней ни разу еще так вдвоем не ходили. И тут она вдруг спросила, не боюсь ли я мести со стороны ее мужа за эти наши встречи? Я возразил с улыбкой, что мы встречаемся в божьем доме и в этом нет ничего, что давало бы ее мужу повод к мести. Она ответила, что люди злы и, конечно, никто не поверит простым встречам в церкви. Это меня удивило, и я сказал, что мужу ее, конечно, известно, что она весь день делает и где бывает, он не станет верить наветам. "Нет, – возразила она, – муж мой совсем не знает, куда я хожу и где бываю, оттого что, вернувшись, никогда не застает меня дома, ведь я люблю другого, хожу к нему, и мы бываем там счастливы". Она долго молчала, предоставив мне до конца выпить чашу горечи и боли. Мы шли, и разные тени шли за нами, так как был вечер. После того как молчанье продлилось слишком долго, она вдруг спросила:
– Ты думаешь, почему я приходила к тебе, Микеланджело?
Но я всегда старался об этом не думать, всегда сознавал свое страшное безобразие и теперь не знал, что сказать ей о том, о чем никогда не умел сказать самому себе.
Я ответил:
– Не знаю…
Она поглядела на меня с изумлением, и я прибавил:
– Конечно, не затем, чтоб любить…
Потому что еще больше почувствовал свое безобразие, после того как она рассказала мне про любовника.
Но сейчас же обнаружилось, что я не должен был этого говорить. Оказалось, что этими словами я все порешил и покончил, что, ответь я иначе, все могло бы быть иначе, а теперь она больше никогда не придет и я останусь более одиноким, чем был в утробе матери.
Она ответила:
– Ты ошибаешься… но я скажу тебе все.
Однако я в эту минуту услышал только, что ошибаюсь, и передо мной вспыхнул новый свет, и голос ее проходил сквозь этот свет, проникнутый его трепетом и сияньем, а потом вместе с ним погас, и после того как она кончила говорить, все вокруг – и самый голос ее – приобрело цвет и вкус пепла.
– Я – любовница твоего врага Лоренцо Косты, – сказала она мне, – и приходила погубить тебя, Микеланджело. Потому что он так ненавидит тебя, что желает твоей смерти. Я должна была помочь и сама предложила свою помощь, видя, как Лоренцо, которого я люблю больше всего на свете, жаждет твоей гибели. Если б не я, ты, Микеланджело, был бы уже мертв, проглотил бы яд или был бы убит по дороге в церковь. Нет, этого не должно было произойти. И в эти дни, когда я к тебе ходила, в эти дни, Микеланджело, решился вопрос твоей жизни.
Она замолчала, и я ничего не говорил, только смотрел на женщину, которая говорила мне это и которая уйдет, хотя знает, что в эти дни, когда она приходила, была вся моя жизнь.
– Я вмешалась, – продолжала она. – Это не должен быть ни яд, ни кинжал, – смерть твоя должна была стать твоим позором. Ты должен был погибнуть на плахе, да, на плахе, как совратитель жены верховного командующего войсками города. Никто бы тебе не поверил, что я, Кьяра Тоцци, равная княгиням, сама приходила к флорентийскому бродяге, живущему здесь, в городе, просто из милости. Я, Кьяра Тоцци, обвинила бы тебя, что ты склонил меня к прелюбодеянию и принудил изменить мужу, командиру города. Не забывай, что ты – флорентиец, а значит – союзник французов! Где нашел тебя старый сумасброд Альдовранди? Может быть, ты пришел к нему и, как безвестный художник, сел с остальными за один стол с его челядью? Нет, он нашел тебя в тюрьме и вывел тебя из тюрьмы. Разве лицо твое не говорит о том, что ты головорез? Разве ты не пробрался в город без пропуска, без печати на пальце, утаив от караульных свой приход, флорентийский лазутчик? И вот ты нашел меня, замужнюю женщину, благородную патрицианку, которая ходит каждый день слушать мессу, молиться в ту церковь, где ты работал. И ты добился от меня измены и прелюбодеянья, пустив в ход колдовство, которому научился в Венеции, проклятое языческое колдовство, занесенное туда турками, за которое сожжено уже столько народа. Ты склонил меня к измене мужу и городу. Разве ты никогда не просил, чтоб я выведала у мужа, где более слабые места укреплений, и не старался выведать через меня сведения о численности вооруженных отрядов в городе, о скьопетти, о ключах от ворот? И не заклинал меня пустить тебя ночью ко мне в спальню, где находится в сонном виде, невооруженный, мой муж, начальник города, на чей военный опыт больше всего полагаются теперь Бентивольо? Это страшные вещи, Микеланджело, одной из них было бы довольно, чтоб предать тебя суду, пытке и казни. Ты должен был погибнуть на плахе, Микеланджело, твое произведение – разбито и уничтожено, никто бы не помянул тебя добром, все должно было быть стерто, и Коста с другими болонскими художниками должны были занять свои места, продолжать свою работу. А для тебя – пытки и плаха, и вот затем-то я пришла к тебе, Микеланджело! Я несла тебе смерть, я, Кьяра, я несла тебе пытку и вечное посрамление. Но ты стал мне мил, Микеланджело, своим прямодушием и чистосердечием. Ты – юноша, явившийся безоружным среди волков, ты первый раз – вне родного города и еще ничего не знаешь, думаешь, что весь свет как сады Медицейские, каждый правитель – как Лоренцо Маньифико, каждый город – как твоя Флоренция. Ты – в Болонье, не забывай – в Болонье, среди патрициев скиталец, среди граждан – всего-навсего пришлец, выведенный из тюрьмы. Но мне было хорошо с тобою, ты был не такой, как те, другие, вокруг меня… ты никогда не падал передо мной на колени, не просил любви и ночи… всегда хотел только одного: чтоб я приходила… никогда не говорил о других презрительно или с ненавистью, что они занимают твое место, никогда передо мной не заносился: как я, человек из пепла и праха, могу ваять людей из бронзы и мрамора?.. Никогда не говорил мне, что я прекрасна… Почему ты мне этого не говорил?.. Я знаю: Агостино да Уливелло…
От этих ее слов я чувствовал огонь в сердце и лед в жилах. Шел рядом с ней – и был только живой камень, который движется. А пепел ее слов продолжал падать.
– Я – любовница Лоренцо Коста, но не предам тебя, Микеланджело! Ты должен мне в этом помочь. Твоя работа в Сан-Доменико почти окончена. Беги! Не принимай больше заказов ни от Феличини, ни от Санути, уезжай из города как можно скорей! Спасай свою жизнь, Микеланджело!.. Ты здесь обманулся во всем… Во всем! Ты мне мил своей чистотой и прямодушием, своим чуждым лукавства сердцем, своей детской простотой мил ты мне, Микеланджело, и я прошу тебя: беги, уезжай, не оставайся здесь больше ни мгновенья! Великий покой был всегда вокруг нас, понимаешь, и свет свечей; ты всегда хотел только одного: моего присутствия; такая большая печальная свеча горела всегда у нас – помнишь, ты говорил, какой у нее печальный свет… Так ты говорил, свет ее был легче моего желанья, слабей моей мечты… Беги! Поезжай опять во Флоренцию и никогда больше не возвращайся в Болонью! Заклинаю тебя, опасность велика, уезжай во Флоренцию; где хочешь ты еще странствовать, где хочешь, чтоб совершилось то, от чего ты бежишь из Болоньи? Верь знаменьям! И не забывай, что Болонья встретила тебя темницей! А я, Микеланджело… – она остановилась, голос у нее упал, – я… Предоставь меня моей судьбе. Но, Микеланджело… – Она опять остановилась, не хотела говорить, но пришлось докончить, затихла, прошептала: – Может, ты и забудешь меня, но не мою маску…
Потом она ушла – и наступила ночь. Я знал, что больше никогда этой женщины не увижу.
Была ночь, не черная, а синяя. Кажется, никогда я не видел столько звезд. Долго стоял я на балконе дворца и глядел на темный город, сто раз испытывая желанье побежать за ней, разыскать ее где-нибудь, завернуть в черный плащ, покрыть ей лицо маской и куда-нибудь ее увезти, куда-нибудь далеко – в Лукку, Сиену, Флоренцию, Венецию, Неаполь, Рим… Сто раз хотел пойти – и не пошел.
Была синяя ночь. Пепел ее слов все лежал на моих губах, руках и сердце. Тень прошла под балконом, шагая. Остановилась и поглядела на меня. И я был для этой тени лишь тенью, хоть она хорошо знала, кто я, а я о тени не знал ничего, только говорил себе: тень. Она была для меня тенью, а я для нее именем. Тень стояла и смотрела на меня вверх, а я на город и на нее. Потом она исчезла, как исчезают тени, а я еще долго стоял.
Ночь, и я слышу, как веретено крутится, жужжит, шуршанье нити все время у меня в ушах, по небу падают звезды и тонут в его синей глуби, серебряная волна их полета лишь ненадолго всколыхнет гладь ночного небосклона, веретено крутится при падающих звездах. Три было – три есть. Я чувствую прикосновенья жизни так полно, как они касаются нити своими искусными пальцами, одна выпряла, другая продолжает, третья, старая, перережет в срок, веретено жужжит, я и ночь…
Я и ночь – как столько уж раз. Но до сих пор никогда не слышал я прялку своей судьбы так внятно, как теперь…
ПУТИ ЗАМЫКАЮТСЯ
На другой день утром Микеланджело опять пошел в церковь Сан-Доменико. Не мог не пойти, хоть знал, что будет один. Но он оказался не один. Перед решеткой главного алтаря стоял человек, погруженный в усердную молитву. Согнувшись, будто надломленный, он окаменел в своей скорби, локти тесно прижаты к телу, руки так судорожно сложены вместе, что даже побледнели, как у утопленника. За время своей работы здесь Микеланджело видел много молящихся, наблюдал разные способы молиться, была война – и каждый обращался к богу по-своему, но ни разу не видел он, чтоб молились так. Этот человек боролся с богом. Он решил не вставать, пока не получит знаменья, что его молитва услышана, и, видимо, был готов тут же умереть, если она окажется напрасной. Человек заставлял бога, чтоб он его выслушал и помог ему. В слезах, с руками, почти сломанными судорожным сжатием ладоней и локтей, он вел с богом великую борьбу, веря в победу. Прошло несколько часов, прежде чем он поднялся, опершись обеими руками о решетку и слегка пошатнувшись от слабости, вызванной долгим стоянием на коленях. Свет упал на лицо его, и Микеланджело, который был занят полированием изваянной поверхности своих статуй, отбросил инструменты и, вскрикнув, кинулся к нему. И заплакал, словно увидел родного брата просящим милостыню или закованным в кандалы.
Пьер! Пьер Медичи, князь в бегах!
Пьер тоже узнал его и крепко его обнял, назвав по имени. Пьер Медичи, но уже без панциря. Церковная скамья стала местом отдыха изгнанников, они уселись на ней рядом – один, изгнанный страхом и тревогой, другой изгнанный народом. Пьер, мечтавший о тирании, сидит теперь здесь – с лицом, побледневшим от молитв, Пьер, скитающийся из города в город, бездомный Медичи. Церковная скамья – отдых от боли. Разодранная одежда, хоть и дворянская. Плащ правителя в лохмотьях, будто разорван зубами собак, опален огнем ночных костров или пламенем преисподней… В таком виде дважды предстал Лоренцо Маньифико перед Кардиери, и в таком виде сидит здесь Пьер на церковной скамье, заливаясь слезами и уже без лат. Сон в руку… Церковная скамья, отдохновение от страданий, дерево под упавшими руками беглецов. А вокруг глубокая тишина, сквозь оконные витражи входит и падает свет тропинками, ведущими либо ввысь, либо под каменные плиты, к дворянским гробам, – тропинки, полные благоухания цветов, кадильного дыма, пыли и молитв. Сердце бьется в груди, словно красные крылья, жаждущие взлета. Распятие.
– Меня прогнали, – бросает с ненавистью Пьер. – Прогнали, когда Карл стал подходить к Флоренции. Им уже мало было Медичи, они сделали своим королем Христа. Бог царит всюду, но во Флоренции ему пришлось поделиться властью с Карлом… Там ревели: "Христос… король Флоренции!" – а приветствовали этим возгласом Карла. Христос должен был позаботиться о городе, сданном французам!
Голос Пьера срывается, и сжатые руки его уже не руки молящегося.
– В Пизе, как сигнал к восстанию, опрокинули и вдребезги разбили флорентийского льва, а на его место поставили статую Карла. Меня изгнали, изгнали из Флоренции, я оставил там жену и мать. Поехал к Карлу, в его лагерь.
Микеланджело опустил голову. Медичи… просит Карла Восьмого принять его в свое подданство!.. Нет, ничего не осталось от жизни и дела великого Лоренцо!
– Я хотел, чтоб он вернул мне Флоренцию, дав подавить там восстание. Король охотно меня выслушал. Ему лучше было иметь дело со мной, чем с этим одержимым монахом! Но не успели мы начать переговоры, как во французский лагерь явился сам Савонарола с этим самозваным гонфалоньером своим Каппони. Он сдал королю Флоренцию без всяких условий, и король обезумел от восторга, слушая вещания монаха о хищных зверях, огненных карах и конце света.
Пьер встал, сжав кулаки.
– Я не монах! – крикнул он, посинев от бешенства. – Я не умел рассказывать королю о змеях, чудовищах, драконах и знаменьях. Поэтому, пока король слушал о звере, несущем чашу, полную блудодеяния, я вел переговоры с его маршалом Жье, генералом де Бокэр, синьором Филиппом де Коммин, людьми разумными и осмотрительными, но они не хотели давать мне никаких обещаний без гарантий со стороны короля. А король в это время, разинув рот, слушал Савонаролу и никого к себе не пускал, стараясь научиться пользоваться молитвенником. Мне стало жаль потерянного времени. Славный союз: король-юрод и сумасшедший монах. Я их обоих бросил и уехал – знаешь куда? Во Флоренцию!
Блеск, свет, сиянье. Это имя озарило лица обоих, прозвучав как набат.
– Во Флоренцию! Воспользоваться отсутствием Савонаролы и этого… этого Каппони. Во Флоренцию, где одним духом произносят имена Брута, Кассия и короля Христа. Все было хорошо подготовлено, мои отряды совершали переходы только ночью, никто нас не видал, когда мы раскинули лагерь среди холмов за городом. Брат Джованни, кардинал, которого народ любит, должен был обратиться к нему из окна дворца, перед тем как я дам сигнал своим воинам, стоящим у ворот. Но первая, кого я увидел, войдя в город, была…
И Пьер дрожащими руками закрыл свое лицо.
– Кто? – воскликнул Микеланджело.
– Та женщина… – сокрушенно прошептал Пьер. – Ну та, знаешь… Юдифь, Донателлова Юдифь…
Микеланджело понял. Все дурное, что случалось когда-нибудь с Медичи, они приписывали влиянию этой статуи. После восстания Пацци ее хотели совсем разбить. Но Лоренцо Маньифико никогда не позволил бы разбить Донателлову статую, хоть и приносящую несчастье. Поэтому ее удалили: убрали с площади и спрятали в глубоких подвалах дворца.
– Юдифь! – продолжал шепотом Пьер. – Ее нашли при захвате дворца и опять поставили на площади. И сделали надпись. Написали под ней: "Exemplum salutis publiсае". Бешеные псы! Сволочь! Висельники! Написать под ней: "Пример общественного спасения!.." Эта женщина вздымает отрубленную голову, подняла меч, а для мерзавцев тут – пример общественного спасения… Юдифь! "Чего здесь нужно Медичи?" – крикнула она, тараща на меня глаза. "Чего здесь нужно Медичи?" – как загремит по всем улицам! Я побежал к дворцу, а на кампанилле уже загудел всполошный звон, стали сбегаться цеха, вооруженные до зубов, все улицы и площади заняты… брат Джованни, кардинал, встал у окна, хочет говорить – его забросали каменьем… никогда не забуду: брат, в кардинальской мантии, стоит у окна, делает крестное знаменье, а на него град камней… Он отошел весь в крови и пал духом, сорвал пурпурную мантию, надел рясу доминиканца. У него тоже было приготовлено! И бежал в таком виде, единственно возможном в обезумевшей Флоренции… И знаешь, куда бежал кардинал Медичи? В Савонаролов монастырь, в Сан-Марко бежал! Так и выбрался из города лжедоминиканцем… И тут я понял: пришел конец.
Он умолк и прислонился лбом к дереву скамьи, так что ребро ее оттиснуло ему борозду на лбу. Воспоминания мелькали отрывочные, беспорядочные, стремительные.
– Я остался один… как есть один… Биббиена бежал с братом Джованни, значит, тоже заранее приготовил рясу доминиканца, не знаю… так они в меня верили! Все разбежались… и тут я решил: пускай меня убьют… Медичи должен пасть мертвым на улицах Флоренции, и я хотел умереть так… вынул меч из ножен и вышел на улицу, один как перст… "Вон он! Вон он!" – заревела при моем появлении статуя Юдифи, кинув в меня, как камнем, отрубленной головой и взмахнув в мою сторону мечом… Я не затем вышел, чтоб воевать против призраков, не умею рубиться со статуями… Меня обуял страх… Я побежал… Какой-то песковоз перешиб мне меч одним ударом своего острого заступа… "Вон он! Держи!" – ревела статуя… Я бежал, они гнались за мной, воя, как псы… Я добежал до ворот – оборванный, ободранный, истерзанный, обожженный… На углу Бадии стоял человек!.. Я мгновенно узнал его… Он не погнался за мной, только смотрел… Его зовут Макиавелли… Подбежал ко мне и шепнул: "Золото! Ведь у тебя есть золото, Медичи!.." Я понял, кинул им свои дукаты… золотые пряжки… цепь, перстни… бриллиантовую пряжку с шляпы… Между ними поднялась драка, но они продолжали погоню… однако это все-таки их задержало… Я никогда не забуду этому человеку… Ворота были полуоткрыты… Копейщик метнул в меня свое копье и хотел задвинуть засов… Я стащил с пальца последний перстень… отцовский подарок, подарок Лоренцо Маньифико… схватил его копье, а ему кинул перстень… Драгоценный камень заиграл на солнце…. Он жадно схватил перстень, замешкался, не успел задвинуть засов… Я выбежал, а за воротами уж ждали мои всадники, привлеченные всполохом… и я спасся…
Голос угас. Тишина церкви сгустилась.
– Так бежал Медичи из города, который отец его сделал первым городом в Италии! – воскликнул Пьер. И с угрожающим, яростным, мстительным жестом выплюнул одно только слово: – Савонарола!
В этом выкрике была ненависть, подобная пламени, ненависть безмерная, нечеловеческая, полная по самые края жажды мести, ненависть, пожирающая и сжигающая, ненависть, раскаленная добела и беспощадная, готовая в эту минуту, не будь они сейчас в доме божьем, призвать самого дьявола на помощь.
– Савонарола!
Он повторял это имя, не зная, как утолить свою жажду мести. Повторял, словно пил кровь, сладкую и приятную на вкус, словно желал еще больше распалить свое сердце. И это имя закружилось в воздухе и свилось в петлю.
– Теперь я – гость Бентивольо. Но надолго ли? – промолвил он с горькой улыбкой. – Ни один тиран не любит, чтоб у него в городе жил изгнанный правитель. Я уеду не нынче-завтра. В Венецию. Но пока жив, не перестану биться за Флоренцию – и выйду победителем!
– Я приехал из Венеции… – прошептал Микеланджело. – Просто удивительно, правитель, как наши пути скрестились…
– Твои пути будут всегда перекрещиваться с путями Медичи, Микеланджело, – глухо промолвил Пьер, так, словно среди своих несчастий получил дар пророчества.
У Микеланджело мороз пробежал по коже.
Пьер встал.
– Оставайся здесь, Микеланджело, и радуйся, что ты здесь. Что тебе делать возле изгнанного правителя? Ты не политик и не воин, я не могу ничего поручить тебе, а было бы слишком большой роскошью, если б я вздумал и в бегах возить с собой художника. Тебе надо работать, делать свои статуи из камня и снега, ты – художник! Одно только тебе советую: никогда не возвращайся во Флоренцию! Радуйся, что нашел здесь приют и покой для работы, не возвращайся во Флоренцию, там ты найдешь смерть. Французы жестоко расправились с городом, который добровольно им сдался, управляют при помощи казней и погромов…
В голосе Пьера опять послышался гнев.
– А знаешь, кто первый изобразил на холсте разбойника Карла, который называет себя стражем флорентийской свободы? Знаешь кто? Кто первый из флорентийских художников плюнул на память Лоренцо Маньифико и начал прославлять своей кистью французского захватчика? Кто изобразил торжественный въезд Карла Восьмого во Флоренцию? Твой друг, Микеланджело, тот самый Франческо Граначчи, за которого ты так меня просил, чтоб я позволил ему вернуться к моему двору, – без него ты не хотел даже прийти ко мне, этот самый друг свой Граначчи – вот кто изобразил!
Пьер схватил Микеланджело за руку.
– Поедешь во Флоренцию – поедешь на смерть. Народ опять взбунтовался, французы выступили дальше, на Рим. В городе смятение, но всех объединяет одно: ненависть к Медичи. И ко всему, что когда-нибудь было медицейским. А ты был медицейским, Микеланджело, этого тебе никогда не скрыть, и кому же это известно лучше всех, как не Савонароле? Что ты там будешь делать? Там опрокидывают статуи, жгут картины и библиотеки, истребляют искусство. Ради этого ты вернешься? Ты не успеешь взять резец в руки, как они вырвут его у тебя и отправят тебя на плаху, да, да, на плаху, потому что ты медицейский, служил Медичи и бежал, когда во Флоренции было создано королевство Христово. Куда угодно, только не во Флоренцию, ставшую городом убийц, плах и сумасшедших!
Лицо Микеланджело стало пепельно-серым.
– Оставайся в Болонье, – продолжал Пьер. – От души советую. Ради памяти отца своего советую, он тебя любил, и я тоже тебя люблю, ведь я тебя первого призвал к своему двору после смерти Лоренцо, дворянина своего послал за тобой, от души советую, ты, можно сказать, еще мальчик, пропадешь там среди этих бурь, средь этой сумятицы, в которой дело идет о жизни, ты не способен к подлости, у тебя не такой характер, как у того же Граначчи, ты не запоешь у костра от восторга, что там горят творенья Мантеньи и Боттичелли, нет, ты там пошел бы навстречу гибели, радуйся, что ты здесь, в Болонье, где тебя любят, где все тебя ценят, где у тебя заказы, свободный выбор работы, – как искушенный, страданьем искушенный человек советую: никогда не покидай Болонью!
Микеланджело молча подошел к алтарю. И опустился на колени в том месте, где прежде стоял на коленях Пьер. Сложил руки.
– Савонарола! – услышал он за своей спиной полный ненависти возглас Пьера. – Ты бы попал не в королевство Христово, а в сумасшедший дом. Флоренция… единственная союзница французов! Но скоро вся Италия восстанет против французов, и тогда – горе Флоренции! И ты хочешь туда вернуться? Савонарола! Страшна сила безумия! Ах, Флоренция! Моя Флоренция! Что с тобой сделали!
Крик его сорвался в такое горькое рыданье, что больно было слушать, словно тебе в сердце воткнули добела раскаленный кинжал. Мужчина плакал!
Микеланджело прижал локти к телу, сложив руки для молитвы. Позади, опершись лбом о ребро церковной скамьи, плачет Медичи, плачет правитель Пьер, изгнанник, плачет о Флоренции. Плачет оборванный, в лохмотьях, потому что сон в руку, плачет, кусая свои кулаки воина, чтоб заглушить собственный плач,- это всхлипыванье и рыданье человека в бегах, стон, вломившийся в тишину храма, это слезы человека, лишенного власти, вопль беглеца, порыв тоски, тем более жгучей, чем прекрасней родина. Камни. Стены. Неподвижные статуи святых.
Это только статуя Юдифи орала на правителя, который хотел с мечом в руке отвоевать обратно свой город. Здесь ни один из каменных святых не открыл рта и не крикнул: "Смотрите, вон он – Медичи!" Подняв орудия своей пытки, они глядели на стенающего. Это только статуя Юдифи издала голос, подала команду к восстанию. А эти молчат, молчат – и только.
Оттого так громко звучали молитвы и плач. Видимо, нужно было, чтобы сетовали здесь человеческое горе и потерянность, чтоб оценены были эти одинокие слезы, чтоб услышано было имя божие из человеческих, а не из каменных уст. И вот оно поднялось, запылало. Уста человеческие повторяют его. Оно наполнило весь храм. И статуи, составляющие ему ослепительную небесную свиту, глядели на человека, который правил, был изгнан и теперь в молитвах своих боролся с богом. Может быть, они сами тоже молились вместе с ним, но так, что каменная грудь их принимала, как удары, то, что не смело взлететь с его языка до неба, унижая милосердие божье. Конечно, они молились. Но человек не слышал. Микеланджело прислонился лбом к решетке перед главным алтарем. И стоял так долго, очень долго. А когда потом встал и хотел заговорить, обнаружил, что он – один. Пьер ушел, не простившись с ним. И Микеланджело вышел из храма, оставив там свои инструменты. Так, погруженный в раздумья, дошел он до укреплений.
На башнях Болоньи било полдень…
Старик Альдовранди сидел за столом в напрасном ожидании. Потом с досадой начал обедать один, послав в храм слугу. Но тот вернулся без Микеланджело, с одними оставленными инструментами. Мессер Альдовранди еще больше нахмурился. Последнее время Микеланджело внушал ему все больше тревоги. Юноша забыл. Он забыл, что у него лицо мордобойца. Ищет любовных приключений, совращает замужнюю женщину. Забыл, что из-за женщины ему уже пришлось оставить Флоренцию, – хочет теперь, чтоб из-за женщины пришлось оставить Болонью? А главное, забыл, что освобожден им, Альдовранди, из тюрьмы и должен испытывать к нему великое чувство благодарности. Он до сих пор ни словом не намекнул, что хотел бы сделать его статую из мрамора или бронзы. Забыл, что все художники, бывшие гостями благородного члена Консилио деи Седичи, первого среди патрициев, с готовностью, без малейшего ропота обогатили его прославленные собрания своим искусством. Видно, считает себя выше Якопо Кверчи, Франческо Коссо, Марсилио Инфранджипани. Томассо Филиппи, Симона Мааруччи, Антонио ди Пулья дель Арка, Лоренцо Косты и всех остальных? Я много слышал о тебе, Микеланджело, но не знал, что ты неблагодарный… Вот для Лоренцо Маньифико ты бы, наверно, охотно, с радостью стал творить, а ведь он не спасал тебе жизни… Но если – для Лоренцо, так почему – не для меня?
Покинутые инструменты! Совсем как спустя несколько вечеров была покинута книга Данта. О чем он думает, этот юноша? Стихи читает с таким видом, словно это какая-то повинность, как слуга, на которого возложили тяжкую обязанность.
Покинутые инструменты, покинутые книги, а теперь вот – покинутое место за столом. Что же, я должен есть один, как купец, который – проглотил еду и скорей опять в лавку? Узкой дряхлой рукой Альдовранди расправил свою белую бороду и засмотрелся на занавесь, где нагота Ариадны сияла, как солнце на темном фоне скал и бушующих волн. Прекрасное произведение, купленное его агентами в Равенне, – из собраний знаменитого семейства Нелли, все члены которого были убиты французами. Последний в роду – Орацио Нелли – не хотел отдавать эту занавесь, хоть за нее было уже заплачено, но старик Альдовранди так страстно желал обладать ею, что добился заключения Орацио Нелли в тюрьму, пока тот не отдаст купленного. На третий день своего заключения Орацио Нелли умер от полученных ран, и на этом история с Ариадной кончилась, так как занавесь была найдена под кучкой камней у него в саду. Альдовранди очень любил это произведение. Не уставал восхищаться – и занавесью и Ариадной. Ариадна, гибкая, стройная, выставляла свой обнаженный юный торс, изнемогающая от скорби, прелестная и в слезах, обрызганная, словно поцелуями, каплями морской волны. Изгибала свои влажные девичьи бока, простирая нежно-страстным, ласкающим движеньем нагие руки вдаль. Ариадна рыдала, покинутая героем. Альдовранди опять расправил бороду узкой, худой рукой и стал мечтать. У покинутой возлюбленной на занавеси было такое милое, трогательное выражение лица и до того естественное, что, наверно, взято с натуры; это лицо и обнаженное тело воспроизводили, конечно, какую-нибудь девушку, жительницу Равенны, и тогда понятно, почему юный Орацио не хотел отдавать занавеси, хотя за нее было уже заплачено, и предпочел отправиться в темницу, где на третий день умер от ран. Альдовранди, зажмурясь, стал думать о живой Ариадне, Ариадне равеннской, передавшей свое лицо и фигуру вот этой, искусно вышитой и ослепительно нагой на темном фоне скал и моря. Оставленная героем, она зовет его обратно – движеньем, полным воспоминания, обетов и страсти. Тезей уехал, он должен был уехать, исполняя свое предназначенье. Но почему должен был уехать молодой Орацио Нелли? Какая сила разлучила этих любовников? И тогда Орацио велел хоть вышить лицо и тело этой девушки… Погиб в темнице, не желая отдать занавесь. Альдовранди надменно улыбнулся. Если б не он, занавесь давно бы уж была отвезена на хребте какого-нибудь Карлова мула во Францию. А он сохранил ее для Болоньи. Для той Болоньи, которая, благодаря его усилиям, станет итальянскими Афинами, переняв наследье Флоренции… Нет, никогда высокородный член Консилио деи Седичи не впустит сюда какого-то юродивого монаха, чтоб тот начал жечь и уничтожать произведения искусства! Альдовранди представил себе на минуту, как желтая костлявая монашеская рука раздирает напряженное девичье тело Ариадны, и вздрогнул. Это было не только смешно, но и отвратительно!.. Нет, сюда Савонароле заказан вход! Альдовранди вспомнил проповедь, которую читал ему Микеланджело. Выкрики, вспышки, путаница мыслей, зловещие предсказания, все в кучу, без склада и лада, бред сумасшедшего… В любой черточке этого прекрасного лица, в мягком вздымании милых молодых грудей, в широком мановении воздушного жеста рук и трогательном наклоне девичьей головы больше одухотворенности, чем во всех Савонароловых проповедях!
И в его мечтах лицо на занавеси вдруг изменилось. Глаза старика, затуманенные продолжительным рассматриванием, вдруг увидали, что черты эти становятся знакомей. Он узнавал это лицо. Вытянутое тело ее задрожало, как тогда. Глаза, в которые он глядел так часто, послали ему тот знакомый, любимый, жаждущий взгляд. И в Болонье тоже жила Ариадна, оставленная Тезеем, который должен был ехать дальше, исполняя свое предназначенье. И старик дряхлыми губами невольно прошептал стихи, распевавшиеся в дни его молодости студентами Болоньи:
Pinge, precor, pictor, tali candore puellam,
qualem pinxit amor, qualem meus ignis anhelat.
Прошу тебя, художник, изобрази ее такой, какою изобразила моя любовь… Резким движеньем ладони он стер призрачное виденье с глаз. Допил бокал сладкого вина и встал. Медленно, чинно перешел через всю комнату к окну и стал смотреть на улицу. Она была пуста. Микеланджело все не идет. Значит, его нет и на месте работы, в церкви Сан-Доменико, потому что – вот его инструменты, лежат на столе возле его пустой тарелки. Где только шатается этот юноша, этот неблагодарный художник?.. Терпеть не могу неблагодарности, – ведь это особый вид пренебреженья, а никто не смеет пренебрегать мной, Альдовранди, первым среди патрициев, членом Консилио деи Седичи, к голосу которого прислушиваются даже синьоры Бентивольо! А в лице юноши часто можно видеть пренебреженье: всем – и мной и Болоньей! Что он, собственно, пока создал? Только доканчивает надгробие, бессмертное творение моего дорогого Никколо, чьи руки я держал в своих, когда он умирал… А самостоятельного он ничего здесь не создал. Не переоценивал ли Маньифико своего художника? Не обманули ли меня мои агенты? Мне уж несколько раз приходилось вносить поправки в их сообщения. Действительно ли Микеланджело такой выдающийся художник? И нужно ли моей Болонье учиться пониманию искусства у этого флорентийца? А остальные художники уже ропщут, я не смогу больше держать его при себе, и справедливо ропщут, – они платят подати, а он нет, они не получают заказов, а он получает, ропщут справедливо.
Художники умирают, а я живу. Правители теряют власть, женщины красоту, только я продолжаю жить здесь и ревниво охраняю то искусство, что живет здесь со мной. Женщина на занавеси, эта живая женщина – после нашествия французов уже мертва либо опозорена, уничтожена. Та, прежняя, болонская, со своим жаждущим взглядом, – мертва, она умерла семнадцати лет, стянув себе горло своими длинными волосами, когда… не вернулся тот, который должен был, исполняя свое предназначение, поехать поучиться и в других местах искусству управления городом. Правители теряют власть… Известия, полученные нынче Советом, ужасны. Французы уже под самым Римом, и государство неаполитанских арагонцев рухнет, Неаполю не удержаться без Рима. Нынче ночью зажгу все огни в зале с моими коллекциями и буду ходить среди них, порадую душу зрелищем их красоты, которая не может погибнуть. По гладким телам статуй, по мягким тонам картин будут бродить огни и мои ласкающие взгляды, по нежной седине перламутра, по эмали и золоту, по формам, созданным порывистым восторгом и благородным усилием художника, по формам, выплавленным жаром его души и огнем его страстных порывов, и в этом бдении я забуду обо всем, о своей старости, о смерти женщин, о гибели семейств и городов, об обмане неблагодарного Микеланджело… Может быть, его теперь не было бы на свете, если б я его не спас. А как он мне отплатил? Художники умирают, а я живу. А в Болонье ваятели умирают скоро. Он много узнал бы, если б был внимательней ко мне… Когда он вернется, я равнодушно выслушаю его извинения, пройду снисходительно мимо его неблагодарности… А вон там, на камине, уже лежат тридцать золотых дукатов ему за работу и готовая подорожная… До сих пор ни один из дорогих моих художников, которых я кормил, одевал, которым покровительствовал, устраивая заказы и новые работы, не держался по отношению ко мне так, как этот флорентиец. А какие среди них имена!
Старик медленно отошел от окна и опять сел в свое высокое тяжелое кресло перед занавесью. В этот послеобеденный час он привык беседовать, развивая на сытый желудок свои взгляды насчет приятной, гармонической и благородной жизни. Он гордился своими способностями хорошего рассказчика, умеющего сочетать поучения философов с выводами житейской мудрости и данными жизненного опыта и выбирать выражения, отрадные для слуха. И слушал его не только Микеланджело, – сам старик с удовольствием слушал себя, любуясь изяществом своей речи, тонкостью и возвышенностью своих мыслей. А теперь вот сиди, раздосадованный, один, подперев голову рукой, и злись на неблагодарность флорентийца, искусство которого ты переоценил… Один.
Вдруг старика охватил непонятный страх, не является ли этот час лишь предвестьем многих таких часов в будущем. Ему показалось вдруг, что дом его опустел, радости увяли, как женщины и власть князей, показалось вдруг в праздности медлительно влекущихся часов, что больше никто никогда не придет порадовать его и развлечь, что ни один художник больше не обратит внимания на старика, который всегда кичился тем, что в эти смутные времена, средь военных бурь, верно охраняет их наследство. Он слишком стар. Может, сделался даже смешон своими взглядами и стремленьем поставить Болонью в отношении искусства выше всех других городов, может, никто не будет о нем знать, забудут о нем, драгоценные собрания его будут раскуплены чужими агентами, так же как он все это покупал, а пройдет время – никто и не вспомнит о патриции Альдовранди, члене Консилио деи Седичи… Микеланджелова непочтительность, быть может, только первое предупреждение. Имя Альдовранди так и не станет золотой монетой для художников. Найдутся другие меценаты, другие покровители, – они с усмешкой будут проходить мимо его дворца, а он будет сидеть там, состарившийся, с душой, удрученной заботами, сжимая дряхлыми сухими руками подлокотники кресла, зябко кутаясь в свой пурпур, один…
Неужели он уже старый? Он устало уронил руки на колени, в складки одежды. Солнечный свет широким потоком падал на него, на богато убранные стены, на занавесь, на золото и серебро сосудов, на бокал с сладким вином, который он снова наполнил. Как это там в той старой студенческой песне, которую пели в Болонском университете? Он вспомнил последний стих:
Si bonus es pictor, miseri suspiria pinge…
Да, так она кончалась. Если ты хороший художник, изобрази и вздохи несчастного!.. Альдовранди задрожал, словно ему даже на жарком солнце было холодно, и закутался поплотней. Ах, как бы разрушить это одиночество, такое непривычное! Так вот она, благодарность Микеланджело, вот творение, которого он от него ждал, вот единственный его подарок: одиночество.
Что ж, хорошо, запомню.
И отблагодарю соответствующим образом. Подведу черту под своими отношениями с Микеланджело. Оставленные инструменты, оставленная книга, оставленный стол. Если б хоть только одиночество!.. Сердце старика сжалось от тоски. Он – один перед занавесью, сверкающей под яркими лучами солнца. Он не дал увезти эту вещь во Флоренцию, а теперь ему хотелось закрыть лицо руками, но он не мог, он должен пялить глаза на занавесь, горько жалея, зачем помешал ее уничтожить, увезти, дать ей затеряться где-нибудь в королевских коллекциях… А Орацио Нелли умер третьего дня от ран, не желая выдать занавесь… Ради чего равеннскому Тезею пришлось разлучиться со своей Ариадной, вечно зовущей его назад невыразимо сладостным и тоскливым взглядом?.. А та, другая, болонская, сдавившая себе горло узлом своих длинных волос… Как это возможно, чтоб лица были так до ужаса похожи?
Солнечные лучи ударили в занавесь, вызвав игру линий и красок. Старик вскрикнул. Старик и девушка глядели друг на друга.
БЕЗДОМНЫЙ БРОДЯГА
А в это время Микеланджело, так напрасно ожидаемый, шел от южных ворот обратно в город – в сопровождении двух человек. Молодой римлянин, осматривавший вместе с верховным командующим скьопетти Асдрубале Тоцци укрепления, заметив бродящего вдоль стен Микеланджело, указал на него командующему гарнизоном, и оба очень смеялись. Потом Тоцци подошел к нему и строго потребовал следовать за ними. По дороге римлянин спросил, известно ли Микеланджело, что Пьер Медичи – в городе, на что Микеланджело ответил, что уже говорил с Пьером Медичи в храме Сан-Доменико. Оливеротто да Фермо опять засмеялся:
– Кажется, мессер Буонарроти, вы сделали храм Сан-Доменико местом самых важных своих свиданий!
– Я вижу, – с удовлетворением заметил Асдрубале Тоцци, – ты не едешь с ним. Значит, бывший твой правитель не взял тебя в свою свиту…
Тут Микеланджело рукой, привыкшей к резцу и молотку, провел себе по лбу и груди и почувствовал, как в нем растет сила. Беглец уже изведал всю долю беглеца: не только слезы и тоску, но и злобу и непокорство. Он почел бы себя опозоренным, если б его вдруг отпустили. Еще за минуту перед тем он блуждал под стенами, обставшими его со всех сторон, непроницаемо замкнув его судьбу и надвигающуюся гибель. Всюду кругом – сплошная стена, и блуждал он здесь, стремясь скрыться не из города, а от своего несчастья. Он думал о своих сновидениях и о своей работе. В конце того и другого было одно: плаха. Дважды он слышал нынче это слово. Первый раз его произнесла прекрасная женщина – самая прекрасная из всех, каких он встречал, – и произнесла, говоря о любви. В конце этого сновиденья речь шла о смерти. А второй раз произнес это слово Пьер Медичи, его правитель, – произнес, говоря о его возвращении и работе. В замирающих отголосках этого сновиденья речь тоже шла о смерти. Куда скрыться? И он бродил вдоль стен не затем, чтоб тайно бежать из города, в который тайно явился, а затем, что здесь уединенно, и далеко позади остался торговый шум улиц, гомон рынка и площадей. Затем блуждает он по лугу, вытоптанному марширующими отрядами скьопетти, затем ходит здесь без цели, что хочет быть один, путь его не имеет направления, не ведет ни к какому выходу. Шаги его бесцельны. И вдруг у высоких черных кованых ворот стоят эти двое, вооруженные военачальники, и следят за его шагами со смехом. Теперь он идет между ними – в торговом шуме улиц, гомоне рынков и площадей. Уже не слабость и бессилие, уже не растерянность, а непокорство. Сила. Ему кажется, что он не мог изобрести ничего лучшего, как конвой этих двух, шаги его уже имеют цель, а путь – направление. Коль ты вступил на этот путь, нет нужды думать о будущем.
И неодолимая, но мучительно нетерпеливая сила… Такая же, что когда-то заставила его на глазах у Лоренцо выбить зубы улыбающемуся "Фавну". Такая же, как в тот солнечный день, когда он остановился перед рисунком Торриджано да Торриджани. Или когда он блуждал по ночным садам, изнеможенный до ломоты в костях, и волоча при этом свою решимость, как глыбу. Или когда он изваял статую язычника Геркулеса и поставил ее у входа в дом, куда должны были входить дядя Франческо и братья, толкуя о боге, одержимости и бирючах. Или когда он стряхнул с конского повода руку Савонаролы. Или когда, отвергнув предложение Венеции, решил пробиться хоть сквозь французские войска, но во что бы то ни стало снова попасть во Флоренцию. Или как в ту первую ночь в Болонье, когда он ходил взад и вперед по тюремной камере, в то время как его случайные друзья спали, а он был готов перервать глотку любому, кто войдет. Драться, яростно, исступленно драться, превратиться в один смертоносный удар… Угасшее лицо его было серое, черты напряженные, твердые, словно резанные из камня… Так подошли они к дому Асдрубале Тоцци.
Вошли в комнату, где были тишина, занавесь, картины и лютня. Тоцци крикнул, чтоб подали вина, и отвернулся. Дребезжащий голос уродины за дверью повторил его приказ. Тоцци до сих пор не убил уродину и не выгнал ее из дому, потому что Оливеротто твердил, что это преждевременно, а уродина, чуя недоброе, присмирела, больше не издевалась так явно и даже не приносила сама вино. Так что подал слуга. Микеланджело не хотел пить первый, и кардиналов кондотьер с презрительной улыбкой, небрежно нащупав чашу, сделал глубокий глоток, а Тоцци, расставив ноги, промолвил:
– Ты здесь не ради наказания, а чтоб нам помочь! Микеланджело поглядел на него с изумлением.
Кондотьерова рука поигрывала одной из величайших редкостей, какие были у Тоцци в доме, – половиной скорлупы кокосового ореха на подставке. Такие диковинки привозят португальские мореходы, и другой подобной не было во всей Болонье. Кондотьерова рука с любопытством ощупывала скорлупу, нежно перебирая ее волокна. Рука Тоцци тяжело опустилась на плечо Микеланджело.
– Я знаю, что жена моя каждый день встречалась с тобой в храме. Она не скрывала этого. Но я хочу знать, в чем дело. Вы с ней, конечно, о многом говорили, и ты теперь мог бы мне рассказать. Понимаешь, художник, у меня есть разные способы заставить тебя говорить. Но я пока не хочу.
Микеланджело быстро выпрямился. Этот человек открывает перед ним свою рану. Этот человек сражен. Тоцци – с Сицилии. Он знать не хочет модных правил об обязательной снисходительности мужей, установленных особыми любовными судилищами, состоящими из очаровательных дам и галантных римских прелатов. Тоцци – с Сицилии, и в нем нет благородства, у него дед еще рыбачил в Таормине. Его гложет ревность, доводя до бешенства, пожирает огонь, обращающий свои острия внутрь, доставая самые тайные изгибы сердца. Микеланджело глядит на его измученное лицо, на глаза – глаза хищника.
"Я должна была стать причиной твоей смерти… – слышит он голос. – И эта смерть должна была стать твоим позором. На плахе должен был погибнуть флорентийский лазутчик и совратитель жен. Но ты стал мне мил своим прямодушием и детской простотой, Микеланджело… мне было хорошо с тобой… беги, спасай свою жизнь. Я не предам тебя, Микеланджело…"
Оливеротто осторожно поставил кокосовую скорлупу и легкими шагами подошел ближе.
– Это Лоренцо Коста, живописец. Я знаю, – сказал он звонким мальчишеским голосом. – Не так уж трудно было обнаружить. Мы не требуем от вас, мессер Буонарроти, выдать то, что вы обещали хранить в тайне. Нам надо, чтоб вы помогли нам иначе. Вы, художники, рассказываете друг другу многое о своих любовницах. Монне Кьяре и этому живописцу понадобились ваши услуги, поэтому монна Кьяра ежедневно навещала вас, и вы должны сказать теперь нам все, что вам известно о них. Было бы нетрудно пойти к Косте на дом и застать их вместе, но мессер Тоцци – не болонский купец, разоблачающий при всем честном народе неверность жены и срам, павший на его голову. У нас совершенно другой план, и вы должны нам помочь, так как для нас нет вопроса, любят ли они друг друга, а вопрос в том, где в их любви наиболее уязвимое место. Месть – великое искусство, не допускающее топорной работы. Быть может, как раз на самый маленький крючок мы и навесим всю тяжесть кары. Поэтому рассказывайте! Не вздумайте утверждать, будто монна Кьяра ходила в Сан-Доменико, только чтоб на вас полюбоваться, не смешите нас. Рассказывайте! Этим вы не только загладите свою вину как соучастника, которая тоже заслуживает позорного наказания, – но думаю, что мессер Тоцци не закроет для вас свой кошелек, хорошо вам заплатит.
Микеланджело отпрянул – из страха, как бы к нему не прикоснулась рука говорящего. Непреодолимая гневная сила вырвалась наружу. Теребя сжатыми пальцами одежду на груди и цепь, подаренную княгиней Альфонсиной, с лицом, искаженным исступленной гримасой бешенства, он вне себя закричал:
– Это я – слышите? – не Коста, а я – любовник монны Кьяры, – слышите вы? – я. Мы с ней встречались не только в храме, я добился ее любви и ночи с помощью венецианских чар, она любит меня, а не Косту из Феррары, меня, она сама мне сказала, и я соблазнил ее, выспрашивал ее и предавал Болонью и вас, она меня любила, – я – лазутчик Флоренции, меня нашли в тюрьме, я добивался от нее планов города и укреплений и доступа к твоему ложу, чтоб убить тебя ночью, а потом бежать с ней в Лукку, Сиену, Венецию, Флоренцию, Рим, куда глаза глядят, я любил ее, а не Коста, я знал о ней больше, я видел больше, чем ее красоту, я видел ее под маской, всегда под маской, Лоренцо Коста никогда не любил ее… Это она меня… "Я никогда не предам тебя…" – вот что она сказала мне, это ее слова, она сказала мне это, была ночь, это была ее тень, которую я потом увидел, у меня никогда не было другой возлюбленной, я хотел получить от нее ключи Болоньи…
– Он сумасшедший! – воскликнул Оливеротто де Фермо, дико рванувшись к нему.
Но Тоцци молниеносным движением молча удержал его. Человеку, прошедшему от Сицилийского королевства до самых Альп дорогой войны, часто случалось смотреть в глаза людям в самые тяжкие минуты их жизни. Он вперил пронзительный, испытующий взгляд в глаза Микеланджело. Он знал такие глаза. Это были застывшие глаза, уже не видящие внешнего мира и ничего вокруг, глаза человека, который видит лишь тьму, которому уже все безразлично, глаза глядящие, но стеклянные, как у слепого, и вдруг ему стало ясным, что только они двое понимают друг друга, что Микеланджело постиг его боль и не выдал. Да, этот юноша со своей ложью пойдет на казнь, и ничто не заставит его поколебаться. Он видел глаза, почерневшие, как лава, и снова вонзил в них свой хищный взгляд, но глаза юноши не уступили, выдержали и сами жгут. Тоцци поколебался. Потом пошел, открыл дверь. Опять поколебался. Потом промолвил:
– Ступай! Лжец! Теперь ступай! Но коли предашь – не пощажу!
Хриплый голос Тоцци прозвучал двояко, – верней, это были два голоса, слышавшиеся одновременно. Один, явный, повелевал и говорил о лжи. Другой, скрытый, вторил, но говорил о прямодушии и детской простоте. Первый заглушил его, ломясь вперед, резко, клокочуще бросив снова:
– Ступай! Я приказываю, лжец! Ступай. Но горе тебе, если проговоришься!
Микеланджело закрыл лицо рукавом. Он вышел. И остановился перед домом, прислонившись к стене. Глаза его были теперь налиты кровью, жгли. Он еще не мог двинуться вперед, – стоял, смотрел и не видел ничего, кроме тумана и теней.
Оливеротто зашагал широкими шагами по комнате.
– Это безумие, Тоцци! – заговорил он быстро, с досадой. – Зачем же ты отпустил этого человека? У меня есть средство развязать язык и такому закоренелому!
Тоцци по-прежнему стоит у двери, как каменный.
– Ты плохо знаешь людей, римлянин! То, что он сказал нам, он повторил бы перед всеми судьями на свете. Ничего другого они от него не добились бы.
Кондотьер ударил кулаком по столу.
– Ты знаешь наверное, что любовник твоей жены – живописец Коста. Но речь здесь шла о другом. Говорилось о ключах… Как этот человек пришел к такой мысли?.. Берегись, Тоцци! Не устраивают ли и тут нам ловушку? Берегись, Тоцци, твоя голова под ударом, это опасный человек, Тоцци, не надо было его отпускать! Ты сделал глупость, Тоцци! Любовник твоей жены – Коста, да, но ты смотри, какая у него с ним дружба: в любую минуту готов принять на себя и вину и наказание! И как он бросил это тебе в лицо! Это опасный человек, Тоцци! И говорит о ключах Болоньи! Берегись, ты под ударом! Тебе надо теперь действовать быстро, или план придется изменить. Убей эту женщину, а живописец от тебя не убежит, раз ворота крепко охраняются, убей сперва ее, прибавь к позднейшему наказанию любовника еще эту боль. И не забудь про свое обещание, когда я тебе помогу.
Я выследил ее любовника, Тоцци! Плати. Ты дал мне слово. Я больше не буду ждать, раз ты такой неосторожный! Отпустить его вернейшего друга, их наперсника! Отпустить человека, который говорил о ключах от ворот! Берегись, Тоцци, опасность смертельная, кто знает, не подстраивают ли нам ловушку, я уже не могу полагаться на тебя!
Асдрубале Тоцци выпрямился, огромный, как смерть. Тяжко ступая, подошел к римлянину, с лицом, полным такого отчаяния, что казалось, будто даже черты его потрескались и кровоточили. И глухим голосом, в котором слышалось все мучение его истерзанной души, промолвил:
– Ты получишь обещанное, кардиналов кондотьер! Но о ней ты можешь больше ни сообщать ничего, ни советовать! Говорю тебе: она будет наказана так, как еще ни одна женщина в Болонье!
Быстро наступали сумерки. На улицах, площадях – всюду близится ночь.
Куда же это я ходил? Сколько раз прошел по городу, где шатался, кого встречал на пути? Наверное, от меня все разбегались, как от помешанного, я весь в грязи. Когда я вышел из дома Тоцци, было светло, а теперь тьма, ночь, где же я блуждал, куда ходил, ничего не помню, болят руки, они разодраны, колени разбиты, видно, я часто падал, волосы слиплись от крови, где же я был? Искал ее, хотел ее предупредить, хотел сказать ей, чтоб она бежала со мной в Лукку, Сиену, Флоренцию, куда глаза глядят… Я не нашел ее. Куда же я ходил?
Это Болонья? Да, узнаю портик базилики святого Петрония, там тимпан Кверчи, уж темно, я не вижу, но Адам хочет в бой, не глядит на жену, не глядит на землю… Это Болонья, я знаю, помню, я стоял под наклонной башней Гаризендой, над ней шли тучи, мне показалось, она на меня валится, я закричал… я в Болонье! Хочу домой! Я запустил пальцы в волосы и стоял так. Вот почему они смеялись там, у стен! Он предает женщину, которая ходила к нему не ради его красы и прелести, Тоцци не закроет кошелька, хорошо заплатит за свою жену, которую продаст ему бездомный бродяга, странствующий по монастырям, безносый нищий, живущий здесь из милости, выпущенный из тюрьмы! Вот почему они так смеялись там, у стен!
А я искал ее, чтоб предупредить. Куда же я ходил? У меня ободраны руки, колени, кровь в волосах, одежда вся в грязи. Все, наверно, думали: вот по улице идет сумасшедший! И страшная башня, наклонная, покосившаяся башня Гаризенда валилась на меня, над ней шли тучи…
Я нигде не мог ее найти. Но кто мне сказал тогда: "Мой бедный Микеланджело, до чего все это мне теперь безразлично!.." Может быть, это Коста, человек, судорожно отворачивающийся, чтоб она не видела, что он страдает, вытаращивший на меня глаза, когда я вошел; схватился было за кинжал, потом упал мне на грудь, заплакал, стал стирать мне кровь и грязь с волос и рыдал, – это был Коста? Нет, я не нашел ее, все это мне просто показалось, я не знаю, где ходил, этого не было, я просто вообразил, что это было, просто всей душой желал, чтоб это было, чтоб найти ее и предупредить… Это был – только сон и желанье. И в этом сне мне казалось, что я вдруг стою перед какой-то огромной картиной, еще не оконченной, апостолы сидели вокруг стола, это была последняя вечеря, и вдруг отчаянное, нечеловеческое лицо выступило в углу картины, полное страшного высокомерия и отчаянья, адское лицо, лицо тьмы, – это лицо писал величайший художник, какого я только знал, гений, я нигде не видал ничего подобного, такая вещь создается раз в столетие, и здесь написал ее мастер над мастерами, – ужасное лицо, не сатана, а человеческое лицо, надорванное отчаяньем и муками, наверно, Иуда. Где я его видел?
Нигде, это был только сон. Не знаю, где я ходил, что со мной было. Не знаю, что со мной будет. Из Болоньи меня гонят, во Флоренции меня подстерегает смерть, я был медицейским! "Микеланджело должен погибнуть…" сказал Лоренцо Коста. "Я не могу ничего поручить тебе…" – сказал Пьер Медичи. "Коли выдашь, не пощажу…" – сказал Асдрубале Тоцци. "Чем скорее погибнет Микеланджело, тем лучше…" – сказал Франческо Франча. "На плахе погибнет предатель города и совратитель жен…" – сказала монна Кьяра. "Микеланджело – язычник, он делает языческие статуи", – так сказал Савонарола. А дядя Франческо говорил о костре колдунов… Один только меня не гонит, один до сих пор оберегает меня, один-единственный – старик Альдовранди! Он посоветует мне, если я доверюсь ему во всем, это старый человек, знающий жизнь, я скажу ему все, ничего не скрою, брошусь ему в ноги и попрошу совета, помощи и защиты…
Он отнял ладони от лица и быстро пошел к палаццо Альдовранди. Он хотел смыть грязь и кровь, которыми был покрыт, и переодеться, прежде чем предстать перед патрицием, но слуга не дал, имея приказ привести Микеланджело сейчас же, как только придет.
Золото, облицовка стен, заморские благовония, легкие ткани, множество огней, княжеская роскошь. В глубоком кресле, закутанный в пурпур, сидел старик с прояснившимся лицом. Увидев кровь и грязь, он снисходительно сощурился, чтоб не видеть. Потом желтое лицо его окрасилось румянцем волнения, и он весело, живо промолвил:
– Очень рад, Микеланджело, что ты здесь, – я хочу сообщить тебе важную и радостную новость. Понимаешь, нынче днем в Болонью приехал венецианец Джордано да Кастельфранко, всеми, кто знает красоту его великого уменья, называемый Джорджоне, – и теперь он мой гость! Джорджоне, такая радость! Он бежал из Неаполя в Венецию от французов, но теперь останется здесь, чтоб посвятить дары своего божественного духа Болонье. Джорджоне, artifex praeclarus, egregius, omni laude pictor dignissimus 1, Джорджоне, которого и дожи сажают с собой за стол. Но на что ему дожи, теперь я для него дож! Я предоставил ему свой дом, охрану, стол – все, о, felix dies, о, beata nox 2, не забывают художники старика! Нужно мне теперь ему какую-нибудь работу достать, заказы, чтоб он от нас не сбежал, знаешь, какие венецианцы непостоянные… Но здесь семейства Феличини, Санути, ну и я… У меня с ним будет много хлопот, так что уж ты извини, Микеланджело, что я больше не могу внимание тебе уделять, тебе больше не нужен в Болонье покровитель, ты стал знаменит, вон там на очаге – деньги за статуи в Сан-Доменико, и там же пропуск, мной подписанный, на случай, если б ты захотел от нас уехать, так чтоб тебе не было в воротах неприятностей, как при въезде… Ну, не будем вспоминать, не будем вспоминать, я рад был тебе помочь, – доброй ночи, Микеланджело, доброй ночи… Подумай только! Джорджоне!
1 Художник славный, отличный, живописец, в высшей степени достойный всяческой похвалы (лат.).
2 О, счастливый день, о, блаженная ночь (лат.).
Ночь. Ворота дворца молчат. Как легко нашлась мне замена! С какой поспешностью старик отстранил меня, чтоб поскорей приблизить мгновенье, когда можно будет остаться наедине со своим новым любимцем, а меня выставить за дверь, чтоб я бродил в потемках, как выгнанный пес. Бывают дни, когда все словно покрыто пеплом, словно такой день не посвящен ни одному святому… Куда же теперь, изгнанник? Где ты найдешь гостиницу, стол, скамью для отдыха, кровлю над головой? Мне нужно только четыре стены, я смертельно устал, целый день бродил, хочу есть, мне нужен кусок хлеба и несколько досок, чтоб повалиться на них и заснуть, я – нищий… Куда теперь, изгнанник?
Укажи мне хоть один час, с тех пор как Франческо тайно носил тебе на Сан-Миньято Гирландайовы рисунки, хоть один час, когда ты был счастлив! Дома – презренье, насмешки и побои, у Медичи – удар кулаком и уродство навеки, обманчивость язычества и сожженье садов, каркающее беснованье Савонаролы, похоронный звон францисканского монастыря, изнурительная, бешеная работа, мучительное стремление овладеть, выразить, воплотить, раздирающее зрелище убожества человеческого сердца, лепет и расслабленье Полициано, всеми преданный Лоренцо, преданный и после смерти, снова обиды и оскорбления, угрозы костра для колдунов, болезнь, лихорадка, восхищение статуей из снега, иссушенность, ужас, ах, жестокий, нечеловеческий ужас, затравлен ужасом – во весь дух! во весь дух! во весь дух! без отдыху, куда глаза глядят… Это была Флоренция. Это было во Флоренции. И пренебреженье, равнодушие в Венеции, тюрьма в Болонье. Куда же теперь, бездомный бродяга?
Не была ли тюрьма, перед которой я снова стою, лучшей гостиницей, какую я только могу найти? Вот Болонья, для которой я ваял крылья ангелов. Пришла, как тень, остановилась в свете свечей, длинные белые нити жемчуга трепетали в волнистых черных волосах, я ваял крылья. Каждое утро слышал ее шаги на плитах храма, она приходила из темнот храмового нефа, как сошедшая с фрески, ожившая святая, окутанная облаком золотого света, шаги ее слышались все ближе и ближе…
Послышался глухой звук шагов по грунту пьяццы. Тюремные ворота открылись. Микеланджело отступил к самой стене.
В мутном свете осторожно несомых светильников из тюрьмы вышла темная процессия. Фигуры двигались безмолвные, черные, словно опаленные адским жаром. С ними шел, конечно, и дьявол, но его не было видно. И ночной ветер затих и свернулся у их ног. Они подвигались тихо, как призраки. Процессия шла медленно, и фонари мигали, как рыданье, как лепет ночи. И в их приглушенном свете, полуприкрытом плащами, Микеланджело узнал прежде всего высокую, прямую фигуру Асдрубале Тоцци. За ним волочили по земле тело человека, не желавшего идти, так что пришлось сбить его с ног и тащить в оковах. А когда и на него упало немножко света, Микеланджело узнал лицо и задрожал от ужаса. Лицо было темное, подземельное, искаженное таким исступленным презреньем и отчаяньем, что было страшно глядеть. В глазах узника сверкали зарницы безумия, изо рта текла слюна, как из пасти бешеной собаки. Снова пала тьма, и лицо скрылось, словно ушло в могилу. Процессия разворачивалась медленно, так как тот, кого тащили за оковы, упирался еще коленями, – процессия продвигалась еле-еле, направляясь к дому Асдрубале Тоцци.
Микеланджело оцепенел от ужаса. Это лицо он сегодня уже видел! Видел там, на картине, на "Последней вечере"! Значит, это был не морок, не сон, я в самом деле был у Косты. Это – его человек из подземелья, значит, я был у Косты, предупреждал монну Кьяру, на самом деле слышал ее слова: "Мой бедный Микеланджело, до чего все это мне теперь безразлично…" А Коста отвернулся, чтоб она не видела, как он ужасно страдает, потом упал ему на грудь, обнимал его, стирал грязь и кровь… Он предупредил ее! Она не захотела!
А теперь – это лицо! Безумное лицо! Коста – изумительный, гениальный мастер, коли сумел схватить его во всем ужасе… Но зачем ведут теперь это исчадие ада в дом к Тоцци? Господи, что такое там готовится?
Спасти ее! Нет, ничем я ее не спасу… "Мой Микеланджело, все мне теперь безразлично, оставь меня, чтоб я подчинилась своей судьбе, шла своим жизненным путем… Беги, Микеланджело… – сказала она. – Я не перестану тебя заклинать, опасность велика… беги!.." Ночь, которая, кажется, не кончится никогда. Он упал у стены дома и погрузился в странное глухое забытье, из которого возникло сновиденье. Снилось ему, будто он сидит на патрицианском пиру у Альдовранди и играет в сахарные шарики. Слышит шутки и смех пирующих, женщины красивы и изящны так, как бывает в сновиденьях. Никого не пугает, что завтра конец света, хотя это всем известно. Это было всегда известно и никогда никого не пугало. Беседа шла, как всегда в таких случаях, как обычно, огни, благоуханья, шутки, смех, пурпур и золото. Потом вышли наружу, и была там река без броду, они вошли в нее, – он нес плащ монны Кьяры и уронил его в реку. Хотел поймать, но она удержала легким движеньем руки. "Он больше не понадобится", – тихо промолвила она. И в эту минуту перед ним раскрыл острую, зубастую пасть отвратительный жирный ящер. Они выбежали на берег, ящер погнался за ними, они бежали во тьме, – вдруг Микеланджело оказался один, как всегда один. Он побежал куда-то вверх по косогору, сердце готово было лопнуть от сумасшедшего бега, лег у стены, а опомнившись, увидел, что это ограда сельского кладбища, и вошел туда. Все могилы стояли открытые и пустые. Значит, на самом деле конец света, пришло ему в голову, мертвые ушли, а я остался один. Тишина вокруг такая – листок не колыхнется, это было страшно… И вдруг он опять сидит на пиру у Альдовранди, огни, золото, красота женщин. Но где-то перед ним все время маячили голова настороженного ящера, морды гигантских, мерзких пресмыкающихся, подползающих кольцами все ближе и ближе, горящие глаза хищников и чудищ. "Дайте мне минутку, чтоб перекреститься!.." – взмолился он. "Ты это видишь, а мы нет, – ответил Альдовранди. – Мы уже мертвы и ждем клича на Страшный суд, мы мертвы, а ты еще живой, ты это видишь…" Монна Кьяра стояла рядом, улыбаясь. Тут он понял, что они двое только и живы во всем мире, – про них, верно, забыли. "Что с нами будет?!" – воскликнул он в отчаянье. "Пойдем… – улыбнулась она. – Пойдем, у нас есть дом…"
И он очнулся. Вскочил, вырвавшись из этой галлюцинации. Грунт площади. Камень стены холодит. А рядом стоит капитан тюремной стражи Гвидо дель Бене и светит фонарем на юношу, которого узнал.
– Что же ты спишь на улице, гость Альдовранди? – с удивлением спросил он.
– Я не гость Альдовранди.
У капитана Гвидо дель Бене был хмурый вид.
– Ведь ты – флорентийский художник, который докончил нам надгробие святого отца Доменика? Почему спишь на улице?
– Мне негде спать… – прошептал Микеланджело.
– Так постучись в ворота к францисканцам, они пустят ночевать.
– Я хочу вон из Болоньи… сейчас же! – прошептал Микеланджело.
Капитан поглядел на него странным одобрительным взглядом.
– Счастлив тот, кто уедет из Болоньи, – сказал он. – Я видел нынче лицо своего командира Асдрубале Тоцци, которого мы сопровождали. Такое лицо я видел только раз в жизни, – когда служил у Скалигера в Вероне, у Луиджи Скалигера, "Большого Пса", когда он готовил большой примирительный пир для своего отца и братьев, на котором кровь текла потом по дворцовой лестнице, и я перешел скорей служить другим. Большой Пес спит теперь на веронском кладбище, и разрубленная голова его покоится на спине бронзового крылатого пса – их родового геральдического зверя. Но лицо его было нынче у моего командира Тоцци. Какой же примирительный пир учредит этой ночью мессер Асдрубале Тоцци?
Капитан поглядел на Микеланджело чуть не с жалостью. Путь, за минуту перед тем им проделанный, смягчил его сердце. Этот юноша спит на улице. Он хочет домой. Болонья для него – чужбина. И он так и не потребовал своих пятнадцати золотых дукатов… Капитан Гвидо дель Бене, в приливе общительности, крепко сжал его руку, полный всем, чего только что был свидетелем.
– Знаешь, кого мы вели сейчас в дом к Тоцци? – прошептал он, наклонившись к Микеланджело. – Там тоже будет пир, и мы вели туда вурдалака! Помилуй нас боже, но это так! Вурдалака! Колдуна-оборотня, который умеет превращаться в волка при помощи черного круга без конца и начала, змеиного круга, называемого астральным, змеи, кусающей свой собственный хвост, я знаю, отчего он так разорвался, отчего так выл, когда увидел такое ожерелье на шее у жены Тоцци, я сказал об этом командиру, и командир велел нынче привести этого человека к нему на дом, вот какой там будет пир… Да, черное ожерелье, змеиное ожерелье, говорят, это знак божественного змея, этого богохульника, знаешь, они верят, что Христос – не бог, а змей, ссылаются на что-то там в Моисеевых книгах, на возвышенье змея в пустыне, это отверженцы и колдуны, им повинуются злые и темные силы, этот умеет превращаться в волка – при таком вот астральном змеином ожерелье, двух скрещенных мечах и свете свечей… Вот кого мы вели нынче на пир примиренья…
И капитан трижды торопливо перекрестился.
– Коня! – хриплым голосом крикнул Микеланджело, вцепляясь в его камзол. – Коня! Продай мне коня! Я хочу вон отсюда! У меня тридцать золотых дукатов, полученных за статуи в Сан-Доменико, я тебе хорошо заплачу! Дай мне коня! Я сейчас же уеду! Коня!
Ночь, которая, видно, никогда не кончится. Но наконец – ворота!
У кошей, в которых горит огонь, стоит стража в черных шлемах, опершись на длинные копья и толкуя о войнах и добыче. Крепкие, окованные бронзой ворота задвинуты длинными тяжелыми засовами, которые теперь отодвигаются, потому что пропуск, подписанный Альдовранди, влиятельным членом Консилио деи Седичи, дает этому бледному, дрожащему человеку право ночного выхода из города. Конь в подворотне ржет, беспокойно роя землю копытом и выбивая искры из плит мостовой. Это боевой конь, он не боится ни теней, ни кошей с огнем. Наконец ворота открылись, и юноша ринулся во весь дух вперед.
А стража на стенах долго еще глядела вслед тому, кто не побоялся выехать ночью за город, где война и куда ни кинешь взгляд – всюду пылающие деревни, словно огненные грибы в темнотах.
ТАК ЖЕ, КАК СКАКАЛ ЦАРЬ ДАВИД
Архитектор Джулиано да Сангалло, строитель храмов и дворцов, с удовольствием поев после долгой, утомительной езды, громко и смачно выругался. Широким тылом своей могучей руки он отер губы, седые усы и гаркнул на слуг, чтоб становились на колени. Сам тоже стал на колени среди них и, осенив себя крестом, важно, с достоинством начал читать "Pater noster" 1.
Повеял легкий вечерний ветер, заволновал стройные ветви пиний, под которыми расположились путники. Сумрак затянул холмы тонкой лиловой дымкой, которая постепенно темнела, переходя в бархатную синеву. Солнце ложилось в рубиновых парах, близилась ночь. Ветви пинии шумели, впивая сумрак. Уже мелькнуло крыло летучей мыши, и скользящий полет ее прочертил воздушную полосу на заднем плане пейзажа, углубленного вечерним часом. Архитектор Джулиано кончил молиться, добавив еще "Sancta Maria" 2, по недавно заведенному обычаю римских францисканцев, и велел погасить костер. Не так страшны были волки, как разбойники, которых здесь, наверно, не меньше, чем в римской Кампанье, и которых мог привлечь огонь ночного костра. Потом он залез под одеяла, громко ругаясь, оттого что запутался в попонах, и вскоре заснул здоровым крепким сном, громко храпя.
1 "Отче наш" (лат.).
2 "Святая Мария" (лат.).
У Сангалло было двое слуг, один глупей другого. Менее глупого он звал Тиберием, а более глупого Нумой Помпилием. И это страшно его забавляло, так как выходило, что слуги его носят имена один – императора, а другой – царя. У Нумы Помпилия пасть была зашита, так что туда еле проходила ложка. И он страшно дорожил этим остающимся отверстием и боялся, как бы дыра не уменьшилась, часто даже без всякой еды украдкой всовывал ложку в рот, проверял, пройдет ли. Дело в том, что однажды в родной деревне во время трактирной драки противник разорвал ему пасть от одного уха до другого, и было столько крови, что даже местный лекарь испугался, взял иглу с ниткой и стал зашивать. Но кровь не останавливалась, и лекарь совсем зашил бы Нуме Помпилию пасть, если б тот не остановил попечительных усилий, вспомнив о пище. Так что ему все-таки оставили отверстие для ложки.
Джулиано да Сангалло встретил его в одном трактире на дороге в Неаполь и чуть не лопнул от смеха при виде малого, который отчаянно вертит ложку во рту, стараясь наесться. Джулиано спросил, не хочет ли тот поступить к нему в услужение, и парень, с ложкой во рту, которую он не мог сразу вынуть, радостно кивнул, наскучив своим неверным бродячим существованием. Он получил имя Нума Помпилий, и Сангалло с удовлетворением отметил, что он еще глупей первого слуги – Тиберия.
Этого он встретил рано утром на римском рынке, как раз в ту минуту, когда Тиберий изображал змею. Вокруг стоял кружок зевак, и парень так ловко и отвратительно извивался, что Сангалло хохотал до упаду, сразу оценив этого малого и решив не упускать его. Но зрители требовали за свои деньги продолжения, и парень стал выделывать невероятное, доставал у них из карманов предметы, которых там никогда не было, изобразил в лицах спор уличной девки с гостем, который не хочет платить, а после того как он несколько раз проглотил огонь, Сангалло снова почувствовал страшное желание взять его к себе на службу и сделал соответствующее предложение, которое было принято с радостью, так как тот хотел есть каждый день. Теперь он ел каждый день и досыта, но был часто бит, Сангалло поминутно колотил его, но не за глупость, а за то, что он нес ужасную чушь, невозможно было слушать, что он только молол, валя все в одну кучу.
А в то время, как Тиберий чесал язык, Нума Помпилий не произносил почти ни слова, – ведь рот у него был зашитый, с малым отверстием для ложки. И он часто впадал в меланхолию – из боязни, как бы дыра совсем не заросла, так что хозяину стало жаль его, и он, чтобы утешить, сказал ему, что в свое время у него был слуга по имени Сципио Африканус Попони, – что значит Сципион Африканский Дыня, – у которого рот был зашит наглухо. Нума Помпилий удивился и стал допытываться, чем же Сципион Африканский Дыня жрал, на что Сангалло, давясь от смеха, ответил, что при дневном свете об этом нельзя говорить, но если Нума разбудит его, скажем, в полночь, он ему эту тайну откроет. И совсем про это забыл, но Нума Помпилий не забыл, он думал об этом и днем и ночью, ощупывая дыру во рту, потихоньку без всякой еды тыкая туда ложкой, и очень скорбел.
Ночь была непроглядная. Кони с ослабленными путами на ногах лежали поодаль, подобные вороху тьмы. Маэстро Сангалло повернул во сне свое могучее тело атлета на бок и опять сильно захрапел. Тиберий спал с открытым ртом и храпел только носом, с шипом и свистом, даже во сне поминутно шевеля губами, словно пережевывал слова, застрявшие во рту, и, не смея все сказать, был бит. Только Нума Помпилий сидел возле горячего пепла костра и караулил, так как местность кишела разбойниками. А Сангалло видел чудный сон. К нему спустился с неба сам Брунеллески, хвалил его здания, и Сангалло взволнованно внимал божественным речам Брунеллески и даже осмелился задать вопрос, не сердится ли на него божественный маэстро, прогуливающийся теперь в раю с Дан-том и возлюбленным Лоренцо Маньифико, за то, что он, Сангалло, слишком уж точно повторил для ризницы Сан-Спирито его идею горизонтального восьмиугольника с нишами, лежащую в основе часовни Санта-Мария-дельи-Анджели, – но Брунеллески не сердился, он улыбнулся и, наклонившись к большому уху Сангалло, что-то шептал, шептал, а тот ловил, даже приглушив храп.
Спали. Только Нума Помпилий бодрствовал, вздрагивая при каждом шорохе ночного ветра в кустарнике, а коням снилось, видно, что-то очень тревожное, поминутно какой-нибудь из них вскакивал, и Нуме Помпилию, размышляющему о своем несчастье, уже виделись вместо лошадиных голов разбойники. Тишина была полна странных звуков, и Нума Помпилий, предоставленный своим мыслям, скорбел больше, чем когда-нибудь. Когда прискорбие его стало столь великим и тяжким, что он не мог уже переносить его в такой тьме, он, сам ужасаясь своей смелости, чуть-чуть потряс хозяина за ногу. Джулиано да Сангалло сразу воспрянул. Разбойники! Нащупав оружие, он с диким видом прошептал:
– Где?
– Мессер Джулиано… – отозвался из тьмы робкий, испуганный голос Нумы Помпилия, – мессер Джулиано, вы разрешили мне, разрешили спросить хоть в полночь, об этом нельзя при дневном свете…
Сангалло растерянно глядел во тьму, ничего не понимая.
– Мессер Джулиано… – продолжал робкий голос, – чем же жрал Сципион Африканский Дыня?
"Спятил!" – промелькнуло в голове у маэстро Сангалло, и он могучим движением перешел из лежачего положения в сидячее. "Спятил, болван, не может быть, чтоб малый в здравом уме стал будить меня в полночь вопросом, чем Сципион Африканский жрал дыню. Спятил, изобью дурака! С чего ему вдруг взбрело, будто Сципион Африканский дыни жрал?" И Сангалло, вызволяя свое мускулистое тело из попон, как нарочно замотавшихся, слегка отодвинулся от дурака.
– Откуда мы едем? – процедил он сквозь зубы.
– Из Рима… – отозвался из тьмы испуганный шепот Нумы Помпилия.
– Куда едем?
– Во Флоренцию…
– Зачем мы туда едем?
– От французов бежим…
– Как тебя зовут, осел?..
– Нума Помпилий!
– Кто я? Как меня зовут?
– Мессер Джулиано да Сангалло, строитель дворцов и храмов, величайший архитектор Италии…
"Нет, малый в своем уме! – Сангалло угрожающе заскрипел зубами. – Малый отвечает вполне разумно, малый не сбрендил. А будит меня в полночь вопросом, чем жрал Сципион Африканский дыню? Господи, почему у меня слуги всегда такие болваны, как этот Нума Помпилий либо этот Тиберий, который так по-дурацки храпит – одним носом. Идиот, храпит так, будто у него войлок во рту!" И Сангалло, сжав одну руку в кулак, другою стал искать плеть.
– Вы мне разрешили, мессер… – испуганно шепчет Помпилий, с ужасом следя за этими, такими уже знакомыми ему движениями. – Сказали, – хоть в полночь буди меня… Помните, ведь ваш прежний слуга Сципион Дыня!..
Тут Сангалло вспомнил свою шутку и покатился со смеху. Редко кто умел так смеяться, как маэстро Сангалло, делавший это охотно и часто. Теперь широкоплечая фигура его так и корчилась, так и сотрясалась от смеха, налетевшего внезапным порывом, ударом грома, бурей. Сангалло держался за живот, ударял себя кулаками по бокам, в которых чувствовал колотье, бушевал смехом, проходившим всю гамму звуков, заливался смехом и слезами, а потом, уже не в силах смеяться, только стонал, вздыхал и ругался, но в конце концов, наклонившись к непонимающему, выпучившему глаза Помпилию, таинственно прошептал:
– Так я скажу тебе, братец. Слушай и запомни: Сципион Африканский вовсе не жрал. Понимаешь? Вовсе!
Нума Помпилий посинел.
В голосе Сангалло послышались теплые нотки сочувствия. Важно покачивая головой, маэстро прибавил:
– Он только смотрел, как мы едим, и через три дня помер от голода и горя. Так-то. И я, лишившись Сципиона, был вынужден взять вас двоих, дураков. А теперь… – загремел он, опять заворачиваясь с проклятьями в попоны, – теперь я буду спать, и горе тебе, скотина, если ты меня опять разбудишь вопросом, чем кто жрал!
Уже улегшись, он еще вздрагивал от затихающего смеха. Про это стоит рассказать во Флоренции!
А Нума Помпилий остался в одиночестве, синий от ужаса. Никому на свете не прожить с зашитой пастью! Даже Сципиону Африканскому! Он опять робко поднес пальцы к губам, но вдруг вскочил в испуге. Да, это так. Топот копыт. Кто-то мчится в ночной тишине. Нума Помпилий вскрикнул от страха. Конская скачь слышалась теперь отчетливо, всадник уже близко и не может миновать их привала… Они – в краю, занятом французами. Кто это? Гонец? Разбойник?
Нума Помпилий завыл от страха. Так как рот у него был зашит, голос его звучал сперва как писк большой мыши, но потом загудел. Звук был жуткий, так как Нума Помпилий прямо задыхался от ужаса, а слишком маленькое отверстие рта всего этого ужаса не пропускало. Звук бежал тонкой струйкой, то поднимаясь вверх, то уходя вниз, и кричавший жался к древесным стволам, скуля, воя и ревя своим узким ртом.
Тиберий, проснувшийся первым, в испуге вскочил, но, никого не видя, подумал, что это воет какое-то страшилище, ночной лемур, проглотивший Нуму Помпилия и приготовившийся пожрать и его. Он раскрыл настежь, как только мог, свой огромный рот и поднял рык, вой и в то же время заквакал лягушкой.
Сангалло вырвался из сбившихся у него в ногах попон. Спотыкаясь о них, он увидел прежде всего двух дураков, один из которых скулил, другой выл, а вокруг – никого. Тут он разразился страшным проклятьем, досталось всему свету. Сангалло послал его весь в преисподнюю, – но тут услышал конскую скачь. Он прошелся по обоим малым сокрушительным кулаком, чтоб молчали, бросил на горячие головешки костра охапку валежника и, схватив меч и кинжал, выбежал на дорогу.
Конь под всадником взвился на дыбы перед его огромной темной фигурой. А всадника озарило в это мгновенье высоко прянувшим языком пламени. Тут оба вскрикнули. Маэстро Сангалло схватил приехавшего в объятья, чертыхаясь от радости. Потом они уселись у огня, и Микеланджело подкрепился пищей. Вот уже вторые сутки, как он ехал, даже в ночное время, сам не зная куда.
Потом они долго беседовали, вспоминая медицейскую пору, когда сидели за одним столом, – и Сангалло сразу рассеял все опасения Микеланджело. Они вместе поедут во Флоренцию – и кончено! Сам господь бог устроил эту встречу, и было бы грешно пренебречь его волей. И ничего с Микеланджело не случится плохого, коли его возьмет с собой Сангалло, самый прославленный строитель храмов и дворцов в Италии.
– Нас столько, Сангалло этих, – смеялся маэстро Джулиано, – и мы столько храмов понастроили, что аббаты и епископы нас путают. Сангалло большое семейство, и все мы зодчие, так что одному господу богу под силу в этом разобраться, и я не жду, чтоб он был ко мне особенно строг в день Страшного суда, и ничто мне не портит аппетита к еде и питью, а раз я надеюсь на бога, которому столько поставил храмов, с какой же стати стану бояться этого нытика Савонаролу? Вернусь во Флоренцию, и ты – со мной, а понадобится, так Савонаролу поколочу, ничего не боюсь, а скажет что-нибудь такое, захочет, чтоб я монашескую рясу надел и тоже захныкал… – Тут Сангалло захохотал на всю окрестность. – …Я ему отвечу, что я для бога строил и бог никогда не требовал, чтоб мне в монахи идти, а дал волю пить и есть, сыновей плодить и пользоваться всеми радостями на свете, а я ему за это храмы строил. И папам строил, дражайшему Павлу Второму построил в Риме Палаццо-ди-Венеция, венецианский дворец. "Сбегай туда, осел, – скажу ему, сбегай, посмотри, видел ты когда-нибудь такое здание, и скажи, – могу ли я быть монахом!" Сиксту и Иннокентию строил, и ни один папа от меня не требовал, чтоб я, перед тем как строить, рясу надел! И кардиналам строил, Джулиано делла Ровере – ах, милый, кардинал этот… ну и хват!
Сангалло щелкнул пальцами от восхищения.
– Кабы вся курия из таких состояла! Конечно, не надо бы так говорить, потому что это был всегда главный враг нашего дорогого Маньифико, племянник Сикста, но Лоренцо сам всегда говорил о нем с уважением. Ах, милый, Джулиано делла Ровере – это кряжистый дуб, это хват! Я ему Остию укрепил, потому что ведь между ним и папой Александром Шестым непременно вспыхнет страшная война, они ненавидят друг друга лютой ненавистью, между ними будет война. Но – свидетели вот эти звезды над нами!.. – тут Сангалло, насколько умел, понизил голос и наклонился к Микеланджело… – клянусь тебе: кардинал Джулиано делла Ровере в один прекрасный день будет папой! Будет!
Сангалло упрямо вскинул голову, так что могучая седая грива его побежала волной по плечам.
– Будет, я хорошо укрепил ему Остию. Переживет время Александра, как пережил всех, кто был перед ним, и… будет! И тогда настанет время! Не испанец, а хват! Да какой! Старик уж, а до сих пор хват! Ты, наверно, слышал о нем… дорогой Лоренцо испытал из-за семейства делла Ровере немало тяжелого. Папа Сикст поднял против него мятеж Пацци, папский сын Джироламо не перестает воевать за овладение Флоренцией, а Лоренцо изо всех сил добивался, чтоб больше ни один делла Ровере не садился на папский трон. Он и дочь свою Маддалену выдал за одного из Чиба, для того чтобы оказать им политическую поддержку… Но вот увидишь, делла Ровере все-таки сядет на папский трон. Уж по одному тому, – прибавил Сангалло упавшим голосом, – что наш Лоренцо не хотел этого.
Тусклый отблеск слабого огня играл на их лицах. От этого тьма за спиной у них сгущалась еще сильней, ночь была будто из черного стекла.
– Ничего-то не осталось от дел и творений Лоренцо Маньифико, продолжал Джулиано. – Платоновская академия его теперь в руках Савонаролы, средоточие искусств – Флоренция – превратилась в огромный костер, на котором горят любимые творения, род его изгнан и лишен богатства и власти, на смену царившему в стране миру пришла война. Не хватает только одного: чтобы делла Ровере снова оказались на папском престоле. Но и этого не миновать!
Потом они легли, но Сангалло, сладко зевая, еще продолжал:
– Нелегко служить папам, Микеланджело, это неблагодарный труд, и я не желаю тебе испытать его. Никогда не ищи титула и звания папского художника, не стоит овчинка выделки. Там, – презрительно махнул он рукой в сторону Рима, – там тебе пришлось бы знать много кое-чего, помимо твоего искусства… а у тебя не такой характер! Что когда Флоренция видела от Рима хорошего? Поедем со мной, забудь о Риме! Служить папам – жалкое ремесло, особенно теперь, когда при его святости испанце не знаешь, в Риме ты или в Турции, султану ты служишь и гарему его или папе и кардинальским содержанкам. Поверь моему опыту!.. Так что я на Страшном суде божьем буду говорить только о том, что строил храмы, но ни слова не скажу богу, что служил папам и кардиналам, – ей-ей, ни слова не скажу!
Он уже засыпал, а впотьмах все слышался его резкий, низкий голос:
– Только вот кардинал Джулиано делла Ровере старик, дуб кряжистый! Я ему крепости ставил, – вот и скроюсь пока во Флоренции. Потому что и святой отец, и французы сразу… больно уж много для простого христианина! Микеланджело тоже заснул. Брызжущая из Сангалло кипучая жизненная энергия подействовала как купанье. Бьющая через край сила, громкий голос, резкие взрывы чистосердечного смеха – все это оказалось лекарством, и хорошим лекарством.
Они поехали вместе, и время шло незаметно. Старый маэстро ни о чем не спрашивает. Он почти все время говорит один, ни словечком не касаясь вопроса о том, почему Микеланджело уехал из Флоренции, где все это время блуждал, что пережил, как работал, откуда возвращается теперь после годового отсутствия… Ни единым вопросом не хочет коснуться Микеланджеловой тайны, мудрый и внимательный к чужой судьбе, больше, чем к своей. Обминает жизнь своими мускулистыми ручищами, но не дотрагивается до чужого сердца, и оно молчит. И Микеланджело не должен ни о чем говорить, никто ни о чем его не спрашивает.
Апрель. Клейкая листва кустов и деревьев, золотые цветы. Деревни, не имеющие другого имени, кроме как весна. Окрестность, которая называется просто апрель. Жасминный цвет сыплется на дорогу, в ее искрящуюся пыль. Всюду солнце. Порой мелкий дождь, тоже полный солнца. Листы на вечернем ветру звучат нежным звуком флейты и до сих пор – еще не терпкие, а таят весеннюю сладость – в сердцевине и в своей свежей, радостной окраске. Некоторые напоминают рой зеленых бабочек и мотыльков, расправляющих крылья для полета. Все ручьи текут, полны весной, и вода в них – вся из света и звуков. Почва, полным-полна весенней зеленью, одевается в аметистовые тени. Вечер – апрельски-пурпурный, цветы покрыл алый сок последнего солнечного луча, а потом они засеребрились. Лунный свет падает ласковый, неодолимый, чарующий, в дрожи его – трепет предчувствий всех летних ночей, которые потом придут, успокоят потрескавшуюся от зноя землю. Но сейчас это милованье света и земли еще дразняще легко, лишь в беглых касаньях, аромат грядущих цветов еще невнятен, – благоухают фиалки, но еще не пылают любовью ни мята, ни лаванда, лучи падают вкось. Апрель, топот конских копыт приглушен влажной почвой, – они едут во Флоренцию. Флорентийская роза, всегда налитая кровью, как губы женщин, ждет в музыке и благоуханье. Шум вод сопровождает эту езду, лавры стоят с ласковой, тихой влажностью среди веселья ирисов и их гимнов жизни; апрельский покой, сладость небес и земли, они едут во Флоренцию. Иногда в лицо им пахнет сильный весенний ветер, развеет угрозу бури. Окрестность взметнется, среди гор грянет аккорд грома, и сумасшедший дождь запляшет по лесам и лугам. Капли бриллиантами горят на шляпах и плащах, западают в самое сердце, маска окрестности стала серебряной, они едут во Флоренцию. Апрель.
Вдруг – колокола. Час – послеполуденный. Дорога извивалась и пошатывалась, пьяная солнцем. А звон плыл над виноградниками, оливковыми рощами, над смоковницами и самшитом, над кудрявой землей. Колокола гудели вширь, звук их напрягался, как лук, и летел далеко во все стороны за городские стены, весь белый и металлически-торжественный. Заблаговестил собор, и по его знаку стали бить ключом голоса остальных, забились сердца колоколов Санта-Аннунциаты, Санта-Кроче, Сан-Лоренцо, Сан-Франческо-аль-Монте, им ответили колокола Санта-Мария-дель-Фьоре, Санта-Мария-Новелла, Сан-Спирито, Сан-Марко, подхватили колокола Сан-Никколо, Сан-Амброзио, Санта-Мария-делла-Анджели, Санта-Тринита и другие, другие, все флорентийские колокола пели в призме апрельского света, и город, одетый солнцем, пел с ними. Это был могучий, вдохновенный гимн колоколов, восходящий прямо в небо золотым пламенем чистосердечной, благоговейной жертвы, это был колокольный зов к небу, к его престолам и силам, это был долгий жгучий поцелуй и вопль, это была песнь Флоренции. Микеланджело спрыгнул с коня. За спиной его послышался дрогнувший резкий голос Сангалло. Они увидели город. Микеланджело, странник, пошел теперь пешком. Сан-Миньято. Крест у ворот. Солнце и колокола.
Но Сангалло встревожился. Прежде чем войти в ворота, он тронул плечо Микеланджело.
– Что это звонят? – прошептал он. – Для вечерни еще рано.
Но Микеланджело пожал плечами. Пускай звонят, пускай, пускай еще, чем же лучше мог встретить их любимый город?
Улицы. Такие знакомые! На каждой стене этих домов остался какой-нибудь след его жизни, каждая морщина и трещина в камне полна его воспоминаний. Но тревога Сангалло усилилась, когда они увидели толпы, устремляющиеся по всем улицам к зданию Синьории. А колокола гудели.
Микеланджело смешался с толпой. Кто обратит внимание на вернувшегося беглеца? В это мгновенье он вспомнил свой отъезд. Тогда тоже навстречу ему валила поющая толпа. И теперь поет. Тогда это была песнь восстания, во главе шли представители городских кварталов, все стремилось к дворцу Медичи… а теперь людские потоки сливаются на площади Синьории. Какие странные лица!.. Микеланджело кинул узду своего коня растерянному Тиберию и пошел с остальными. Так подобает вернувшемуся страннику, бесславно появившемуся бродяге… Знаешь, зачем ты бежишь, Микеланджело? Ты бежишь затем, чтоб вернуться… Идут… Каждым нервом чувствует он, что снова стал частью Флоренции. И с каждым вздохом вдыхает ее особенный, острый, горьковатый, сладостный воздух. Касается плеч и локтей тех, что теснятся рядом. Уж он давно потерял Сангалло с его слугами и не думает ни о чем, знает только одно: я опять дома, опять во Флоренции, иду, куда идут вот эти, я один из них, среди них я дома, иду вместе с ними… Я – кусок Флоренции, я опять в ее стенах, один из тех, кто сейчас, насупившись, твердым торжественным шагом, с пеньем движется в могучей процессии. Почти все – в черной одежде, а моя одежда покрыта дорожной пылью. На женщинах никаких украшений – ни золотых венцов, ни ожерелий, платья без выреза, застегнуты наглухо. Лица серые, изможденные, осунувшиеся. Шаг толпы – тяжкий, медленный. Он уже не смотрит на одни только здания и улицы, не обращает внимания на статуи, с которыми тогда под дождем так прощался. Он видит впереди толпы волнующиеся хоругви с изображениями святых, особенно – святого Иоанна Крестителя. Процессия детей в белом, с веночками первых весенних цветов на голове. И песнь плывет под звон колоколов, песнь взлетает и падает, вырываясь из тысячи глоток, песнь бушует, плеща о камни дворцов, песнь заглушает даже колокола, – все поют страстно, восторженно, глядя на высокий крест во главе процессии, окруженный хоругвями, развеваемыми весенним ветром. Песнь гремит:
Смиритесь пред богом единым,
С любовию к его сыну,
Испившему страданий чашу,
Искупившему грехи наши
Кровью своей пресвятою.
Христос, Христос, Христос
Король Флоренции!
Мощно гудит хорал,- кажется, и камни поют. Гудят колокола, гудит хорал, стены города отвечают припевом: Христос, Христос, Христос – король Флоренции! Большое распятие во главе толпы раскачивается, оно тяжелое, несущие, в длинных белых облаченьях, сменяют друг друга. За ними, перед детьми, длинные вереницы доминиканцев, белые и черные, у каждого монаха в руке пальмовая ветвь и свеча. Микеланджело снова узрел Палаццо-Веккьо. А протолкавшись в толпе, увидел посреди площади Синьории высокий большой костер. И тут понял, чему он будет свидетелем, чем встречает его Флоренция. Вот отчего такой колокольный звон, хоть до вечерни далеко… Пламя чистосердечной благоговейной жертвы. Bruciamento della venita. Сожжение сует мирских.
Он слышал об этом столько насмешливых толков в Болонье, но в глубине души все не верил. А теперь увидел воочию. Он стоял в первом ряду, за широким кругом доминиканцев с надвинутыми на голову капюшонами, с горящими глазами, зажженными свечами и пальмовыми ветвями, прижатыми к груди. Перед ними стоял большой круг из сотен и сотен детей в белом, с веночками на голове, друг дружку подталкивающих и показывающих один другому предметы, принесенные каждым. Они собирали эти предметы во имя Христа, короля Флоренции, обходя дома и дворцы в своих белых куртках с вышитым красным крестиком. Великое святое войско, притом от души веселящееся, сопровождаемое бирючами, которым был дан приказ хватать каждого, кто вздумает противиться. Чего дети не разбили на месте, отшибая камнями носы у мраморных Софоклов, Сократов, Платонов и Демосфенов, то снесли сюда – сплошь одна анафема и суета, вещи проклятые, коварные орудия дьявола, которому нет места во Флоренции. Вот они стоят, жаждая огня, который будет велик. За детьми – с трудом соблюдаемый строй стариков, потом флорентийские кожевники, золоточеканщики, сукновалы, резчики, песковозы, – все с оливковыми побегами в руке, с лицом морщинистым и полным торжественного изумления. Потом духовенство, особым образом разделенное: по одну сторону – старые священнослужители, по другую – молодые, так называемые ангельские. А вокруг тысячеглавые толпы, теперь безмолвные, хмурые, напряженно ожидающие знаменья. Всюду теснится народ, просторная площадь Синьории полным-полна, стоят на выступах стен, в нишах дворцов, даже на карнизах, – все черно от людей.
Колокола замолкли. Тишина вдруг разверзлась, как бездна. Проникла всюду так внезапно, что иные даже пошатнулись. Это был страшный удар тишины, более звучный, чем перед этим – хорал с металлическим гуденьем целой бури колоколов. Но звука не было. Тишина объяла эти толпы, навалилась на них с огромной силой, в то же время раскрываясь перед ними и вокруг них, как глубина. Все стояли в ожидании. Казалось, в этой тишине живет и дышит только костер. Не костер, а большая пирамида.
Она была составлена очень продуманно. Внизу валялись карнавальные машкеры, женские платья с глубоким вырезом, фальшивые косы, ленты из легчайших тканей, золотые цепочки с жемчугом для причесок, богато расшитые ковры, плащи, драгоценные шалоны, все чрезвычайно тщательно облито горючим, чтоб хорошенько вспыхнуло. На этом сложены книги. Прежде всего – философия, потом – любовь. Платон и прочие, и в этот огненный час сопровождаемые многочисленными томами гуманистических комментариев. Толстые фолианты, полные сложнейших и утонченнейших мыслей, часто – труд всей жизни того, кто стоял теперь в толпе, глядя, как это вспыхнет, некоторые – думая о дьяволе, который возьмет это в ад вместо его души, другие о птице Фениксе, вечно возрождающейся из жаркого пепла и недоступной гибели от руки монахов. Далее – книги с античными комедиями, трагедиями и стихами – Плавт и Аристофан заодно с Эсхилом и Софоклом, стихотворения Катулла, Тибулла, сладость римских элегиков, песни Анакреона, бесценные пергаменты, богато иллюминованные, с великими жертвами приобретенные и переписанные, стихи, продолжающие спустя столетия стучаться в ворота человеческого сердца, теперь сплошь анафема и суета. Над слоями арабских сочинений по астрономии, математике, химии и медицине высились творения Петрарки, Боккаччо, Пульчи, Лоренцо Маньифико, Калуччо Салутати, Фацио Уберти, Ровеццано, Пекороно, Саккетти и всех остальных, с роскошными заглавными буквами, чудеса каллиграфии, переплетенные в золото, гордость княжеских библиотек. И бесконечное множество других томов, – главным образом, памфлеты на монахов и любовные истории. На них были сложены женские украшения. Вуали, тонкотканые покрывала, золотые венцы, мотки фландрских кружев, жемчужные ожерелья, запястья искусной чеканки, венецианские зеркала в рамках из византийской эмали, притирания в ларчиках из благоухающего амброй аравийского дерева, множество расшитых золотом подушечек, кружева и чепцы, инструменты для ногтей и выщипыванья пушка над губой, инкрустированные серебром щеточки для лица, выплавленные из гнутого золота вставки для волос. А поверх этих предметов покорно дожидалась гибели песня, музыка. Мягко изогнутые властительницы музыки – виолы, лютни, закругленные, будто волнистые формы девичьего тела, теперь поверженного грубой рукой, опрокинутого на потеху всем, выставленного под их любопытные взгляды. Высокие ярусы музыки, на которые навалили сверху карт и костей, словно предсказанья судьбы всегда слиты с музыкой, даже в смерти. Выше – шахматы, игры юношей и девушек, мячи и оперенные кружки из розового дерева. А над этим – благовония. Хрупкие граненые хрустальные флаконы бесценных арабских и персидских духов, особенно дорогой венецианской смеси, маленькие деревянные коробочки с ароматическими зернами, сушеные веточки издающих прелестный сильный запах загадочных кустарников, доставляемых мореплавателями из Африки, с Берега Пряностей и Берега Слоновой Кости, разноцветные ягоды в хрустальных ящичках, пропитанные всевозможными благоуханьями, царство и роскошь притираний и благовоний. Меж костей, карт и прочих средств предсказывать судьбу, меж этих ароматов, были заботливо расставлены – всем напоказ – изображения женщин. Красавица Бенчина, которую поклонники звали Ледой, улыбалась гладким телом, и портрет красавицы Моррелы, которую поклонники называли Клеопатрой, опирался на нее обнаженной рукой, хоть они и были соперницами, потом – Мария да Ленци, которую поклонники называли Афродитой, ничего не скрывая, ласкала и подбадривала долгим взглядом соседний портрет очаровательной монны Изабеты, чей муж, золотых дел мастер, когда-то провел целую ночь на дворе в ожидании конца света, пока каноник Маффеи утешал жену его, – и вот теперь муж, золотых дел мастер, стоял с оливковым побегом в объятии, среди остальных мастеров своего цеха, делая вид, будто ему довольно оливкового побега. Но это не были лишь бесстыдные изображения флорентийских красавиц, – нет, все богини Олимпа сошлись здесь, и, стоит вспыхнуть костру, они от жара изменят свои позы, и только летучий пепел будет покрывалом их красоты. И героини поэм Овидия и тосканских сонетов, жены света и преисподней, живые и древние, действительные и выдуманные, все ждали огня от руки монаха. Но пока с ними был здесь не монах, а дьявол. Потому что все это было нагромождено у ног огромной фигуры Сатаны, которая царила над всем, обмазанная смолой и серой, с козлиным лицом, растопырив во все стороны свои хищные когти. Сатана вздыбился высоко, осклабясь на окна Синьории, словно собирался потом юркнуть туда огромным прыжком или хоть что-нибудь поджечь. Микеланджело, затерянный в толпе, узнавал многие творения художников. Узнавал он и самих художников, стоящих среди народа, просто одетых и глядящих в землю, приготовясь к песнопенью.
От тишины становилось уже душно, спирало дыханье, продлись она еще немного, все эти ожидающие сердца взорвутся единым раскаленным огнеметом. Вдруг один из монахов раздвинул на груди рясу и вынул новую картину. Потом медленно подошел к костру и с брезгливостью, отвращением, омерзеньем бросил ее в общую кучу. Картина зацепилась рамой за край изображения монны Биче, которую поклонники за ее золотые волосы прозвали Береникой, и осталась в таком положении. Картина оказалась портретом мужчины с продолговатым желтым лицом, маленькими лукавыми глазами и длинной белой бородой, заостренной руками цирюльника. На лысой голове – черная шапочка набекрень. Это был мессер Луиджи Акоррари-Таска, венецианский купец, пожалевший анафему и суету и, не то подпав ее чарам, не то с целью наживы, пожелавший ее купить. На чем только не думают нажиться эти венецианцы? И вот сер Луиджи Акоррари-Таска, во время своей торговой поездки завернув во Флоренцию, предложил Синьории за весь костер двадцать две тысячи золотых дукатов, но Синьория отказалась продать костер анафем и суеты и отдала венецианца под суд. И теперь ему предстояло быть сожженным in effigie 1, вместе со всеми предметами, которые он – то ли ради наживы, то ли в сердечном заблуждении – собирался купить. Еще ночью написали его портрет – продолговатое желтое лицо, хитрые глазки, заостренная с помощью ножниц длинная белая борода, шапочка набекрень на лысой голове. Сам он в эту минуту был уже далеко за городскими стенами, убегая с проклятьями подальше от безумного города, а лик его тощий, худой монах с отвращением и брезгливостью кинул в костер, и Луиджи Акоррари-Таска, прислонившись к наготе монны Биче, стал ждать адской казни in effigie.
1 В изображении (лат.).
Монах вернулся на свое место в ряду и взял в руки пальмовую ветвь.
Вдруг тишина разорвалась. В воздухе мелькнула истощенная, костлявая рука сухой желтизны, и вслед за этим движением раздался резкий каркающий голос:
– "Lumen ad revelationem gentium" 1.
В тот же миг все колокола вновь загремели над городом могучей металлической бурей. На балконы Палаццо-Веккьо вышла в своих величественных сборчатых плащах, с гонфалоньером во главе, Синьория, зазвенели звонкие серебряные зовы труб, затрепетали фанфары, зареяли раскачиваемые мускулистыми руками хоругви, загудели колокола, и хор мальчиков, докторов теологии и священников грянул в ответ:
– "…et glorium plebis Israel!" 2
1 "Свет во откровение язычникам" (лат.).
2 "…и слава людей твоих Израиля!" (лат.)
Савонарола, бледный, с лицом, еще более изможденным и осунувшимся, стоял на отдельной кафедре, озаренный светом зажженного костра, где первые языки пламени уже жадно лизали накиданную громаду вещей, и повторил резким голосом, на высоких тонах:
– "Lumen ad revelationem gentium…"
– "…et glorium plebis Israel!" – ответил хор.
Тут опять подхватил народ, и пенье, как буря, разлилось по площади и всему городу, взывая к камням, небу и храмам, толпам и всей земле. Костер пылал ярким пламенем, то резко, то глухо потрескивая. В то же мгновенье тысячи рук поднялись и сомкнулись в цепь. Чьи-то руки схватили Микеланджело с обеих сторон, и вот уже круг начал двигаться. Сперва все долго топтались на месте, но потом вдруг стало просторней, так что появилась возможность шагать, и началось страшное коловращенье, круженье вокруг огромного пылающего костра, на котором стоял, ухмыляясь, дьявол, растопырив во все стороны свои хищные когти. Круг медленно развертывался, развивался, свивался, рос и опять сужался в медленном ритме, это был танец, чудовищный пляс под раздольный гул колоколов, сообщавший такт пенью и скаканью, огромный хоровод тысяч и тысяч, плясали с подскоком все, плясали монахи, дети, ангельские богослужители, доктора теологии, кожевники, золотари, сукновальщики, песковозы, художники, женщины, старики, цеховые мастера плясал весь город медленным круговым движеньем, мелькали оливковые побеги, огненные языки, пальмовые ветви, дико возбужденные лица, седины, легкие волосы женщин, тысячи сомкнутых рук подымались и опускались в такт пляски, к небу валил дым костра, огненные языки, колокольный звон, пенье – все сливалось в общий рокот:
Как скакал царь Давид,
Так пусть и наш хоровод кружит,
Одежды приподымая,
Сердца Христу предавая,
Да укротят божий гнев
Наш танец и наш напев.
Христос, Христос, Христос
Король Флоренции!
Хоровод вился все быстрей и быстрей. Кое-где кричали и плакали дети. Толпами овладело исступленье, общее неистовство, глаза дико расширены, рты искажены, щеки пылают. Огненные языки костра взметывались вверх, гудя все громче. Часть пирамиды, сложенной из проклятых предметов, рухнула с оглушительным грохотом, но дьяволу еще не хотелось улетать в преисподнюю или в окна Синьории, он стоял прочно, облитый смолой и натертый серой, распустив свои хищные когти во все стороны. Колокола гудели, и в их раздольном ритме качался хоровод взявшихся за руки толп. Детский крик становился громче. Некоторые женщины стали выкликать, что видят новую землю и новый, вечный Иерусалим. Круг не останавливался. Плясали все. Плясали монахи, доктора теологии, ангельские богослужители, старики и дети, мастера и женщины, тысячи ног топали по глине площади в ритмичном подскакивании, и к небу, вместе с полыхающим пламенем, рвалась песнь:
Мы скачем прочь от адских врат,
Христос нас примет в свой райский град,
В веселье рьяном, как царь Давид,
Мы пляшем, скачем – и песнь гремит:
Христос, Христос, Христос
Король Флоренции!
Потом пирамида обрушилась высоким гремучим столбом пламени. И фигура Сатаны, напитанная серой, рухнула стремглав, головой вниз, волоча за собой обгорелые лики красавиц. Дикий вопль и ликование толпы. Все заметалось, плясать сразу перестали, руки разомкнулись и возделись теперь в радостном махании, пролился целый дождь цветов, оливковых побегов, все посыпалось под ноги монахам, дети срывали с себя веночки и, крича, кидали их на рясы доминиканцев, под возвышение, на котором стоял Савонарола, все такой же бледный, внимательно следя за толпой, которая понемногу опять приняла форму процессии с хоругвями и крестом во главе. И все двинулись к монастырю Сан-Марко. На улицах стало пусто. А пенье гудело.
Микеланджело остался один. Ему казалось, будто он очнулся от какого-то припадка безумия, от кошмара. Он не узнавал Флоренцию, слыша крик и плач детей. Это уже не город Лоренцо Маньифико, это Флоренция Савонаролы, правы были те, кто предупреждал. На улице больше никого. Вдоль домов, крадучись по-кошачьи, пробирался какой-то мальчик, что-то пряча под курткой. Увидев Микеланджело, он остановился как вкопанный. Но потом догадался: это чужеземец, весь в дорожной пыли. Пыль на одежде Микеланджело придала мальчишке храбрости, и он прошмыгнул мимо, не спуская подозрительного взгляда с незнакомого лица. А Микеланджело узнал его. Это был десятилетний Андреа, сын портного, которого называли, по ремеслу отца, – Андреа дель Сарто. И в то мгновенье, когда мальчишка пробегал мимо, Микеланджело заметил, что из-под короткой куртки у него высовывается кусок обгорелой, опаленной картины Боттичелли, спасенный от костра. Микеланджело задрожал, он готов был схватить паренька и поцеловать. Потому что вокруг догорающей пирамиды давно уж стояла стража с обнаженными мечами, а однажды толпа растерзала живописца Кавальери, бросившегося было, как безумный, к огню, чтоб спасти часть картины Мантеньи. А мальчик не побоялся… Обгорелый кусок Боттичеллевой живописи свешивался из-под куртки, и паренек, заметив слишком пристальный взгляд чужеземца, пустился бежать. Я этого не забуду, Андреа дель Сарто, я ведь тоже прятал у себя под курткой рисунки и холсты, тоже, мой милый…
Он стоял в нише дворца Гонди, и трое прошли мимо, не обратив на него внимания. Но он их узнал. Живописец Лоренцо ди Креди и Поллайоло, оба в черном, серьезные, хмурые, осторожно и заботливо вели под руки старичка, перебирающего пальцами с тихой молитвой зерна четок и с трудом переводящего дух, – видно, и он принимал участие в пляске. Оба поводыря отвечали на каждую его молитву: "Аминь", – с великим почтеньем его поддерживая. Микеланджело узнал и его. Это был маэстро Сандро Боттичелли.
БОЛЬШОЕ КЛАДБИЩЕ
Он стал глядеть им вслед. Весь город будет сегодня тесниться в Сан-Марко, куда толпы валят уже теперь, хотя Савонаролова проповедь начнется только в полночь. Будет там, конечно, и дядя Франческо, и братья, а может, и папа. А мама? Но тут за спиной его послышался чей-то голос:
– Флоренция встретила тебя колоколами и пляской, Микеланджело, а я приветствую тебя просто, по-человечески. Когда ж ты приехал? Ты еще в пыли…
Микеланджело повернулся и радостно сжал руку говорящего.
– Никколо!
Тот засмеялся и обнял его.
– Да, я. Я узнал тебя сразу, еще там, в толпе. Знаешь, – продолжал Макиавелли, сопровождая слова свои легкой летучей улыбкой, – я не пляшу. Не умею скакать во славу божию, но всегда стою в стороне, смотрю, наблюдаю. Это очень интересно и…
– Ты всегда стоял в стороне и смотрел, Никколо! Помнишь, еще тот раз, когда уезжала принцесса Маддалена?
Макиавелли равнодушно махнул рукой.
– Ничего из этого не вышло, как вообще из всех Лоренцовых замыслов.
Он медленно провел всей ладонью по одежде Микеланджело. Но не то чтоб погладил.
– Пыль… – тихо промолвил он. – Дорожная пыль…
И долго глядел на свою ладонь.
– Никколо… – прошептал Микеланджело. – Это было страшно!..
Макиавелли засмеялся.
– Привыкнешь, как я. И почувствуешь любопытство, как я. Не забывая того, что я тебе сказал тогда, на косогоре, ты сам мне об этом сейчас напомнил: стой в стороне и наблюдай. Много увидишь интересного. А придет время, станет еще интересней. Впрочем, это уже начинается… Видел пляску? Это не все, это не только пляска, гораздо интересней то, что за ней скрывается. К твоему сведению, теперь Савонарола предписывает флорентийским гражданам не только молитвы, но и что им есть, как одеваться, когда спать с женами. Беда, если он высчитает, что какой-нибудь ребенок был зачат во время поста! А мясо мы теперь можем есть только два дня в неделю, а в остальные дни – хлеб и вода, надевай власяницу и сиди в пепле. И вот – первые перестали скакать мясники. Отказались воспевать хвалы Христу, королю той Флоренции, в которой нельзя есть мясо. Собрались с топорами у дворца Синьории и до тех пор там бушевали, пока Синьория, ввиду их ничтожных доходов, не сняла с них налога. А пройдет немного времени, и придется простить чеканщикам по золоту, ведь здесь нельзя носить золотых украшений. А потом – торговцам шелком, потому что нельзя ходить в шелковой одежде. А потом вышивальщицам, красильщикам и золотарям, чтоб не перестали вдруг скакать золотари, красильщики и торговцы шелком. Что же будет делать город, не получая налога? Идет война, нужно много, много денег. Ты знаешь, Пиза отпала, мы ведем войну с Пизой. Отпало Ливорно, мы ведем войну с Ливорно. Но нам приходится держать вооруженные отряды и против Рима. Война. Каждый город копит деньги, вводит новые и новые налоги, иначе нельзя. А у нас? Налоги прощаются. А то граждане скакать перестанут.
Макиавелли засмеялся язвительным смешком.
– Понимаешь? Или платить налогов не будут, или скакать перестанут. Ах, Микеланджело! Как это занятно! Стою в стороне и смотрю! Савонарола хотел весь город превратить в огромный монастырь, а превратил его в большое кладбище, здесь люди, как мертвые, не улыбаются. Едят, как он приказал, одеваются, как он приказал, спят с женой, когда он приказал, – только по определенным дням, когда нет поста, – а ему все мало! Это, мол, еще не царство божие на земле… Можно поверить, что нет! Просто страшно, до чего Савонарола не знает людей! Живет все время в каком-то воображаемом мире, где нет ни грешников, ни человеческих слабостей… а потом вдруг свалится с этих высот и увидит одну грязь вокруг – хуже, чем есть в действительности… и тогда, в пылу вдохновенья, издает новые законы, новые правила, рвется куда-то, где сплошь одни праведники, а не жалкие, пыльные, блеклые горожанишки, пропыленные людишки, скорченные за канцелярскими налоями и грызущие длинные столбцы цифр… Нет, не знает он людей. Он хочет, чтоб все были избранниками, и тащит их за собой, перепуганных его угрозами и бирючами, усталых и замученных его неустанными обличеньями. Сдается мне, слишком много их тащит он с собой к узким евангельским вратам, все туда не войдут, не войти всей Флоренции. А он идет, тащит их за собой, проклинает, приказывает, сажает в тюрьму, грозит, и что ж удивительного, что многие втайне подумывают о том, как было бы славно, если б он оставил их в покое и им не надо было бы тянуться за ним к царству божию на земле… Знает Христа, а не знает людей. И его ждет здесь провал. Потому что, Микеланьоло, Макиавелли, взяв собеседника доверительно под руку, понизил голос, – о людях ничего другого не скажешь, как то, что они неблагодарны, вероломны, непостоянны и трусы. Пока ты их гладишь по шерстке и сам им в новинку, они за тобой идут. А как только ты от них потребовал что-нибудь серьезное, так взбунтуются и оставят тебя. И правитель, положивший в основу своего управления одну лишь веру в то, что люди добры, падет, оттого что не приготовил себе чего-нибудь ненадежней.
Они шли неторопливыми шагами, тесно рядом, почти не встречая прохожих.
– Но мне кажется, Никколо, Савонарола делает ставку на бога, а не на людей…
Макиавелли махнул рукой.
– Он так говорит. А сам вступил в бой со всей церковью. Ты понимаешь? Этот бой тем и страшен. Священник против священников. Каждая сторона утверждает, что с нею бог. Савонарола во имя божье идет против папы. Александр уже дважды запрещал ему проповедовать, и Синьория дважды оплачивала снятие запрета. Он хочет обновить церковь, исправить церковь, реформировать церковь, улучшить церковь, и я не знаю, что еще сделать с ней. Сколькие до него желали этого, и все кончили костром. Но я прекрасно вижу. Савонарола сгорит не за церковь, а из-за папы. Савонарола пойдет на смерть не за догматы, он пойдет на смерть из-за тиары. Потому что он говорит о созыве совещания, хочет, чтобы съехались светские государи и сместили Александра, – а от этого любого папу может хватить хороший удар. Знаешь, я над этим много думал. Провозгласи ересь – и с тобой будут спорить, пошлют против тебя докторов богословия, и ты, может быть, отделаешься отреченьем. Но заведи речь об отнятии тиары… и ты погиб. Александр Шестой будет не первый, который так поступит. Савонароле не удалось поднять большое освободительное движение во всей церкви, ему удалось только изменить Флоренцию. Не сумев увлечь за собой прелатов, он в отчаянье борьбы обращается к светской власти. На кого же он теперь опирается? На это будущее совещание… на Карла Восьмого, на Ягеллона, Генриха Английского… Светские государи должны сместить папу! По-твоему, бог даст благословение этому монаху в ущерб своему наместнику?
Макиавелли опять язвительно засмеялся и прибавил:
– Савонарола падет. Падет не только оттого, что, сам принадлежа к духовенству, возбуждает светскую власть против духовной, он падет еще оттого, что слишком искренен, подходит ко всему слишком серьезно. Каждый искренний человек неизбежно должен погибнуть там, где все – лицемеры и трусы.
– У тебя странная философия, Никколо, – сказал Микеланджело.
Макиавелли усмехнулся.
– Может, и странная, да соответствующая действительности, мой милый. Видишь ли, я не умею приспособляться к здешним обстоятельствам, вижу все в другом свете, не хочу быть простым чинушей, мое время еще не наступило. А пока жду, и у меня пропасть свободного времени. Упорно учусь – и отсюда моя философия. Только не по Платону и Аристотелю, ими пускай занимаются другие, которые так плохо здесь кончили, – я не любитель туманов. А по Титу Ливию, Полибию, Тациту, Цезарю и Светонию. Вот откуда моя философия, вот кто мои авторы, научившие меня мыслить, не растекаясь, существенно и трезво, они научили меня не верить людям и всегда видеть прежде всего не добрые свойства их, а дурные, быть всегда настороже, видеть плохое раньше хорошего. И я, следуя этим авторитетам своим, ясно вижу, что в жизни народов события вечно повторяются и люди поступают всегда одинаково, на одно и то же событие у них всегда один и тот же ответ – до Христа или после него, какой век – это не имеет значения. Потому что у людей всегда одни и те же страсти. Так что одна и та же причина вызывает одни и те же последствия.
– Никколо… – неуверенно промолвил Микеланджело, – а что теперь будет со мной?
– Ты будешь голодать, – просто, по-приятельски ответил Макиавелли. – Не думай об этом, я уж давно голодаю. Голодать будешь… а может, и нет. Мне сейчас пришло в голову: постарайся добраться до Лоренцо Медичи…
– Что? – воскликнул Микеланджело в изумлении. – К какому Лоренцо Медичи?
– Вот как? – засмеялся Макиавелли. – Ты ничего не знаешь! Тогда Пьер, может, ты помнишь, – возмечтал о тирании и велел посадить в тюрьму двух своих дядей, Лоренцо и Джованни Медичи, но им удалось перед самой казнью бежать к Карлу Восьмому, и с ним они вернулись во Флоренцию. Теперь они здесь живут, но только зовутся уже не Медичи, – во Флоренции не должно быть ничего медицейского, так они переменили фамилию. Теперь они – Пополано… Народные!
Макиавелли рассмеялся от всей души, так что был вынужден даже прервать речь. Потом продолжал:
– Вот чем кончилась мечта Лоренцо Маньифико! Медичи во Флоренции не смеют даже называться своим именем. Но этот Лоренцо Медичи, Лоренцо Пополано, страшно любит втайне разыгрывать из себя Маньифико, – сам увидишь, посмеешься. Он будет тебе рад. Ему нужен двор, не хватает художников, ты будешь первым. Да еще – как наследство от Маньифико… будешь делать статуи святых, не вздумай только чего другого!
Медичи! Опять Медичи! Твои пути будут всегда перекрещиваться с путями Медичи… сказал там, на церковной скамье в Болонье, изгнанник, который в несчастье обрел дар пророчества. Лоренцо – Медичи, не именем, а родом, – это из страха перед Савонаролой называется он Пополано, а родом он Медичи…
– Спасибо тебе, дорогой Никколо, я пойду к нему. Надо мне иметь какой-нибудь заработок – из-за родных, не могу же я быть им в тягость… Завтра же схожу к Кардиери, чтоб он меня туда сводил, – ведь мой милый Кардиери с Аминтой, наверно, при дворе этого… Пополано!
Макиавелли взглянул на Микеланджело искоса, потом сказал:
– Ну, я пойду. К Сан-Марко, на проповедь. Хочется поразвлечься, послушать об адских муках и о том, как представляет себе Савонарола Италию под властью духовенства. Поразительно!.. Хочу занять там местечко, так что покидаю тебя. А ты сходи, сходи, не откладывая…
Пожав ему руку, он побежал длинными аистиными шагами по улице и вскоре исчез меж домов.
Микеланджело остался опять один. Только тут до его сознания дошло, что он даже не спросил Макиавелли ни о своих родных, ни о Граначчи, до того был потрясен всем виденным… "Ты пришел на большое кладбище", – сказал Никколо. И Микеланджело вдруг вспомнил свой сон, который видел последней ночью в Болонье, ночуя прямо на площади. Близится конец света, возглашает Савонарола. Конец света уже наступил… гробы разверзлись, он стоял один на большом кладбище, потом опять пир, ты это видишь, ты еще живой, а они… и тут пришла она, волнистые черные волосы, белый жемчуг в искусной прическе, долгий взгляд фиалково-синих глаз… "Пойдем, – сказала, – у нас есть дом…"
Флоренция! "Затем бежишь, чтоб вернуться" – так прокаркал тогда голос у ворот, который теперь царит над Флоренцией. Где же мой дом?
На улице появилась какая-то женщина. Узнала, пошла навстречу. Тихо окликнула:
– Микеланджело! Ты меня не узнаешь? Когда ж ты вернулся? Пойдем, проводи меня и расскажи!
И протянула ему обе руки. Он узнал Аминту, нимфу Аретузу. Как постарела! На губах горечь, лицо полно морщин. Искусная прическа производит смешное впечатление. Исхудала, острые ключицы отчетливо выступают ниже горла, над глубоким вырезом, которого она нарочно не закрывала. Бледная, как та, воспоминанье. И тело ее печально. Он обрадовался этой встрече, так же как встрече с Никколо. Как-никак – два друга на этом кладбище! Они пошли рядом, и она стала расспрашивать о его житье-бытье на чужбине; он стал сочинять, но она поняла, что он лжет, и перестала спрашивать. Тогда он в свою очередь засыпал ее вопросами, но она ничего не знала о его дяде и семье.
– Ты не идешь на проповедь? – спросил он.
Она презрительно покачала головой.
– Я медицейская и останусь медицейской. Никто не заманит меня в дом божий, где этот одержимый сипит своим мерзким ртом. Знаешь, Микеланьоло, прибавила она ласково, – ты должен остаться нам верным. Ты ведь тоже медицейский и таким и останешься. Нас всего горстка, но мы приобретаем все больше сторонников, с тоской вспоминающих о времени бессмертного Лоренцо. Они собираются тайно у меня, молодые патриции и некоторые старые члены Совета, – ты, конечно, придешь?..
– Заговор? – тихо спросил он.
Она улыбнулась.
– Так, немножко. Пока – немножко. Но к приезду Пьера подготовим как следует.
Она продолжала бы этот разговор и дальше, но Микеланджело прервал ее вопросом, который давно вертелся у него на языке:
– А Кардиери?
Она сжала губы и коснулась Микеланджелова локтя слегка дрожащей рукой. Последовала минута молчанья, во время которой он уже почувствовал недоброе.
– Его нет в живых, – сказала она.- Он убит.
– Кардиери? – воскликнул он. – Кто ж убийца?
Опять печальное молчанье, потом она ответила еще тише:
– Зовут его, кажется, Рауль де Лорри. Французский офицер на службе синьора Филиппа…
– Но почему? Почему?
Она ничего не ответила. Он понял и, нахмурившись, отстранил свой локоть, так что рука ее упала. Она побледнела и еще сильней сжала губы.
– Ты когда-нибудь любил, Микеланджело? – спросила она.
Почему такой вопрос именно теперь? Это показалось ему до того оскорбительным и циничным, что он стал искать злых, мстительных слов. Потому что всегда вспоминал Кардиери с любовью.
– Я – да, – послышалось возле него тихо, очень тихо.
Он ответил:
– Копейщика Рауля, мальчика Джулиано Медичи, патрицианских сынков, членов Совета, богатых купцов и художников из садов Медицейских?
– Нет, – спокойно возразила она. – Этих я никогда не любила.
Преодолев свою скорбь, он вымолвил имя друга:
– Кардиери?
Она, поглядев на него, прошептала:
– Не знаю, любила ли я когда-нибудь того, кто любил меня больше всех на свете.
Он поглядел на нее. Она смотрела в другую сторону. Это была стареющая женщина, вся в морщинах, горечь на губах. Искусная прическа производила жалкое впечатление. Но нимфа Аретуза шла рядом с ним, словно была все еще прекрасна. Ах, на этом большом кладбище еще не все мертвецы похоронены…
– Я знаю, ты любил, Микеланджело, – вдруг промолвила она. – Знаю, что там, вне города, где-то на своем пути, ты был застигнут любовью, я узнала это по твоему лицу, молчи, не говори мне ничего. Сперва ты стал лгать о своем путешествии, я узнала это по лицу, сказал, что был в Лукке, Сиене, Венеции, в Риме, – а на самом деле был все время у нее. Ты любил, а вернулся, – значит, несчастливая была любовь. Но если ты много любил, так поймешь, почему я тебя спросила… в такой связи, на твой вопрос о Кардиери я тебе ответила, что он убит французским копейщиком и что я не знаю, любила ли его. У меня о нем много воспоминаний, и в то же время его словно никогда не было. Это не был праздник любви, он ничего не скрывал, даже тоски своих лихорадочных рук, когда я не была с ним, у меня перед глазами все время мелькают другие образы, он меня очень любил, но слишком много знал обо мне, больше, чем я думала, он любил меня, как свет тьму, а я должна была иначе… Бывает великая, безмерная любовь, но и она не вырвет нас из нашей судьбы… не освободит, мы всегда возвращаемся обратно в свое собственное существование…
Он остановился.
– Я сказала что-нибудь странное, что ты так смотришь на меня?
Они пошли дальше, он глядел на ее тонкую, исхудавшую руку, которую она опять продела ему под локоть.
– Я этого не понимаю… – сказал он.
Она улыбнулась.
– Мы теперь, конечно, будем видеться чаще, и придет время – скажем друг другу об этом больше. Мне всегда страшно хотелось поговорить с настоящим другом Кардиери, высказать все, чего не могла сказать ему самому, а было бы так, будто я говорю именно ему. И будто я перед ним во всем оправдалась… Приходи ко мне скорей, Микеланджело, приходи! Мы ведь с тобой старые друзья, а теперь нас свяжет и общая борьба… Ты что думаешь первым долгом здесь предпринять?
– Пойду попрошу работы у Лоренцо Медичи, Пополано этого, я слышал о нем!
Она возмутилась.
– Ни в коем случае, Микеланджело! Он – не Медичи, ты поступишь дурно. Не ходи к этому Пополано, хитрому, лукавому негодяю, который изменил делу Медичи и для нас – хуже любого врага. Это предатель! Берегись!
Микеланджело опустил голову.
– Я должен работать, Аминта, должен здесь чем-то кормиться. Кто даст мне работу? Савонарола? Не могу я быть в тягость своим родным, я до сих пор – никто… Я должен…
Она вздрогнула от отвращенья.
– Это не человек! – сказала она. – Это паук!
Слово "паук" вспомнил потом Микеланджело, сидя в просторном зале с искусно расписанным потолком и стенами в шалонах, за столом, покрытым красной скатертью, на котором стояли два кубка вина и ваза с розами.
Лоренцо Пополано, маленький, сгорбленный, с серебристо-седыми и сильно поредевшими волосами, беспокойно ходил по комнате, заложив руки за спину и говоря, по своей привычке, на ходу: он не мог глядеть в лицо собеседнику. Говорил он быстро, проглатывая половину слов, так что иногда даже не разберешь, но это тоже было в его привычках, – таким путем он всегда мог половину слов признать, а от половины отказаться. Он беспокойно бегал глазами по предметам, многие из них брал в руки и, продолжая говорить, рассматривал их так внимательно и с таким удивлением, словно видел впервые. Потом быстро ставил опять на место, складывал руки за спиной и возобновлял свое беспокойное хождение, маленький, сгорбленный, глядя на гостя искоса, бегло, поводя покатыми плечами и проглатывая половину слов.
– Всем нам приходится приспосабливаться, понимаешь, Микеланджело Буонарроти, – говорил Лоренцо Пополано, и фигура его в длинном черном плаще грубого сукна носилась по всей комнате из угла в угол. – Время смутное, a inter arma silent musae 1. Нынче мы радуемся, что живы, а остальное милосердный бог дает нам в придачу, и мы благодарим коленопреклоненно, аминь… Значит, ты прямо из Болоньи… Странно, что ты не знаешь, что делается у Бентивольо, очень странно, но ты хорошо делал, что не заботился о преходящем, все мы взыскуем лишь царства божия на земле, как правильно возвещает святой муж фра Джироламо, ведь милосердный бог сам знает, что нам нужно. Погляди на лилии полевые, они не прядут, не жнут, а господь… И Пьер тоже был в Болонье, ишь ты! Ну ладно, я тебя ничего не спрашиваю, меня не интересует этот человек, справедливо наказанный милосердным богом. Уж теперь оружие мое – четки, а не меч и политика, я верую в пришествие Христово, не помышляю о временном, что мне до Пьера! И поехал в Венецию, вот как? Значит, венецианцы тоже… У него был договор с Сиеной, Бентивольо обещали ему помощь, а теперь и венецианцы… Ишь как против царства божия работает! Но я радостно прощаю ему, как нам велит милосердный бог… Значит, ты приехал из Болоньи и хочешь для меня работать, я рад, очень рад видеть тебя, Микеланджело, уж из одного уважения к родственнику, который тебя так любил, это был грешный, сбившийся с пути человек, отпусти ему прегрешения, милосердный боже! Значит, для меня работать хочешь, так, так, но знаешь inter anna silent musae, многие строят козни против царства божия на земле. Пьер! И Пиза! Уничтожение Пизы – это ежедневное ceterum autem censeo 2 нашего святого фра Джироламо. А Ливорно! А Рим! Написано, что царство божие подвергнется насилию на земле, и это относится прямо к нам, так проявим терпенье и будем уповать на милосердного бога, ведь он борется за нас… Так, теперь для меня, ну что ж, Микеланджело, я охотно заплачу за хорошую святую статую, но – ничего языческого, запомни! Я думаю, что больше всего удовольствия мы доставили бы святому мужу фра Джироламо, если б это была статуя патрона Флоренции святого Иоанна Крестителя, как по-твоему? Но… Лоренцо Пополано вдруг окинул его коротким, быстрым взглядом, – у меня свои вкусы, и хорошо было бы, если б ты с ними посчитался. Я ненавижу античность, никто не прельстит меня видимостью красоты там, где скрывается дьявол, и давно прошло время, когда я тоже был прельщен и горячо отстаивал это языческое искусство! Милосердный господь, я верю, простил меня ввиду моего сердечного раскаянья. Так что ничего античного! Но этим я не хочу сказать, что ты должен уподобить своего святого Иоанна тем мрачным, хмурым святым Иоаннам Крестителям, которыми полна Флоренция! Наоборот, я бы хотел, чтоб твой святой Иоанн был простой, миловидный молодой человек, не лишенный Аполлоновой привлекательности, но – ничего языческого, что могло бы оттолкнуть достойных граждан святого города Флоренции, ты меня понял, я добрый христианин и беззаветно предан нашему святому фра Джироламо, никто не может обо мне сказать, что я принадлежу к аррабиатам либо – еще того хуже к этим паллескам, выродкам, которые тешатся пустой надеждой на возвращение медицейского рода! Нет, я верю пророку господнему Савонароле и следую за ним… Так насчет статуи, о которой ты говоришь. Что ж, хорошо, статую, но только не языческую, какой захотел бы от тебя, конечно, мой несчастный родственник, мне надо чего-нибудь подлинно святое. Я охотно заплачу, хотя у меня большие расходы на бедных, – имей в виду: я коплю сокровища на небесах, но я охотно тебе заплачу, если только статуя твоя доставит радость моим дорогим флорентийцам и фра Джироламо, можешь хоть теперь говорить всюду, что делаешь статую святого патрона города за мой счет. И сделай ты мне его в виде обнаженного юноши, привлекательной наружности, полного эллинской юности и блеска, с вакхически-набожным выраженьем лица, зачем надевать на него одежду из верблюжьего волоса, зачем? Он, может быть, носил это потом, уже в пустыне, но я не хочу святого Иоанна в пустыне, такого хмурого, будто ветхозаветного, я хочу великолепного обнаженного юношу, прелестного, как Парис, знаешь, святого Иоанчика! Ну да, вот именно Иоанчика, Джованнино, но только святого, ни в коем случае не забывай! Я решительно отвергаю античное, – это идолопоклонство с помощью господа милосердного надо из Флоренции вытравить. Ты хорошо меня понял, Микеланджело?
1 Во время битв музы молчат (лат.).
2 Однако я считаю (лат.) – начало знаменитой фразы римского сенатора Катона: "Однако я считаю, что Карфаген надо разрушить", – которую он произносил в конце речи по любому поводу.
И Лоренцо Пополано опять окинул его коротким косым взглядом, который слегка напомнил бы хитрую пронырливую улыбку, если б лицо Лоренцо тотчас не собралось в складки бесконечного смирения и благочестия.
Микеланджело понял. Значит, опять античность! – подумал он, уходя. Как хорошо Никколо разбирается в людях! Как верно обрисовали мне он с Аминтой характер этого… Пополано! Чего-то подлинно святого с вакхически-набожным выражением… Античность! Тайная любовь всех Медичи, не смеющая теперь обнаружиться в городе Савонаролы, в царстве божьем, где этот старик бегает из угла в угол своей комнаты, как жадный паук, как скорпион, ожидающий святого мгновенья!.. Эллинский молодой Иоанн Креститель, с Аполлоновой прелестью. Может, вместо креста дать ему в руки тирс? Ты хорошо меня понял, Микеланджело? Только чтоб ничего языческого! Джованнино, святой Иоанчик, обнаженный и прелестный, как Парис… Чтоб милосердный бог не покарал нас!
А я должен служить. Потому что дома отношения просто ужасные. Дядя Франческо уже нет в живых, – помер после изгнания Медичи, в котором участвовал, полный святого гнева. Старое сердце его не выдержало святого гнева, и когда Пьер выбежал в открытые ворота, дядя Франческо до того разволновался, что, вернувшись домой, слег и вскоре умер, громко призывая бога. Похороны были весьма торжественные, было много монахов и священников, много свечей и колокольного звона, пьяньони 1 несли хоругви и гроб, вечером, после проповеди, сам Савонарола со всеми присутствующими в храме молился за одного из первых верных своих, много споспешествовавшего установлению царства Христа во Флоренции. Но меняльная контора давала теперь мало дохода, операциям мешала война, и отец, Лодовико, тоже напрасно сидел в воротах, хотя Савонарола не отменил мытарей, да не с кого было пошлину брать. Микеланджело нашел в доме нищету. Отец, согбенный под бременем старости и забот, указал ему на пустой стол. Голодал бывший член Совета двенадцати, сильно постарел и ничего не понимал в происходящем, когда правят не князья, а монах. Старость его была горькой и злой, он ожесточился. А любимый сын, рожденный при благоприятных небесных знаменьях, но ставший каменотесом, вернулся после годового отсутствия бродягой, напрасно искавшим какой-нибудь крыши над головой и нигде ее не нашедшим, кроме как дома. Где он получит работу? Правителей уже нет, аббаты стали скупыми. И старый Лодовико тревожно поплелся на свое место в воротах, еле с ним поздоровавшись. Братья Буонаррото, Джовансимоне и Сиджисмондо ждали от него подарков и денег. Подарков он не привез, а деньги отдал им все, какие были, но они нашли, что мало. В семье жил теперь нахлебник, фра Таддео, монах, он мог печься о ней только в молитвах, а меняльная контора давала такой ничтожный доход… И была очень больна мама, монна Лукреция, – она почти не вставала с постели. Микеланджело подолгу сидел возле нее, держа ее исхудавшую руку, давая лекарства, горькие и цветом похожие на желчь, и говорил о том, что вот придет весна – все изменится к лучшему. Рассказал ей и о заказе, полученном от Лоренцо Пополано, и братья, прослышав об этом, стали все время спрашивать, когда он начнет. Но у него еще не было камня. Он видел, что они недовольны его праздностью и сидением возле больной, его заботами о ней. Тут он понял, что их интересуют только его деньги.
1 Плакальщики (ит.).
Досуги он проводил у единственного друга, которого теперь имел, – у Аминты. У него сразу становилось легче на душе от ее горькой улыбки; стареющая нимфа ходила по этому большому кладбищу, как тихий призрак, худые руки ее были ласковы, а речи полны жизненной мудрости.
Потом он получил камень и приступил к делу. Сан-Джованнино, обнаженный святой Иоанчик.
НА ЛЕСТНИЦЕ ПАЛАЦЦО-ВЕККЬО
Разбив последние неаполитанские и папские войска, Карл Восьмой, по совету астрологов, вступил в Рим через ворота Санта-Мария-дель-Пополо. Но астрологи, видимо, знали только ворота, а не знали того, что за ними. Римское население сперва оказало восторженную встречу Карлу, въехавшему на белом коне, под сенью гигантских стягов, пуская слюну, и панцирь его хрустел, а на голове у него был чеканный золотой шлем, а рядом ехал кардинал Асканио Сфорца, канцлер церкви, жаждущий заточить папу. Народ стоял вдоль всей Виа-Лата – до дворца Сан-Марко, нового королевского местопребывания, и дивился огромным французским пушкам, прочим орудиям и вооружению чужеземных солдат, римляне не удивлялись, что эпилептик уже среди них, коли он пришел с таким оружием. И все с любопытством ждали, что теперь сделает святой отец, которому оставалось надеяться только на бога. Было много догадок и предположений, только какой-нибудь исключительный шаг мог спасти папу, когда большинство кардиналов перешло на сторону неприятеля. Много ночей провели в размышлении французские маршалы де Жье, де Монпасье, де Бокер, председатель французского парламента де Гане и весь французский военный совет, выдумывая вещи самые необычайные, даже нелепые, чтоб быть готовыми ко всему, ожидая от папы чего-то совершенно непредвиденного, решившись не склоняться даже перед чудом. Но Александр Шестой не совершил ничего из ряда вон выходящего, необычайного, а просто скрылся. Сделал то, что делали другие папы до него. Заперся в замке Святого Ангела и стал ждать.
Французский ум не мог этого постичь. Французы не ожидали такого простого поступка, А римское население между тем стало избивать их на улицах. Папа ждал за бойницами, одетый в испанскую одежду, с коротким мечом на боку. Он ждал, времени у него было довольно. Папа всегда рассчитывает на вечность. Папа никогда не сдается. А в это время писал английский король и писал испанский король, писал император Максимилиан, писал чешский и венгерский король Владислав Ягеллон – все писали французскому королю, не желая предоставить ему такую власть, чтоб он мог держать в темнице главу христианства. Но Карл хулил папу, утверждая, что он – не глава христианства, так как имеет жену и детей, из которых хуже всех Сезар. А папа ждал пока за бойницами. И, видя, что короли все продолжают писать, а римское население все отчаянней расправляется с солдатами на улицах, Карл потребовал хоть папских послов, гневно глядя на Адриановы укрепления. Но папа ответил, что требует прежде покорности. Только после этого – мира. Слишком провинился строптивый сын церкви перед наместником божьим, и до замиренья необходимо сперва покаяться. А чтоб не быть обвиненным в гордыне, папа все-таки послал послов, но это были – его сын Сезар и кардинал Караффо, пенитенциарий, на обязанности которого – иметь дело с кающимися. Но римский народ уже не потешался над этим. И Карл, в бессильном гневе, бродил по комнатам дворца Сан-Марко, вспоминая флорентийского монаха из монастыря того же святого. И не только монаха этого, но и свой образец, Карла Великого, – неизвестно, кого больше. Злобно хватался за свой меч с воинственным кликом – mon joyau! 1 Меч этот, заветная драгоценность Карла, был из чистейшей стали, но не так хорош, как меч, полученный Карлом Великим от папы Льва Третьего на римском холме, называвшемся mons gaudii, вершина радости, откуда Карл Великий и взял себе боевым девизом – mon joyau! Ho какая же была здесь вершина радости, mons gaudii для Карла? И он кричал mon joyau, думая больше о монахе. И другие тоже думали. Отпавшие кардиналы, перебежчики, испугались создавшегося положения, они знали, что это такое – уход папы в замок Святого Ангела. И все же снова, еще раз, посетили короля. Это были кардиналы Гуркский, Сансеверино, Сан-Дени, Савелли, Колонна – во главе с канцлером церкви Асканио Сфорца. Преклонившись перед королем, они попросили реформы церкви. Но не угрожали четырьмя всадниками, как Савонарола. Говорили тихо. Кардинал Сансеверино вынул из складок своей пурпурной мантии уже готовый указ об отстранении Александра. Кардиналы Савелли и Колонна подняли свои узкие лица от папок с процессуальными документами, обвинявшими его святость в симонии, прелюбодеянии и убийствах. Потом встал кардинал Асканио и произнес длинную речь, перевитую жемчугами цитат из святых отцов и канонического права, в которой доказывал, что вина Александра велика и его необходимо низложить, взять под стражу и посадить в тюрьму, чтобы его место могла занять особа, более угодная богу и королю. Но королю это надоело. Занятней был Савонарола, со своими змеями, чудищами и драконом, у которого на лбу рога и который способен хвостом сбить сперва треть, а потом и половину звезд. А процессуальные документы, указы и выводы из канонического права не интересовали его. И умолкли шесть кардиналов, шесть каменных фигур, облаченных в пурпур, и сложили руки на коленях. А король сидел напротив них с испуганным лицом, потому что боялся их.
1 Моя драгоценность (фр.).
Потом Карлу прочли одну Савонаролову проповедь, где он был назван великим Киром, который все улучшит и обновит. Тут Карл страшно возгордился и, плохо поняв, почему его называют Киром, вместо того чтоб подумать о Библии и пророках, заговорил опять об Индии, помышляя о персидских одеяньях. Тогда шесть кардиналов встали, – шесть каменных фигур, – направились один за другим к дверям – и только их и видели. Уехали из Рима.
А в это время папа спокойно расхаживал за бойницами, рука на эфесе короткого испанского меча, и ждал. Уходил день за днем, и у Карла оставалось все меньше времени, а ведь прежде чем попасть в Иерусалим, надо еще добыть Неаполь. И Карл Восьмой приказал прекратить обстрел замка Святого Ангела, Карл дал убедить себя, что Карл Великий никогда не воевал с папой, и Карл жестоко разбранил своих военных советников за то, что они зря теряют время, осаждая папу, главу христианства. И опять вызвал папских послов. Александр прислал к нему кардиналов Палавичини, Карваяла и Караффо, пенитенциария, который заверил короля, что папа не требует от него публичного покаянья. И король переехал пока из дворца Сан-Марко, самое название которого ему опостылело, в Ватикан. И прекрасным январским утром, полным ослепительного сиянья, Бриконне и Филипп де Люксанбур посоветовали королю совершить прогулку в ватиканских садах. Король вышел, сопровождаемый ими издали, и неожиданно на повороте дорожки повстречал его святость Александра, который тоже покинул замок Святого Ангела и вышел подышать утренним январским воздухом. И пал король на колени перед его святостью, пораженный величием его вида и одеянья, но святой отец прошел мимо, не обратив внимания, занятый важной беседой с кардиналом Рафаэлем Риарио, таким смертельно бледным, что король испугался, встал, открывши рот, и растерянно поглядел на Бриконне и Филиппа де Люксанбура, которые стояли, спрятавшись за кусты. Оба поспешно отошли от короля, так как папа шел обратно, прогуливаясь и дыша свежестью ослепительного январского утра. Снова упал на колени король. И снова, не обращая внимания, прошел мимо папа, беседуя о чем-то важном с кардиналом, в мертвенном лице которого не дрогнул ни один мускул. Король встал с колен и задрожал, так что испугались, не начался ли у него эпилептический припадок, который нарушит покаянье. И в третий раз прошел святой отец, и в третий раз стал на колени король – с такими воздыханиями, что папа заметил кающегося грешника, который поцеловал его ногу и рыбарский перстень. Папа самым ласковым образом поднял короля и, назвав его милым сыном, просил к себе в гости. И начались опять великие торжества, любил повеселиться народ римский, опьянев от радости, он исступленно приветствовал папу, так что папе пришлось выйти на балкон, с королем по левую руку и двумя новыми кардиналами Бриконне и Филиппом де Люксанбур – позади.
Флоренция взвыла от ужаса. Савонарола усилил епитимью, и монахи стояли теперь перед дарохранительницей по двое днем и ночью, вознося молитвы.
Рим утопал в празднествах, дня не проходило без турниров, процессий, танцев. И король, с глазами, ошалелыми от удивленья, учился у его святости искусству управлять, звуку голоса, жестам, осанке. Он до того старался не отходить ни на шаг от его святости, что в Риме его исподтишка, смеясь в ладонь, называли "мессером приворотником". Во время процессий король шагал гордо, держа свечу, на празднествах взбивал подушки на кресле святого отца, при появлении его святости всякий раз падал на колени, и это так понравилось папе, что он велел снова позвать к нему глухого бернардинца Бетти, любимого своего живописца, по прозванию Пинтуриккьо, и тот у него в комнатах, где еще не было расписано, изобразил все: Карл Восьмой на коленях перед папой, Карл Восьмой несет свечу, Карл Восьмой поправляет подушки… И над этим в углу золотой бык Борджа. А рядом – Апис, божественный Апис, тайна трех лиц в едином, согласно древнему египетскому мифу, как учил Помпоний Лет, бык, зачатый от солнечного луча, от золотого луча – нетелей, тайна, воскресшая под божественным числом три, Апис… и рядом – зачатый от золотого луча золотой бык Борджев. И папа долго стоял здесь, выпрямившись, и смотрел на эти картины. Все сливалось вместе. Апис и бык Борджев. Папа приказал принести свечей. А на галерее переминался с ноги на ногу король, ожидая, когда его позовут, потому что он пришел проститься. Слишком уж загостился он у святого отца и прекрасных дам, чьи портреты увозил теперь на память, смелые портреты, так как на этих картинках должна была быть изображена ласка, которой они осчастливили короля, как требовал Карл, и он любил эти картины, у него было уже много их – из Милана, Турина, Пизы, Флоренции, Рима – его триумф amoris 1. Был отобран особый породистый мул, чтоб возить эти полотна, и то – под балдахином, так дорожил ими король. Но союзник папы, злодей и мерзейший человек – неаполитанский король Альфонсо, достойный сын своего отца Ферранте, которого взял дьявол, не тратил времени на триумфы amoris, а собрал новое войско, поставив во главе его графа Питильяно и полководца Тривульция. Так что королю пришлось покинуть Рим и, простившись с папой, вновь идти походом на Неаполь.
Римские ворота захлопнулись за последним французским солдатом. Папа стоял в своей комнате por lo bajo в уединении, глядел на золотого Аписа и улыбался счастливой улыбкой. Золотой бык Борджев, миф древнего рода, тщетно враги вьются вокруг него, как оводы, победил и будет всегда побеждать, он не боится привидений, даже беседует с ними. Ведает свою тайну. Знает то, что не известно никому на свете. Никогда не бежал и не побежит. И папа гордо выпрямился.
Французские войска наступали на Неаполь, и командир ландскнехтов Ангильберт взял приступом Кастеллу Конти, ключ от Неаполя. Король Альфонсо бежал на Сицилию и умер там. Тривульций передался к Карлу Восьмому и стал высшим его военачальником. После взятия Капуи граф Питильяно бежал в Нолу. Дальше наступление шло уже без битв. И король победоносно вступил в Неаполь, где восхищался мессой с "Те Deum" 2 у св. Януария и неаполитанскими дамами, которые приумножат его триумф amoris. Они приумножили. А он стал мечтать об Азии.
1 Любви (лат.).
2 "Тебя, бога, хвалим" (лат.).
Но прекрасная дама Фортуна, возревновав к такому множеству любовниц, отвернулась от короля. И английский король Генрих Седьмой заключил союз с Фердинандом Испанским, отпал государственный изменник Лодовико Моро и заключил союз с императором Максимилианом, Венеция вступила в договор с папой, а султан Баязет – с Венецией. И все они – короли, папа, султан, император и республики – образовали "Святую лигу" для изгнания французов из Италии. Плохо пришлось французам. Тогда Карл в Неаполе взял руководство военным советом в свои руки, и все удивились. Никто не ждал от него такой твердости, сообразительности, дальновидности, неустрашимости и мужества уже без громких слов, рыцарских романов и сладких песен, – никто не ждал от него такой властной, королевской силы, какую он неожиданно обнаружил, он управлял и царствовал, наказывая трусов, карая изменников, командуя войсками. Но после совещаний, продолжавшихся ночи напролет, он на рассвете запирался один, не вынося возле себя ни одного человеческого лица, убитый, по-детски плача над своей великой мечтой об империи Карла Великого, восстановлении Византии и овладении Азией. А между тем к Неаполю быстро приближались войска Святой лиги под командованием самого Джованфранческо Третьего Гонзаги, маркиза Мантуанского, грознейшего полководца во всей Италии.
Вокруг Карла никого не было. У него остался один-единственный союзник. Словно в насмешку.
Савонарола.
Папа, султан, император, короли, республики, города – все кинули свои силы против него. Только монах был с ним.
Карл опять поехал в Рим. Но там был только один кардинал – англичанин Мортон, который с небрежной улыбкой просил извинить папу: его святость не имеет времени для беседы с королем. Во Флоренции в храмах горели все свечи, и народ был созван колокольным звоном на долгую молитву. Папский сын дон Сезар ночью перебил на площади св. Петра в Риме всех Карловых швейцарцев. Войска Святой лиги подступали уже к Альпам. Тогда король Карл бросился из Италии, чтобы достичь Альп, прежде чем его отрежут. Флоренция взвыла от ужаса, тысячи детей в белых одеждах по очереди стояли на молитве перед дарохранительницей и с ними – по двое монахов. Флоренция опустела. Флоренция побелела от ужаса, видя, как бежит Кир, покидая ее на произвол врагов. Флоренция знала, что погибла. И ждала своей судьбы, бессильная, погруженная в молитвы.
В эти дни Микеланджело окончил заказанную и оплаченную ему Лоренцо Медичи статую святого Иоанчика. Обнаженный Сан-Джованнино, вакхический, прекрасный, как Парис, с чувственным выражением лица, патрон угрожаемого города. Лоренцо был в восторге и заплатил хорошо. Микеланджело отдал все деньги в дом – отцу и братьям, оставил себе только на краски и дерево. И стал писать "Положение во гроб".
Возле него стоял Франческо Граначчи, внимательно следя за работой.
– Ты очень созрел за это время, Микеланьоло, – ласково, сердечно промолвил он. – Я ведь, в сущности, вижу первую твою картину, ты ничего не писал, разве только тайно, и мало что мне показывал. Вот эти мазки, показал он пальцем, – мастерские. И вообще ты никогда еще не работал темперой по дереву. Ты очень изменился, Микеланджело, очень, – может, даже сам не знаешь, до чего. И к лучшему.
– Святой Иоанчик, – пренебрежительно усмехнулся Микеланджело. – Никогда бы я прежде не стал ничего подобного делать.
– Ты не прав, – спокойно возразил Граначчи. – Сан-Джованнино великолепный мрамор и делает тебе честь. А то, что за этим стоит… какое это имеет значение? Когда-нибудь будут восхищаться твоим созданием, а не хитростью и лукавством этого Пополано. И не говори, что никогда ничего подобного не стал бы делать: вспомни… снежного великана.
Микеланджело улыбнулся.
– Твоя правда, Франческо, я и то давно говорю себе, что отупею когда-нибудь и буду служить прихотям правителей… как вы все!
– А! – прервал Граначчи. – Ты намекаешь на мой "Въезд Карла во Флоренцию"?
– Нет!..
Граначчи пожал плечами.
– Жаль, я бы охотно кое-что о нем тебе сказал. Впрочем, это хорошая картина, мне за нее не стыдно. Но не будем говорить обо мне, поговорим о тебе. Ты очень изменился, Микеланьоло, и я этому сердечно рад. Потому что ты изменился к лучшему. Путешествие было полезно!..
Тело Христа словно не имело тяжести. Оно стояло почти прямо в руках фигур, подобных ангелам, а не людям. Тело Христа еще не коснулось могилы. Погребающие не плачут. Скалы. Белая и черная. Микеланджело немного отступил и стал так придирчиво рассматривать свое произведение, что не ответил. Граначчи подошел к нему, положил ему руку на плечо.
– Ты еще ничего не рассказывал мне о своем путешествии…
Микеланджело отложил все, что держал в руках, завесил картину и сел против него.
Он заговорил резким, хриплым голосом:
– И ты, Франческо, и ты тоже никогда ничего не рассказывал мне о своем хождении в Нурсию. А ведь ты должен был это сделать, мы дали друг другу клятву, я ждал, что ты расскажешь. Ты молчал, и я ни о чем тебя не спрашивал. И если бы ты даже сам вздумал заговорить, я тогда, может быть, не стал бы слушать, убежал бы куда-нибудь в храм и стал бы молиться за тебя. Да, тогда. Но теперь мне хотелось бы послушать!..
Граначчи, прищурившись, скользнул острым взглядом по лицу Микеланджело. Потом ответил:
– Ты думаешь, почему, скажи, мой Микеланьоло, почему я никогда не рассказывал тебе о своем хождении и о том, что там было?
– Не знаю… – пожал плечами Микеланджело. – Ты должен был рассказать…
– Ты бы не понял.
– Ты думаешь? – сказал Микеланджело. – Может быть, ты и прав. Тогда я, наверно, не понял бы…
Он быстро встал и, сжав руки, несколько раз прошелся взад и вперед по горнице.
– Не понял бы, а только бы испугался. Но теперь нет, Франческо… По-моему, мы с тобой в своих скитаниях пережили много сходного. Но я не хочу, Франческо, чтоб ты говорил, что я изменился к лучшему, не хочу! Потому что… скажу тебе, как на духу… потому что я как раз искал в твоих вещах, чем ты изменился к лучшему, искал тот дар, который твое путешествие должно было тебе дать, искал то великое, к чему ты так страстно стремился, то знаменье, за которым ты ходил…
– И не нашел?..
Граначчи был спокоен и как будто усмехался.
– Скажу тебе откровенно, Франческо, как может сказать только друг-живописец своему другу-живописцу: не нашел.
Взгляд Граначчи потемнел, но не уклонился от взгляда собеседника.
– Продолжай, Микеланджело… – прошептал юноша.
– Да. Именно потому, что мы тогда поклялись друг другу перед крестом у ворот, я буду продолжать. Когда ты вернулся из Нурсии от волшебницы Сивиллы, к которой ходил обручаться с мертвой, чтобы та помогла тебе стать выше любого из наших маэстро, я ждал уже от первой работы твоей чего-то безмерного, превосходящего все представления, чего-то такого, что повергло бы нас в прах, перед чем я мог бы застыть в изумлении… Ведь ты душу за это отдал!.. Но ничего не изменилось, все то же влияние твоего Гирландайо, – и то, что ничто не изменилось, было для меня еще большим ужасом и разочарованьем, чем для тебя самого… Я никогда не переставал тебя любить, никогда не забуду, что ты для меня сделал. Конец наших отроческих лет всегда останется для меня полон солнца и любви. Я испытал тяжелое разочарование… и ты это почувствовал. Может быть, поэтому мы с тобой подчас друг друга избегали… Я сам не понимал, в чем дело, а ты никогда точно о том, что там было, не говорил… Скажи, Франческо… Кто знает, что будет хоть нынче ночью, что завтра, мы все на краю могилы, ждем только смерти… Скажи мне теперь… Дьявол сбил тебя с пути? Обманула, предала та мертвая? Подвел ад тебя…
Граначчи, бледный, молчал.
– И потом, твои картины, – продолжал Микеланджело, ломая себе пальцы до боли. – Картины твои… одни святые, чаще всего архангел Михаил, – словно именно тот, кто сразил сатану, больше всего и привлекает тебя… одни святые… и матерь божья. Матерь божья… царица небесная, победительная, пречистая… Я этого не понял, Франческо, мне это казалось кощунством!..
Граначчи, бледный, молчит.
Микеланджело вспыхнул, встал вплотную к нему и, схватив несколько валявшихся на столе кистей, переломил их с гневным криком:
– Это было кощунством! Было! Ты богохульствуешь! Я понял! Сознательно богохульствуешь! И ходил к той волшебнице в горах, чтоб эта проклятая мертвая даровала тебе дар славы!.. Господи, в какое время мы живем! Ты сам говорил: такая покойница обладает великой силой, я обручусь с ней, никогда не обниму живую женщину, пускай сокрушат меня адские силы, если я изменю ей… так ты сам говорил, и был там, и там совершились ужасные вещи, ты, живой, с ней, мертвой, уста к устам, тело к телу, это сложные обряды, по твоим словам, я потом много думал о тебе, ты там был, не можешь отрицать, и когда потом Аминта…
Тут Граначчи выпрямился, пепельно-серый, и, сжав кулаки, сдавленным голосом проговорил:
– Замолчи, Микеланьоло! Замолчи!
– Нет, ты не закроешь мне рот, Франческо, я скажу все, мы, видно, плохо тогда поклялись друг другу! Аминта! Она так полюбила тебя. Ведь это из-за тебя все ее измены, все ее заблуждения… она сама мне говорила… ты был ее домом и любовью, жизнью и небом, из-за тебя – смерть Кардиери, а ты от нее отрекся, хоть и твое сердце разрывалось от любви, отрекся, потому что был обручен с той мертвой, которая теперь в аду, которая тебя обманула, не дала тебе искусства и славы, провела, из-за нее – вся твоя мука, твоя и Аминты, из-за нее и смерть Кардиери… Да, дьявол получил свою долю, и ты это устроил! Один грех всегда обрушивает за собой лавину других, ты сделал это, Франческо…
Он замолчал и прикрыл себе лицо, словно ожидая удара.
Граначчи стоял тяжелый, мертвенно-бледный, голос его прерывался. Он промолвил:
– Бедный Микеланьоло…
И подошел к нему. Тот застонал.
– Так я расскажу тебе все… – сказал Граначчи. – Ты ошибаешься, клятва не нарушена. Я…
– Я тоже был у волшебницы… – прервал его Микеланджело, и голос его, доходящий словно из какой-то непроглядной тьмы, звучал глухо и пусто. – Я тоже был У волшебницы, там, в Болонье, навеки с ней обручился, у нее волнистые черные волосы и белый жемчуг. "Уезжай, – сказала она мне, – у нас есть дом…" Я никогда не знал дома, ты не знаешь, как я тоскую по дому… навеки с ней обручился, ты видишь, наши пути с тобой во многом схожи, хоть ты бросился в Нурсию, а я в Болонью, но оба – за своей судьбой… А ты говоришь мне: ты изменился к лучшему, Микеланьоло, это бессмертные мазки, полезное было путешествие… говоришь ты… видит бог, ты не должен так говорить, не должен! Я знаю только то, что ты говорил тогда, это было так страшно правдиво, тогда я еще не понимал, а теперь слышу все время твои слова о любви, суровой, как лавр, холодней снега, любви, смеющейся мукам, творящей только зло… а все-таки это любовь… Почему ты не отвечаешь, Франческо?
– Я не был у волшебницы, – тихо промолвил Граначчи.
Тут Микеланджело, до боли закусив губы, воскликнул:
– Неправда!
– Я не был у волшебницы, – повторил Граначчи и отвел руки Микеланджело от его лица, удержав их в своих. – Потому и не сказал тебе ничего… А все-таки вернулся не такой, как был. Но теперь, теперь пришла пора сказать тебе. Путь до Сполетского герцогства был долог, Микеланьоло, я был еще мальчишка, шел с одной безумной мыслью в голове, мыслью об этой мертвой… Я спешил. Как-то раз ночь застала меня в горах у Сполето. В безднах – тьма, над утесами сияли звезды, я никогда этого не забуду. Мне было страшно идти дальше, всюду обрывы, пропасти, и я стал искать какую-нибудь пещеру, грот, где переночевать, брел ощупью, держась за стены скал, тропинка вилась все дальше… И в эту минуту, самую тяжелую из пережитых мной, я вдруг услышал пенье.
Граначчи замолчал, черные глаза его расширились.
– Голоса были девичьи, они лились со скал вокруг, они пели о милосердной матери божьей, о святом архангеле Михаиле, мне казалось, я умер и стою у райских врат; страшная, даже мучительная сладость затопила мне сердце, я упал на колени, благодаря бога… Пенье приближалось, и я увидел то, что, если бог пошлет, увижу еще раз только на небе. По тропе среди скал шла, озаренная факелами, процессия девушек и женщин, их вел старенький сгорбленный священник, опираясь на длинный посох с знаком креста наверху,они шли и пели, несли факелы и пели, на голове у каждой – терновый венец… Так увидел я впервые дев из скал. Я, конечно, уже слышал о них. Не только при папе-испанце, не только теперь при Александре, но и во времена Сикста и Иннокентия монастыри превратились в публичные дома, ты знаешь об этом. Кто хочет девушку на ночь, хоть монах, хоть дворянин, входи в любую келью женского монастыря, – это бордели, полные разврата, – заплати за постель и проститутку, которая потом пойдет каяться перед алтарем. И девицы, желающие в самом деле служить богу, уходят в пустыню, в лес, в скалы, устраивают там свои скиты, убежища, пещеры, моленные… Девы из скал, увенчанные терновыми венцами… "Чего тебе нужно среди нас, юноша?" – спросил меня старичок священник. И они взяли меня с собой, в скальную молельню, ко всенощной… И я у них остался. Не пошел в Нурсию, к вещей Сивилле, обручаться с мертвой язычницей, с дьяволом, ради искусства и славы… Со слезами поклялся старому священнику, который утром исповедал меня, сидя на большом камне и положив руки мне на голову. Он дал мне отпущенье грехов. "То, что ты задумал, великий грех, – сказал он, – и я возлагаю на тебя великую епитимью. Что ты для дьявола сделать хотел, то сделаешь для бога… Никогда не знать женщин вот что обещал я, в чем поклялся, от чего закаялся. Это не кощунство. Микеланьоло, если я все время пишу теперь святых, матерь божию, царицу небесную, победительную, пречистую, святого архангела Михаила, это не кощунство… если я пишу так… так, как умею…
– Франческо!
– Таким смиренным стал я в боли своей… – тихо промолвил Граначчи, обнимая его голову. – А ты мне опять толкуешь о любви, которая смеется мукам, о любви суровей лавра, которая творит только зло… живой камень… Мы изменили не только слова свои, мы изменились сами, Микеланьоло, изменились… Меня не одурачил ад, не провела мертвая. Я пишу, как умею, но во славу божью, и бог, конечно, взглянет на это милостивей, чем если б я ценой души своей стал творить лучше Мазаччо, Джотто, Винчи и всех, кого тогда назвал… Та ночь изменила меня. Я вернулся уже не мальчиком, с недетским взглядом, с изменившимся лицом и душой… Девы из скал, тернием венчанные! А ты – "белый жемчуг в черных волосах"…
– Франческо!
– Мы хорошо поклялись там, у ворот, но ты, ты все изменяешься… отвердеваешь… каменеешь… все время блуждаешь… твой путь будет нелегок… ты бежал, а ничего не сказал мне… почему в тебе укоренился такой страх, откуда такая темная подземная сила, откуда вечно такая тревога? Ты больше во власти дьявола, чем мы, чем кто-либо из нас… много еще крови прольется из твоих ран, прежде чем ты вкусишь небесного мира и покоя… Это у тебя как-то очень странно, Микеланьоло: твое творчество, работа твоя все прекрасней, величественней и возвышенней, а сам ты… сам в это время – все хуже и хуже… В чем разгадка?
Кто-то громко постучал, удары в дверь были глухие и гулкие.
– Я знаю, кто это, – сказал Граначчи, – кто хочет видеть нас. Узнал эти быстрые, скользящие шаги, как только заслышал их на лестнице. Это Макиавелли. Всякий раз, как у нас заходит речь о чем-нибудь важном и печальном, Никколо прерывает нашу беседу, как тогда… Ему, видно, на роду написано появляться со своими новостями не вовремя. Но прежде чем ты откроешь, я скажу тебе насчет Аминты вот что. Я любил ее больше, чем кого-нибудь на свете. Она это знала и не могла понять, почему я не приближаюсь к ней. Она ничего не знает о моем обете, о моем хождении, и ты ничего ей не говори. Я люблю ее в своих молитвах. И у нее должен я претворить ту любовь, которая несет только зло. Потому что знаю, что это не ради ночи с копейщиком сэра Филиппа, а из-за меня позволила она убить Кардиери, думая, что это он мне мешает. И вот однажды…
– Претворить любовь… – прошептал Микеланджело.
Удары стали оглушительными, и Граначчи встал.
– Это долгий разговор, и при человеке с такими общественными склонностями его не поведешь. Так что – в другой раз, Микеланьоло, если только ты опять от меня не скроешься. До другого раза. Но… береги Аминту!
Он открыл, и в комнату стрелой влетел Макиавелли.
– Крепко вы тут заперлись, заговорщики медицейские! – воскликнул он. И вдвоем всего-навсего. Понимаю, переговоры только предварительные, – ну да, а об остальном, более важном, – у той танцовщицы. Да я без дурного умысла! У меня, вы ведь прекрасно знаете, каждая тайна – как в могиле зарыта, и мне известно больше, чем вы думаете. Так что готовьте медицейский переворот, готовьте, жаль только – быть вам на плахе, милые, потому что, я знаю, из этого, кроме плахи, ничего не получится… Жаль! Другая такая голова, как у Торнабуони, не так-то быстро вырастет. Но я пришел не затем, чтобы вас предостерегать. Микеланьоло! – крикнул он, завертевшись вокруг своей оси от волнения. – Радуйся! За мной пыхтит, кряхтит, сопит и чертыхается тот, кто скажет тебе больше! Но радуйся и не гляди, как на похоронах! При наших встречах тебе не нужна личина, которую мы принимаем, шагая по улицам царства божия на земле. Вот он уже идет! Маэстро Сангалло ищет тебя по всему городу…
Огромная могучая фигура Сангалло появилась в дверях.
– Какого дьявола… – загремел он вместо приветствия, – какого дьявола забрался ты под самую крышу, Микеланджело! С этой лестницы впору осужденных сбрасывать вниз головой! Но зато я тебя нашел! Не были у тебя мои два болвана? С утра по всему городу ищут… Здорово, Граначчи! Ты тоже здесь тем лучше! Колоссальная новость, – нынче же надо хорошенько выпить! Слушай, милый! Синьория назначила жюри по отделке зала заседаний Consiglio grande 1. Вот и выпьем! Потому что знаешь, кто жюри? Я! – Джулиано да Сангалло ударил себя в грудь и засмеялся. – Я! Я! Хоть Савонарола и не хотел, но у меня среди членов Синьории хорошие друзья – еще от прежних времен: ну, они его и уговорили! Так что – я! Потом Кронака, добряк, хоть маленько спятил на доминиканский лад нынче. Потом Баччо д'Аньоло, – совершенно правильно, он заслуживает. А потом… – Голос Сангалло загремел еще громче и торжественней. – А потом, по особому, прямому требованию Савонаролы… ты! Ты, Микеланджело! Видно, любит тебя этот монах, любит по-своему. Ну, что ты на это скажешь, Микеланджело? Разве это не causa bibendi, не повод, чтоб выпить по-настоящему, как следует? – Сангалло широко отвел правую руку и вдруг почти нежно прижал к себе Микеланджело. – Еще мальчик совсем, растроганно промолвил он, с улыбкой глядя ему в глаза, – еще мальчик, а уже будет судить о работах старых мастеров. И насчет отделки Синьории, не забудь!
1 Большого совета (ит.).
– По особому требованию Савонаролы? – прошептал Микеланджело.
– Да, – кивнул Джулиано да Сангалло, тряхнув своей могучей седой гривой. – Да, он выразил такое желание. А фра Бартоломео, которого, прежде чем он рехнулся и напялил рясу, звали Баччо делла Порта – хорошее было имя, – будет писать картину для алтаря в зале заседаний, – одним словом, работы по горло, понимаешь? Ну и не задаром, понятно. Так что надо выпить. Тебя уже давно ищут мои два болвана по всему городу, да где им! Ты тоже пойдешь с нами, Граначчи, а будущий гонфалоньер Макиавелли найдет нам трактир, где можно бражничать по пятницам даже во Флоренции. Он в этих делах – дока! У него всегда какой-нибудь трактир припасен, идем, я плачу за все, будем пить чего душа просит, я рад без памяти: художественное жюри в Савонароловом городе! И я – в этом самом жюри. Просто курам на смех!
И он двинулся к двери.
Но Граначчи не захотел идти с ними. Он обнял Микеланджело и поспешно ушел.
– Чудак! – обиженно проворчал ему вслед Сангалло. – Разве он тебя не любит, Микеланджело? Я думал, вы – друзья.
– Он меня очень любит, – возразил Микеланджело. – Но между нами что-то странное… Всякий раз как мы говорим о… об одной вещи, между нами становится какая-то тень, тень тайны. Как в то время, когда мы оба думали об… одном и том же, и вдруг Лоренцо Маньифико пришел выбирать художников для своего двора. И нынче мы говорили о том же предмете и…
– ты… становишься членом жюри в Палаццо-Веккьо! – загремел Сангалло. – Ну и слава богу за такую тень! Да ты брось. Тень тенью, а Граначчи Граначчи. Нам – вино, а Граначчи – тень. Веди нас, гонфалоньер! накинулся он на Макиавелли. – Веди туда, где нет ни пьяньони, ни сопляков этих из Святого войска, которых все боятся…
– И недаром! – прервал Макиавелли. – Моего хорошего знакомого, торговца шелком, мессера Манцини, предал родной сын, чертенок одиннадцатилетний: донес, что отец прячет редкую рукопись Вергилия, и того посадили в тюрьму Синьории. И мессера Себальдини, человека достойного, который мне в свое время помогал, тоже предали, – засмеялся он язвительным смешком. Укреплений нет, кондотьер бездарный, солдат, можно сказать, никаких, император Максимилиан объявил себя покровителем Пизы и пошел на нас походом, но мы можем утешаться, по крайней мере, тем, что здесь до такой степени утвердилось чистое христианство, что даже дети доносят на родителей. Так что мы хоть погибнем, как святые!
"Савонарола!" – промелькнуло в голове у Микеланджело. И разговор с Граначчи исчез в тумане. Член жюри по отделке зала Консилио гранде. В двадцать лет он вступает в Палаццо-Веккьо, куда отец его всходил вверх по лестнице под резкий рокот труб, член коллегии Буономини, а я уже в двадцать лет… Мечта его! Чтобы сын, не каменотес, а почитаемый всем городом, тоже вошел когда-нибудь в Палаццо-Веккьо! Папа! И это устроил Савонарола! Тот, чье предложение поступить в монастырь я отверг, чье имя, произнесенное Пьером в Болонье с ненавистью, просвистело и затянулось петлей, Савонарола. "Видно, этот монах любит тебя, – сказал Сангалло, – любит по-своему…" А кто заседает там? Джулиано да Сангалло, первый после божественного Брунеллески, потом Кронака, Баччо д'Аньоло – какие имена! И среди них – я, Микеланджело Буонарроти!
– Савонарола… – слышит он ехидный голос Макиавелли, изо всех сил старающегося приспособить свой аистиный шаг к важной, величавой поступи Сангалло… – хочет довести свой бой до победы и теперь пустил в ход величайшее, что имеет: мученичество. Он мог бы теперь уехать с Карлом во Францию, и Карл, который хлопочет о созыве совещания против папы, принял бы его с восторгом. Но нет! Савонарола не уедет из Флоренции, у которой обветшалые стены, жалкий кондотьер и почти ни одного солдата и на которую движется лавина врагов. Отсюда ведет он свой бой, – не из Сорбонны, под охраной короля. Вот какая это борьба! Мученичество. Выстоит папа перед мученичеством Савонаролы?
Улица полнилась шумом повседневности. Они прошли мимо складов красильщиков близ Ор-Сан-Микеле, тщательно уклоняясь от потоков красильного отстоя, растекающегося по улице струями всех цветов. Воздух был пропитан острым кислым запахом красок и мокрых тканей, большие кади стояли перед низкими лавчонками по краям улицы. Между ними пробирались маленькие группы людей, и время от времени в такт работы звучала песня, быстро умолкавшая. Была страстная пятница. Медленно проехал всадник, – конь его разбрызгивал пестро окрашенными копытами лужи отстоя. Из-за многочисленных навесов над лавчонками на улице было темно.
– Священник пошел против священника, – продолжал Макиавелли. – И мы, миряне, втянуты в эту борьбу поневоле. Что делает народ? Во Флоренции он скачет вокруг костров, в Перуджии голодает, в Риме развлекается карнавалами и процессиями, в Неаполе идет на плаху и в тюрьму, в Милане платит тройной налог для войны. А что делает дворянство в этой борьбе? А кардиналы? А папа? По совету кардинала Пикколомини, Рим предложил Савонароле кардинальскую шапку при условии, если он наконец замолчит и перестанет говорить об очищении церкви. Приехал сюда к нам папский легат, скриптор Святой апостольской канцелярии прелат Ричардо Берки: одной рукой протягивает кардинальский пурпур, а другой – буллу об отлучении, в одной руке у него послание, где о Савонароле сказано, что он cor devote ardens, fillius fidelissimus – сердце богобоязненно пламенеющее, сын преданнейший, а в другой – что он homo nequissimus, fillius perditionis, insidiator Ecclesiae, изверг естества, сын погибели, вредитель Церкви… И ему надо было выбирать: сделаться кардиналом или и дальше драться за чистоту церкви и быть извергом естества. Прекратить проповеди о папских блудницах да о кардиналах и священниках, встающих с ложа еще усталыми от ночных распутств и разврата, чтоб наскоро отслужить мессу и опять вернуться к своим удовольствиям и деньгам, – и тогда быть fillio fidelissimo, быть кардиналом; либо продолжать свои проповеди против святокупства и папских наложниц, – против всего, что творится под рясой благочестия, и быть в дальнейшем insidiator'ом Ecclesiae, вредителем Церкви. Но Савонарола отверг этот выбор, не захотел выбирать между десницей и шуйцей прелата-скриптора, и какая это была тема для проповеди в тот вечер!
Савонарола! "Этот монах любит тебя, любит по-своему…" – слышит Микеланджело. По лестнице Палаццо-Веккьо! Мне двадцать лет… Я уж не буду зависеть только от этого Лоренцо Пополано… Опять новые знакомства, новая работа, мои мечты, большая, огромная работа… Нет, не отступлю! Одержу победу над всем, что есть во мне и вокруг меня нечистого и смутного! "Искусство – строгий устав… – вдруг слышу я старческий голос Бертольдо, ты должен всегда носить этот устав с собой, в нем – торжественные обеты смиренья, чистоты и бедности, и бог, дарователь устава, сурово карает тех, кто…" Почему это вдруг прозвучало как раз сейчас? Неотступный голос! Многие подымались и проповедовали о конце света. Они проповедовали, а я творил. Они исчезли, а созданное мной осталось… Мечты мои! Моя работа! Вера и горечь, боль и камень… А теперь другой голос: "Ты – больше добыча дьявола, чем мы, Микеланьоло, много еще прольется крови!.." Заглушить эти голоса! Почему они так назойливы? По лестнице Палаццо-Веккьо! Мне двадцать лет! Отец мой всходил туда под резкий рокот труб… Снова голоса. И он усиленно ловит слова Макиавелли.
– Савонароле этой болезни не вылечить, – слышит он ясный, внятный голос Никколо. – Наоборот, он еще усилит лихорадку… Мне от этого всего становится грустно до отчаянья. Если бы те, у кого власть в руках, знали то, что знаю я, шлепающий здесь по лужам красильного отстоя, голодный, грязный, пребывающий в неизвестности. Понимаешь, маэстро Сангалло, понимаешь: империя! Старая, славная Римская империя, величайшая государственная идея, какую знал когда-либо мир! Империя! Но кто? Я всякий раз чудовищно ошибался в каждом и всякий раз вовремя осторожно отходил в сторону, при первом признаке их слабости, говорящем: опять не тот. Ни один из них. Один только…
– Кто? – проворчал Сангалло, которому эта тема, видимо, наскучила…
– Государь… – тихо, но пылко ответил Макиавелли. – Государь, добродетель которого целиком в его воле. Что хорошего и дурного в жизни народов? Можешь ты теперь на это ответить? Много дурного впоследствии оказалось добром, и не одно хорошее лекарство было слишком сильным – народ не выдержал. Воля правителя, деятельная, идущая твердо и неколебимо за высочайшей идеей государственной мощи, разум выше чувства, цель выше жизни. Да, государь. Я жду его и буду ему служить. И он придет, придет вопреки всем доминиканцам и папам! И с этим жалким, мечущимся человеческим стадом не справится никто, кроме этого государя, подлинного государя. А уж если не государь, так только…
– Кто, Никколо?
Голос Макиавелли вдруг как-то высох, погас. Вся его горячность, звучность, блеск неожиданно остыли, потухли. Взгляд забегал вокруг, словно поспешно ища опоры. Легкая, летучая улыбка исчезла. Тихим, беззвучным голосом он прошептал:
– Тогда только… судьба!
Они пришли.
Трактир был славный, у самых ворот. Здесь можно было пить без помехи, никто завтра не будет рассказывать по всему городу, что они пили, здорово пили, пили в сумерки страстной пятницы, никто не будет разносить этого, у Макиавелли всегда есть в запасе такие славные местечки, и он с удовольствием выслушал одобрение из уст Сангалло. Они были там не одни. Целый купеческий караван, уже готовый тронуться в путь, еще допивал посошок. Животные, навьюченные либо запряженные в высокие узкие телеги, ждали. Но челядь еще лежала под открытым небом, перед трактиром на траве, приканчивая содержимое больших кувшинов. Два купца, важные, бородатые, владельцы товаров и всего каравана, сидели в самом трактире среди нескольких вооруженных, нанятых в качестве конвоя. Сангалло сразу взбаламутил весь трактир. Он болтал, пил, бранился, заполонил собой все помещение, стучал, посылал к черту, шумно со всеми братался и в конце концов пригласил к себе за стол обоих купцов, глядевших на его суетню, широко раскрыв глаза. Они беседовали между собой о политике и продолжали этот разговор, когда подсели, даже Макиавелли, падкий до новостей, быстро пил и жадно слушал.
А эти двое, важные, бородатые, вели речь о великом сражении между французами и войсками лиги, разыгравшемся у Форново на реке Тахо и закончившемся поражением французов после великой сечи. Сам Карл, бившийся с великим мужеством, погиб бы, если б его бастард, принц Бурбонский, не кинулся на меч, направленный в грудь короля. Французы были бы разгромлены полностью, да венецианские солдаты посреди битвы вдруг кинулись на французские обозы. На чем только не стараются нагреть руки венецианцы! Так что боевой порядок оказался нарушенным, и остаток французской армады под командованием Тривульция отступил к Асти, а потом к Генуе. Но какая досталась лиге добыча! Двадцать тысяч мулов, навьюченных сокровищами искусства, и все имущество короля, и его золотые шлемы, чеканные, как у Карла Великого, и его парадные мечи, печати, переносный алтарь, полный реликвий, среди них – часть святого древа, терн от святого венца, кусок плаща пречистой девы, кость святого Дионисия, барона французского, и много других!
– И тот мул! – засмеялся бородач, махнув руками, так что взметнулись рукава. – Тот мул под балдахином!
Дело в том, что был захвачен также мул, везший под балдахином портреты всех итальянских красавиц, осчастлививших короля, портреты, не скрывающие ничего, милый триумф amoris короля – из Турина, Милана, Рима, Неаполя, Пизы, Флоренции, – немало мужей были бы этим изумлены и озадачены.
Сангалло велел принести еще вина, чтоб выпить в честь мула под балдахином, – и пил, колотил кулаками по столу, хохотал до упаду.
– Мы из Болоньи и возвращаемся туда, – сказали купцы.
Макиавелли слегка тронул Микеланджело за локоть, тот дрожащей рукой поспешно поставил свой кубок на стол.
– Что делают Бентивольо и остальные? – спросил с жадным любопытством Макиавелли.
Бентивольо! Как прозвучало это знакомое имя! Словно пчела, кружащаяся в знойный день вокруг головы. И целый рой воспоминаний. И остальные…
Болонцы стали рассказывать. Теперь синьоры Бентивольо горько жалеют, что не послушались папских призывов и вовремя не выступили… Да, кажется, они вообще не рады победе лиги и папы, так как войска дона Сезара подозрительно движутся в сторону города, никогда не перестававшего быть леном церкви. А ключи!
Таинственно понизив голос, купец взволнованно продолжал. Командующий войсками Асдрубале Тоцци предал город из-за измены жены, и кондотьер кардинала Сезара, Оливеротто да Фермо, увез оттиски ключей, потому что это он выследил любовника жены Тоцци – монны Кьяры из славного рода Астальди… Но до сих пор неизвестно, кто был этот любовник. Тоцци первым делом убил жену, да так страшно, как в Болонье не наказывали еще ни одну женщину: он отдал ее на растерзание приведенному из тюрьмы вурдалаку, человеку, который превратился в волка и перегрыз белое горло монны Кьяры, прекраснейшей женщины в Болонье, белое горло с черным змеиным ожерельем… И говорят, это было так страшно, что молодой Оливеротто, державший скрещенные меч и свечу, тоже пронзил вурдалаку горло и, воспользовавшись суматохой, скрылся с ключами, которые дал ему Тоцци в награду… А в это время служанка Тоцци, безобразная уродина, боясь за свою жизнь, позвала стражу и все рассказала синьорам о ключах, – она давно следила за хозяином… Так что в ту же ночь, сейчас же вслед за убийством жены, Тоцци был заключен в тюрьму и не имел времени убить любовника, а назвать не захотел… Он ведь любил жену, очень любил, и хоть убил ее, а не хотел марать ее память, оттого что, может быть, любовник ее был незнатного рода, не дворянин, не патриций…
И еще той же ночью над Тоцци состоялся суд, сообщили купцы. Его судили за убийство жены, за связь с колдуном и за измену городу. Он жаждал смерти и рвался к плахе, потому что душа его изнемогла и он не хотел больше жить. Но судьи понимали, что плаха – не наказанье для этого воина, которому чужд страх смерти, и к тому же в военное время не следует смущать народ казнью военачальника, изменившего городу и не устыдившегося отдать свою жену вурдалаку. Поэтому его приговорили к in pace. Но Асдрубале Тоцци, не ожидавший этого, закричал не своим голосом, а потом, вспомнив Дамассо Паллони, последовал его примеру: кинулся к стене и размозжил себе голову, так погиб Асдрубале Тоцци с Сицилии, главнокомандующий болонских скьопетти.
– Ужас обуял город, – рассказывал купец. – Все были в таком страхе, что живописец Лоренцо Коста из Феррары, придворный художник синьоров Бентивольо, – он как раз писал тогда алтарный образ "Последней вечерни" для нашего храма Сан-Джованни-ин-Монте, пользуясь этим двуногим тигром, вурдалаком, как моделью Иуды, – словно помешался. С воплями бегал он как одержимый по городу, пока его не схватили, и после этого он долго лежал больной, в жару. А потом разодрал, уничтожил свою картину. А говорят, это было лучшее его творение, мастерская работа, будто до сих пор ничего подобного не было создано во всей Италии. Такая вещь создается раз в столетие, произведение высокое, гениальное, а он его уничтожил, понимаете, разодрал и сжег – из-за того адского лица, не хотел, чтоб оно осталось здесь, на этом свете, не хотел знать свое гениальное творение из-за этого лица…
Микеланджело встал, смертельно бледный. И, не говоря ни слова, ощупывая вытянутыми руками пространство впереди, как слепой, вышел из трактира.
В ту ночь он пришел к Аминте и спал с ней.
ПЬЯНЫЙ ВАКХ
Сумрак среди чужих вещей, сумрак без ласкового шороха надвигающегося вечера. Тьма крадется, как убийца, по улицам, среди дворцов, среди голых, твердо возвышающихся стен, мимо оббитых или невредимых статуй времен Августа и Траяна, среди домов, из которых каждый – надежная крепость. В свете факелов проплывают в сумерках носилки священнослужительской куртизанки, словно позолоченная лодка по волнам. Они завешены тяжелой парчой, но еще так душно, что занавеси отдернуты, и девичьи глаза и губы улыбаются толпе студентов, которые приветствуют ее воздушными поцелуями и учтивыми поклонами. Несколько голодных оборванцев, отставших от войска, сблизили свои крысиные физиономии, тихонько совещаясь о том, как разделить между собой отдельные улицы на предмет ночных заработков с помощью кинжала. Грязь прыскала из-под копыт баронских коней, чьи хозяева ехали играть во дворец Мерканте. Папские солдаты светили фонарями и плошками на статую Пасквино, а командир, сквернослов, разбирал новые поносные надписи, написанные на ней за сегодняшний день, – нет ли среди них чего насчет его святости, – и обнаружил столько, что даже сам встревожился. Молоденькая девушка с задорными глазами, стоя перед трактиром, зазывала внутрь. Ватага молодых художников прошла по улице с одним факелом, приставая к вечерним прохожим. Солнце быстро заходило. Тьма окутала высокие башни Трастевере, легла в сады на Яникуле, застлала кровли дворцов Орсини, Сан-Марко, Нардини, Каффарели и колонну Марка Аврелия. Луна стала поливать серебряным светом сперва стену Колизея и сторожевую башню Конти. Рим потонул во тьме. На Лунгаретте зажглись фонарики иллюминации, от Порто-Сан-Спирито понеслись крики, звуки труб, выклики, топот копыт. Это герцог Гандии, любезнейший сын его святости, со своей свитой из шестидесяти дворян, возвращался в город. Факелы свиты бежали во тьме, словно ручей огня, ко дворцу Борджа, но тьма все сгущалась, она покрыла район Понте, район Парионе, район Сан-Эустакио, Аренуло, Сан-Анджело, Пиньо, Кампителли и все остальные. Тьма, непроглядная тьма.
На римские улицы вышли убийцы и стражники.
Чердачную каморку во дворце Рафаэля Риарио, кардинала от Сан-Джоржо, на Кампо-деи-Фьоре, ярко освещали несколько свечей в подсвечниках, стоящих среди кусков черствого хлеба и мисок с остывшей кашей на грубом, ободранном столе. Сидя на низком дубовом сундучке, сжав руки между колен, Микеланджело глядел на маленького человечка, совершенно лысого, вертевшегося перед ним, восторженно рассматривая картон с рисунком, изображающим стигматизацию святого Франциска.
– Гляжу и диву даюсь, – тараторил человечек. – Ком к горлу подкатывает. Ты в самом деле нарисовал это для меня, флорентиец? Такая вещь в алтарь прямо просится! Тогда мой дорогой святой Франциск заговорит со мной…
Микеланджело устало улыбнулся.
– Ты не идешь спать, Франческо? – спросил он.
– Спать? Сейчас – спать? – обрушился на него человечек. – Ложись, а я еще понаслаждаюсь твоим дарованием, да и нет у меня столько времени, как у тебя, я должен ждать, когда от нашего хозяина вернется патер Квидо, прелат Святой апостольской канцелярии; он хочет, чтоб я его еще побрил. Ах, Микеланджело! Ты художник не мне чета, я должен это по справедливости признать, не мне чета, я бы нипочем такой вещи не смог нарисовать!
Микеланджело встал, зажег еще одну свечу и, сев за стол, принялся писать своим четким, красивым почерком письмо. А человечек забегал по комнате, без конца тараторя и соображая, куда бы повесить картон. В конце концов он остановился перед своей постелью, стоявшей против постели Микеланджело, и, приложив картон к выбранному им месту на стене, воскликнул:
– Здесь, Микеланджело, здесь?
– Ну чего тебе надо? Ты не даешь мне ни минуты покоя… – вскипел Микеланджело, с раздраженьем ударив кулаком по столу.
– Не сердись, флорентиец! Я у тебя совета прошу…
– Вешай где хочешь, а еще лучше… продай!
Человечек оторопел.
– Ты что – с ума сошел? Продать вот это? Самое прекрасное из всего, что я имею? Как это взбрело тебе в голову? Ты мало молишься, Микеланджело, мало молишься, коли можешь так говорить. Продать это!
– Почему бы нет? Выдай это, скажем, за подлинный портрет святого Франциска, получишь много денег… а в Риме к таким вещам уже привыкли!
– Что ты говоришь! – возмутился человечек. – Совсем спятил?
– Одним мошенничеством больше или меньше… – с горечью возразил Микеланджело и снова опустил гусиное перо в чернила. – А теперь дай мне писать…
Человечек забарабанил молотком по гвоздям, прибивая картон. Но продолжал говорить в промежутках между ударами.
– Это ты во Флоренцию пишешь? Хозяину своему или полоумному этому, Савонароле? Про нас пишешь? Жалуешься?
Микеланджело с сердцем отбросил перо и, оттолкнув стул, пересел опять на сундук.
– Просто голова кругом!.. – воскликнул он, ероша руками волосы.
Человечек перестал стучать молотком и подошел к нему, глядя на него мягким, сочувствующим взглядом.
– Ты просто какой-то чудак, флорентиец! Чего ты теперь-то тревожишься? Это просто смешно! Быть в Риме – и тревожиться! Жить на Кампо-деи-Фьоре – и тревожиться! Быть гостем кардинала Риарио – и тревожиться!
– Гостем? – вне себя вскочил Микеланджело. – Какой я здесь гость? Вот эта дыра под самой крышей, это пренебреженье ко мне, это презрение, это гостеприимство? Так принимают художников римские кардиналы? Почему он не отпускает меня домой? Здесь я только зря трачу время, ни на что не нужный. Ты хоть его брадобрей, а я что? Флорентиец, человек из того города, откуда он вернулся, бледный, как смерть, не дослужив кровавую мессу Пацци, на что я ему? Может быть, я повинен в той смертельной бледности, которая останется у него до самой смерти?
У человечка от страха язык отнялся, он только прижал ухо к двери: не подслушивает ли кто? А Микеланджело продолжал кричать:
– Ты хоть брадобрей, а я и того нет, просто страшный безносый бродяга, флорентийский скиталец, понимаешь?.. А теперь еще и мошенник! Вот как он на меня смотрит, оттого и презирает, пренебрегает мной. Будь я шлюхой, мне б у него лучше жилось, а то – ваятель какой-то! А виноват я в этом обмане? Ни сном, ни духом. Меня самого одурачили… Я пошел на это, после того как Лоренцо Пополано мне сказал, что у вас в Риме обычно так делается… Я поверил, мне и в голову не приходило, что тут ведется фальшивая игра и со мной! И если уж кто здесь мошенник, так это как раз твой кардинал…
– Флорентиец! – воскликнул брадобрей Франческо, посинев от страха. Если бы кто-нибудь стоял за дверьми, ты больше никогда бы не вышел из ватиканского узилища. Опомнись!
Микеланджело плюнул и улегся на ложе.
– Мне все равно. Наверно, даже тюрьма не хуже этой жизни… Да мне и не впервой!..
Человечек подошел к нему, широко раскрыв глаза, стуча зубами, и сел в ногах постели.
– Ты… – начал он растерянно, – не ври… ты сидел в тюрьме?
– Да, сидел! – отрезал Микеланджело. – В Болонье. Разве ты не видишь по лицу, что я бродяга и мордобоец?
– Неправда… Неправда!.. – быстро закачал головой брадобрей. – Но в тюрьме в самом деле сидел?
– Говорю, сидел…
– Так ты… – продолжая качать головой, промолвил брадобрей, – значит, правда – мошенник?
– Может быть…
Микеланджело горько улыбнулся. Человечек всплеснул руками.
– Но, милый мой, ты еще так молод! Зачем это? Обмануть кардинала – куда ни шло. Но обманывать нашего кардинала Риарио! Это неправильно, это глупо, это великий грех!
– Но господь по доброте своей простит нам… сказал тогда этот паук…
– Кто? Что ты говоришь? Какой паук?
– Да этот… Пополано… – ответил Микеланджело, заложив руки за голову и глядя в потолок. – Лоренцо Пополано… мои добрые друзья – Аминта, и Никколо Макиавелли, и другие, потом патриций Торнабуони – отговаривали меня иметь дело с ним… но я не послушался, мне надо было работать, нужны были деньги, я не мог жить на счет домашних, отец и братья – все ждали, что я буду их кормить, дома была нужда, необходимо было получить заказ у Пополано этого… и он мне дал… Сан-Джованни, святой Иоанчик, голый, как Парис, покровитель нашего находящегося в опасности города, понимаешь, святой Иоанчик с любострастным выражением лица, покровитель города, на которого со всех сторон напирали враги. "Ничего языческого!" – так сказал мне Пополано и улыбнулся… Я понимал… Мне нужна была работа… Нужны были деньги, для дома… Тебе непонятно, но ты все-таки единственный человек в Риме, которому я могу сказать… Мне нужна работа! Античность, тайная любовь Медичи! И я сделал ему спящего купидона. Если б ты видел! Он заметался из угла в угол комнаты, как скорпион, не зная сразу, что сказать, дрожал от желания оставить статую себе, но боялся, дрожал от страха, ты пойми, только чтоб ничего языческого в городе Савонаролы, чтоб милосердный господь не покарал! Я не мог не смеяться, глядя на этого лицемера, который собирает сокровища только на небесах, печется о бедных, во время голода во Флоренции скупил все зерно Романьи и перепродавал его флорентийской бедноте по тройной цене, вот как он печется о бедных, вот как собирает сокровища на небесах. Он бегал из угла в угол, как скорпион, как паук, не зная, что делать со статуей, длинные, липкие пальцы его дрожали от восторга, когда он касался ее поверхности, когда гладил этого прекрасного спящего нагого купидона, и в то же время сердце у него падало от страха, как бы вдруг не вошли Савонароловы пьяньони, он бледнел, зеленел даже, засыпая меня цитатами из Писания и Савонароловых проповедей, и в то же время не знал, как быть со статуей, пока я не сказал ему прямо, что мне нужны деньги, хорошая сумма… Он позвал меня на другой день и объяснил мне свой план. Оставить у себя статую он не может, но деньги я получу. Дескать, он подумал насчет Рима. Но в Риме кардиналы покупают только античные статуи, найденные в земле, никто не станет покупать статую у какого-то Буонарроти из Флоренции! Поэтому надо ее на некоторое время закопать, измазать глиной, повредить немножко, а потом выдать за добытую раскопками… За нее хорошо заплатят. Я возражал, мне не хотелось идти на это, но он твердил, будто в Риме это дело обычное, будто половина кардинальских коллекций состоит из таких подделок, а потом говорит: "Коли мы ее закопаем, а потом откопаем, это будут раскопки или не раскопки?" И засмеялся, наверно, как когда кормил бедных хлебом из Романьи по тройной цене, – кормил бедных или не кормил бедных? И он, дескать, знает одного торговца, вора этого, Бальдассаре дель Миланезе, который поставляет откопанные статуи для Рима, так он будто уж продавал кардиналам такие вещи! И верит, что милосердный господь простит! Пришел вор Бальдассаре, торговец из Милана, осмотрел статую, потер руки и сказал, что никто не отличит. Мы ее закопали, потом откопали, – по ихнему выходило: раскопки. Купидон мой спал, не обращая внимания ни на Пополано, ни на Миланезе, и его продали в Рим, как выкопанную античную статую. Это было первое мошенничество в моей жизни! Поэтому я навлек на себя презренье кардинала, поэтому и ты называешь меня мошенником! Да разве я закопал статую? Я отдал ее пауку Пополано. А вор Бальдассаре заплатил мне за нее тридцать дукатов, – сказал, больше не дали!
– Врет! – воскликнул брадобрей. – Врет твой миланец. Я сам слышал, как во дворце шла речь о том, что кардинал Рафаэль Риарио заплатил Бальдассаре за эту статую двести золотых дукатов!
– Я знаю, архитектор Джулиано Сангалло, – ну, приятель мой, у которого дела с Римом, – узнав об этом, посоветовал мне пустить в ход кулаки. Ведь это меня обманули! Пополано с Бальдассаре сорвали двести золотых дукатов, я сделал статую, чтобы достать деньги для дома, там братья чуть не плевали на меня из презренья, а я получил всего-навсего тридцать дукатов! Вот какой я мошенник! Поэтому я по совету Джулиано поехал в Рим, чтобы все объяснить кардиналу. А что сделал Риарио? Он хочет, чтоб я ему и эти-то тридцать дукатов вернул…
Микеланджело выпрыгнул из постели и, сжав кулаки, зашагал по комнате.
– Я отдал статую, и они еще хотят, чтоб я вернул деньги, эту нищенскую плату… И вот он запер меня в твоем чулане, брадобрей, как в тюрьме, держит у себя во дворце, не желает выслушать, гонит меня прочь, обращается со мной как с собакой… вот каково кардинальское гостеприимство! Я теряю время! Что мне тут делать, в вашем Риме? Мне все здесь противно! Я хочу обратно, во Флоренцию! Знаешь, кем я должен был там быть, брадобрей? Членом жюри по отделке зала Консилио гранде… Да, я поднимался бы по лестнице Палаццо-Веккьо, я так об этом мечтал… А ходил я по этой лестнице? Нет! Видишь, Франческо, какой я. За месяц до первого заседания жюри уехал сюда, в ваш отвратительный Рим, к кардиналу, чтобы все ему объяснить… и чтоб не надо было возвращать деньги, чтоб хоть получить обратно статую… а ничего не могу добиться, ровно ничего: вот какой я мошенник! Брадобрей растерянно комкал пальцами свою жидкую бороду, сочувственно поглядывая на Микеланджело.
– Я верю тебе… – прошептал он. – Верю, мой милый, что все это так, как ты говоришь, ты художник не чета мне, такого рисунка мне никогда не нарисовать, я верю тебе, но беда в том… что наш кардинал испытал очень большое огорченье из-за твоей статуи: весь Рим смеялся над ним, что он не умеет отличить выкопанную статую от новой, очень его высмеивали, и он тебе этого не простит, это обида его духу, его чувству красоты, его образованности, его тонкому пониманию прекрасных языческих произведений, этого он тебе не простит, я думаю, придется тебе вернуть эти тридцать дукатов…
– Никогда! – воскликнул Микеланджело. – Не отдам, хоть пришлось бы сидеть здесь до Страшного суда… А те двое? Они тоже должны будут вернуть двести дукатов?
– Вряд ли… – смущенно прошептал брадобрей. – До Флоренции, к Пополано, далеко, а вор Бальдассаре – самый лучший перекупщик, лучший поставщик античных статуй для Святой коллегии, кардинал Риарио не станет ссориться с ним. И к тому же – это ты сделал статую, а не они…
– Тогда они все трое – воры! – промолвил, стиснув зубы, Микеланджело.
Франческо, сам не свой, опять подбежал к двери и прижался к ней ухом.
– Опомнись, милый, – в ужасе пролепетал он. – Чего ты добьешься такими речами? Лучше помолись…
– Думаю, что от такого кардинала и молитва – плохая ограда! воскликнул Микеланджело, снова ложась.
– Флорентиец! – выдавил из себя бледный Франческо. – Замолчи! Кто-то идет! Это, наверно, патер Квидо возвращается от нашего господина, хочет у меня побриться, будь благоразумен, насильем тут ничего не добьешься!
Микеланджело закрыл лицо руками и, когда вошел писарь Святой апостольской канцелярии патер Квидо, притворился спящим.
Глаза у священника были зоркие, внимательные.
– Почему твой сотоварищ не хочет говорить со мной? – спросил он, садясь.
Франческо подтолкнул Микеланджело и прошептал растерянно:
– Он очень устал, ваше преподобие, целый день по городу ходил, любовался на статуи и памятники, копировал, рисовал…
– Значит, он очень усердный, сотоварищ твой, и проводит время в Риме с пользой, – ответил патер Квидо.
Микеланджело отнял руки от лица и сел на постели.
– Я не сотоварищ Франческо, ваше преподобие, – сухо промолвил он. – Я не брадобрей, а ваятель.
Франческо посинел от страха. И тревожно поглядел на обоих.
– Я и говорю о художниках, а не о брадобреях, – спокойно возразил патер Квидо. – Разве наш милый Франческо – не художник? И он, друг твой, довольно сносно пишет красками, рисует и, говорят, в конце концов даже сделал попытку слепить статую из глины, – чем же не твой сотоварищ?
Микеланджело, сжав руки, промолчал. Патер Квидо окинул взглядом стену, прищурился, поглядел на картон с изображением стигматизации и, обращаясь к Франческо, спросил:
– Это твоя новая работа?
– Ваше преподобие шутит… – пробормотал брадобрей, занявшись торопливыми приготовлениями к бритью. – Это мне подарил флорентиец Буонарроти…
– Неплохая вещь; я подумал: твоя, – слегка улыбнулся патер Квидо и, обращаясь к Микеланджело, прибавил: – Вот видишь, вы – сотоварищи. Хорошо рисуешь.
Франческо брил усердно, и священнику пришлось замолчать. Но сам Франческо не молчал, а нес разную чушь, поспешно выкладывая последние новости, полученные от слуг из разных кардинальских дворцов, – желая во время бритья развлечь его преподобие, который вернулся от кардинала, видимо, в очень дурном настроении. И не удивительно: сам кардинал уже много дней раздражен, зол, на всех накидывается, почти не выходит из своего кабинета, не участвует в празднествах и не устраивает их, явно предпочитая одиночество, будто бы получил предостережение от своего платного осведомителя в Ватикане, – а там у каждого кардинала есть свой платный осведомитель, – будто был тайно предупрежден, так толкуют среди челяди, что святой отец опять сводит счеты с непокорными кардиналами, и кардинал Адриано ди Корнета предпочел покинуть Рим. Святой отец сводит счеты, не забывает ему, Риарио, что он – делла Ровере и перед конклавом отказался от подарков, не голосовал за Александра…
Поэтому кардинал Рафаэль приказал, чтобы подаваемые ему кушанья отведывали теперь уже не на кухне, а у него на глазах, прямо за столом, и по большей части ест одни только овощи, в которых смертоносное действие Борджевой испанской мушки значительно слабей, чем в мясной пище, но в последнее время прошел слух, что его святость получил из Испании новый яд, под названием misericordia – милосердие, более высокого качества, чем яд испанского короля, носящий название requiescat in pace; 1 этот новый – без всякого вкуса, ты не знаешь, что тебе подмешали милосердие, и помрешь только через три недели, поэтому кардинал Рафаэль теперь постился, мертвенно-бледный, сидел на воде и овощах, но только не из благочестия, и поэтому нет ничего удивительного, что он все время такой злой и раздражительный… А этот флорентиец воображает, будто он – самая важная особа во дворце и у кардинала нет других забот, кроме как о его Купидоне!
1 Мир духу его (лат.).
И Франческо передавал сплетни из римских дворцов, думая об этом, и страшно путал, так что трудно было следить за смыслом, и патер Квидо от этого только раздражался все сильней. Он, не считая, бросил на стол, между черствым хлебом и миской с кашей, несколько монет и опять окинул взглядом безмолвного Микеланджело.
– То, что рассказывает Франческо, мне не так интересно, как то, что, может быть, известно тебе, флорентиец, – сказал он. – Ты не сообщишь мне какие-нибудь новости о твоем сумасшедшем городе? Говорят, Савонарола у вас там допускает к святому причастию даже детей… ну, сдается мне, монах этот – конченый человек. Его святость долго терпел, но теперь, когда вернулся любезнейший сын его, герцог Гандии, у него будет больше досуга, чтобы заняться наведением порядка кое в чем… в частности, в вопросе о Савонароле. Это правда, Буонарроти, что у вас, по желанию Савонаролы, в Санта-Мария-дель-Фьоре причащают и детей?
Микеланджело встал и промолвил:
– И в этом дворце смеют говорить о том, что делается в Санта-Мария-дель-Фьоре?
На лице патера Квидо появилась язвительная усмешка.
– Ты скор на ответ, но если б я повторил твои слова при кардинале, то не знаю…
Микеланджело пожал плечами.
– Мне неизвестно ничего нового насчет Флоренции.
– Жаль, – ответил патер Квидо. – Всюду новостей хоть отбавляй, мы в Святой апостольской канцелярии, можно сказать, завалены ими, только Флоренция молчит. Я уж устал от бесконечных переговоров с вашим обезумевшим городом! Да, обезумевшим, флорентиец!
Голос патера Квидо вдруг изменился, он перестал быть насмешливым и лукавым, приобрел важность, значительность.
– Обезумевший город, который мутит против нас даже тех, от кого мы этого никак не ожидали. Герцог Эрколе из Феррары! Как раз теперь, когда Феррара имеет для нас такое значение! С каких пор род д'Эсте стал на путь покаяния? О Ферраре никогда ничего не было слышно, кроме казней, прелюбодеяний, кровосмешения и пыток. Все это они у себя там устраивали, и мы жили спокойно. Но вдруг герцог остался недоволен, что святой отец послал ему золотую розу в знак добродетельной жизни. И он помешался на Савонароле! Каждый день со всем двором своим ходит к мессе, на проповедь, издал указ против кощунства, приказал закрыть публичные дома, Эрколе этот – пройдоха из пройдох! Замучил кое-кого из родных, спит с любой женщиной в Ферраре, с какой ему вздумается, а солдаты его отнимают их у мужей хоть на одну ночь, велел казнить сына, пришить его отрубленную голову к трупу и носить его в открытом гробу по городу, сам шел в погребальной процессии… но установил три постных дня в неделю, через день – процессии, запретил публичные дома, мало ему было золотой розы от его святости, так получил теперь благодарность и от Савонаролы, который посвятил ему книгу своих проповедей и в посвящении написал, что это – в честь великой герцоговой добродетели. Но и этот пройдоха спятил! Слушает теперь каждый день со всем двором своим проповеди какого-то ошалелого лазариста, который вещает ему о конце света и о папском звере… А в Сиене по улицам ходит аскет Филиппо и тоже проповедует о конце света, носит на палке череп и призывает к покаянию, обличает Рим… И все это поднял ваш безумный Савонарола, каждый спятивший монах желает теперь разыгрывать Савонаролу. Святому отцу надо навести здесь как можно скорей порядок, и он, конечно, это сделает! Недавно в Риме казнили пять еретиков, они выдвигали против его святости менее серьезные обвинения, чем безумец Савонарола, – так неужели ты думаешь, что не позволено им, позволено Савонароле?
– Вашему преподобию известно больше моего, – спокойно ответил Микеланджело, – я не так умен, не сижу в Святой апостольской канцелярии.
– Но о Флоренции я ничего не знаю, Флоренция молчит! – вспыхнул патер Квидо. – А как раз Флоренция больше всего и заботит меня. С тех пор как ваша чернь убила нашего осведомителя каноника Маффеи…
– Каноника Маффеи не чернь убила, каноника Маффеи пожрала огненная старуха…
– Так, значит, это правда? – изумился патер Квидо. – Мы этому не верили… Но у тебя нет причин лгать! Понимаешь, нам казалось подозрительным, что вдруг погиб тот, кто состоял у нас на службе и всегда служил верно, добиваясь Пизанского архиепископства, и сведения его были всегда такие надежные… Почему именно он погиб?..
– Это правда, – твердо промолвил Микеланджело. – Только приор Сан-Спирито, отец Эпипод Эпимах, был убит чернью во время французского плена, а каноника Маффеи пожрала огненная старуха, сожженная старуха, которую Лаверной звали, она по ночам пугала, гонялась за выдающимися духовными особами…
Франческо, вытаращив глаза, бледный, быстро перекрестился.
– Удивительная старуха! – покачал головой патер Квидо. – Но я тебе верю, Микеланджело, бывают такие огненные старухи, что ищут только духовных особ… А как она пожрала его, – ведь он был такой толстый?
– Не знаю, – ответил Микеланджело. – Но о канонике Маффеи было много разговоров, – может, иные рассказы о нем были неправдой, просто выдумки, по книге мессера Боккаччо, но довольно и того, что было в действительности. Я особенно об этом не думал, знаю только, что как-то раз, когда каноник Маффеи возвращался ночью домой, к нему подошла сожженная старуха Лаверна и стала прелюбезнейшим образом ему предлагаться, а он не мог убежать, слишком был толстый, и старуха шла рядом, сулила ему всякие наслаждения, очаровательно улыбаясь, так что он оцепенел от ужаса, и утром его нашли в таком виде перед порталом Санта-Кроче. С тех пор он боялся выходить из дому, но, говорят, старуха все следила за ним, хоть прямо и не появлялась. Он подумал, что она от него отстала, и решился раз опять выйти ночью, не знаю куда, неизвестно мне, куда каноники по ночам ходят. А когда он возвращался обратно, подходит к нему вдруг монна Изабета, мужа которой, золотильщика, он послал раз всю ночь во дворе стоять, на звезды смотреть, не настает ли, по пророчеству Савонаролову, конец света. С недоверием глядел каноник Маффеи на монну Изабету, чей портрет был сожжен на костре анафем и сует, и никак не мог вспомнить, умерла она или жива еще. Но вот она идет рядом, зовет – и прекрасна. Стража говорила, что видела каноника Маффеи у Понте-Санта-Тринита, рядом с ним двигалось что-то квадратное, какая-то огненная картина, потом она вдруг превратилась в огненный шар, горящий портрет монны Изабеты превратился в горящую старуху, в темноте возле моста полыхнули языки пламени, и никто никогда больше не видел каноника Маффеи…
– И все-таки requiescat in pace, – сказал патер Квидо. – Какая ни будь его расплата, все-таки requiescat in расе, потому что это был добрый и верный человек, с давних пор на службе у Борджа, еще в бытность его святости кардиналом-канцлером давал всегда точные сведения, метил высоко, добивался Пизанского архиепископства, и тут пересолил, requiescat in pace. А мы думали, чернь убила его, не верили в огненную старуху…
– Во Флоренции, – тихо промолвил Микеланджело, – много таких знамений… С самой смерти Лоренцо Маньифико, когда треснул свод в Санта-Мария-дель-Фьоре…
– Тсс! – остановил его патер Квидо, таинственно к нему наклоняясь. – Не говори в этом дворце слишком громко о Санта-Мария-дель-Фьоре!
Франческо довольно потер руки. В конце концов патер Квидо, прелат Святой апостольской канцелярии, еще полюбит этого флорентийца, поймет, что он не мошенник, они уже беседуют вдвоем без язвительности, спокойно, душевно… И Франческо гордо выпрямился. Только теперь почувствовал он настоящий вкус этого приятного слова: сотоварищ…
– Знамения – не только во Флоренции, – сказал патер Квидо. – И Рим полон ими. Я долго не верил, пока сам не убедился. Только недавно, задержавшись в Ватикане… видел его… – тихо прибавил он.
И оглянулся на дверь. Франческо понял, пошел – открыл, но там никого…
Патер Квидо поглядел на Микеланджело испытующе.
– Я скажу тебе, флорентиец, – не скажу я, скажут другие, не один я видел, об этом идет много разговоров. Я шел по Ватиканской галерее, ясно его увидал, по бокам два больших языка пламени, идет между ними и кричит благим матом…
– Кто? – вырвалось у Микеланджело.
– Пьетро Риарио, – прошептал патер Квидо. – Кардинал Пьетро Риарио, отравленный венецианцами, любимый Сикстов племянник, которого Сикст сделать папой хотел, – герцог Миланский Галеаццо Мария должен был при этом военную помощь оказать и за это ломбардскую железную корону получить. Но Галеаццо убили катилиновцы, на его место сел Лодовико Моро, а кардинала Пьетро венецианцы отравили, это был для Сикста огромный удар, он никогда не мог забыть, всегда в самые тяжелые минуты свои шептал его имя, шорох ветра откликался, тени бежали, очень он любил Пьетро… И Пьетро появляется. Ходит по Ватикану в пламени, пишет огненные слова на стене и кричит… Об этом говорили уже при Иннокентии, а теперь, при Александре, еще пуще толкуют… И я видел, это было страшно, я побежал, стража на галерее догадалась, отчего я бегу, и тоже скрылась… многие из них видели кардинала Пьетро в пламени, он никому не причиняет вреда, только ходит по Ватикану и воет, воет в безумных мученьях… Это был ужасный человек, он держал целый двор проституток, поносил святую веру, странный был Сикстов замысел сделать его папой, но уж очень старый Сикст любил его… Я видел! А утром было найдено письмо от него, пеплом и углем написанное: дескать, уж скоро я уйду в места, откуда нет возврата, другой пришел мне на смену. Так там было написано. Показали письмо святому отцу, но его святость не боится привидений, у него есть сын дон Сезар, и любимый сын его, с которым у него связаны великие замыслы, герцог Гандии вернулся. Святой отец очень любит его, – от радости, что сын вернулся, не обратил внимания на письмо… Пришел мне на смену… Кого ж это он имел в виду? Лучше не думать! Много есть таких, которые достойны сменить в пламени кардинала Пьетро…
– Я слышал… – тихо промолвил Микеланджело, – я слышал о другом явлении в Ватикане…
– Ах! – поспешно перебил патер Квидо, схватив его за руку. – Не говори об этом! Я знаю, о чем ты! Призрак с древом креста на плече, а после него борозда в плитах пола, кровь на камнях, кровь от босых ног, паденье… паденье под ношей креста… молчи! Я знаю, о чем ты! Сикстов сон! Молчи! Молчи! Об этом нельзя говорить, об этом надо молчать, это слишком страшно.
Он был бледен.
– Два призрака ходят по Ватикану, – сказал Микеланджело. – Один в пламени, другой несет крест… разумей, кто слышит. Но кто уразумеет?
Патер Квидо сильно сжал руки.
– Больно много ты говоришь, Буонарроти! Я пойду. Но вижу, ты умней, чем я думал, флорентиец, – да кабы был еще поумней!.. Я знаю, как тебе можно было бы легко вернуться во Флоренцию и не так уж хлопотать все время о деньгах и работе… Собственно, из-за этого и зашел к тебе. Я понимаю, не очень-то приятно – жить на этой верхотуре, в тесной каморке и спать на одной кровати с брадобреем…
Франческо поглядел на священника растерянно, но тот ответил отчужденным, ледяным взглядом. Франческо смущенно опустил глаза. Выходит, он уж – не художник первым делом, а потом уже брадобрей? Выходит, уж не сотоварищ? Но ведь он хорошо пишет красками, слепил даже статую из глины, и патер Квидо это знает, сам об этом говорил, так почему же вдруг заводит речь о кровати брадобрея?
А патер Квидо продолжал:
– Нелегко найти замену канонику Маффеи. А святому престолу нужны точные сведения… дело идет о пробе, маленькой пробе… И ты сейчас же попал бы домой. И куча денег. Кстати, ты не хотел бы принять хоть малый обет и вступить в ряды духовенства?
– Один раз… – хрипло ответил Микеланджело, – один раз мне уж предлагали пойти в монастырь…
Патер Квидо махнул рукой.
– К Савонароле? Да? Как все там у вас? Глупость, мы бы тебя не стали делать монахом. Ты остался бы мирянином, принял бы только обет послушания, да и того бы не понадобилось, – что ты на это скажешь, флорентиец? А какая заслуга перед богом и церковью? Ты хочешь по-прежнему шататься по белу свету, не имея крова над головой, всеми пренебрегаемый, как странник, вечно зависящий от чужой милости, попросту как бродяга… или хочешь получить небольшую, но доходную церковную недвижимость за верную службу святому престолу? Я из нашего с тобой разговора узнал о тебе больше, чем ты думаешь, мы в Святой апостольской канцелярии умеем определять людей с первого взгляда. Ты отвечал мне все время очень удачно, у тебя быстрое соображение, свободная речь, хорошие манеры, не к лицу тебе каморка брадобрея, ни мошеннические проделки с кардиналом или каким-то миланским купцом, – что ты на это скажешь, флорентиец? Ну хоть для пробы, у тебя во Флоренции много друзей и знакомых, я уверен, что твои сведения были бы точны, к тому же ты, как художник, умел бы проникать в более чувствительные места, чем толстый каноник, а жизнь ты, как я слышал, ведешь строгую, упорядоченную, так что огненная старуха тебя у нас не пожрала бы. Ну, как решаешь?
– Один раз меня звали в монастырь… – ответил Микеланджело каким-то придушенным голосом, – а в другой раз требовали, чтоб я предал женщину. Я каждый раз отвечал: нет! Не предам ни женщину, ни город. Отвечаю тебе: нет!
– Ну, так долго оставаться тебе в каморке брадобрея, художник флорентийский,- засмеялся патер Квидо. – Да мне уж все равно, я не для себя тебя заманивал, а для своего преемника. Так что не настаиваю. Пусть его ищет, кого хочет, хоть старуху огненную. Я скоро уеду.
– Вы нас покидаете, ваше преподобие? – изумился Франческо.
– Да, – кивнул патер Квидо. – Довольно с меня этого города с его призраками. И потом – неужели ты думаешь, что меня не тянет дальше и выше, что я хочу до самой смерти строчить бумаги в Святой канцелярии? Уеду, здесь за все нужно платить, и притом страшно дорого. Уеду – и очень скоро. Я купил право продажи индульгенций, это самое выгодное – и уеду. В Германию либо в Чехию.
Франческо всплеснул руками.
– Так далеко?
– Только, – патер Квидо нахмурился, – мы так наводнили Германию, что трудно выбрать. Погоди… – порывшись в карманах плаща, он вынул записку и развернул ее, приблизив к свече, – у меня здесь подробно записано, я взял на заметку в Святой канцелярии… Что выбрать? Битком забили немецкую землю. Видишь? В капитуле мейсенского дома уж сидят восемьдесят восемь каноников, для меня не осталось места, при Страсбургском соборе целых сто тридцать семь, об этом и думать нечего, и в других местах не лучше: во Вроцлаве – на каждые двадцать человек один священник, в городе Гота на тысячу жителей сто священников, а в Кельне – пять тысяч духовных лиц в одиннадцати аббатствах, девятнадцати церквах, ста часовнях, двадцати двух монастырях, семидесяти шести общинах. Нет, там мне делать нечего, да, в общем, надо класть на Германию миллиона полтора священников, не считая тех мест, где один епископ получает доход с трех епископств, один аббат – с пяти аббатств, один приходский священник – с десяти приходов. Нет, поздно я спохватился, что выбрать? – промолвил он разочарованно. – А Чехия? Страна, опустошенная войнами, двора Беатриче Неаполитанской там больше нет и полно еретиков, что толковать! Англия тоже переполнена духовными, как и Германия, не стать мне там епископом. А во Францию не пустят – французские священники, как только узнают, что я еду с папским бреве домогаться пребенды… Но я не хочу оставаться всю жизнь папским писарем! Вот купил себе право продажи индульгенций и уеду. Близится год отпущения грехов, и продажа пойдет бойко. Поеду в Германию…
В ту ночь Микеланджело долго лежал, закинув руки за голову, и глядел во тьму. Ровное дыханье Франческо, мирно спавшего близ картона с изображеньем стигматизации его святого покровителя. Шелест ночи. Голоса тьмы, уж не угрожающие и не волнующие, голоса слабые, которые он научился не слушать. Он глядел в темноту, и все перед ним раскрывалось и закрывалось словно большая черная роза, медленно роняющая лепесток за лепестком. И в этой черной розе были его прошедший день и эта ночь, в ней была, может быть, вся его жизнь. Цветок облетел, вырос новый, распустился, черные лепестки разблагоухались во тьме, увяли, стали осыпаться, он за ними следил, и вот уже опять вырастает новый, точно такой же черный и благоуханный, опять осыпающийся, стоит только протянуть руки – и подхватишь эти падающие листки в ладонь, черные листки, чтоб растереть их в горячих беспокойных пальцах, но он этого не сделал, не протянул руки во тьму, как поступил бы в другое время, а только смотрел, смотрел, как черная роза растет, вянет, опадает, растет…
С утра он пошел бродить по Риму. Многое уже зарисовано. Пирамида Цестия, термы Диоклетиана, Тита, Каракаллы, Колизей, теперь он хотел посмотреть мавзолей Августа, но, вместо того чтоб пойти на Кампо-Марцо и оттуда по виа-делла-Рипетта, запутался в сплетенье улиц и переулков, пошел в другом направлении и после долгого блужданья очутился на Трастевере, где и остался. Усталый, прошел вдоль старинных церквей Санта-Мария-Трастевере, Сан-Кризогоно, Санта-Цецилия, Санта-Агата, Санта-Руфина и Санта-Секунда, ах! Самые кровавые эпохи Рима были всегда кровавыми эпохами Трастевере, там оставался, бродил; живопись Коваллини, – там оставался; засыпанные катакомбы Сан-Панкрацио… Усталый, вошел в церковку Сан-Козимато. Шла месса.
И увидел чудо. В полумраке старой церквушки без хвастливой живописи знаменитых мастеров, без дорогих каменьев и золота стояло на коленях мало молящихся, и он заметил, что все они бедны. Какая-то старая женщина рядом с ним плакала, закрыв лицо руками, калека, вернувшийся из французского похода, молитвенно воздевал обрубок свой к богу, несколько блудниц жалось к колонне, заслонив себе лицо, двое-трое, чьим ремеслом была нищета, стояли на коленях в стороне, робея. Вбежал маленький оборвыш, остановился как вкопанный и с удивлением заметил то, на что молящиеся, может быть, не обратили даже внимания: при священнике не было служки. И ребенок подошел к алтарю, словно ангел, чтоб прислуживать. Священник – молодой, истощенный, видно, из самых бедных – литургисал истово. Для Микеланджело алтарь и священник на мгновенье слились в одно, были сумерки, и убранство алтаря было бедное, нищенское, как облаченье священника. А священник хвалил, славил и величил бога с таким жаром, что все больше, чем обычно, присутствовали всей душой и видели, как Христос при этой жертве возобновляет свою жизнь, свою молитву, свое страданье, как Христос при этой жертве возобновляет свою смерть и снова проливает кровь. И эта кровь оросила всех, она взывала к небесам, родник ее был открыт всем живущим на земле, из которых здесь преклонили колена женщина и калека, блудницы и двое-трое, чьим ремеслом была нищета, и вбежавший сюда ребенок, посланный святым Козиматом, прислуживал священнику у этого родника, к которому святой дух и пресвятая дева звали: приди! и слышащий – молви: приди, и жаждущий – приди, и каждый желающий – набери живой воды даром. Потом священник повернулся и перекрестил всех простым движением, не изученным перед венецианским зеркалом, движением безыскусственным, скудным, и удалился. Микеланджело спросил, как зовут священника, и узнал, что его зовут Уго, он венецианец, знатного рода, сам когда-то был нобилем, отец его заседал в Совете, а бабка со стороны матери была догарессой, но он из любви к Христу от всего отрекся, пришел пешком, босой в Рим, где и стал священником, самым бедным, и живет, говорят, хуже нищего. Но будто бы молитвы его обладают чудодейственной силой, так утверждала старая женщина и уже не плакала. И Микеланджело решил ходить сюда, в храм Сан-Козимато на Трастевере, и познакомился с отцом Уго из Венеции, и возблагодарил бога, что заблудился.
Это была одна встреча. А потом, возвращаясь обратно на Кампо-деи-Фьоре, он натолкнулся на Виа-Трастиберине на толпу, гудящую, рокочущую и валом валившую по улицам, посреди которой выступали флейтисты в папских цветах и барабанщики били в барабаны, грохотала солдатская песня, народ бил в ладоши и валил вперед, за марширующим воинским отрядом, во главе которого гордо ехал командир в роскошной одежде, подпоясанный широким золотым поясом. Микеланджело сразу узнал его. Узнал, несмотря на то, что не видел после того удара в Санта-Мария-дель-Кармине. Это был Торриджано да Торриджани. Барабаны гремели, звенело ликование флейт, клики и рукоплесканье толпы, это был поход против Орсини, блестело оружие, реяли флаги. Торриджано, гордо выпрямившись, величаво глядел на народ, пока взгляд его не упал на Микеланджело. Он тоже сразу узнал его, и, покинув строй, легким движеньем остановил коня: он немного поколебался, держа меч под мышкой и поигрывая плетью. Микеланджело, в выцветшей одежде, без плаща, с низко пришитой сумкой у пояса, глядел молча. Торриджано, весь в золоте, снова тронул коня, ухмыльнувшись, и надменно въехал в ряды, больше не обращая внимания на безносого бродягу, на затерянного в толпе странника. Это была вторая встреча.
А третья произошла перед дворцом Орсини, откуда выбежал человек, и на него смотрели другие вооруженные юноши на конях, громко смеясь. Выбежавший тоже смеялся, хотя любому, выбежавшему в это время из дворца Орсини, должно было быть не до смеха, потому что Орсини вели войну со святым отцом, старик Вирджинио Орсини, глава рода, тогда еще не поел отравленного. Орсини воевали, жестоко тесня папское войско, они оскорбили папского кондотьера Квидобальдо де Монтефельтро, герцога Урбинского, и папского сына герцога Гандии, жестоко оскорбили их у Браччано, послав им в лагерь осла с подвязанными под хвост мирными предложениями, изложенными в насмешливых сонетах. Папа пришел в неистовство и стал готовить месть, так что никому, выходящему из дворца Орсини, не стоило смеяться, но юноши имели оружие, а дворец был крепостью, на выбежавшем были панцирь и меч, он вскочил на коня, и все помчались карьером. Но Микеланджело все-таки узнал его. Пьер! Пьер Медичи в Риме! Родом Медичи, но по матери Орсини, больше Орсини, чем Медичи, Пьер снова в панцире, уже не оборванный изгнанник, плачущий на церковной скамье в Болонье о своей Флоренции правитель-изгой, а Пьер в панцире и с мечом, мечтающий о самодержавной власти, Пьер, который уже не плачет, а выбежал со смехом и мечом, – то и другое блестело, то и другое говорило о Флоренции. Пьер в Риме! "Вечно пути твои будут скрещиваться с путями Медичи, Микеланджело", – сказал он тогда. Это была третья встреча.
А теперь этот патер Квидо, предлагающий ему стать доверенным Святой апостольской канцелярии, выдавать тайны и получать церковную пребенду… Патер Квидо, ныне продавец индульгенций для Германии, священник, который видел призрак в языках пламени, бродящий по ватиканским залам, и хочет другого места, хочет дальше и выше, мечтает о епископстве, не намерен вечно писарствовать, хочет доходов, пребенд, высокого сана, наслаждений, богатства…
А брадобрей Франческо! Сотоварищ! Как он мирно спит! А днем рассказывал Микеланджело, как святой отец встречал третьего своего сына Жоффруа, наместника королевства Сицилийского, и его жену донью Санцию, принцессу Неаполитанскую, прибывшую в сопровождении двадцати первейших красавиц, как папа сиял, приветствуя процессию, сидя на троне в окружении Святой коллегии, как он радовался возвращению третьего сына. Донья Санция осыпает своего пятнадцатилетнего супруга поцелуями, но этого ей мало, у принцессы столько любовников, что она перепробовала, можно сказать, все римское дворянство с прелатами в придачу, так что святой отец очень этим огорчился, и он запер похотливую принцессу, с двадцатью ее неаполитанскими дворянками, которые ничуть не лучше, в замке Святого Ангела, где, впрочем, живет дон Сезар, так что донья Санция, жена его брата, не скучает там, – не скучают там с Сезаровыми дворянами и ее неаполитанские дамы. Так рассказывал брадобрей Франческо, громко смеясь, тут ему не нужно было ходить смотреть, нет ли кого за дверью, во дворце кардинала Рафаэля можно свободно говорить о папе и его сыновьях, только сам кардинал ни с кем не говорил, ел одну зелень, запивая водой, и боялся – одинаково: кантарелли или милосердия, misercordiae.
Роза, большая черная роза, с которой медленно опадают лепестки. Микеланджело глядит в темноту, лежит, закинув руки за голову, и не спит. Смотрит… черная роза – и в ней прожитый день и эта ночь, в ней, быть может, вся его жизнь. Цветок осыпался, вырос новый, распустился, черные лепестки разблагоухались во тьму, потом увяли, начали осыпаться, он следил за ними, и вот вырос опять новый, такой же черный и благоуханный, и опять осыпался, стоит только руку протянуть – и поймаешь эти осыпающиеся листки, сильно пахнущие, черные, разотрешь их в беспокойных, горячих пальцах, но он только смотрел, как черная роза растет, вянет, опадает, растет…
Так одуряет вас корысть слепая,
Что вы – как новорожденный в беде,
Который чахнет, мамку прочь толкая.
В те дни увидят в божием суде
Того, кто явный путь и сокровенный
С ним поведет по-разному везде.
Но не потерпит бог, чтоб сан священный
Носил он долго; так что канет он
Туда, где Симон-волхв казнится, пленный;
И будет вглубь Аланец оттеснен.
Так пел Данте в тридцатой песни "Рая", так…
Рим! Он горько улыбнулся и вспомнил: тот раз, когда он окончил свое первое произведение, ухмыляющегося "Фавна", изумленный Полициано повел его к князю Лоренцо и по дороге в восторге говорил: "Я буду тебя учить, Микеланджело, нельзя быть ни христианином, ни художником, не зная ученья Платона… Мы должны возвышаться до богов, получать крылья, помни, что нет ничего прекрасней, чем мир, творение Демиурга, который отрекся от самостоятельного существования и излился в предметы, невежественная толпа, которая только молится, – оскорбляет божество, лишь философ может быть священнослужителем, лишь творчество мудреца имеет цену в глазах бога, а не слезы, не покаянье…" А в голове у меня звучали отрывки Савонароловой проповеди – ты ничего не можешь, душа моя, без бога, только молитвами и покаянием снищешь ты снова милость господа нашего, бог есть отдельный от несовершенного мира создатель, а мир зреет для гибели и отвержения – это боролось тогда во мне, боролось не на живот, а на смерть… Сады Медицейские! Но теперь будет, видимо, еще хуже… Рим. Борджевский Рим! А где-то там выходят из скал девы с терновыми венцами на головах, как видел Франческо, и где-то там бедненький священник тайнодействует, хвалит и славит, величит бога, и Христос при этой жертве возобновляет свое воплощенье и смерть, это не воспоминанье о жертве, а сама жертва, жертва непрестанная, и открылся родник всем живущим на земле, кто жаждет – приди! и кто хочет набери живой воды даром.
Рим! Во мне не перестает эта борьба, словно не только по ватиканским залам, но и в душе моей бродят два призрака, один в пламени, воющий от муки, а другой тихий, падающий на колени под тяжестью креста, следы крови от босых ног – всюду в душе. Рим! Будет хуже, чем в садах Медицейских!
Роза, большая черная роза, у которой опадают черные лепестки, стоит только руку протянуть – и подхватишь их, разотрешь, сильно пахнущих, в беспокойных, горячих пальцах…
Так глядел он во тьму и не спал.
Утром вокруг был опять Рим. И первым пришел дворянин Якопо Галли.
Молодой римлянин был изящен и красив. Длинные черные волосы до плеч, тонкие пальцы унизаны кольцами. По причине жары белая атласная куртка была расстегнута у горла, открывая батистовую сорочку с узкой полоской кружев. На золотом поясе покачивался короткий кинжал, с большим изумрудом на верху рукояти. Молодой человек кинул сильно надушенные красные кожаные перчатки на ободранный стол брадобрея, обвел удивленным взглядом сумрачное помещенье, скользнул глазами по неубранной постели и, не обратив внимания на поклоны Франческо, позвал Микеланджело к себе домой для разговора. Там Микеланджело обнаружил роскошь, подобную той, что видел в доме Альдовранди, но при этом римскую. Они пили холодное вино, и Якопо Галли, нервно шевеля своими красивыми руками, говорил звучным, мелодичным голосом:
– Я знаю, кто ты, Микеланджело Буонарроти, потому что архитектор Джулиано да Сангалло – мой друг и каждый раз, как приезжает в Рим, гостит у меня. Но тебе я не могу предложить крова, хоть и очень был бы рад: я рассердил бы кардинала Риарио, а этого никак нельзя. Я верю в будущее делла Ровере. Не могу поместить тебя в своем доме, но могу предложить работу. Ты не хотел бы сделать что-нибудь для меня?
Микеланджело поклонился и поглядел в глаза Якопо Галли – молодые, ясные. Зал был залит солнцем, окна открыты, со двора доносился веселый и ласковый плеск фонтанов.
– Мне хочется получить от тебя статую, – продолжал хозяин, – не ставя никаких условий, ты художник, я не стану ничего тебе предписывать, предлагать тебе тему. Выбирай сам – и материал тоже. А заплачу хорошо, об этом не беспокойся. Согласен?
– С удовольствием, – ответил Микеланджело и провел рукой по лбу. – Я думал, в Риме никто не захочет иметь дело с мошенником и мне ничего не удастся здесь сделать.
Якопо Галли улыбнулся, и кольца его заиграли на солнце.
– Я родился в Риме, вырос в Риме и живу в Риме, – промолвил он. – И знаю, что, когда между мирянином и кардиналом начинается спор насчет мошенничества, трудно сказать, кто из них больший мошенник. К тому же я сам когда-то купил статую у Бальдассаре дель Миланезе… и она пошла на свалку, оказалась фальшивая. Зачем кардинал Рафаэль верит этому мерзавцу? А кардиналы боятся купца Бальдассаре, – если б он заговорил, все оказались бы посмешищем, половина их драгоценных собраний – подделки… Так что же удивительного, что купец вышел сухим из воды, ему не впервой, дело привычное, а ты теперь в брадобреевой каморке. Но я удивляюсь Рафаэлю, что он не привлекает тебя к другой работе: он ведь строит новый дворец, и ты мог бы ему понадобиться… Но Риарио никогда ничего не понимал в искусстве, оттого-то он так и досадует, что попал впросак!
Молодой аристократ встал, тряхнул черными кудрями и прошелся по залу.
– Великое бедствие для искусства – эти кардиналы! – сказал он. – Пей, Микеланджело, вино хорошее. Каждый из них считает, что раз у него пурпур, значит, надо ему иметь и коллекцию. Это болезнь, которую он получает вместе с шапкой. Половина их не знает ни слова по-латыни, но каждый способен целыми часами слушать чтение "Энеиды", ни разу не зевнув и не пошевелив мускулом лица, уменью подавлять скуку они учатся на своих заседаниях. Стих Горация от Гомера не могут отличить, а имеют большие библиотеки и кичатся ими, – это модно. Я не говорю о всех, но настоящих знатоков во всей Святой коллегии по пальцам одной руки перечтешь. А за ними тянется каждый приходский священник, – выбрасывает из своей церкви старые статуи и покупает подделки, сжигает древние образа и заменяет их копиями, изготовленными каким-нибудь сапожником в Субуре и подписанными именем Бальдовинетти. Это настоящий потоп, просто захлебнешься, – пей вино, полощи горло. Нынче все стали художниками. У меня повар пишет сонеты и больше гордится своими жалкими стихами, чем уменьем отлично приготовить фазана, – приходи сегодня, поужинаем с тобой вместе. Каждый из моих слуг что-нибудь творит: один режет по дереву Диониса, другой пишет красками Данаю, третий сочиняет об этом канцоны. А этих прогонишь – получишь какого-нибудь другого, который ваяет Полифема, или пишет "Суд Париса", или приложит к моему завтраку свою секстину, где назовет себя Ганимедом, молча ожидая от меня хоть пяти дукатов в награду. Скоро будем с фонарями искать такого, который гордо заявит, что он не художник. А те немногие из нас, кто понимает искусство, кто любит его, и вы, которые его творите, – мы радостно уплывем к Лотофагам, с тем чтоб забыть их всех и никогда не возвращаться… Что ты сделаешь для меня, Микеланджело?
Тот раздумывал, глядя на ясное, открытое лицо Якопо Галли. Каждый мускул этого лица говорил, оно непрерывно менялось, глаза все время сияли, и все оно было полно светлой, юношеской прелести.
– Я подумаю, – сказал Микеланджело. – Что-нибудь молодое, упоительное…
Якопо Галли засмеялся и поднял кубок.
– Пей, Микеланджело, выпьем за успех твоей работы. "Что-нибудь молодое, упоительное…" Но ведь ты всегда такой серьезный и хмурый, словно никогда не был молодым, а на самом деле, наверно, не старше меня: нам по двадцать два года… "Что-нибудь упоительное…" Знаешь что? Я, правда, сказал, что не буду ставить тебе никаких условий, мой друг Джулиано да Сангалло писал мне о тебе так хорошо, не буду ничего тебе предписывать, но все-таки есть у меня одно желание: создай мне душу вина. Изваяй ее в мраморе! Сделай это, и я положу Рим к твоим ногам!
Улыбка его благоухала, как роза. Мелкие белые зубы сверкнули меж красных губ, а тонкие пальцы снова взяли чашу.
– Мне нравится пить. Нравится впивать душу вина, а не только его букет. Ты вот это изобрази – и поверь, я тебя щедро вознагражу, не только деньгами. Ты добудешь Рим. Я сумею устроить такое пиршество для своих молодых друзей и для кардиналов и на нем буду так о тебе говорить, что патриции и прелаты станут просить тебя сделать каждому из них статую.
– Добыть Рим? – улыбнулся Микеланджело.
Якопо Галли положил руки ему на плечи.
– Я знаю эту улыбку, вижу ее у всех, кто попал в Рим впервые. Знаю, что говорят и поют об этом городе по всему христианскому миру, даже в Англии… Но ты об этом не думай! Читал книгу Боккаччо "Архисводня"?
– Знаю, – ответил Микеланджело. – У старика Альдовранди в Болонье…
– Ну, так в одной повестушке замечательно рассказано. Жили-были два друга – один христианин, другой язычник. Христианин сильно ревновал о спасении своего друга, и в конце концов ему удалось привести его в лоно святой церкви. Новообращенному страстно захотелось видеть Рим и святого отца. Напрасно друг его изо всех сил старался отпугнуть его описанием воображаемых трудностей путешествия, напрасно отговаривал, тот пустился в путь, а друг стал плакать и рвать волосы на голове, предвидя, что все его усилия пропали даром, – друг воротится еще большим язычником, чем прежде. Но вот друг вернулся, и что ж оказывается? Вера его процвела пышным цветом христианских добродетелей. И он объяснил своему другу, христианину: он, мол, видел одну похоть, обжорство, стяжательство и святотатство. "Я, говорит, видел, как все эти пастыри изо всех сил стараются убить в народе веру. Но видел и то, что благочестие христианское становится все более лучезарным и ослепительным, оставаясь единственным оплотом в смутах нашего времени… Знаю, что опора его – святой дух и что оно – единственно правое. Всякое другое при таких пастырях давно погибло бы, а оно крепнет. И потому ничто не убедило меня в святости и божественном назначении церкви, как тот разврат, который творится и преодолевается в Риме!" Понимаешь? Так предоставь церкви спасать самое себя, – поверь, она не погибнет. А что тебе до остального? Я, конечно, знаю, кто сюда приедет из города Савонаролы… но верь "Архисводне"! Якопо Галли опять улыбнулся. Они простились.
– Работать ты можешь у меня, – сказал юноша, – я дам тебе все, что тебе понадобится, только каморку брадобрея не могу ничем заменить. Пока. Но тем сильней осрамится потом кардинал Рафаэль, когда ты прославишься; ему придется досадовать о каморке брадобрея, а не тебе. Теперь ступай и не забудь: душа вина!
Так Микеланджело начал ваять "Пьяного Вакха".
Прежде всего он набросал эскиз, который сперва привел Франческо в восторг, а потом поверг в печаль.
– Ты скоро меня оставишь, флорентиец! – сказал он. – Ты художник не чета мне! Я тоже рисую Вакха, да не выходят ноги. Вот уж неделю бьюсь над ногами, а не удаются. А ведь я это – в подарок кардиналу!.. Как ты с ногами выходишь из положения? Я молюсь. Когда мне что не удается, я стану на колени и молюсь до тех пор, пока не подумаю: вот оно!.. Тогда начинаю снова рисовать. Но на этот раз у меня все никак не выходит, хоть я уж сколько раз молился о ниспослании мне способности нарисовать Вакха так, чтоб кардиналу понравилось. Потому что я – благочестивый художник и верю, что бог важней искусства. Я не такой, как тот, кто вынес из церкви вечный огонь, горевший в алтаре, и прикрепил его к статуе Петрарки, промолвив: "Ты его заслуживаешь больше, чем тот, на кресте…" Нет, я не такой, я не кощунствую, я молюсь. А все никак не научусь рисовать так, как ты, флорентиец!
Душа вина.
Миновала осень, наступил зимний карнавал. Улицы наполнились масками. Прелаты стали посылать друг другу шутовские процессии. На всех улицах плясали. Микеланджело работал. Глиняная модель была очень высокая, он раздобыл большой кусок мрамора, чтоб статуя получилась выше двух метров. Великанов, творить всегда только великанов!.. И душа вина – как великан…
Карнавал. Во Флоренции был карнавал Савонаролов, вокруг костра водили хороводы под звуки церковного гимна и колокольного благовеста, жгли тщету. Потом был представлен триумф Христа. Христос ехал на увенчанной колеснице, над ним был сияющий шар пресвятой троицы, в левой руке он держал крест, а в правой два завета – Ветхий и Новый. Рядом с ним сидела пречистая дева Мария, перед колесницей шли патриархи, пророки, апостолы, проповедники, по сторонам – мученики, святители, девственницы, исповедники, а позади триумфальной колесницы в оковах дьявольских шагали противники церкви, императоры, философы, павшие идолы. А ночью была проповедь.
В Милане был карнавал мифологический, успеху которого споспешествовал новыми изобретениями, пиротехникой и украшениями сам божественный маэстро Леонардо да Винчи, карнавал получился блестящий. Лодовико Моро снова правил со всей спесью и могучей силой, говоря, что в одной руке у него война, а в другой мир, – какую он раскроет? Но спесь его отличалась подозрительностью, он боялся своих собственных подданных, во время аудиенций проситель находился за загородкой на другом конце зала и вынужден был выражать свою просьбу, крича, чтоб быть услышанным, такой страх испытывал Лодовико Моро, брата родного, кардинала Асканио Сфорца, прогнал с карнавала обратно в Рим, примолвив: "Не обижайтесь на меня, монсеньер, но я не доверяю вам именно потому, что вы – мой брат…" Но миланский карнавал был славный, под девизом "Золотой век"; на триумфальной колеснице ехал Зевс, вокруг него Добродетели, сплошь Моровы наложницы, перед колесницей и позади нее ехали обнаженные женщины в розах, языческие боги, все – преклоненные перед Лодовико, который стоял возле жены своей, Беатриче д'Эсте, и улыбался. Удачный был карнавал, Леонардо придумал чудеса, Браманте – декорации.
В Риме устройство карнавала взял в свои руки сам святой отец.
Микеланджело работал.
Хмельной бог ступает нетвердо, в кудрях – гроздья, в руке – приподнятый кубок. Он улыбается, но не пьяной улыбкой, а милой, обаятельной, бог пьет за чье-то здоровье. Он совсем обнажен, как требует такая улыбка. Поднял чашу и приветствует свою жертву, улыбается ей, душа вина на губах, привыкших к поцелуям и вину. В мускулистых руках его ожидание, но и спокойствие, они не дрожат от нетерпенья, хоть он пил и пил, как бог – много. С кем теперь решил он чокнуться? Пошатывается, чтоб его схватили, но только в объятия. Он ничего еще не знает об Ариадне, даже не слыхал ее имени. Но к вечеру придет в себя. Тело его гладкое, теплое, мускулатура упругая, мягко моделированная. Хоть и великан, а кажется скорей нежным, чем огромным. Прекрасная и такая неантичная голова его слегка наклонена, надо же ему поглядеть вниз, на землю, на которой он стоит, пошатываясь, на людей, остановившихся в изумлении, не понимая – благодаря его жизненности и гладкости – из бронзы он, из мрамора или из тела и души. Правая нога выступила вперед, колено согнуто плясовым движеньем, еще миг – он поставит кубок и запляшет какую-нибудь разгульную песню без слов, выражаемую лишь движениями тела и головы, в лад этой обнаженной улыбке. Хоть он явился осенью, это не заставляет его задуматься, для него осень – не раздумье и заботы о себе, для него осень – вино. Он не проказливый, вакхически-дикий, пьяно-озорной, а полный молодого веселья, миролюбия, упоения, смех его – творческий. Чокнуться? С кем? Кто коснется своим кубком чаши этого бога, у которого душа вина на губах, в глазах, в движениях рук и ног, в гроздевых кудрях? Он добрый, – хоть и великан, а не монументальный, – и нежный, улыбается пленительно. А позади него, прячась за виноградные гроздья, сидит его спутник, маленький, козлоногий. Он тоже улыбается, но улыбка его – уже другая, она – манящая, козлиная, улыбка вязкая, тягучая, как только что выброшенные виноградные отжимки, улыбка алчбы, не упоенья. Этот козлоногий улыбается, – он не обнажен, но думает о наготе. Хмельной бог обнажен и улыбается в веселье, приветствует, понимает, мирит, утешает и успокаивает, с душой вина на губах, с душой вина, разлитой по всему его гладкому, мягко изогнутому телу. Холодно, но он этого не замечает. Пьет вино, как бог много. Весна, римская весна. Жест его поднятой руки стал еще мягче, нежнее. Он уже узнал имя Ариадны, еще шатается, но хочет быть схваченным только в объятия. Свет вокруг него трепещет, как песня, сам он – ослепительно-белый. А скоро наступит жаркое римское лето. Июнь. Вот он снова наполнил чашу, приоткрыл свои мягкие теплые губы, чтоб выпить, привел в движенье мускулатуру и вошел в дом Якопо Галли.
Пошатываясь, а там шел пир, все пошатывались в доме Якопо Галли, красивого юноши, di bello ingegno 1 римского дворянина, пошатывались и пили в честь бога вина, падали розы, уже не черные, бурлил говор, сверкали шутки, звучали виолы, лютни и вкрадчивый, льстивый звук флейт, девичьи улыбки отвечали улыбке хмельного бога, который очутился на этом вечернем празднестве уже пьяным и продолжал пить, не в силах отказаться от стольких прекрасных здравиц, а больше всего разглагольствовал и стукал бокалом о бокал молодой Якопо Галли, встряхивая черными кудрями, подымая в тонких руках чашу и предлагая богу одну красавицу за другой. Пили много. А была уже ночь. Начали было танцевать вокруг осыпанной розами статуи, и бог, обнаженный и гладкий, сделал правой ногой первый шаг, но – много пили, танец не выходил, а бог только смеялся, подымая кубок. И девушки стали танцевать одни, – им тоже хочется быть схваченными в объятия, но он думает об одной Ариадне и держит кубок, улыбка его понимающая, миролюбивая. Танцевали, как вихрь, с вызовом, подчиняясь тягучей козлиной улыбке маленького козлоногого, которому уже не надо было думать о наготе, а только смотреть. Меж разбросанного серебра бокалов было полно роз, сладко звенели лютни и виолы, приманчивый голос флейт, песни, розы, девичья красота, жаждущая быть взятой, жаркая июньская римская ночь, и посреди всего – гладкий, улыбающийся бог, раздающий душу вина.
1 Одаренного (ит.).
Страшный, могучий, оглушительный удар жгучим пламенем раскрыл небо. Ночь на мгновенье остановилась, вся в пламени, которое потом погасло, чтобы сделать тьму еще черней. Все, вскрикнув, кинулись к окнам, трезвея. Якопо Галли, бледный, взлохмаченный, указал дрожащей рукой на Ватикан. Там над крышами встал раскаленный столб искр, который потом вдруг рассеялся и погас. Опять знаменье!
Оттолкнув ногой растоптанную лютню, Якопо Галли подошел, пошатываясь, к улыбающемуся богу.
По Ватиканской галерее ходил Александр Шестой, страшно крича. Боль разрывала ему сердце, как раскаленный столб искр разорвал небо, папа кричал и рвал волосы на голове, посланные в испуге побежали к кардинальским дворцам, а старик полным вырванных седых волос кулаком отчаянно бил себя в грудь, всхлипывал и стонал, захлебываясь тяжкими старческими слезами, пьяный от ужаca и боли… бродил по коридорам, хватаясь за выступы стен, с волосами, полными пыли, сора и осколков, оттого что бродил он и глухими коридорами, падая, с трудом подымался, брел дальше, крича от мучительной боли, которая, окаменев в сердце, не хотела оттуда уходить, резала и резала острейшими гранями, палила и жгла. Старик рвал волосы на голове, падал на колени, ему помогали встать, он лепетал какие-то непонятные слова, пепельно-седой, вырывался из рук, как безумный, и брел опять дальше, – с ужасом думали, что папа помешался.
Поспешно съехались кардиналы, перепуганные, ошеломленные, первым кардинал-канцлер церкви Асканио Сфорца. И тут узнали причину папского горя и отчаянья.
Самый любимый сын его, герцог Гандии, породнившийся с испанским королевским домом, – тот, для которого старик предназначил Италию, весь мир, любя его пожирающей всю внутренность любовью, был выловлен из тибрийской топи, убитый, пронзенный ударами кинжала, уже распухший, позеленелый, весь в грязи и нечистотах, как подонок. Потому что Сезар тоже хотел иметь готовенькую Италию и весь мир и не стерпел этой пожирающей всю внутренность любви к его брату, не стерпел, чтобы брат был возвышен. И вот за герцогом Гандии пришел дон Микелетто, человек в маске, дворянин и Сезаров палач, пригласил его к брату ужинать. И герцог Гандии пошел на смерть с веселым лицом, ничего не подозревая.
Вытащен из вонючей тины Тибра… любимый сын… родственник их католических величеств Испании и Индии… император Италии… вытащен из смрадной жижи сточных вод и нечистот… распухший, как падаль… Вытащен в праздничном, пиршественном наряде… из глубин реки, в которых был потоплен, подобно тому как бог зла Тифон, по древнему египетскому мифу, похоронил когда-то божественного Гора-Аписа… Вытащен мертвым, гниющим! И дон Сезар, плотно закутанный в плащ, приехал на испанском жеребце, спеша утешить старика папу, и резко приказал, за большое вознаграждение, разыскать изверга – убийцу. Тут все отступили, умолкнув и глядя в плиты пола, потому что страх миновал и это было уже лишнее. Только старик бил себя в обнаженную грудь и кричал, глядя на ледяное лицо дона Сезара, кричал, словно при виде призрака.
Но призраком был не дон Сезар. Привиденье явилось ночью, и опять стража убежала с галереи, опять показалось сверхъестественное знаменье в залах: хотя на дворе было безветрие, внезапный вихрь распахнул окна, и по галерее, одетый племенем, прошел высокий человек, воя от муки, – он писал на стене огненным перстом, одет был в праздничный испанский пиршественный наряд, а на голове имел сарацинский тюрбан. Когда весть об этом разошлась утром по Риму, Микеланджело вспомнил слова патера Квидо о найденном письме, где было сказано: "Я скоро уйду в места, откуда нет возврата, другой пришел мне на смену". Но тогда святой отец не поверил письму, не боялся призраков, при нем был дон Сезар, а любимый сын, герцог Гандии, с которым он связывал великие замыслы, только что вернулся, – так что от радости по поводу возвращенья сына папа не обратил вниманья на письмо.
Вытащен из Тибра, как подонок. На другой день после полудня была созвана консистория. В повестке было сказано, что его святость признает свои ошибки и учредит комиссию из кардиналов для реформы духовной жизни и церкви. Кардиналы ходили бледные, подавленные, не вели разговоров вдвоем, каждый в одиночестве думал свою думу. В Святой апостольской канцелярии царило оживление. Писари усердно писали послания ко всем христианским правителям, которых святой отец уведомлял о кончине своего любимого сына, герцога Гандии, обещая исправление церкви, которого христианский мир требует уже больше ста пятидесяти лет. Подпись: Александр Шестой.
Вытащен из Тибра, уже распухший; с открытыми стеклянными глазами утопленника. Горло перерезано, на теле восемь ран кинжалом и – ужасная подробность: руки связаны за спиной. Когда тело несли в храм Санта-Мария-дель-Пополо, папа смотрел из окна замка Святого Ангела и страшно кричал.
А многие смеялись, прямо покатывались со смеху. На статуе Пасквино была в тот же день обнаружена эпиграмма поэта Санназара. которую стали тотчас передавать из уст в уста:
Чтобы нам доказать, что ты лишь ловец человеков,
Сына родного из волн неводом выловил ты.
Велика была тайная радость, вызванная горем старика.
Кардинал Рафаэль Риарио перестал сидеть на овощах и воде. И к нему, в его комнаты, поднялся по лестнице дворца Микеланджело, решив на прощание бросить тридцать золотых дукатов кардиналу на стол и больше не жить на чердаке – другом болтливого брадобрея Франческо, его сотоварищем. Потому что он получил от дворянина Якопо Галли много, очень много денег, и Якопо с воодушевлением рассказывал о нем патрициям и прелатам, показывал им смеющегося бога вина, душу вина, и все изумлялись, – это было что-то совершенно новое, невиданное, бог, который напился и хочет плясать!.. Бог, который пошатывается! Пришли и флорентийцы, с гордостью вспоминали, что уже слышали имя Микеланджело на родине, это были в большинстве своем изгнанники, говорившие с восторгом о дворе Лоренцо Маньифико. Но этот хмельной, пьяный бог удивил и флорентийцев, это было что-то совершенно новое, чего они не встречали ни у Донателло, ни у Луки делла Роббиа, ни у Росселино, ни у Бенедетто да Майано, – ни у кого. Буонарроти создает новое, и создает прекрасно. Приходили патриции и прелаты, молодой Якопо Галли весь сиял, встряхивая черными кудрями, и рассказывал о флорентийском художнике, которого нашел в каморке брадобрея, и рассказ его искрился едкими шутками.
И по всему Риму разошлось много новых острот о наличии чувства прекрасного и понимания искусства у кардинала Риарио.
Микеланджело пошел проститься, незваный, по своему собственному желанию, приготовившись услышать колкости и ответить на них. Каждое воспоминание о времени, проведенном там, на чердаке, в бездействии, грязи, пренебрежении и презрении, с позорным званием мошенника, вновь и вновь бередило ему сердце. Он шел, полный гнева. Он доказал теперь, на что способен. Убедил в этом Рим, патрициев, баронов и прелатов. Он не уедет, не поблагодарив за кардинальское гостеприимство, за всю ласку, и положит на стол тридцать золотых дукатов, – видно, они нужны кардиналу, коли он из-за них хватает за глотку, а Микеланджело в них не нуждается, он получил много денег, но себе оставил только немного, на самое необходимое, а все остальное послал домой, отцу и братьям, которые в письмах все время спрашивают его, когда же он пришлет сколько-нибудь, почему бьет баклуши в Риме, а во Флоренции голод и дороговизна, купленное зерно захватил французский гарнизон в Ливорно, на улицах люди падают от голода, когда же он пришлет сколько-нибудь денег, – видно, занят одними римскими развлечениями, а работать не думает… Так что он послал им почти все, но оставил столько, чтоб можно было выложить тридцать золотых дукатов кардиналу на стол. Он шел, полный гнева. Снова слышал язвительные слова Якопо Галли о тех кардиналах, для которых искусство – только мода, да что, для них художник – это даже не брадобрей! Лучше уплыть на всех парусах к Лотофагам и позабыть. Он шел, полный гнева. Вспоминал все смешные историйки об отношении кардинала Рафаэля Риарио к искусству. Всем известно, что он в этом ничего не смыслит, а только тянется за другими.
Шел, полный гнева. Он отравит кардиналу радость, которую тому доставила, конечно, скорбь папы. Теперь уж кардиналу нечего бояться ни кантареллы, ни милосердия, папа рухнул, а когда рухнут Борджа, опять засияет полным блеском звезда Ровере: вражда между семействами Борджа и делла Ровере, как всегда, непримирима, – еще со времен Сикста, когда кардинал Джулиано делла Ровере, кряжистый дуб, по выражению Сангалло, предостерегал Сикста против Борджа, еще со времен Иннокентия, когда они воевали между собой, войска их уже дрались на улицах, а они рвали друг у друга тиару из рук и ключи от замка Святого Ангела над умирающим папой, и потом, когда Джулиано делла Ровере уехал во Францию, к Карлу Восьмому, а теперь вот опять сидит в укрепленной Остии, Сангалло ее славно укрепил, и ждет… А Рафаэль Риарио – тоже делла Ровере, он отказался от даров накануне конклава, не голосовал за Александра, и папа хотел расквитаться с ним, так что римскому кардиналу поститься пришлось.
Как он, наверно, теперь рад!
И Микеланджело быстро, твердо шагает по пустому коридору, решив отравить кардиналу радость по поводу скорби папы. Кругом тишина. Слуги судачили внизу, в холодной прихожей, либо валялись, сонные, в саду, – стоял жаркий римский июнь. И вот он тихо вошел в кардинальские покои. Дверь в спальню была приоткрыта, и оттуда доносился умоляющий, трепетный голос.
Микеланджело, незамеченный, закрыл себе рот рукой и быстро отступил. Шепот становился все более трепетным. Кардинал Рафаэль стоял, выпрямившись во весь рост, обнаженный до пояса. Мертвенная бледность его тела производила страшное впечатление, – особенно потому, что была покрыта кровью. Ручейки крови бороздили это посиневшее тело, и брызгали новые капли, но уже с трудом, мало было крови в этом восковом теле, нужно было выгонять ее из глубин новыми и новыми ударами, свистевшими часто, резко, сурово, с шипом.
Кардинал Риарио не радовался и был далек от мыслей об искусстве. Он думал о боли святого отца. Кардинал Рафаэль предавался самобичеванию.
О, GUAM TRISTIS ET AFFLICTA 1
Смерть! Смерть! Смерть!
Он гулял с Якопо Галли, они шли мимо Сан-Джакомо-ди-Скоссакавалли к Санта-Мария-Траспонтина, между трактирами и стройками, живо беседуя. Якопо Галли говорил легко и небрежно, потом Микеланджело отвечал, и Якопо сопровождал его рассказ короткими замечаниями. В заключение он сказал:
– Понимаешь, они все такие. Твой знакомый Никколо Макиавелли в игре своих построений, теорий и раздумий усматривает судьбу и произносит это слово с такой боязнью, как отцы наши говорили: "Бог". Это он взял у Тацита и Тита Ливия! Макиавелли твой не верит в бога, а верит в судьбу. А патер Квидо перестанет язвить тебя насмешками, как только ты ему скажешь о появлении огненной старухи. Опять тебя полюбит, предложит тебе доходное место, скажет, что ты умней, чем он думал, и станет во всем тебе верить. Один верит в судьбу, другой в огненную старуху. В какое время мы живем? Не удивительно ли, что никогда так упорно не твердили о конце света и об угрозах со стороны адских чудищ, как в эту эпоху чувственности, красоты и утонченности духа? Не удивительно ли, что не в пустыне, где-нибудь в неаполитанских скалах или среди генуэзских лодочников да абруццских пастухов, а именно у вас, в сокровищнице искусства, во Флоренции платонизма и наивысшего господства разума, именно там всем в конце концов овладел Савонарола? Ты говорил о Макиавелли и об этом монахе, которому ты веришь. Вот образцы: Макиавелли, Савонарола и, скажем, ты, Микеланджело Буонарроти… Кого из вас будут когда-нибудь считать истинным представителем нашей эпохи?
1 О, как скорбна и печальна (лат.).
О Франческо Граначчи Микеланджело ничего не сказал. Это таилось в нем слишком глубоко. И он не любил думать о нем и делал это всякий раз с отвращением и ненавистью к самому себе. "Если ты опять не скроешься от меня, Микеланджело… Сбереги мне Аминту, Микеланджело! Сбереги мне Аминту… которую Франческо любил лишь в молитвах, чтобы любовь изменилась". А он… в ту ночь, когда услышал от купцов, что монна Кьяра убита тюремным узником… до сих пор он не может понять, почему именно в ту ночь должен он был попасть в чужие объятия. Аминта, чьи губы были горькие, но горячие и отрадные. Сбереги мне Аминту! А они ведь клялись тогда перед распятием…
Когда Микеланджело вернулся к себе в комнату в доме Якопо Галли, он нашел там два письма, оба из Флоренции. Одно – написанное дрожащей отцовской рукой, другое – твердым угловатым почерком да Сангалло. И он, еще не успев их распечатать, понял, что в том и другом – печальные вести.
Не говорите о немоте вещей, потому что каждому, протянувшему руку к вещи, она уже что-то сказала и ему только надо было услышать ее голос. У каждой вещи есть своя таинственная речь, слышимая только в тишине, и сердце ловит ее быстрее глаза.
Он держал письма в руке, не решаясь распечатать. Послеполуденная тишина опустилась на сады. Квадрат двора был ослепительно белый. Вьющиеся растения ползли по стене. Шумел фонтан. И он распечатал сперва письмо отца.
Монна Лукреция, мама, умерла.
Рука с письмом упала. Он не мог вспомнить ее лицо, голос. В эту минуту знал только, что умерла. "Этот ребенок когда-нибудь захлебнется своими слезами…" Как это чудно прозвучало: захлебнется слезами! Ты не обратил внимания, фра Тимотео, как необыкновенно мальчик произносит слово "боль"? Будто каждый раз при этом ранит себя… Но это не голос ее, это только запомнившиеся слова. Потом острый взгляд на отца: не моя кровь, но я знаю его лучше, чем вы все. Она всегда была такая, всегда знала его лучше всех остальных, но говорила ему об этом только слезой, улыбкой, лаской. И мертва. Он подошел к окну, тупо вперил глаза во двор. Не мог вспомнить ни лица ее, ни голоса; все застелило каким-то странным густым туманом, он был совершенно один. Потом он опустился на колени, чтобы помолиться за нее. Произносил слова молитвы медленно, горячо, и ему вдруг показалось, будто он произносит их впервые. Он и прежде молился искренне и часто, но никогда до сих пор не чувствовал таинственности этих слов так ясно, как теперь. И, только дойдя до "Salva, regina" 1 и вымолвив: "Обрати на нас милосердные очи свои", разрыдался.
1 Здравствуй, царица (лат.).
Монна Лукреция умерла. А он даже не простился с ней как следует, его отъезд в Рим был тоже немножко похож на бегство, как тогда в Болонью. Большое кладбище… Он ходил по Флоренции, глядя на лица, которых уже не узнавал, – на этом кладбище не все мертвые были похоронены. Тут он понял, отчего тогда, при его возвращении, Макиавелли стер всей ладонью пыль с его камзола и так горячо прошептал: "Пыль, пыль дороги…" И потом все смешалось: весть о смерти монны Кьяры, член жюри по убранству зала Консилио гранде в двадцать лет, вопли Савонаролы, голод и нужда в доме, паук Пополано и его лукавые советы, его беготня из угла в угол, вечера с Макиавелли, мечтающим об империи без папы и духовенства, вечера и ночи с медицейскими заговорщиками у Аминты, с милым патрицием Лоренцо Торнабуони, которого Микеланджело больше всех любил ("Его голову жалко посылать на плаху, другая такая не скоро вырастет!" – язвил Макиавелли, смеясь над ним за эти тайные совещания, в успех которых не верил), с Джаноццо Пуччи, с Луиджи Камби, страстно жаждущим возвращенья Медичи, вечера и ночи у Аминты с заговорщиками и вечера и ночи уже без заговорщиков – тоже у Аминты, чьи губы были горькими только днем.
Все смешалось. С мамой Лукрецией он, в сущности, даже как следует не простился, торопясь скорей в Рим, братья были полны нетерпенья, говорили только о деньгах… Напирали на него, настаивали, и вот он покинул больную ради денег, уехал в Рим, рассчитывая сейчас же вернуться – с двумя сотнями золотых дукатов от кардинала…
А теперь она мертва. Глаза закрыли ей другие, – те, что услали его вдаль. В руки вложили ей крест те, для которых он представляет лишь денежную ценность. Губы накрепко сжали ей, подвязав подбородок платком, они, а не он, каменотес.
Последнее утешение дал ей брат – фра Таддео из Сан-Марко. Отец ничего об этом не пишет. И только тут Микеланджело заметил, как мало места занимает весть о маминой смерти в письме, где речь идет только о дороговизне, нужде, голоде, моровом поветрии и царящем в городе возбуждении. Он с ненавистью сжал губы. Да, так вот всегда. Бродяга должен все время зарабатывать на содержание всей семьи, осмеиваемый шатун должен добывать деньги, только на него вся надежда, да так, словно иначе и быть не может, словно деньги эти не подарок, а обязанность. А мама умерла. Теперь у него две матери на небесах – монна Франческа, которая его родила, которая принесла отцу его пять сыновей, пять новых отпрысков дворянского рода, уладилось это, в побочном отпала нужда, но монна Франческа умерла в возрасте двадцати шести лет, и уже для него, только второго сыночка, у нее не было молока.
Мама Франческа, которую он ребенком и подростком, засыпая, всегда жаждал увидеть во тьме, услышать ее голос, но так и не увидел и не услышал, мама Франческа requiescat in pace.
Мама Лукреция, которая знала его лучше всех и была ласковей всех, чье лицо он теперь так хотел увидеть и голос так хотел услышать, но не видел и не слышал, requiescat in pace.
Во Флоренции дороговизна, дома страшно нужны деньги, деньги, деньги, деньги…
Он распечатал другое письмо, и у него опустилась рука, а голова стукнулась о доску стола, на которую он упал, окончательно сраженный новой вестью. Письмо было от Сангалло, который ругался и чертыхался даже тут. Прежде всего он своим мощным почерком благодарил бога, что Микеланджело остался цел благодаря своему отъезду в Рим, потому что… Все умерли. Плаха. Аминта удавлена в тюрьме, но Лоренцо Торнабуони, Джаноццо Пуччи, Луиджи Камби, Ридольфи и даже семидесятилетний старик Бернардо дель Неро удавлены на плахе. Заговор, имевший целью вернуть Пьера, был раскрыт… А Пьер ждал у ворот, но стража не впустила его, опять ударили в набат кампаниллы, сбежались вооруженные цехи, пьяньони пришли в неистовую ярость. Франческо Валори сейчас же назначил расследование… А Пьер опять с позором бежал…
Микеланджело положил голову в дрожащие руки и уставился неподвижным взглядом в торцовую стену напротив. Он видел Пьера, выбежавшего со смехом из дворца Орсини, Пьера – снова в панцире и с мечом, то и другое – смех и меч к лицу Флоренции, и снова напрасно. Клянусь тебе, Микеланджело, – слышался голос изгнанника на церковной скамье в Болонье, – пока я жив, не перестану домогаться Флоренции!.. – И передай сыну моему… – слышался голос мертвого, – что он больше никогда, никогда не вернется… – Пьер опять с позором бежал, – говорилось в письме Сангалло, четыре часа ждал он у ворот, стража смеялась над ним со стен, грозя кулаками… – Передай моему сыну, слышится голос мертвого… Вижу чужие лица и слышу их голоса, а мертвую мать не вижу, не слышу… Он опять вернулся к письму, Сангалло уснащал свой рассказ проклятьями, подробно описывал, как была обнаружена подготовка к перевороту, и волненье, охватившее город, чему в высшей степени способствовало то обстоятельство, что два главных виновника – патриции Торнабуони и Джаноццо Пуччи – считались самыми верными последователями Савонаролы и посещали секретнейшие собрания пьяньони, но воспользовались этим неограниченным доверием для предательства… У присужденных к смерти оставалась только одна возможность: обратиться к Консилио гранде с просьбой о помиловании. И Сангалло с насмешкой описывал смущение высшего среди советников – Франческо Валори, который когда-то сам узаконил это право, а теперь оно становилось средством самозащиты его заклятых врагов. А в Консилио гранде смертный приговор был бы, конечно, отменен, так как все осужденные были дворяне, и у каждого из них были в Совете родственники, что же касается семидесятипятилетнего старика дель Неро, то он был виноват только в том, что был всю жизнь верен роду Медичи, никак не мог свыкнуться с монашеской властью и прежде служил князю, вот и вся его вина, а о заговоре он, видимо, даже не знал и вследствие своего преклонного возраста ни на какие ночные собрания не ходил. Совет оказался в безвыходном положении, и Сангалло в письме издевался над ним в самых крепких выражениях. Отмена приговора неизбежно повела бы к кровавому перевороту, пьяньони стали сбегаться на площадь Синьории с оружием в руках, полные решимости свергнуть Совет, освобождающий медицейских заговорщиков от наказания. Но и отклонить обращение осужденных не представлялось возможным, – это было бы нарушением закона, изданного Валори. И тут Валори принял решение единолично. Его голова была предназначена мятежниками в добычу палачу, дом его стоял в списке домов, обреченных на погром и разграбление. Кроме того, давнишняя вражда разделяла плебея Валори и старого дель Неро, столбового дворянина, всегда служившего только князю. Валори пришел на заседание Совета с готовым решением. Пока остальные разводили руками и колебались, он встал и произнес большую речь, в которой потребовал, чтобы обращение осужденных было отклонено и вообще снято с обсуждения. Многие, набравшись смелости, тоже встали, крича, что он нарушает свой собственный закон. Но он продолжал стоять на своем и, думая о толпившихся на площади вооруженных пьяньони, сам верный пьяньони, объявил, что, учитывая высшие интересы государства, закон об апелляции к данному случаю неприменим. Так что все были казнены. Даже старик дель Неро. Аминту удавили в темнице, не хотели душить женщину публично, на площади, но Лоренцо Торнабуони (жалко эту молодую голову! писал Сангалло, вспоминая слова Макиавелли), Джаноццо Пуччи, Ридольфи, Камби и старик дель Неро удавлены на плахе. Далее Сангалло писал, что эта казнь привела весь город в неистовство, а Савонарола проповедует дальше, проповедует такое, чего ни один христианин не отважился до сих пор говорить вслух, проповедует, что церковь, прежде чем ее обновлять, должна понести наказание, а о своем отлучении от церкви заявляет, что никто не должен подчиняться этому папскому постановлению, так как тот, кто отказывает в повиновении папе, завладевшему тиарой посредством симонии, тот, мол, не совершает греха… Это уж слишком страшный вызов, во Флоренции никто не знает о себе, находишься ты в лоне церкви или уже нет? И Сангалло в приписке спрашивает, известно ли Микеланджело там, в Риме, что во всем мире растет недовольство папой Александром, Карл Восьмой получил согласие Сорбонны на созыв совещания. Венеция тоже согласна, и даже в Испании заварилась каша… а другие распространяют предсмертное письмо мореплавателя Колумба, открывшего Новый Свет и теперь, на смертном одре, заклинающего своего сына Диего всегда стоять за папу и церковь, а в случае возникновения угрозы папству со стороны какой-нибудь державы – отдать все свои богатства, имя, кровь и жизнь для крестового похода в защиту папы…
В городе ликуют по поводу казни заговорщиков, видя в ней великую Савонаролову победу. Савонарола опять устроил процессию детей в белых одеждах, Святого войска, чтоб они вымолили у бога хлеба для голодающего города. И как раз когда процессия подошла к Сан-Марко, прискакал гонец, конь которого тут же пал, с известием, что удалось одолеть французские шайки из Ливорно, и у ворот стоит множество телег с зерном, мясом и мукой. Поэтому нет ничего удивительного, что народ считает Савонаролу чудотворцем и на улицах становится перед ним на колени, как перед святым. Но Макиавелли, хоть весь город сходит с ума от восторга, тайно утверждает, что день казни был началом Савонаролова паденья. Сангалло признается, что мысль Макиавелли ему непонятна, но в общественных делах слова Никколо столько раз оправдывались, что и тут как-то невольно думаешь: может, и правда?.. А Савонарола проповедует, проповедует, проповедует… отрицает, что он еретик, и твердит, что немедленно подчинится Александру, если его повеления будут соответствовать божьим. Но разве такие речи уже сами по себе – не явное непокорство?
Микеланджело пробежал глазами дальнейший текст письма. Там было еще много – и все только о Савонароле. Он больше не стал читать, а сложил дрожащими руками письмо и опять уставился на стену напротив во дворе, ослепительно белую, покрытую вьющимися растениями, на игру фонтанов…
Мать Лукреция умерла, Аминта удавлена. А город, где у него отец и братья, превратился в лагерь оголодавших безумцев. Он медленно потрогал рукой горло, словно ему было душно. Постарался думать спокойно, но ему удалось только еще раз удостовериться, что немедленное возвращение домой означало бы верную гибель. В списке заговорщиков он не состоял, но было известно о его дружеских отношениях с патрицием Лоренцо Торнабуони, которыми он особенно дорожил, с Джаноццо Пуччи и с остальными. Он прищурил глаза, оттого что белая стена слепила, потом закрыл их совсем. И в то же мгновенье перед ним возникло белое лицо Аминты. Но не то, которое он знал при свете, с морщинами вокруг глаз, с поблеклым цветом щек, с губами сжатыми и горькими, а лицо ночное, которое он знал, когда губы ее переставали быть горькими, а морщины сглаживала тьма, когда он водил дрожащими руками по ее лбу и погружал пальцы в ее распущенные волосы, то лицо, всегда более ощущаемое, чем видимое, – оно-то возникло перед ним, обнаженное и такое подлинное, что он невольно протянул руку, опьяненный резкой болью, и с закрытыми глазами умолял, чтоб оно не расплылось, ощупывал ладонью и вытянутыми пальцами пространство перед собой. Но лицо это вдруг стало ужасным. Оно вздулось, и из черных губ, словно змея, выполз толстый, распухший язык, остекленевшие глазные яблоки выкатились, словно два чудовищных моллюска, волосы слиплись от пота, бегущего ручьем из каждой кожной поры на голове… Он закричал от страха и вскочил, словно сама удавленница стояла перед ним. Но перед ним было окно, ослепительно белая стена с цветами, капризная игра фонтанов.
Двух женщин любил я. Одна лежит с перерванным горлом, откуда свисают кровавые куски мяса, разгрызенного волчьими зубами помешанного, другая – с горлом черным, стиснутым железными пальцами палача… Это были две любви мои. А мне двадцать три года. Что еще ждет меня? Тьма из моего детства, тьма, имевшая форму, и из тьмы можно было формовать, моделировать фигуры, но самым страшным было то, что не имело формы. Это вставало вдруг, серое и расплывчатое, все увеличивалось, медленно подползало к постели, где я метался, бормоча святые слова молитв…
Стоит прикрыть глаза, вижу все: Аминту, Пьера, Граначчи, Кардиери, Лоренцо Маньифико, Рафаэля Риарио; всё: Асдрубале Тоцци, Оливеротто, старого Альдовранди и то лицо на Костовом картине, всё. Только матерей своих Франческу и Лукрецию никогда не увижу. Почему? Почему мне так суждено?
Аминта мертва. Кьяра никогда не обнимала меня, и, может быть, поэтому нашел я объятия Аминты. Она должна была быть моей Кьярой. По ночам. Я блуждал ладонью по ее лбу, погружал пальцы в ее волосы, в них не было жемчуга, и черны они были только во тьме. Аминта должна была быть Кьярой или Кьяра Аминтой, почем я знаю?
И горла обеих! Чудная форма женского горла, прелестная кривая от плеч к голове, к голове, склоненной, поднятой, мечтающей и повелительной, к голове, на которую мы глядим, стоя на коленях, и к голове на подушках. Горла обеих! Разорванное и удавленное. Двух женщин любил я. Два горла!
Он прижал ладони к пульсирующим вискам. Пошатнулся. Еще мгновенье – и потеряет сознание. И будет вечер, будет ночь… Которая придет? Кьяра? Аминта? Да, мать Лукреция не придет, ведь мама Франческа никогда не приходила. Будет ночь. Я буду лежать во тьме, с пылающим сердцем и кровью, которая будет течь, как водопад, буду лежать, закинув руки за голову, с открытыми глазами, и ждать мертвую… Отчего мне не было никакого знаменья в тот день, когда ее задушили? Я создавал Вакха, пьяного, улыбающегося бога, с душой вина, разлитой по гладкому телу; хмельного бога, который уже знает об Ариадне, пошатывается, пританцовывает и хочет, чтоб его только взяли в объятья. Я создавал Вакха. Как страшен, наверно, дугообразный свод в темничном подземелье Синьории… И какой доминиканец приходил ее исповедовать? Может быть, в свой смертный час она увидела Кардиери? Нет, Граначчи, конечно, Граначчи, который хотел молитвами добиться, чтобы любовь изменилась… Не Кардиери и не Граначчи, а меня…
А я ваял пьяного бога. Почернелая полоса на горле, отпечатки палаческих рук. И терновые венцы на головах у дев из скал. И белый жемчуг в черных волосах. И горла Торнабуони, Пуччи, Камби, Ридольфи, дель Неро… Боже! Ведь я всегда окружен мертвыми! Только меня обошли на этом большом кладбище, только я до сих пор живой. "Пойдем, – сказала она и улыбнулась, – пойдем, у нас есть дом…" А город, где у меня отец и братья, превратился в лагерь оголодавших безумцев. Вот моя родина. И я не могу на эту родину ехать.
Вдруг белая стена закачалась и рухнула на его окно. Фонтан взметнулся пламенем высоко в небо. К Микеланджело протянулась откуда-то белая рука, дотронулась до его горла, глаз и сердца. Больше нигде не болело.
Но когда он вышел из забытья и поднялся, заболело еще сильней и жесточе. Были сумерки. Микеланджело вышел на улицу. Две фигуры с крысиными физиономиями отделились от темного выступа и, тихо ступая босыми ногами, чтоб не было слышно шагов, пошли за ним во тьме, прижимаясь к домам, каждая по своей стороне улицы. Он шел быстро и скоро заблудился в сплетенье улиц. Луна плыла в тучах, появлялась и пряталась, тени проходили по его лицу и расходились опять. С убийцами за спиной, которым эти места все казались недостаточно темными, он шел, думая о мертвых женщинах. И вот убийца, которому путь показался слишком уж долгим, замахнулся, чтобы всадить острие кинжала в спину идущего впереди, как вдруг послышались шаги навстречу. С проклятьем спрятал трус свое оружие снова за пояс и прижался к стене, – он и его друг. Но так как шедший навстречу пошатывался, мурлыча какую-то пьяную песенку, и был в пышном наряде, с шелковой шляпой на голове, а на поясе у него висел кошель, оба убийцы оставили Микеланджело и, поспешно примкнув к бражнику, повели его темной улочкой к Тибру, месту вечного упокоения.
Трастевере! Он понял это, уже стоя перед церквушкой Сан-Козимато, залитой серебром лунного света, стекающего по ее крыше, меж тем как по стенам ползла тьма. Ему показалось, что он должен преклонить колена на ее истоптанных ступенях, перед запертыми дверями, и просить, просить до тех пор, пока в каком-то из этих полуразвалившихся домишек не проснется отец Уго, венецианец, не встанет и не выйдет посмотреть, кто так жалобно взывает к нему. И он преклонил колена и стал взывать тихо, взывать из глубины сердца, взывать к створам церковной двери. Он взывал и просил, плакал и клянчил, как нищий, но отец Уго не вышел, и другие тоже звали его, отец Уго слышал шум многих голосов, великий вихрь просящих, ноющих, клянчащих голосов, – это наплывало отовсюду, со всего Рима и из еще большего далека, звучало из всех углов и подземелий, половодье слез, выкрики отчаявшихся, последние стоны умирающих в заброшенности, слезы бесплодно прожитых жизней, голоса в воздухе и под почвой земной, это скулило, звало, и вот он проснулся во тьме, встал на колени и присоединил свой голос к тем, которые так клянчили, встал на колени и стал просить, жалуясь богу, что жатвы много, а он – слабый, темный, неумелый. Так молился отец Уго в холодной бедной комнате, просил бога за всех, кто взывает к нему, слыша их голоса, подобные вихрю, так молился отец Уго. А во тьме, на разрушенных ступенях стоял на коленях Микеланджело и взывал к отцу Уго, чтобы тот вышел, отворил ему церковные двери и отвел его под розу кающихся.
На бледном, холодном рассвете Микеланджело вернулся домой. Не раздевшись, он упал на кровать, закрыл себе лицо и, обессиленный, изнеможенный, заснул тяжелым сном. И в том сне было ему сновидение. К нему пришли. Но не мертвые.
Пришли живые. Он был в безыменном краю, словно ожидающем бури. Он не мог идти дальше, измученный трудностями пути, так как с самого утра шел под яростными лучами солнца. Язык распух от жгучей жажды. Он думал, что умрет. Упал в пыль дороги, а когда пришел в себя, окрестность изменилась, расцвел кустарник, прежде голый. Буря прошла, он встал освеженный. Все вдруг стало таким знакомым, известным, он знал, что был уже здесь, во сне или наяву, уже был здесь, где-то тут – могила, на которой крест и под ним написано: "Франческо Граначчи". Пойдет процессия кающихся, как тот раз, и их вожатый скажет: "Здесь когда-то был рай, запомни это навсегда, Микеланджело, изобрази хорошенько, здесь когда-то был рай…" И вдруг перед ним встанет из земли скала, будто огромный кулак, и прозвучит голос: "Стой! Во мне – зверь, пророк и могила!.." Он знал, что так опять будет, сел на землю и стал ждать. И увидел приближающуюся процессию. Но это не были кающиеся: они шли весело, как шуты или балагуры, вприпрыжку, приплясывая на ходу, и на лице у них уже не было дерюги с отверстиями для глаз и рта, как тогда, – лица их были обнажены и кривились от крика и взрывов смеха. Гам стоял такой, что невозможно было разобрать слов. С изумлением глядя на это дурацкое шествие, направляющееся с подскакиванием к нему, он узнал их всех. Впереди приплясывал Джованни Медичи, кардинал, рядом с ним весело кружился Пьер в панцире, а за ними бесновались, как опоенные, пажи – Джулио и Джулиано Медичи. Лица быстро сменялись, гримасничая. Были здесь Якопо Галли, чванливо подбоченившийся, подражая Вакху, брадобрей Франческо, торопливо шамкающий беззубым ртом, ехал на покрытом пылью осле старик Альдовранди, а Оливеротто да Фермо с гордым видом держал осла за хвост, журавлиными шагами догонял их Никколо Макиавелли, и между всеми сновал Лоренцо Пополано, с пронырливой физиономией, шепча каждому слова, из которых он половину глотал, стремительно сменяя лица, шла шутовской припрыжкой вся Флоренция, он узнавал их всех, среди них и братьев своих, были здесь и смеялись в глаза ему Сиджисмондо, Буонаррото, Джовансимоне, а за ними валила новая неоглядная толпа народу, которую он уже не знал, их было много, слишком много, – из Флоренции, из Сиены, из Рима, Болоньи, Венеции, – отовсюду, невозможно перечесть, и все ревели, скакали, бесновались, указывая на него и подходя все ближе и ближе… Он отпрянул, хотел пуститься наутек, скрыться от этих сумасшедших, взбесившихся фигур, но не мог, только отпрянул и увидел около себя провалившуюся могилу, на ней крест и под крестом надпись: "Франческо Граначчи". Тут его обуял страх. Он не знал, куда спрятаться. И одни говорили по-гречески, а другие по-латыни, одни кощунствовали, а другие хвалили бога и дьявола, одни желали женщин, а другие мальчиков, одни требовали от него денег, а другие – снежную статую, и все валом валили ближе и ближе, лица вертелись, как раскаленные ядра; крик и рев, вот уже совсем возле него…
И в эту самую страшную минуту, ожидая, что он сейчас будет растоптан, сметен с лица земли этим потоком дураков, он вдруг увидел, что перед ним выросла скала, словно огромный кулак, непроницаемой стеной заслонив его от всех. Спасен! Он прижал лоб к покрывающей камень глине и вдруг с отрадой почувствовал, что он дома, во Флоренции, он узнал это по запаху глины, – так пахнет только флорентийская земля, ее прах, и, узнавая, был счастлив, радостно ощупывал камень – и тут узнал и его. Это был непригодный к делу огромный мрамор, разбитый камень ваятеля Агостино да Дуччо, который за много лет перед тем испортил его неосторожным ударом, мраморная глыба раскололась и стала бросовой, ее кинули за оградой, где она начала мало-помалу уходить в землю, покрываться глиной, – мертвый камень, испорченный и ни на что уже не нужный. И он-то защитит? Да, встал вдруг из земли каменной стеной и мощно заслонил его.
Разбудил слуга, присланный встревоженным Якопо Галли, потому что время близилось уже к полудню. Увидев юное, свежее лицо покровителя, Микеланджело особенно ясно вспомнил свой страшный, путаный сон. Галли знал, что пришли письма из Флоренции, и, взглянув украдкой на его измученное лицо, спросил, что в них содержится плохого. Микеланджело сообщил о смерти матери, но умолчал о казни Аминты.
Шли дни, приходили прелаты и патриции, по всему Риму ходили толки о пьяном боге, боге, который пошатывается. Многие обращались к Микеланджело с заказами, но тот пока ни за что не брался: у него нет сил, он не способен ни к какой работе, чувствует себя так, словно только недавно встал после тяжелой болезни, корни которой остались, однако, в теле и разлагаются там, он так слаб, что не может ударить резцом по камню, поэтому ждет и отказывается.
Шли дни, совершались события. В конце мая пришло известие о сожжении Савонаролы.
Еще в марте его святость пригрозил Флоренции интердиктом, отлучением от церкви, если этот священнослужитель не прекратит свои проповеди. Но Савонарола не послушался совета кардинала Пикколомини, который сперва советовал папе: отлучение или кардинальскую шапку, а теперь советовал Савонароле заплатить его святости пять тысяч золотых, чтоб отлучения не было. Савонарола ничего не заплатил и продолжал проповедовать. И вспомнил флорентийский архиепископ своего предшественника, архиепископа Антония, который умер, слывя святым, вспомнил и собрал вокруг себя каноников от Санта-Мария-дель-Фьоре, среди которых уже не было каноника Маффеи. Священнослужители во главе с архиепископом потребовали от Синьории наложить запрет на проповеди отлученного от церкви священника, но синьоры решительно отвергли это требование, – по закону, хозяева города – они, а не архиепископ, и им решать, кому проповедовать, кому нет. Между тем на улицах шли все более яростные и ожесточенные стычки между противниками Савонаролы аррабьятти 1 с его приверженцами – пьяньони. И тайная медицейская партия паллески 2 – тоже подняла голову в мятущемся городе, вступив в союз с аррабьятти. А пьяньони снизили возрастной ценз для кандидатов в Совет пятисот до двадцати четырех лет, чтоб в него могли попасть и те, которые слушали Савонаролу еще мальчишками и воспитывались под его влиянием, в духе его учения. Но когда это было проведено, оказалось, что мальчишки успели превратиться в юношей, тянущихся к женщинам, игре и вину, мечтающих о городском веселье, о миланских карнавалах, венецианских куртизанках, римском блеске, они знали от отцов, что представляла собой Флоренция прежде, юноши не желали все время поститься, петь псалмы, это были уж не церковные служки, а купеческие и патрицианские сынки, им было смешно скакать с ольтрарнскими песковозами вокруг костров и пить вино, есть мясо, спать с женщиной, только когда позволит монах. Отпав, они отказались от самого названия пьяньони, а стали называться компаньяччи 3. А чернь переходила то на одну, то на другую сторону, так как уже не бывало так, чтоб после каждой процессии появлялся гонец, загнав коня, и сообщал, что у ворот стоят телеги с мясом и мукой. И в ряде цехов вслух высчитывали, насколько обеднели золотых дел мастера, мясники, шелкоделы и красильщики в городе, чья слава основана на шелке, золоте, крашенье и тканях и где теперь давно уж запрещено ходить в вуалях, золоте, шелке и есть мясо. А те, кто еще со времен Пьера привык славить меч и чтить его силу, громко сетовали на то, что Савонарола обещал покорить Рим и не сдержал слова.
1 Бешеные (ит.).
2 Шаровые (ит.) – прозвище сторонников Медичи.
3 Сотоварищи (ит.).
Савонарола вступил на крестный путь. Он увидел город и заплакал над ним. Не знал город времени посещения своего.
Совещание так и не состоялось. Оттого что Карл Восьмой пошел как-то раз полюбоваться красотой апрельского пейзажа с зубчатой башни своего возлюбленного замка Амбуаз, но прежде чем увидел красоту, его постиг припадок падучей, он слетел с лестницы головой вниз, свернул себе шею и умер, а Сорбонна не знала, как поскорей уладить дело в глазах народа: ведь над умершим тяготело папское проклятье. Так что совещание не состоялось.
Савонарола знал, что его ждет, но не скрылся. Он продолжал проповедовать, продолжал заклинать, взывал к богу и призывал к покаянию, но городу уже надоел дракон, увлекающий хвостом звезды, город хотел есть. И хотел снова стать городом, как другие города, которыми не управляет отлученный от церкви монах. Но Савонарола не отступил и не скрылся даже после того, как, взойдя на кафедру, нашел там ослиную шкуру и на ней человеческие испражнения. А народ в храме смеялся. Он перестал смеяться, когда снова послышался знакомый каркающий голос и обнаженная рука сухой желтизны замелькала в воздухе могучими взмахами. Тотчас все стихло, все съежились, ожидая пламенной волны гнева и мести, смущенно опустили глаза в землю, ожидая потопа огненных слов. Но монах заговорил тихо и печально, до того тихо, что многие боялись дохнуть, чтоб не заглушить его слов. Он не поминал ни драконов, ни зверей, не метал в слушателей зловещих предсказаний, не грозил им карами, говорил тихо, вещал о своей смерти, со всеми прощался. И снова в храме поднялась волна плача.
Но голод усиливался, цехи совещались все чаще, пал-лески и компаньяччи вместо гимнов пели насмешливые песенки о духовной власти, папа грозил городу интердиктом, во всех флорентийских храмах свечи будут сломаны, алтари оголены, дверцы дарохранительниц выбиты, и сами дарохранительницы будут стоять открытые и пустые, как в страстную пятницу, священники в черных облачениях взойдут на кафедры и свергнут оттуда камень в знак божьего гнева, – камень с того места, откуда на народ прежде падала благодать слова божьего, дети останутся некрещеными, супруги – невенчанными, грешники – без покаяния, умирающие – без соборования, мертвые – без погребенья, город будет как зачумленный, ни один христианин не войдет в его ворота, – это и есть интердикт, которым пригрозил в конце концов Александр, и по городу поползли растерянность и страх, растравляемый усиливающимся голодом.
Францисканец Франческо да Пулья предложил Савонароле испытание огнем. Они пройдут оба сквозь горящий костер. Кто останется жив? Кого помилует бог? На чьей стороне правда? Савонарола решительно отверг это испытание божьего промысла, как грешное, но требовательный крик народа забушевал такой насмешкой, что он согласился. Но хлынул ливень и погасил костер. И все с озлоблением обвинили Савонаролу в том, что это он вызвал ливень.
Восемнадцатого марта он произнес свою последнюю проповедь, после чего был доставлен из храма в монастырь под сильной охраной, среди возбужденных толп, которые плевали на него и тянули к нему исхудалые, костлявые руки, мечтая о том, чтоб наесться и быть грешниками, как обыкновенные люди в любом городе. Был великий пост, приготовление к дням страдания господня. Совет собрался на ночное заседание, вызвал свидетелей, которые засвидетельствовали, что Савонарола кощунствует, и Совет пришел к выводу, что лучше пусть погибнет один человек, чем весь город. На другой день было вербное воскресенье. Перед монастырем Сан-Марко расположилась лагерем изголодавшаяся чернь. Когда до нее дошло, что синьоры больше не поддерживают монаха, она вломилась в монастырь, чтобы выгнать оттуда верных Савонароле, собравшихся там на богослужение. Между ними был и Франческо Валори, высший среди советников, самый верный пьяньони, он не пошел на заседание Совета ради вербного воскресенья с торжественной литургией, он пошел в храм, присутствовал на ней, молился, – было вербное воскресенье, день, отмеченный торжественными обрядами, освящением пальм и большой процессией; сперва читалось о толпе, кидающей пальмовые ветви под ноги Христа, въезжающего в Иерусалим, и ликующей: "Осанна сыну Давидову! Осанна! Благословен грядый во имя господне! Осанна в вышних!" – а потом о страстях господа нашего Иисуса Христа – по Евангелию от Матфея; и Валори, верный пьяньони, стоя на коленях, благоговейно размышлял о жестокой смерти Спасителя, – подождут синьоры, подождет заседание Совета, он не согласен с тем, чтобы в такой торжественный день собирать Совет, поэтому не пошел, а пойдет после богослужения… Но идти ему не пришлось, потому что чернь ворвалась в храм, вытащила его оттуда в числе прочих, и паллески, помня о казни пяти медицейских заговорщиков, приказали умертвить его; толпа на него накинулась и растерзала – так что потом не все части тела удалось найти, жену сбросили с высокого балкона, ребенка убили в колыбели, а дом сожгли.
Ночью пришли солдаты с дубинами, факелами и мечами, чтобы взять Савонаролу, как злодея, обыскали весь ночной монастырский сад, нашли и увели его связанного, а с ним – еще тех двух монахов, с которыми он тогда пришел во Флоренцию, по приглашению Лоренцо Маньифико, – их тоже взяли с собой фра Сильвестро и фра Доменико. В ту же ночь он предстал перед Советом, где повторил все, в чем состояло его учение, и приговор был таков, что это кощунство. Поэтому он был передан заплечных дел мастеру, и к нему были применены все способы пыток, также и новые, испанские, – мучили его страшно. Признали, что он еретик, а за это – казнь через повешение. Признали, что он колдун, а за это – костер. Так что было решено подвергнуть его тому и другому виду казни.
Прибыл папский легат – прелат Ромолино, объявил осужденному:
– Отлучаю тебя от церкви воинствующей и от церкви торжествующей.
Савонарола ответил:
– Последнее – не в твоей власти.
И пошел со своими на смерть.
На площади стояла виселица на троих, а под ней сложен костер. На плаху вел дощатый помост, под которым спрятались дети, Великое святое войско, и, ликуя, тыкали иголки, заостренные колышки, гвозди и осколки стекла в босые подошвы осужденных, из которых двое – фра Сильвестро и фра Доменико – шли молча, покорно, а Савонарола громко молился за веру в этом городе, ради которой боролся целых семь лет. После того как их повесили, зажгли костер, но подул ветер, и у находившихся на площади коленопреклоненных пьяньони возникла было надежда на чудо. Но чуда не произошло, и огонь испепелил виселицу с трупами.
Потом палач собрал пепел в сосуды, медленным шагом отнес их под конвоем на реку и выбросил все в темные волны Арно. Это совершилось двадцать третьего мая, в праздник взятия на небо пресвятой богородицы.
В Риме пошли разговоры о том, что все протоколы процесса подделаны и писарь признался, что записывал не то, что говорил на суде Савонарола. Там смеялись над монахами, утверждавшими перед Советом, будто Савонарола овладел их душой с помощью колдовства. И после смерти Савонаролы о Флоренции продолжали говорить как о городе безумцев, то есть как говорили о ней все семь лет, – с тех пор как она принялась каяться.
Вскоре римский дворянин Якопо Галли отказал Микеланджело в своем гостеприимстве, объявив ему об этом с искрящейся улыбкой. Галли было обидно, что он столько говорил о Микеланджело на патрицианских пирушках, так расхваливал пьяного бога, что заказы посыпались со всех сторон, но Микеланджело от всего упорно отказывался, не дорожил славой и добрым отношением, не хотел ваять Андромеду, Ариадну, Елену Спартанскую, Ганимеда, обнаженного, как Парис, – того, что требовали римские прелаты и патриции, ценители искусства. Якопо Галли выгораживал его, как умел, но они уходили рассерженные, никто больше не смеялся над кардиналом Рафаэлем Риарио из-за брадобрейской каморки, все даже хвалили его мудрость и знание людей. Смеялись теперь уже не над кардиналом Рафаэлем, а над Якопо Галли, не понимая, с какой стати он покровительствует этому чудаку, нелюдимому флорентийцу, который так задрал нос. А Якопо Галли не любил, чтоб над ним смеялись.
Он расстался с Микеланджело, оправдывая прелатов и себя. Микеланджело должен признать, что он, Якопо Галли, не может лишаться друзей и приязни кардиналов из-за флорентийских причуд, не пристало быть посмешищем ему, юноше di bello ingegno, но он никогда не забудет Микеланджело, которого считает величайшим художником Рима, Микеланджело может в любое время вернуться к нему – двери будут для него всегда открыты и все приготовлено для работы.
Они простились, и Микеланджело не оставалось ничего другого, как только найти постоялый двор, а так как все деньги за "Пьяного Вакха" он отослал домой, то жил он бедно. Но все, кто ходил слушать мессу отца Уго в церковке Сан-Козимато, тоже жили бедно, он опускался среди них на колени, отец Уго в алтаре совершал пресуществление хлеба, и бог нисходил к бедным, был с ними и глядел на них, отец Уго воздевал руки и показывал народу бога, и бог глядел на народ и на коленопреклоненных здесь – на старух, на искалеченных в битвах, на блудниц, на нищих, на беспризорных детей, на тех, чьим ремеслом была нужда, и порой на Микеланджело, коленопреклоненного между своими.
А потом на постоялый двор к нему пришли слуги и увели его во дворец высокородного Жана Вилье де ла Гросле, бывшего посланника Карла Восьмого и аббата церкви св. Дионисия, а теперь – кардинала от Санта-Сабины. Микеланджело пошел к кардиналу, который послал за ним, и увидел старика в пурпуре. Подошел под благословенье, потом сел и взглянул на лицо, обрюзгшее, в морщинах, напоминающих письмена смерти. Старик положил усталую руку на Часослов, поглядел на Микеланджело мягким, ласковым взглядом и промолвил:
– Я вспомнил про тебя, Микеланджело Буонарроти, не потому, что тоже видел твою статую у Якопо Галли, а потому, что ко мне прикоснулась смерть. Я болен и стар, знаю, что уж скоро non aspiciam hominem ultra et habitatorem quietis, generatio mea ablata est et convoluta est a me, – еще немного, и не увижу я человека, ведущего спокойное существование, век мой уже отнимается от меня и свертывается, quasi tabernaculum pastorum – подобно стану кочевников. Я умру, довольно пожил на свете, нынче утром у меня опять остыло сердце и ожило лишь через долгое время, все вокруг уж думали, что я мертв. Опять оно остынет и больше не оживет, позовет меня бог, в бесконечном милосердии своем предупреждающий меня таким образом о необходимости готовиться в дорогу. – Проведя морщинистой рукой по переплету Часослова, старик снова обратил свое пепельное лицо к Микеланджело. – Я доверяю тебе, юноша, мне понравилась эта статуя и понравилось еще то, что ты не начал сразу извлекать пользу из своего успеха, отказался от него и приготовился к другому труду, потому что по этому отказу и молчанию я понял, что ты не из тех, что создают одних только Вакхов… не такой, как другие. Но хоть и не одних Вакхов делаешь, а этого сделал прекрасно, и доверие мое к тебе возросло, когда я теперь гляжу на тебя глазами старого, испытанного жизнью человека, старого, испытанного жизнью священнослужителя и вижу многое. Ты не обманешь мои надежды, Буонарроти, – слушай меня внимательно. Когда мой ангел-хранитель предстанет перед строгим судьей и душа моя, совсем одинокая и обнаженная, будет давать отчет, то в числе немногих добрых дел, совершенных мной, некоторое значение будет иметь то, что я всегда усердно украшал храмы божьи, согласно Писанию: "Domine, dilexi decorem domus tuae et locum habitationis gloriae tuae…" – "Господи, возлюбил я украшенье дома твоего и местопребывание славы твоей". И теперь, прежде чем умру, хотелось бы мне украсить… Нынче утром у меня надолго остыло сердце, но потом ожило, я все обдумал, рассчитал и вспомнил о тебе, Микеланджело Буонарроти.
Старик умолк, глядя на Микеланджело мягким, умиротворенным взглядом. И юноше перед пепельным лицом этого старика было хорошо. Цвет лица его говорил о смерти. Старик шевелил только руками, – казалось, тело его от пояса вниз так распухло, что не способно к движению. Ноги покоились на подушке, безвольные, мертвые. Весть о конце читалась по морщинам его особенно ясно, как только лицо стягивала тихая, ласковая улыбка, – потому что старику казалось, что молчание Микеланджело уже долго длится, и ему хотелось рассеять его сомненья.
– Понимаешь, Буонарроти, – продолжал старик. – Мне не нужно статуи святого. Это должна быть "Матерь божья" для часовни святой Петронилы в храме святого Петра.
Микеланджело вытаращил глаза от изумленья. Для часовни французских королей, для бывшего мавзолея цезаря Гонория – в соборе св. Петра? Он знал, что кардинал Вилье де ла Гросле все время украшал эту часовню новыми и новыми произведениями, не щадя расходов и тщательно выбирая среди крупнейших мастеров. Но ему в голову не приходило, что кардинал может привлечь к этому делу и его.
"Et locutum est os meum in tribulatione mea" 1, – слышится тихий голос старика. – Обращаюсь к тебе, чтоб исполнить свои обещания, которые произнесли в испытании уста мои. Не буду тебе рассказывать, какое обещание и в каком испытании я его дал, ни почему хочу я, чтоб это была именно статуя матери божьей, – при этом имей в виду: скорбящей матери божьей. Сделай это, Микеланджело. Выбери себе мрамор, какой хочешь, и начинай, потому что я не знаю, дождусь ли конца твоей работы.
Старик хотел встать, но не мог. Он слегка улыбнулся над своей беспомощностью, но отклонил помощь Микеланджело.
– Стань на колени, – сказал он. – Я хочу тебя благословить. Мне хотелось благословить тебя, стоя, выпрямившись.
И Микеланджело опустился на колени, вспомнив Савоноролу.
– "Sub tuum praesidium confugimus, sancta Dei Genetrix…" 2 прошептал старик и долго молился.
Может быть, молился он не только о благословении, но о чем-то большем, и отдельные слова выражали не только хвалу богу, но касались тайных человеческих испытаний и судеб, в шелесте молитвы, шепоте бледных губ звучали воспоминания старика – глубок и тяжек был повод, заставивший прежнего посланника Карла Восьмого в Риме молиться так, а Микеланджело стоял на коленях до тех пор, пока над ним не прозвучало ясно:
– "Benedictio Dei Omnipotentis, Patris et Filii et Spirititus Sancti descendat super te et maneat semper" 3.
1 И произнесли уста мои в испытании моем (лат.).
2 Под кров прибегаем твой, пресвятая богородица (лат.).
3 Благословение господа всемогущего, отца, и сына, и святого духа да низойдет на тебя и да пребудет вовеки (лат.).
И он сотворил крестное знаменье на лбу, плечах и груди, как оно было сотворено и над его головою.
На другой день был подписан договор, по которому Микеланджело получал за статую четыреста пятьдесят золотых дукатов. Свидетелем Микеланджело попросил быть Якопо Галли, который охотно, с величайшей радостью поставил свою подпись, а потом, немножко подумав, опять обмакнул перо и сделал приписку, что эта статуя будет самым прекрасным мраморным произведением из всех, имеющихся в Риме, изваянным так, как никто больше в мире не сумел бы. Сделав такую приписку, он в тот же вечер устроил пир для своих друзей, молодых патрициев и их подруг, на котором рассказал о Микеланджело и его новой работе, все слушали, кивали в знак согласия и много смеялись над кардиналом Рафаэлем и другими прелатами, ценителями искусства, от которых лучше бежать к Лотофагам.
Микеланджело получил от кардинала рекомендательное письмо в Лукку, съездил в Каррару, закупил мрамор и вернулся в Рим. Без передышки принялся за работу. Божья матерь с замученным Христом на коленях, уже не "Мадонна у лестницы", как тогда, с взглядом, устремленным в вечность, царица, сидящая на ступенях, словно нищая, с младенцем на руках, нет, теперь – Жена с мертвым телом Сына на коленях, Мать скорбящая.
Предшественников нет. Он снова понял, как он одинок, как бесконечно одинок. Ни одного образца, на который можно опереться, ни одного имени, которое можно вспомнить. Он идет совершенно новым путем, отличным от тех, по которым шли до него. Обычно положение Христова тела на коленях матери решают в горизонтали, пересекающей под прямым углом. Искажают черты лица у обоих гримасой муки и ужаса. Те, кто молится перед такой статуей, очевидно, должны испытывать страх, видеть боль, которая кричит, боль отчаянья. Но совершенная боль – не отчаянная, совершенная боль – бесконечная, бесхолмная равнина. Микеланджело думает именно об этой боли. И снова видит свое одиночество, свою отчужденность, отлученность от всех. Какое имя назвать? Уже раньше стало известно, что он не воспринял ничего от Донателлова эллинства, от Луки делла Роббиа, от всех остальных. Да, его бунт против античности неодолим. Ничего античного не должно быть в этой скульптурной группе, воплощающей боль Соискупительницы мира. Что связывает его с эпохой, в которой он живет и творит? Он не принял ни одного ее поучения, ни одного правила, не принял ни ее духа, ни способа мыслить и чувствовать, не принял ее образа жизни, у него собственный образ жизни, свой. Он не подпал влиянию платонизма в Медицейских садах, не подпал ни лихорадочным метаниям Савонароловым, ни сластолюбивому сибаритству Альдовранди, не проникся безразличием ко всему на свете в Риме, он никому не подражает, не живет по чужому образцу; он одинок, всегда одинок, невыразимо одинок. Он не принимает ни одного модного суеверия; внешний мир, как теперь выражаются вслед за Леонардо, – для него не основной, а наоборот, совершенно несущественный, все накоплено и сосредоточено в сердце человека, статуя – это не только овладение материей, но и подобие наивнутреннейшей жизни человека, – это взрыв сильнейшего напряжения, жгучее выявление души, того, что творец не может не выразить, если не хочет погибнуть. Уже ваяя "Пьяного Вакха", он познал тайну сочленений, легчайшего изгиба мышц, смещенья членов. Теперь он в этом знании достиг предела человеческих возможностей. В чуть заметном смещении действие потрясающей мощи. И одинок, совершенно одинок.
Не для него – Лауры и Беатриче. Нет уже той, которая была покорна в улыбке, которая была только сновиденьем, никогда не жила, не имела имени, это было лишь покорное сновиденье. Ее нет. Теперь – только Божья матерь скорбящая. Единственная. То, о чем он мечтал уже тот раз, когда впервые усомнился в действительности формул Леонардо да Винчи и захотел создать сверхчеловеческий образ, идеальный лик, абсолютный… Он ожесточенно работает. И тут вновь познает, как он одинок и как все, сделанное им до сих пор, отмечено знаком боли. Ухмыляющийся фавн и вслед за тем – удар кулака Торриджано, отметивший его до самой смерти. Мадонна у лестницы, царица, сидящая подобно гонимой и всеми оставленной нищенке, тревожным движеньем охраняющая младенца, спящего сына, потом "Битва кентавров", где нагие тела дерутся на великом кровавом винограднике, колени победителей бьют в грудную клетку поверженных, как в барабаны смерти, потом крест для Сан-Спирито, прошедшее пытки тело Спасителя – куда его в конце концов привел фра Тимотео, Геркулес, вызов на бой с отчаянья, потом "Святой Прокл", "Святой Петроний", "Ангел с подсвечником" в Болонье, – когда она приходила к нему, каждый раз вынырнув из темного церковного нефа, словно ожившая золотая фреска, садилась, уронив руки на колени; в тех днях, когда я приходила к тебе, в них твоя жизнь, Микеланджело, потому что не от кинжала и яда должен был сгинуть флорентийский соглядатай, первый и последний раз я ваял крылья, теперь она мертва, убита, потом – Сан-Джованнино, антично прекрасный в городе сожженных анафем и сует, покровитель города, на который со всех сторон валились гибель и смерть, мошенничество Пополано со "Спящим купидоном", потом пошатывающийся пьяный Вакх, душа вина, а в это время умерла мама Лукреция и удавили Аминту и остальных, – вокруг него только мертвые…
А скульптурная группа будет венцом среди этих изваяний муки, потому что все это накоплено в сердце, а жизнь – не что иное, как боль и мука. Есть такие, которые верят только в человека и преклоняются перед ним, чтобы потом его убить, и преклоняются перед самими собой и убивают себя. И есть другие, которые верят только в судьбу, погрязая в заблужденье, которому нет равных по тяжести, так как они изображают Бога страшным и неумолимым – и бегут его, признавая нечто гораздо более страшное и неумолимое… И есть такие, которые не верят ни в человека, ни в судьбу, но ими владеют призраки, им являются посланцы ада и наваждения преисподней, и есть такие, которые, чтоб дать отпор посланцам ада и посрамленным наваждениям преисподней, мечтают о городах, где жизнь идет по уставу, и о государствах, превращенных в большие монастыри, и ради этого царства божия на земле принимают муки и смерть, и есть, которые не верят ни в человека, ни в судьбу, ни в ад, ни в рай, а верят в звезды, а есть, которые и в звезды не верят, и вся их вера – один только возглас: ешьте, пейте, любите, завтра умрем, что даст нам церковь? Она сама о себе хлопочет, верь "Архисводне"…
Что у меня со всем этим общего? Я был еще мальчик. В то время как другие читали Вергилия, Тита Ливия и Платона, мне не дано было знание греческого и латыни, я читал Библию. И всегда возвращался к одному месту в ней, так что уж знал его наизусть. Там говорилось: "Ибо все были связаны одними неразрешимыми узами тьмы". И еще: "Что сами для себя они были тягостнее тьмы".
Что у меня со всем этим общего? Зачем родился я именно в эту призрачную, смутную пору? Сколько народу в самые трудные свои минуты восклицали при мне: "В какое странное время мы живем!" Но что делается, чтоб изменить это? О размерах неверия можно судить и по тому, как человек ценит сам себя. А эпоха всех уносит с собой, огромный, стремительный, грязный поток, в котором, беспомощно мечась, напрасно цепляясь за берег, смываемые теченьем, уносимые дальше и дальше, одни верят в человека, другие в судьбу, третьи в адские наваждения, четвертые в звезды… А мне эта эпоха – боль. Только благодаря этому я преодолеваю ее и не буду смыт этим грязным потоком. Да – боль. Я преодолеваю эпоху болью. Болью. Так выразил когда-то старенький маэстро Бертольдо древнее правило ваянья: "Vulnera dant formam". Только удары дают форму вещам. И жизни.
Удары обрабатывают и формируют меня, словно камень. Только удары придают форму. Удары и камень, боль и камень, жизнь.
Он работал ожесточенно. Легко положил мертвое тело на колени матери, как бы лишив его тяжести. Нет, нет, никаких горизонталей и прямых углов, оси обоих тел почти вертикальны. Лицо спокойное. Немая боль, безбрежная равнина…
Он работал без отдыха, в то время как из дома непрестанно сыпались все более настойчивые и угрожающие просьбы о деньгах. И он посылал все, что было, а сам жил плохо, мало ел, мучился страшными головными болями. у него была опухоль в боку и непрестанное чувство давящей боли в сердце. Он почти не спал. Работа вырастала из боли, а боль – из работы.
А вокруг – Рим. Рим, всегда полный новостей и волненья. Потому что святой отец назначил тогда в консистории комиссию кардиналов для проведения обещанной реформы церкви, но отчаянье прошло, слезы высохли, и комиссии был доверительно сделан намек, чтоб она не торопилась, а сперва все хорошенько обдумала, не нужно никакой опрометчивости и спешки. И она поняла намек совсем перестала работать.
Кардинал дон Сезар задумал жениться и приобрести неаполитанский трон. Чтоб объединить то и другое, он стал искать руки прекрасной принцессы Неаполитанской Карлотты, и его святость, прибавив к его имени и званиям еще титул князя Тиренского, принялся так настойчиво сватать для него невесту, что король Неаполя Фредериго Арагонский в ужасе торжественно объявил, лучше пусть у него отнимут трон силой, чем он согласится отдать дочь роду Борджа. "Значит, его святость, – писал он, – так изменил церковные законы, что кардиналы могут теперь жениться?" А принцесса Карлотта Неаполитанская дала знать Риму, что предпочитает броситься в зев Везувия, чем стать "синьорой кардинальшей". Его святость ответил на это, что судьба Арагонского рода решена. И это было так.
Святой отец развел свою дочь Лукрецию с молодым Сфорца и выдал ее за Альфонса, герцога Бишельи. Благодаря этому владения Борджа еще расширились, свадьба была сыграна на славу, только уж не было проповеди о святости брака, и произошла неприятная история: гости так разодрались, что два епископа получили раны мечом.
Во Франции правил Людовик Двенадцатый, который стал искать руки Анны Бретонской и пожелал Миланского герцогства Лодовико Моро. То и другое было очень по сердцу его святости, а потому он расторг и брак Людовика Двенадцатого, разрешив ему, женатому, жениться на Анне Бретонской. Папа разводил, а дон Сезар женился. Явившись при французском дворе с личным папским разрешением, дон Сезар познакомился там с дочерью короля Наваррского Шарлоттой д'Альбер и женился на ней, вернув церкви кардинальский пурпур и шляпу.
Церкви он нес звания, а другим – смерть.
Папский любимец мессер Перотто был убит прямо на теле у папы, под его плащом, куда он спрятался от Сезарова меча, но был пронзен этим мечом так, что, по выражению венецианского посланника в одном письме, кровь брызнула в лицо его святости. Мессер Перотто был очень хорош собой, и сестра Сезара Лукреция оказалась, еще до свадьбы с Альфонсом, беременной. И другого объяснения не было, так как Сезар убил также наперсницу Лукреции – красавицу Пентезилею.
Весь Рим был ошеломлен этими событиями. Но Микеланджело – не любитель таких новостей, Микеланджело здесь живет и работает. У пресвятой девы на коленях лежит сын – и все тихо. Склоненная голова ее излучает такую скорбь, какой не выразил бы самый отчаянный вопль. А измученное тело не охвачено смертной судорогой, только руки, ноги и бок пронзены – никаких других следов страстей Голгофы. Но голова наклонена к плечу – вот безбрежное море мук. Окончен крестный путь, но не кончен путь поруганья, обид, заушений. Ни следа бичеванья, а все-таки тело непрестанно бичуется, море мук пробегает по этому недвижно и как бы невесомо лежащему на материнских коленях телу. И оно целомудренно нагое, нагое, как боль. У матери, приведшей сына сюда – с того места, где она, сидя на лестнице, как всеми прогоняемая нищенка, судорожно прижимала его, еще младенца, к груди, – на склоненной голове платок, а платье ниспадает такими богатыми складками, что в их изгибах мог бы укрыться весь мир. Это волны, волны боли, волны тишины, волны одежды Марииной. Боль ее бесконечна, невыразима и недоступна утешению, для нее нет утехи, она должна изжить всю безмерную боль сама, до самой глуби, одна, принесена в жертву, как сын, пригвождена, пронзена болью, болью в униженье и болью в славе, болью, разливающеюся длинными волнами широко вокруг, весь мир можно укрыть в этой боли, в складках Марииной одежды. Ибо она одета в боль, пронизана болью, эта боль безутешна, не страх, ужас, отчаяние, мука, а боль в ее абсолютном значении, безусловная и совершенная, боль той, у которой сердце прошли семь невидимых мечей, той, которая спустилась с горы поруганий и позора сюда, в собор св. Петра, с телом осужденного на руках.
А вокруг – Рим. А Рим опять ошеломлен новыми событиями. Потому что Людовик Двенадцатый Французский разбил и пленил Лодовико Моро, после чего отпраздновал свой торжественный въезд в Милан под золотым балдахином, обок с союзником доном Сезаром, который советовал выступить теперь против Неаполя, на погибель арагонцам. Лодовико Моро никогда больше не будет устраивать мифологических празднеств и радоваться тому, что вернул человечеству золотой век, как утверждал, обращаясь к нему с благодарственным сонетом, карнавальный Юпитер. Лодовико Моро никому не доверял, он прогнал с карнавала родного брата, кардинала Асканио, а просители должны были стоять далеко, за загородкой, и просьбы свои кричать. Только одному человеку он верил, это был Бернардино да Коста, комендант миланского кремля, которого осыпал благодеяниями. Но бились за Лодовико Моро все, кому он не доверял, не бился за него только Бернардино да Коста, – он захватил Лодовико Моро и выдал его французам. После этого покинул Моро и маэстро Леонардо да Винчи, поступив на службу к дону Сезару. Дон Сезар начал зимний поход на Болонью, этот неоспоримый лен церкви, в котором синьоры Бентивольо засели без всякого права. Во главе войска был поставлен молодой кондотьер – римский дворянин Оливеротто да Фермо. У Сезара было больше орудий, чем у всех итальянских правителей, вместе взятых. И были у него отряды, обученные по образцу болонских скьопетти. Во главе их стоял римский дворянин Оливеротто да Фермо.
Однако еще сильней ошеломило Рим новое событие. У святого отца снова родился сын! Его святость получил еще сына, которого прозвали римским инфантом. Никто не знал, которая из бесчисленных папских наложниц стала матерью. Это хранилось в строгой тайне, дав новую пищу самым диким и нелепым домыслам. А святой отец был так рад рождению этого ребенка, что присвоил ему титул герцога Непийского и издал по поводу его появления на свет особую буллу, где опять-таки не упоминал имени матери, а называл ее просто mulier soluta – свободной женщиной, так что, по крайней мере, наперекор диким домыслам, стало известно, что это – не дочь его Лукреция. И его святость в булле своей узаконивал сынка, грозя гневом божиим и святых апостолов Петра и Павла под рыбарским перстнем каждому, имеющему дерзость не соглашаться.
Микеланджело ваял группу скорбящей матери с сыном. Тогда еще, сидя на лестнице, она смотрела вдаль, в вечность, к богу-отцу, чьей была отрадой. Но теперь глаза ее прикрыты. Потуплены. Только в узкую щель их смотрит она на замученного сына. Страшно, когда Мария, отрада отца, радость сына и любовь духа святого, больше не смотрит, закрыла глаза. Так изобразил ее Микеланджело, молясь ударами своего резца. На рассвете он – у ранней мессы в Сан-Козимато, которую служит отец Уго, венецианец, еще более бледный и худой, чем прежде, – видно, наложенная им на себя епитимья ужасна. После мессы – скорей за работу, чтоб предаться ей, часто не вкушая пищи, дотемна. О, quam tristis et afflicta fuit illa benedicta Mater unigeniti 1. И когда Иисус умирал на кресте, увидел он мать и ученика, тут стоящего, которого любил, и сказал матери своей: "Женщина, вот – сын твой!" Потом сказал ученику: "Вот мать твоя!" И с того времени ученик тот взял ее к себе. Настал 1500 год спасения, и святой отец объявил лето Милости господней. Сотни тысяч паломников потянулись со всех концов света в Рим, где полил золотой дождь. Двести тысяч паломников опустились на колени на площади св. Петра, когда святой отец вышел в окружении Святой коллегии, чтоб дать благословение urbi et orbi 2. Во всем своем могуществе и неописуемой власти стоял он, выпрямившись, и благословлял поверженных в прах спасительных знаменьем креста. И вместе с ним стояли все двести двенадцать пап, правивших до него, святые и мученики, глядя на коленопреклоненный народ, притекший со всех концов света, чтобы на всех языках произнести единое "Верую", текший по тропам меж огромных гор, по бушующим морям, по далеким равнинам, с хоругвями, крестом и молитвой, мимо бесконечных лесов, широких водных потоков, поднебесных скал, мимо замков, твердынь и шумных городов, пришедший поклониться единственному подлинному наместнику божьему, и папа стоял, выпрямившись, и величественным иерархическим мановеньем руки благословлял всех, кто, невзирая на труды и недуги, тягости пути и угрозы смерти, явился прославить господа и его викария на земле. Сотни тысяч их переполнили Рим, и тысячи продолжали прибывать, никогда еще не наблюдалось такого огромного стечения, как в этом году, весь мир, томясь, взалкал утешения креста, весь мир обращался к папе, и святой отец стоял, окруженный Святой коллегией, неоглядные толпы народа застыли на коленях у ног его, и он благословлял эти толпы, и двести двенадцать предшественников его стояли здесь же, возле него, слившись в этом символе спасения с народом. Рим был переполнен. Давка всюду была такая, что во время великой процессии перед замком Святого Ангела бесчисленное множество паломников было задушено и затоптано, и не хватало места на римских кладбищах, уже умерло тридцать тысяч, все почили в боге. Сотни тысяч уже прибыли, а появлялись все новые, новые, целый день улицы были полны процессий и крестных ходов, лил золотой дождь.
1 О, как скорбна и печальна была благословенная матерь единородного (лат.).
2 Городу и миру (лат.).
Папская сокровищница снова наполнилась, и дон Сезар приехал за деньгами с громадной свитой, состоявшей из нескольких тысяч красивых женщин на конях, так что паломники пришли в изумление. Но дон Сезар получил деньги, а сам привез смерть. У него появились новые замыслы насчет Лукреции, связанные с родом д'Эсте и Феррарой. Он хотел выдать сестру за герцога Феррарского, но невозможно было расторгнуть ее брак с герцогом Бишельи на виду у паломников лета Милости, и невозможно было утверждать, как в случае с Сфорца, что брак этот неполноценен: у них был сынок. Только смерть могла помочь в этом деле, а потому герцог Бишельский подвергся нападению и был тяжело ранен. Но он стал выздоравливать. И дон Сезар сказал себе: "Чего не случилось утром, может случиться вечером". И однажды ночью он ворвался в комнату больного, выгнал Лукрецию и всех остальных вон и приказал дону Микелетто задушить зятя у него на глазах. И это было сделано. И папский церемониймейстер Бурхард записал тогда: "Так как герцог Альфонс не захотел умереть от полученной им раны, пришлось его убить".
Торжества по поводу лета Милости были огромные и дорогие, паломников приводил в изумление этот город, полный роскоши и золота. Но странные явления творились вокруг папы. Таинственные ночные крики на галереях, фигура из пламени ходила в тюрбане по залам, выла от муки и писала огненным перстом на стене слова, тотчас же исчезающие. Вихри разбивали оконные стекла. В Риме это вслух называли cosa diabolica 1. Эти знаменья множились. Как-то раз вихрь, при знойном безветрии на улицах, сорвал кровлю ватиканского дворца, и в том покое, где сидел его святость, обрушилась колонна, лишь одна балка, встав колом, оградила от гибели папу, которого только через полчаса вытащили полумертвого от страха из-под груды кирпича, обломков и густых клубов пыли. В другой раз на святого отца, расхаживавшего в задумчивости по залу, свалился тяжелый металлический подсвечник, будто опрокинутый невидимой рукой, и если б папа мгновенно не отскочил, он был бы убит. После этого святой отец вознес благодарственную молитву к пречистой деве и святой Екатерине Сиенской, к этим "маленьким, слабым и мужественным женщинам", по его любимому выражению. А после этого гром с ясного неба ударил в пороховой склад замка Святого Ангела, укрепления которого были разметаны этим взрывом, так что камни перелетали на другой берег Тибра.
1 Дело дьявола (ит.).
Странное творится вокруг святого отца. Но много разговоров идет и о его собственном поведении. Им быстро и неожиданно овладевают припадки беспричинного смеха, и так же быстро глаза его наливаются слезами, и он безутешно рыдает. Часто он теряет сознание, а потом приходит в себя перепуганный, иссиня-бледный, онемелый. Взрывы безумной злобы и раздражительности стремительно сменяются подчеркнутой, показной ласковостью. И он явно боится. Боится дона Сезара. Опять боится привидений. Рим боится вместе с ним, Рим дрожит от ужаса, Рим бурлит так, что после одной оскорбительной надписи на статуе Паск-вино папа приказал увеличить отряд телохранителей на восемьсот человек. Толкуют о тайном списке дона Сезара, куда занесены те, кто должен умереть. Обращает на себя внимание частая смерть кардиналов, особенно тех, чьими доходами в период освобождения их должности можно воспользоваться, да еще и пребенду продать другому. А дон Сезар, неизменно с маской на лице, покрытом яркой гнойной сыпью, гуляет по Риму только ночью, как некогда цезарь Тиберий.
В Болонье сожгли еретика, объявившего, что теперь скоро христианству конец.
А Микеланджело ваяет группу. Fac me tecum pie fiere, crucifixo condolere, donec ego vixero 1.
1 Дай мне благоговейно плакать вместе с тобой, состраждать распятию, пока я буду жив (лат.).
Замученный Христос-Спаситель – на руках у Матери. Лежит поруганный в объятиях царицы боли, но царицы страшной, царицы ужасной, царицы, которая тиха, глаза закрыты, молчит. Но написано: "In interitu vestro ridebo et subsannabo" – "Видя гибель вашу, буду смеяться и хохотать". Царица невыразимой боли склонилась к сыну, лицо которого искажено муками, так же как во время коленопреклонения в саду скорби смертельной, и когда свистели бичи у столба, и когда ему метали в лицо слюну с мокротой и вложили в руки трость, и когда он тащил бремя креста в зное последнего пути, и когда он три часа страдал в крови и жажде на Голгофе и потом был снят и положен на колени к той, которая шла с ним, страдала с ним, а теперь смежила очи, молчит, молчит. Он совершил свой труд. Fac, ut animae donetur Paradisi gloria, amen 1.
Но, и совершив, не узнал покоя. До смерти измученный и обессиленный, больной, в лихорадке, однажды вечером выбрался из своей нищенской постели и поплелся в собор св. Петра. И, спрятавшись, оставался там, пока храм не заперли. Потом, став на колени перед своей Пьетой, долго молился; кончив молитву, взял инструменты. Да, так надо! Вот мать твоя!
Микеланджело запалил несколько свечей и заботливо их расставил. Потом очень тихо принялся работать резцом по ленте, бегущей вдоль одежды богоматери. Высек слова: "Michael Angelus Buonarrotus Floren. faciebat" 2.
В первый и последний раз подписался на своем произведении. Потому что это была не только подпись. Вокруг него – Рим, надо же где-нибудь жить. А имя его теперь навсегда у матери божьей записано, имя его – у нее, он отдал его ей, и она узнает его сразу, как только оно будет произнесено, – когда его ангел-хранитель остановится у двери судилища, и душа его, одинокая и обнаженная, появится перед престолом господним для суда. Имя его – у матери божьей. И так твердо, надежно вытесано, что никогда не исчезнет, его нельзя стереть.
Тысячи паломников и римских жителей подходили к статуе. Целый день народ так толпился, что боялись, как бы опять неосторожные паломники не оказались раздавленными. Во всем Риме только и было разговоров что об этом произведении. Кардинала Жана Вилье де ла Гросле принесли на носилках, и он благословил изваянье, пепельно-седой, слезы на глазах, его держали прямо, и он, простерев руки, тяжелым и торжественным литургическим движением благословил статую:
– Omnipotens sempiterne Deus… ut quicumque coram illa suppliciter colere et honarare studuerit, illius meritis et obtentu a te gratiam in praesenti et aeternam gloriam obtineat in futurum; Per Christum… 3
1 Сделай, чтоб душе дана была райская слава, аминь (лат.).
2 "Микаэль Ангелюс Буонарротус флорент. ваял" (лат.).
3 Всемогущий предвечный господь… всякий, воздавший ей публично усердный почет и коленопреклоненное поклонение, да получит от тебя, ее заслугами и оправданием, милость в настоящем и вечную славу в будущем. Во имя Христа… (лат.)
Тяжкий обет исполнен. Кардинал может умереть.
Весь Рим твердит имя Микеланджело. Но имя его – и у "Матери божьей". Весь Рим жаждет больше знать об этом флорентийце, который жил у кардинала в брадобреевой каморке; весь Рим завидует художнику, который вдруг прославился. Но Микеланджело можно найти на постоялом дворе, где каморки мало чем отличаются от светлички брадобрея, и он болен, слаб, страдает острыми головными болями, и на сердце так сильно давит, что кажется, оно вот-вот лопнет от этой тяжести. Но весь Рим интересуется Микеланджело, и кардинал Пикколомини заказал ему сразу пятнадцать – да, так сказано в договоре, пятнадцать статуй для сиенского собора. А фландрский купец Пьер Москрон, прибывший в Рим в качестве купца и в качестве паломника лета Милости, заказал статую мадонны для Брюгге, обещав выстроить ей отдельную часовню. Весь Рим…
И сменяются дни, сменяются ночи, римские ночи. Микеланджело медленно выздоравливает, причастившись у отца Уго, венецианца.
В один прекрасный день он получил письмо. Писал Джулиано да Сангалло, писал, как говорил, – грохоча. Перечислял события во Флоренции, не скупясь на крепкие словечки, не выбирая выражений, и звал Микеланджело домой.
"Чего тебе еще делать в Риме? В конце концов станешь папским художником – и тогда ты пропал! Впрочем, этого я не боюсь, стоит только вспомнить колченогого глухого калеку, этого Пинтуриккьо с его цветовыми слащавостями, чтоб видеть вкус папы, никогда не станешь ты Александровым художником, возвращайся, что тебе делать в Риме, неужели этот город тебе не надоел?"
Сангалло звал настойчиво. Конечно, он не скрывает, – возвращение будет не легкое, не гладкое, при жизни Савонаролы бегство Микеланджело было как бы бегством из царства божьего на земле, а теперь оно выглядит так, словно Микеланджело уехал, не желая быть свидетелем ни усилий ввести новый порядок, ни гибели Савонаролы. "Лучше бы всего тебе приехать по какому-нибудь необычайному поводу…" И тут Сангалло вспомнил в письме своем о мертвом камне, погубленном камне, о мраморе для ваятеля Агостино ди Дуччо, об огромной треснувшей глыбе, за которую город заплатил в свое время большие деньги и которая сорок с лишним лет лежит на задворках за домами и садами близ Санта-Мария-дель-Фьоре, понемногу уходя в землю, засыпаемая мусором и глиной; лежит на свалке, куда валят только известь да песок, – камень ненужный, но когда-то стоивший больших денег, – что с ним? Никто не отваживается, но недавно в Синьории, при просмотре старых счетов, опять вспомнили об этом камне… "Приезжай, – советовал Сангалло, – попробуй! Я, милый, так в тебя верю, что знаю: ты и из этого мертвого, пропащего, загубленного камня сделал бы чудо искусства. Поверь в себя и примись за эту глыбу, она за это откроет тебе ворота Флоренции! Оттого что этим поступком ты склонил бы на свою сторону Синьорию и снискал бы уважение всего города. Да, уважение. Потому что во Флоренции уж больше не жгут суету и не скачут вокруг изображения черта, – хохотал Сангалло, – и никто об этом не жалеет, кроме двух моих болванов, того, у которого зашитая морда, и того, которого я вынужден все время колотить за его болтовню, – знаешь, они ведь тоже скакали вокруг черта и называли меня братом? Теперь во Флоренцию снова вернутся красота и искусство, здесь и маэстро Леонардо да Винчи, которому опостылело строить дону Сезару одни каналы в Чезене и Порто-Чезенатико, а папский сын никаких других поручений ему не давал, он понимает в искусстве не больше, чем отец, который признает только Пинтуриккьо… Что ты хочешь? Испанец! А с Леонардо вернулись многие другие, появились и новые, среди которых самый примечательный – некий Рафаэль Санти из Перуджии, живописец, еще юноша, но многообещающий! Приезжай, возвращайся, мой Микеланджело, вернулись старые золотые времена; Флоренция опять вздохнула свободно. Приезжай и попробуй сделать что-нибудь из этого завалящего камня, Синьория будет тебе благодарна, и никто в этом деле не может тебе посоветовать лучше тебя самого, возвращайся!" – так писал, заклинал, уговаривал Сангалло.
Мертвый камень ваятеля Агостино ди Дуччо! Лежит в земле, завален глиной, флорентийской, благоухающей слаще всякой персти земной, лежит там и ждет… И вдруг встала передо мной из земли скала, словно огромный кулак, и заслонила меня, защитила от лавины, потопа глупости, хлынувшего на меня со всех сторон, от этого отвратительного бессмысленного шествия рвущихся растоптать, сокрушить меня, стереть с лица земли!..
Мертвый, загубленный камень, который ждет! В ту же ночь Микеланджело решил покинуть Рим, где он так внезапно прославился, покинуть город, где останется лишь его имя, навсегда записанное на ленте "Скорбящей матери".
И на другой день, ни с кем не простившись, он уехал во Флоренцию.
НОЧНОЙ ГОСТЬ
Флоренция, август и солнце.
Окна открыты настежь. Леонардо да Винчи в длинном хитоне из легкого, блестящего светло-желтого шелка стоит посреди зала в потоке солнечного света, в котором одежда его сверкает так, словно он облачен в жидкое золото. Выражение лица важное, серьезное. Длинная одежда, длинные седые усы и борода делают его похожим на мага. Поодаль расставлены на поставах картины. Почтительным полукругом стоят ученики, внимательно и робко следя за взглядом маэстро, переходящим от картины к картине, по их работам. Налицо почти все либо приехавшие с ним из Чезены и Милана, либо явившиеся к нему из Рима, Неаполя и Венеции – среди них Джан Аброзио ди Предис, Джованни Антонио Больтраффио, Марко д'Оджоно, Бернардино да Конти, Чезаре да Касто, Франческо Мельци, Бернардино Луини, Джан Пьетро Рицци, которого друзья зовут Падрини или Джанпьетрино. Все они стоят поодаль от маэстро, ожидая, что он скажет. У ног Леонардо, благоговейно взирая на учителя, сидит на подушках любимый его спутник, золотоволосый юноша Андреа Салаино, весь в черном, чтобы еще больше подчеркнуть чистый, алебастровый цвет рук и горла и ослепительно сверкающее золото волос, с которых маэстро пишет золотые волосы своих ангелов. Это Андреа Салаино, юноша, отличающийся женственной красотой, стройный и нежный, тесная близость с которым дала повод к неприятному для маэстро расследованию еще в Милане и о котором рассказывают такие вещи, что добрый христианин хоть уши затыкай! Теперь, устремив преданный взгляд на маэстро, он перебирает длинными пальцами в перстнях струны лютни, звуки которой трепещут в залитом солнцем зале. Поодаль стоит другой юноша – с блестящими черными кудрями, мягко вьющимися по его хрупким плечам, он смотрит на маэстро с нетерпением, жаждая его речей больше, чем остальные, хоть он и не его ученик. Это молодой, семнадцатилетний живописец Рафаэль Санти, родом из Урбино, сын купца, живописца и поэта Джованни Санти, приехавший во Флоренцию с препоручительным письмом от Джованни делла Ровере, жены римского префекта, к пожизненному флорентийскому гонфалоньеру Пьеро Содерини. Алкая поучений, он ждет не дождется, пока медлительный маэстро покончит с остальными.
В мастерской шумно. Здесь не только ученики маэстро, но также группы и компании молодых флорентийских патрициев, пришедших сюда на свидание или чтоб развлечься с подругами, явившимися со своими породистыми собаками, лай которых разносился по всему помещению, заглушая аккорды Салаиновой лютни. Время от времени какой-нибудь из псов одним прыжком кидался на другого, и хозяева резкими окриками старались остановить драку. Из глубины помещения неслись взрывы смеха, знатные юноши с девушками играли там в новую игру: катали яблоко, сбивая при помощи него расставленные деревянные чушки. Со всех сторон слышались шутки, смех. Цветы в вазах, стоящих всюду, куда ни взглянешь, распространяли сильное благоухание, дикая ссора вспыхнула в углу между двумя игроками в кости, они даже схватились за кинжалы. Несколько приятелей старались не допустить поножовщины, обхватив их поперек туловища, но они с тем большим азартом рвались друг к другу. Тогда было решено, чтоб не колоть ни в бока, ни в грудь и драться до первой крови. У них отобрали кинжалы и заменили их мечами. Громкий лай собак слился в сплошной вой, так как вся свора подняла драку. Вскрики, ликованье и смех девушек, не прекративших игру в яблоко и сверкающих склоненными голыми шеями, по которым скользили лучи солнца… Один юноша дразнил перстнем двух больших птиц в золоченой клетке, смеясь над их испуганным метаньем. Зазвенели мечи.
Маэстро отвернулся от незаконченных картин и стал внимательно следить за боем. Вокруг него воцарилась тишина, так как он поднял свою холеную худую руку и тихим, словно усталым голосом заговорил:
– Если вы посмотрите внимательно, друзья мои, то увидите, что та рука производит более дальний и более веский удар, которая плотней спаяна с остальными членами при выпаде. Вот Луиджи… Занеся меч не для укола, а для рубки, он отводит его потом обратно движением всей фигуры, а не только руки. И удар вперед будет у него тем сильней, чем больше он отклонился назад. Мудрость движений определенная, вполне ясная, она понятна и из другого. Кто хочет вперед, тот должен сперва отойти назад, чтоб получился разгон. Мысль не летит прямо с того пункта, на котором возникла, а сперва возвращается немного назад, центр тяжести ее не там, где она возникла, а в совокупности прежнего опыта, из которого она вышла. Чем дальше оттягивает лучник тетиву своего лука, тем дальше летит стрела, но она совсем не летит, а падает на землю, если этого обратного движения не было сделано. Существует определенный закон поступательного движения, который предусматривает, в частности, то, что поступательное движение исходит всегда из возвратного… Вечное коловращенье… Но посмотрим на поединок… Не забывайте только, что самое важное в искусстве все-таки композиция, но непосредственно за ней следует воспроизведение движения, а потому ни на минуту не упускайте из виду особый характер каждого движения, выражающий характер борющегося. Видите проворство Луиджи, так много говорящее о его ярости и жажде победить? А вот выраженье хитрости в лице Пьера, который весь сжался. Но укол его не имел той убедительности, на которую он рассчитывал, так как выпад был слишком легок. Плавность и легкость нужны только при возвратном движении, а при поступательном требуется насилие! Иначе говоря – напор. Где нет напора, там нет движения, а где нет насилия, там нет напора. Не забывайте этого, чтобы, когда случится набрасывать эти движения, не упускать из вида необходимые условия, направляющие наступательное и возвратное движения. В каждом движении руки, – хотя бы при этом быстром мелькающем движении мечей или просто при поднятии кубка, – всегда участвуют одновременно два мускула, один – толкающий вперед, наступающий, – и одновременно другой, который тормозит, ограничивает его, ставит ему препону, сводит его на нет. Это очень важно, оттого что, не будь этого одновременного старания ограничить, поставить препону, затормозить, конечность делала бы быстрые бессмысленные движения, – стакана ко рту не поднесешь, не вонзишь меча в сердце противника. Оттого что все на свете и в жизни несет с собой исчезновение того, чего хочет достичь. В самом стремительном птичьем полете скрыты усталость и падение. Жизнь все время обновляется только благодаря тому, что все время умирает. Потому что величайшая тайна и закон природы – непрерывная смена жизни и гибели.
Мягким движением он медленно провел рукой по бороде и продолжал:
– Не забывайте, что, рисуя, никогда нельзя повторять одно и то же движение у того же человека, одну и ту же позу в той же группировке, вот что я хотел вам сказать, ничего больше. Вечная смена, чередование. Какие возможности в этом поединке? Укол, рубка, опрокидыванье наземь. Я думаю… Ага, опять Луиджи! Вы видели? Какой отсюда вывод? А вот какой: человек, двигаясь, имеет центр тяжести всегда над осью ноги, на которой он стоит. При наклоне в одном направлении тело сокращается с одной стороны настолько, насколько растягивается с другой. Характер этого поединка, если кто из вас захочет его когда-нибудь нарисовать, определяется его причиной: азартом и обвинением одного из них в мошенничестве. На лице у обоих дерущихся выражено то, что составляет сущность всего, что живет, борется, дышит, желает. Человек, ожидающий новой весны, нового лета, новых месяцев и годов, напрягается, стремится, бьется, считая, что самое желанное еще впереди, и не замечая при этом, что сам идет уже к гибели и распаду…
У одного из противников была пронзена рука возле плеча, от боли он не мог держать меч, и тот со звоном упал на плиты пола. Леонардо, тотчас потеряв всякий интерес к дерущимся, не спеша повернулся и подошел к картине Пьетро Рицци. Прищурился и стал смотреть на полотно, а блестящий светло-желтый хитон его пылал золотом солнечного света. Он опять поднял руку, отчего широкий длинный рукав пошел складками, и, сделав ладонью движение в воздухе над картиной, сказал:
– Никогда не забывай, Джанпьетрино, что я тебе уже говорил: цвет поверхности того или иного предмета всегда зависит от противоположного предмета, от отражения света. Тебе вот нужно, чтобы возникли тени от зари, от красных лучей солнца. Так помни, что такие тени – всегда голубые. Почему? Потому что поверхность непрозрачного тела принимает всегда цвет противоположного тела. Так как белая стена не прозрачна, она окрашивается в тон предметов, которые находятся перед ней, на твоей картине – солнцем и небом. А так как солнце к вечеру розовато-красное, а небо голубое, значит, там, где солнце не видит теней, потому что ни один источник света не видит теней освещенного им тела, – они видны небу и, отброшенные на белую стену, получат голубой оттенок, а плоскость вокруг них, на которую падает красное сиянье солнца, будет красноватой.
Рафаэль Санти подошел к нему с вопросом, но не успел этого вопроса задать, так как в то же мгновенье, с шумом, заглушившим и говор патрициев, и лай собаки, в помещение ввалился Джулиано да Сангалло; продираясь между группами и компаниями, он направился прямо к Леонардо.
– Ну кончено! – загремел он. – Камень достался Буонарроти. Только что подписан договор между Синьорией и Микеланджело, я прямо оттуда.
Сангалло потер свои огромные руки и радостно засмеялся.
– Парень удалой! Но сделает, я уверен, сделает – и хорошо сделает!
Леонардо да Винчи спокойно посмотрел на него.
– И я уверен, – невозмутимо промолвил он, – что мессер Буонарроти сделает хорошо. Его произведения, которые я видел и о которых слышал, превосходны. – Немного помолчав, он, понизив голос, спросил: – А что Андреа Сансовино?..
Сангалло поглядел с удивлением.
– Сансовино? – переспросил он. – Какое отношение имеет к этому Сансовино?
– Ведь он тоже добивался камня, – ответил Леонардо.
– Первый раз слышу, – изумился Сангалло. – С Микеланджело вели переговоры так, будто он один претендует на камень, пошли на все его условия, четыреста золотых дукатов на бочку…
– Кто решал вопрос, маэстро Сангалло? – тихо спросил да Винчи.
– Да… сам гонфалоньер Содерини… – удивленно ответил Сангалло.
Леонардо засмеялся мягко, успокоительно.
– Теперь понимаю, – равнодушно ответил он, – почему камень не получили ни Андреа Сансовино, ни я…
Лицо Сангалло залил румянец смущения, он залепетал:
– Я и не подозревал, мессер Леонардо, что вы тоже претендовали на этот камень… И Сансовино… С Микеланджело говорили, как с единственным желающим… Он получил его без малейшего труда… и уже принес на заседание маленькую восковую модель той статуи, которую хочет изваять из полученного камня… я ничего не понимаю… больше сорока лет глыба пролежала в земле, никто о ней не вспоминал – и вдруг столько знаменитых желающих!
Леонардово равнодушное, но насмешливое спокойствие и Сангаллова шумная, взволнованная речь привлекли к ним новые группы слушателей.
– Дело в том… – тихо промолвил Леонардо, – я не просил, мне это никогда в голову не приходило, я совсем забыл про этот камень, – можно сказать, даже не знал о нем… – Он успокоительно коснулся Сангаллова плеча. – Эту работу мне предложила сама Синьория.
Сангалло остолбенел.
– Предложили… вам, мессер Леонардо, а потом отдали кому-то другому?
– Не кому-то другому, – возразил Леонардо, сопроводив эти слова легким, учтивым наклоном головы. – А Микеланджело Буонарроти, великому. Мне все ясно. Вспомнили про камень, просматривая старые счета, и решили поскорей оправдать произведенные на него большие расходы. Я был при этом. Предложили эту работу мне. А потом приехал Микеланджело, флорентиец, и даже больше, чем флорентиец, – любимец гонфалоньера и бывший художник Медичи. Знаете, какой политики придерживается теперь нерешительный Содерини? И так как решал вопрос именно Содерини, работу получил ваятель Лоренцо Маньифико, а про меня забыли… как прежде – самый камень. Тут нет ничего странного. Между тем в этом заказе заинтересован и Андреа Сансовино, которому нужны деньги и работа, многие сплетники даже утверждают, будто это я его подбил. Какой вздор! Желаю мессеру Буонарроти успеха, он – великий художник…
– Да, – проворчал Сангалло. – И камень он получил как художник, а не как бывший ваятель Лоренцо Медичи!
– Может быть, и по той и по этой причине, – улыбнулся Леонардо. – Я не думаю, чтоб был таким уж большим другом Медичи тот, кто в минуту, когда решалась судьба Флоренции, ухитрился то уезжать из нее, то возвращаться обратно. Так что очень возможно, он получил эту работу просто как художник, это дело Синьории, а кто теперь поймет политику Содерини? Меня это не касается. Знаю только, что приглашали меня, а работу получил он.
– Мессер Леонардо… – снова встревожился Сангалло, схватив своей огромной рукой край его длинного блестящего золотого рукава.
Леонардо, уже двинувшийся к поставу Бернардино Луини, снова обратил холодный, иронический взгляд на взволнованное лицо Сангалло.
– Я уже сказал вам, маэстро Сангалло, что меня это не волнует, напротив! Мне все ясно. Мессер Буонарроти – флорентиец, ваятель, связанный с временем наибольшей славы Флоренции, придворный художник Маньифико и молод. А мне пятьдесят, и я изгнанник.
И он отошел размеренными шагами, весь в сиянии, золоте и солнце, – к работе ученика. За ним на почтительном расстоянии последовали остальные, чей возбужденный шепот, усиливаясь, проникал во все углы зала. Игроки, шутники и влюбленные оставили свои занятия и стали тревожно переговариваться. Случай всех взволновал. Сангалло остался один посреди зала, и нахмуренное лицо его помрачнело. Видно, парню придется туго, и кто знает, что еще за этим скрывается! Мертвые камни никогда не приносят счастья. И Сангалло вспомнил то время, когда строил в Ареццо великолепный храм св. Марии-Аннунциаты. Одна стена там все время коробилась, хотя работали как нельзя лучше, – пока он не выяснил, что камень ее – нечистый, не из того места, что остальные, – из места, где сходились на свои оргии в ночной каменоломне вероотступники, и тогда он приказал сейчас же всю стену беспощадно разрушить, отвергнутый матерью божьей для строительства ее собора камень раскидать и сложить стену из другого камня, и вот на славу удалось здание, славно стоит в Ареццо храм божий, которым Сангалло в свое время еще похвалится перед престолом божьим, ни слова не говоря о папах и епископах, славно стоит храм, нет в нем нечистого камня…
И та глыба, что засыпана за Санта-Мария-дель-Фьоре, тоже мертвая, порченая. Тоже, видно, отмечена. На вид красивая, никому в голову не приходило, что камень – нечистый. Но только помощник ваятеля Агостино ди Дуччо вогнал в него тогда клин, чтоб его можно было перевезти, весь низ глыбы расселся, и зазияла огромная трещина. А ведь помощник Дуччо, старый добряк Лучано, насадил бесчисленное множество глыб и обращался с камнями осторожно, любовно, лучшего мастера не найти, всем было ясно, что дело все в камне, а не в Лучано, камень был проклятый, ну и бросили, хоть и стоил он больших денег. Маэстро Агостино ди Дуччо не пожелал иметь с ним дело, не станет он работать с больным камнем, и когда он объявил, что этот мраморный болван ни на что не годен, ему поверили и стали сыпать на камень мусор и смет, так что он мало-помалу за сорок лет ушел под землю, погребенный за то, что проклят. И теперь, едва о нем вспомнили, он уже вызвал гнев, вражду, а может, и ненависть.
– Помни, милый Луини, – слышен в глубине зала тихий, ровный голос Леонардо, – что живопись дает больше пищи для размышления и содержит в себе больше искусства, чем ваяние, так как включает в себя все, воспринимаемое зрением, значит, и цвет. На это не способно жалкое ваяние, оно не в силах создавать предметы, правдиво окрашенные, предметы прозрачные, предметы гармоничные, предметы, чарующие игрой света и тени, оно не может показать тебе разную степень удаления, с изменением цвета воздуха, находящегося между предметом и глазом, не может ничего заполнить, затуманить дождем, горами, видимыми и угадываемыми на заднем плане, зеленью вод и неба, неисчислимыми подробностями, до которых оно никогда не доберется. Как скудно ваяние по сравнению с нашей живописью! Потому что оно дает неполное раскрытие душевной жизни…
Леонардо да Винчи… Андреа Сансовино… Микеланджело Буонарроти… и между ними – мертвый камень. Да, парню туго придется! И Сангалло хмуро отошел. Его провожали неодобрительный шепот патрициев, лай собачьей своры, насмешливый напев Салаиновой лютни, тайная ненависть маэстровых учеников. Не лучше ли для Микеланджело отказаться от этой работы?
– Ни за что не откажусь! – воскликнул Микеланджело, быстро кладя руку на книгу, которую начал читать, когда вошел Сангалло с сообщением о том, что произошло в Леонардовой мастерской. – Ни за что не откажусь! – повторил он, сердито шагая по тесной комнате. – Эта работа значит для меня больше, чем вы все представляете. Это то же самое, что отказаться от всего искусства, от жизни, – больше того – все равно что отказать богу в исполнении того, что он от меня требует, ради чего меня создал. Я никогда ни к какой работе не приступал с таким восторгом, как к этой. Потому что до сих пор все делал для других… и Геркулеса тоже для других. А эта статуя… она будет – для меня. Маэстро Джулиано… – продолжал он уже более мягко и мирно, заглянув в старые глаза Сангалло, – бывало с тобой так, что ты вдруг понял, что все, созданное тобой раньше, пусть само по себе превосходное, – ничто по сравнению с тем, что ты собираешься создать – хотя бы последнее и уступало прежнему красотой? Иногда творишь не ради красоты… а ради чего-то другого… и если творишь правдивое, только то, что тебе подсказывает твое сердце… красота придет и окутает твое создание, ты звал ее, думая о том, что болит, а пришла она… Послушай, маэстро Джулиано! Когда-то, еще до первого своего отъезда из Флоренции, я хотел дать людям все то прекраснейшее, чего они даже отдаленно не умеют еще уловить, а я всюду нащупываю… и в себе нащупываю тоже… дать в одном произведении, в одном изваянии, хотел низвести на них любовь и мир… дать им высшее свое творение… это была наивная мечта, но не потому наивная, что я до такого творения еще не дорос, не потому наивная, что человек, если хочет дать что-нибудь от полноты сердца, никогда заранее не думает о том, справится он с этим или не справится, так что – не потому наивная мечта… а по другой причине наивная, понимаешь, маэстро Джулиано, я не знал людей… думал, они всю эту грязь и низость преодолеют с помощью великого и возвышенного, преодолеют искусством… быть поэтом в камне, так мечтал я, сила искусства вспыхнула бы как огонь во всех сердцах, и пламя это вновь разгоралось бы при каждом поцелуе и усиливалось при каждой ласке, я хотел все воспламенить его металлическим блеском, вот о чем мечтал я тогда, мальчишкой… люди, люди, я иду к вам, покрытый пылью своей работы, что искали вы в недрах гор? А я знал бы, что во всем мире нет таких сокровищ, которые я теперь приношу. Понимаешь, так мечтал я тогда… это должно было быть великим произведением, огромной статуей Данта, князя поэтов и изгнанника, который должен был отныне царить над городом, указывая протянутой рукой дорогу через ад и чистилище в рай, вот что хотел я создать, и уже готова была маленькая восковая модель, когда вместо этого город заказал мне статую из снега… и я тогда дал им ее, и она превратилась потом в грязь и месиво, но ей радовались, весь город радовался, было большое празднество… Я понимаю Савонаролу, как не понимает никто из вас, он тоже хотел указать им путь в рай, дать это величайшее и возвышеннейшее, но это оказалось для них тяжестью хуже камня, это было не из снега, они отвергли это, потому что не хотелось им нести нечто такое, что потом не растает, после того как надоест им; от него тоже требовали снежного великана, но он не согласился. А я согласился, но он, несмотря на это, любил меня, по-своему этот монах любил меня. Я согласился, дал им эту усмешку. Я любил их, тосковал по ним, но они хотели гримасу – и получили ее. Я обожал Лоренцо Маньифико, но он тоже хотел усмешку – и получил ее от меня, я разбил морду "Фавну". Ты не знаешь, как это горько – быть одному, всегда одному… А всегда из этого получалась только гримаса. Я ожесточился. И теперь хочу создать что-то для себя… а им сказать только, кто я. И потому не откажусь от этого мертвого камня. Потому. Мертвых камней нет. Теперь я знаю это, а тогда не знал еще и боялся их. Теперь я перерос и этот страх перед камнями, отмеченными порчей, смертью, несчастьем. И восторжествую над ним, я должен доказать это, тут для меня дело идет о большем, чем красота статуи, тут дело идет обо мне, ты меня понял, маэстро Джулиано?
Сангалло глядел то в угол комнаты, то на Микеланджело, могучим движеньем сжав руки и ломая пальцы, со странным блеском в глазах, подернутых влажной пеленой слез.
– Я знаю, – продолжал Микеланджело, – это могучие противники: мертвый камень, Леонардо да Винчи, Андреа Сансовино. Их трое… а я один. Леонардо да Винчи! Вся Италия называет его божественным, да не то что Италия, а весь мир, перед ним преклоняются короли, к его последней неоконченной картине с изображением святой Анны в Санта-Аннунциате люди ходят процессиями. И все говорят, что нет на свете художника выше Леонардо да Винчи, только я один не говорю, – вот какой это противник… А второй? Андреа Сансовино? Вернулся из Португалии, увенчанный славой, любимец государей, при португальских королях Иоанне Втором и Мануэле его осыпали милостями, не хотели отпускать, а он все-таки вернулся, умирая от тоски по Флоренции – как я его понимаю! И эти двое знают теперь, что я, двадцатишестилетний Микеланджело Буонарроти, вырвал камень из их знаменитых рук, ударю в него по-своему и больше не отдам – ни тому, божественному, ни этой знаменитости из Португалии… Мертвый камень! Но моя задача сделать его живым, и если маэстро Агостино ди Дуччо боялся, то я не боюсь… Ты сам мне писал, что уверен: я это сделаю… Я по твоему зову вернулся, оставив Рим, который как раз в эти дни был тоже Португалией моей славы… потому что знай, маэстро Джулиано, что паломничают не только к неоконченным картинам маэстро Леонардо – и к моей статуе в Риме тоже ходили процессией… Леонардо да Винчи! Я никогда не любил ни его, ни его творчества… Я чувствовал что-то нечистое, от чего не могу оборониться… Чувствовал это всегда, еще когда был первый год в ученье у Доменико Гирландайо, только-только постигал азбуку искусства, помню, как мессер Боттичелли получил тогда от Леонардо письмо из Милана, письмо о рисовании и живописи, которое его так взволновало, что он меня, простого ученишку, единственного, кто попался ему навстречу, взял с собой на прогулку вдоль Арно и стал серьезно излагать мне наблюдения Леонардо… и я, мальчишка еще, потом дома кусал кулаки и кричал одно только слово: "Не верю! Не верю ни Гирландайо, ни Леонардо". Почему? Этого я не умел выразить, но чувствовал… и чувствую это… А после, когда в Сан-Спирито приор Эпипод Эпимах позволил мне работать на трупах и рассказывал об анатомических занятиях Леонардо в Милане, я тогда с таким неистовством накинулся на изучение анатомии, что даже заболел… чтоб только его опередить… С давних пор меня с Леонардо что-то разделяет… и он это, конечно, чувствует… и теперь мы с ним впервые столкнулись… из-за мертвого камня! Но у тебя, маэстро Джулиано, у тебя большое, золотое сердце! Я тебе этого никогда не забуду! Я знаю, что Андреа Контуччи, Сансовино, – твой ученик, а какой маэстро не покровительствует ученику своей мастерской? Ты же пришел ко мне…
– Андреа может получить другую работу, – загудел Сангалло. – Портал восточных дверей баптистерия требует наполненья… я замолвлю словечко в Синьории. Он, осел, должен был раньше мне сказать, что задумал… а не сговариваться потихоньку с Леонардо! Этак интригуют друг против друга только ученики этого миланского мерзавца Браманте, но здесь такие повадки Леонардо не имеет права заводить… А потом – я не знаю, парень, за что я тебя так люблю, по-своему люблю, как тот монах… Оттого и хлопочу о тебе. Эх, если б был здесь Макиавелли!
– Зачем? – удивился Микеланджело.
– Он бы откровенно рассказал нам, как обстоит вопрос с этим самым Содерини… Леонардо что-то лукаво намекал насчет медицейской политики… а все мы прекрасно знаем, что плебей Содерини держится противумедицейских принципов. То осел этот Никколо все время под ногами путается, а сейчас, когда нужен до зарезу, уехал, большой барин… и в самом деле, он теперь большой барин, после того как назначен секретарем Дьечи ди Бальо, чиновника иностранных и военных дел, – уже не ходит тайно хлестать со мной в трактире у стен, – какое там!
– Он все у дона Сезара? – спросил Микеланджело.
– Ясное дело, – отрубил Сангалло. – Кому же еще доверить такие щекотливые, трудные переговоры с доном Сезаром о судьбе Флоренции, как не пройдохе этому – Никколо? Уж он-то не растеряется даже перед Сезаром и – вот увидишь – еще научится кое-чему! А как бы он был нам здесь нужен!
Микеланджело, положив ему руку на плечо, с улыбкой промолвил:
– Какое это имеет значение, когда дело идет о моей статуе и обо мне, медицейскую Содерини проводит политику или антимедицейскую?
– Большое, Микеланджело, очень большое, – серьезно ответил Сангалло. Пути твои, милый мой, всегда будут скрещиваться с путями Медичи…
– Это я уже слышал раз… – прошептал Микеланджело, бледнея. – Пьер!
– Что Пьер! – махнул рукой Сангалло. – Он теперь на французской службе, воюет против Неаполя, все надеется, что Людовик Двенадцатый за это поможет ему вернуться к нам… но речь не о Пьере, речь идет о других, на кого бы ты мог опереться, если б Содерини был действительно сторонником Медичи. Но у них у всех плохи дела! Кардинал Джованни Медичи боится ехать в Рим из-за папы Александра, папа за то, что тот не отдал ему свой голос, лишил его наследственного звания легата и передал это звание маленькому кардиналу Фарнезе, кардиналу "того, что под юбкой", как говорят в Риме, – понимаешь, он благодаря красоте сестры своей, Джулии Фарнезе, стал кардиналом… Мальчишечка этот самый получил все, что имел наш кардинал Джованни, для которого закрыта теперь дверь Монте-Казино, Мимеронде и других тосканских и французских монастырей, где он был аббатом, и приором, и епископом, – так он теперь скитается без пристанища, с Джулием и Джулианом Медичи и с Биббиеной этим… а Пьер воюет на французской службе… не на кого из Медичи тебе опереться…
– Да я не хочу опираться ни на кого из Медичи! – воскликнул Микеланджело. – Я хочу сам победить! Какое мне дело до политики Содерини? Какие странные вы завели у себя во Флоренции нравы! Раньше никогда ничего подобного не было. Прежде художник творил. Удачно или неудачно, но никогда не вставал вопрос о том, кто его поддерживает, стоит за ним…
– Время немножко изменилось, милый… – горько улыбнулся Сангалло. Канули дни золотой свободы для художника… нынче тебя первым долгом спрашивают, какой вельможа тебе покровительствует, и только после этого либо отвергают, либо начинают восторгаться…
– Время!..
Микеланджело сжал руки.
– Леонардо хорошо это знает… – продолжал Сангалло. – Сам испытал. Потому так хитро и говорил… И много еще зависит от того, какую ты собираешься делать статую… Что-нибудь в античном роде? Ведь ты мне до сих пор ничего об этом не сказал, и модели твоей в Синьории я не видел… Что это будет? Увенчание флорентийских добродетелей? Античный бог или символ свободы города?
Тут Микеланджело открыл книгу, за чтением которой Сангалло застал его, и, перевернув несколько страниц, прочел:
– "…раб твой пойдет и сразится с этим филистимлянином. И сказал Саул Давиду: не можешь ты идти против этого филистимлянина, чтобы сразиться с ним, ибо ты еще юноша, а он воин от юности своей.
И сказал Давид Саулу: раб твой пас овец у отца своего, и когда, бывало, приходил лев или медведь и уносил овцу из стада, то я гнался за ним, и нападал на него, и отнимал из пасти его; а если он бросался на меня, то я брал его за космы и поражал его и умерщвлял его;
и льва и медведя убивал раб твой, и с этим филистимлянином необрезанным будет то же, что с ними, потому что так поносит воинство бога живаго.
И сказал Давид: господь, который избавлял меня от льва и медведя, избавит меня и от руки этого филистимлянина. И сказал Саул Давиду: иди, и да будет господь с тобою.
И одел Саул Давида в свои одежды, и возложил на голову его медный шлем, и надел на него броню.
И опоясался Давид мечом его сверх одежды и начал ходить, ибо не привык к такому вооружению; потом сказал Давид Саулу: я не могу ходить в этом, я не привык. И снял Давид все это с себя.
И взял посох свой…" Понимаешь, маэстро Джулиано, я буду ваять вот это. Давида!
Сангалло поглядел на него с изумлением.
– Я ждал чего угодно, но это не приходило мне в голову! Давида? Почему именно Давида?
Сангалло думал об этом, идя домой, и все время. Давида! И маэстро Агостино да Дуччо тоже хотел ваять из этого камня царя Давида для собора, но камень у него пришел в негодность, весь низ глыбы расселся, там зияет огромная дыра… А Микеланджело не уступит! Он принудит камень, покорит его, заставит его вчувствоваться в то, к чему предназначен, – в фигуру Давида, и тут не уступит, хочет победить без оговорок…
А все-таки! В словах Микеланджело было больше, чем жажда статуи… "Дело идет не о прекрасной статуе, теперь дело идет обо мне самом!" – так сказал он.
Сангалло снова задумался. "Ты еще юноша…" Это место из Писания прочел ему Микеланджело – не о Давиде, царе-завоевателе, Давиде, какого, наверно, создал бы да Дуччо, могучем правителе, торжественно восседающем на троне, среди войск, толкователей закона и телохранителей, не о царе, поразившем сирийцев, племя моавитян, разбившем сынов Аммоновых, уничтожившем все до границ Арама, – царские пленники стояли коленопреклоненные у его трона, – не о Давиде в его силе, величии, славе и власти, а "…ты еще юноша"… о Давиде, у которого ничего нет, кроме пращи да камней ручейных…
Что сделает теперь Леонардо? "Меня всегда с Леонардо что-то разделяло, – так говорил Микеланджело, – а теперь мы столкнулись. Из-за мертвого камня".
На другой день вокруг заброшенной каменной глыбы позади Санта-Мария-дель-Фьоре начали строить высокий деревянный забор. Микеланджело потребовал, чтобы забор был высотой в шесть метров, желая работать в полной тайне, без посторонних свидетелей, совсем один. На стройку стали свозить доски. Зеваки заводили разговоры с рабочими, щупали камень. Он был покрыт мусором и грязью, после стольких лет нелегко было вытащить его из глины и поставить. Теперь он вылезал, вытаскиваемый журавцами, рычагами и цепями, под выкрики и галдеж рабочих, под громкое понуканье сбежавшихся со всех улиц зевак, вылезал во всей своей огромности, словно из земли вырастал полный глины и тьмы кулак. И когда он встал, бесформенный, искалеченный, чудовищно высокий, от него пахнуло сырым запахом глины, грязи, смерти и ужаса. Об этом много толковали в городе, а потом многие увидели его в последний раз. Потому что Микеланджело всегда тщательно запирал калитку в заборе, никому больше не позволяя глядеть на камень. Шли месяцы, люди умирали, а камень оживал.
Три точки в пространстве обусловливают четвертую. Микеланджело вымерил циркулем на своей восковой модели нужные точки, перенес на камень, провел прямые. Камень перед ним стоял, как скала. Сердце камня звало. Он отвечал. Жизнь камня рвалась вон, к свету, прожигалась в формах и тонах, тайная, страстная жизнь – и снова каменный сон, из которого можно пробудить великанов, фигуры сверхчеловеческие, сердца страстные, сердца темные, сердца роковые. Нужны удары молотком, чтоб зазвучали эти каменные нервы, нужны удары, которые пробились бы в безмерном мучительном усилии к ритмическому сердцу и дали этой материи речь и красоту. Таинственная, бурная, лихорадочная жизнь бушевала где-то там, в материи, он слышал, как она кричит, взывает к нему, жаждет освобождения, просит ударов. Жизнь камня рвалась к нему на поверхность, била своими невидимыми, ощущаемыми волнами в кожу его рук. Эти длинные, нежные волны соединялись в его ладони, он мог бы разбросать их, как лучи, и камень опять впитал бы их в себя. Поверхность его была морозно-холодная, поверхность его была нагая. Но под ней, как под холодной кожей страстной красавицы, мучительно изнеможенной своими желаниями, вожделеют и жаждут все наслаждения, терзающие до судорог смерти. Нагая и морозно-холодная, она прожигалась внутрь сильнейшим жаром. Пронизывавшие ее кровеносные сосуды были полны и набухли пульсирующей мраморной кровью, сухой на поверхности и горячей внутри.
Все это кипучее биенье трепетало под прикосновением его ладони. Он передвинул руку немного выше. Здесь трепеты стихли, здесь обнаружилось тайное спокойствие, но и оно – темное, там, верно, была большая глубина, омут с целым созвучием форм, взаимопроникающих, как волны. А наклонившись, чтобы поласкать форму, округлую, словно упоительнейшие женские лядвеи, томящиеся страстным желанием, сжатые, дрожащие, он почувствовал в глубине место, где лежит какая-то затвердевшая гроздь, налитая соком и только ожидающая, чтоб ее выжали. Но там, еще ниже, там – место смерти, вся огромная плоть глыбы задрожала, словно он коснулся обнаженной раны, здесь было самое уязвимое место камня и… здесь был рубец от Лучанова долота, по краям еще алеющий мраморной кровью, отсюда отвалилась смертельно раненная материя, здесь зияла большая дыра, но камень по-прежнему мощно высился перед ним, торчал, словно тяжелые запертые ворота, разбей их своим молотком, камень высился, как судьба, он распахнет его створы резцом своим! Не распадется камень, не победит его смерть. Не будет он больше наводить ужас, а встанет победоносно, воскрешенный ударами, да и его оградит – от катящегося со всех сторон потока безумств…
Нежной, чуткой рукой гладил он камень, как вдруг перестал. Да, вот здесь… Теперь это был уж не камень, а проникновенье, вещественное, крепкое, грубое, ухватистое прощупыванье, здесь была сила камня, сплетения его вздутой мускулатуры, исходная точка форм, возрожденье его жизни. Здесь-то и нужно разъять камень, чтобы найти путь к его сердцу. Где ты теперь, фра Тимотео? Сила уже не в камне, он не высосал ее из меня, как мечта высосала силу из Агостино да Уливелло, я одолею этот камень и одержу верх над ним, я вызвал его на единоборство, и это сильный могучий противник, он был отмечен пятой дьявола, свергнут с горних высот ангельским паденьем, потом сорок лет питался здесь грязью и темными силами преисподней, но вот пришел я и вызвал его на бой, я возьму верх, я, человек, который – прах и пепел, обращусь в прах и пепел, я, созданный из глины…
– Vulnera dant formam, – говорил старенький мастер Бертольдо. – Только удары дают форму вещам. И жизни. А форма – правда жизни и вещи, не может жить ничто бесформенное.
Страшней всего то, что не имеет формы.
Найдя главную точку, Микеланджело стал не спеша отмеривать от нее циркулем дальше и намечать отдельные точки, обозначая их на глыбе красной глинкой, пока не получился законченный грубый абрис. Оставалось отсекать материю. Воткнув резец, он сильно ударил молотком, чтоб снести первый кусок мрамора.
Так начал он ваять своего Давида.
Вся Флоренция слышит эти удары. Потому что Флоренция вновь прислушивается к другому стуку, не к прежним ударам костлявой руки монаха в ее ворота. Опять льют благоуханье цветы в дивных садах между загородных вилл, никто не косит их до срока, как суету и лишнюю роскошь, они растут, дышат, благоухают, и Соломон во всей славе своей не одевался так, как всякий из них. Снова разблагоухались в буйной игре красок и ароматов, уже не предназначенные в огонь или на алтарь, опять венчают головы и фаты невест, пиршественные столы, ложа любовников. Город снова полон веселья, золота, шелка, духов, кипучей жизни. Во время карнавала не пляшут вокруг горящих костров под набожный колокольный звон, карнавал устраивается уже не в виде процессии святых мучеников, представляемых кожевниками и песковозами, одуревшими от всего, что от них требуется, святых отцов, изображаемых отцами доминиканцами, влекущих на цепи чертей, философов, идолов и других супостатов церкви, – карнавал тем более буйный, чем более унылым был он в предшествующие годы, снова женщины в коротких платьях с глубоким вырезом пляшут под бряцанье лютен и говор флейт с веселыми и смелыми патрицианскими и купеческими сынками, и отовсюду вылетели рои поэтов, слагающих сонеты, баллады и канцоны о ножках возлюбленных, о французской болезни, о родильной горячке, о зубной боли, о новой жизни, о красоте Флоренции, о ноготках монны Ваны, поэму о заболевшей обезьянке монны Биче, поэму о возвращении Венеры к флорентийским розам, поэму о борьбе с пизанцами. В городе опять полным-полно художников. Добрый, милый Филиппино Липпи опять взял палитру и кисть, не плачет больше дни и ночи о загробной судьбе своих родителей: отца монаха-кармелита и матери – соблазненной монахини, отвергшей вечные обеты и куколь для объятий священника-художника, не раздумывает над тем, не в аду ли они оба теперь, а пишет картины, творит, и так как харкает кровью, то, чувствуя свою бренность, пишет только вечное. А после приезда Леонардо да Винчи добрый Филиппино Липпи объявил приору сервитов о том, что отказывается от работы по росписи главного алтаря Санта-Аннунциаты, так как нет художника выше божественного Леонардо и ему единственному пристала почетная обязанность украсить богатый монастырь живописью, – и, таким образом, благодаря этой жертве Филиппино Липпи, Санта-Аннунциата получила картон с изображением святой Анны, весь город ходит туда на поклонение, и все рассказывают друг другу о том, как Липпи с великой почтительностью уступил божественному маэстро, и каждый умиляется поступку Филиппино Липпи, которому смешивает краски смерть, который не знает, окончит ли он завтра то, что нынче начал, а все-таки из своей короткой жизни и работы уступил, воздал почесть божественному искусству Леонардо да Винчи.
– По-прежнему пишет своих томных Венер Пьер ди Козимо, по-прежнему пишет Лоренцо да Креди своих милосердных мадонн, пишут Леонардовы ученики, съехавшиеся из Рима, Неаполя, Милана, Сиены, Венеции и Модены, снова открыл свою школу Верроккьо, и снова открыл свою мастерскую Перуджино – мастерскую, больше похожую на торговое заведение по продаже благочестивых изделий, где ученики его сообща вырабатывают слащавые завитые головки мадонн, еле успевая выполнять заказы, а Перуджино ходит между поставами и подписывает картины, нанося там-сям еще более слащавый оттенок и смеясь над глупцами художниками, которые, вместо того чтобы делать деньги, тратят время на изучение анатомии и светотеней; снова улицы кишат веселыми, напевающими бражниками, никто никак не напьется досыта этой жизнью, по которой так стосковались, ожидая в страхе и в пепле покаяния дракона и конца света, а теперь опять слышен стук игральных костей и кубков, промелькнет под дымкой обнаженная красота женщин, королева Тосканы Флоренция – уже не пища для насмешек и прибауток остальных городов, она опять вызывает у всех зависть, уважение и восторг.
Из Перуджии пришел припасть к этому богатому источнику искусства Рафаэль Санти, друзья у него – Лоренцо Наси, Таддеа Таддеи, он стал учеником у Баччо д'Аньоло, потом у фра Бартоломео дель Фатторо, потом у Леонардо да Винчи, он уж сам не знает, у кого взял больше, но жадно пьет из всех чаш, которые они ему подают, ах, спасибо, тысячу раз спасибо дворянину синьору Бальдассаро Кастильоне, который выпросил у герцога Урбинского Гвидобальдо, чтоб тот послал его, Рафаэля, к этому роднику искусства – трижды счастливую Флоренцию… Он пишет красками, копирует, учится, слушает…
– Никогда не помещай голову прямо посредине плеч, а всегда смещай ее влево или вправо, хотя бы она смотрела вверх, либо вниз, или даже прямо, на уровне глаз. Положенье должно быть всегда естественным… – звучит тихий, словно усталый голос Леонардо.
Рафаэль слышит и вслушивается. До самой смерти не забудет он этих указаний. Никогда больше не изобразит на картинах своих прямо посаженных голов.
– Драпировку никогда не нужно переполнять складками, – они должны быть только в тех местах, где как будто есть чья-то рука…
И вырастают новые, слышны уже новые имена – Мариотто, Альбертинелли, Кристофано Биджи, по прозванию Франчабиджо, и много других, и в часовне Бранкаччо в Санта-Мария-дель-Кармине, у босых монахов, опять сидит мальчик, сидит перед фресками Мазаччо, так же как сидел в свое время Микеланджело, и восхищенно копирует, мягкий свет падает на его молодое, румяное лицо, и он, чувствуя озноб от сильного внутреннего напряжения и вызванной этим напряжением лихорадки, рисует, копирует… Опять Мазаччо! Вечно Мазаччо! Бессмертный Мазаччо, настежь распахнувший двери в искусство, а потом умерший в Риме от голода. Опять Мазаччо! И подросток рисует… Его зовут Андреа дель Сарто. С риском для жизни выносил он под курткой спасенные из горящего костра обгорелые куски картин, а потом дома, ночью, при свете свечи, тайно и с великим, страстным духовным и сердечным горением рассматривал их, изучал, срисовывал… Никогда не забуду твоего имени, ни встречи, которую ты мне после первого моего возвращения во Флоренцию приготовил, Андреа дель Сарто, никогда; я тоже носил тайно в чердачную каморку рисунки, тоже проводил драгоценнейшие страстные часы в волшебном свете часовни в Санта-Мария-дель-Кармине перед Мазаччевыми фресками, я тоже, Андреа дель Сарто, тоже был мальчиком…
А Флоренция слышит удары Микеланджелова резца, удары его по мертвой глыбе. Забор достигает шести метров в высоту, что творит Микеланджело, никому не известно, и многие тогда ощупали камень напоследок, это был август, а теперь уж конец 1502 года, люди умирают, а камень становится живым. Камень проснулся.
В этом году были выпущены новые индульгенции, и продавцы их из Рима приехали также во Флоренцию, – потому что Арагонский род уничтожен и святому отцу для торжества по случаю победы нужно много денег, уж недостаточно внезапных смертей кардиналов, последним из которых был кардинал Феррари. Арагонский род в Неаполе уничтожен, но разве его святость не предсказал этого безошибочно, уже когда король Фредериго отказался отдать свой трон и свою дочь дону Сезару, и прекрасная неаполитанская принцесса Карлотта написала в Рим, что скорей кинется в зев Везувия, чем станет женой кардинала! Святой отец объявил тогда, что судьба Арагонского рода решена. Так и вышло.
Принцесса Неаполитанская не кинулась в зев Везувия, но женщины и девушки кидались теперь в отчаянии со стен Капуи, чтоб не попасть живыми в руки победителей. Страшному разграблению подвергся город, около четырех тысяч человек было убито на улицах, потому что прославленный испанский герцог, посланный на помощь королю Фредериго, Гонсалес де Кордова, мавробоец, высочайший из высших приближенных его католического величества, командующий королевскими полками под названием tercios 1, светило военного искусства, трижды за ночь встающий для молитвы и самобичевания, предал короля Фредериго дону Сезару, открыв ворота неаполитанских городов перед испанскими войсками и французами. Тысячи трупов валялись на улицах, женщины в отчаянии кидались со стен, лучше смерть, чем объятия Сезаровых солдат, ужас охватил всю Италию при известии о том, как Капуя была стерта с лица земли. Так рухнул Арагонский трон; последний король на нем, всеми оставленный Фредериго, с дочерью, принцессой Карлоттой, находился в Капуе; рухнул так, как тогда еще предсказал его святость, и паденье его было велико.
1 Пехотные полки (исп.).
И так дон Сезар, знаменосец святой церкви, стал владельцем Романьи, герцогом Урбинским, владельцем Неаполя и, опираясь на захваченную в Неаполе артиллерию, властвовал в Форли, Пезаро, Римини, Фаэнце, Синигалии, Иммоле, Камерино и всей Умбрии, был герцогом Валенсийским, то есть другом французского короля, жестоко угнетал Болонью, породнившись с герцогом Феррарским, и шел все дальше, имея жену – принцессу Наваррскую и отца папу. А кардиналы умирали, скопив сокровища для другого, оттого что всюду, где подымал голову золотой бык Борджа, наступало великое кьяроскуро 1 золота и крови.
1 Светотень (ит.).
А его светлость отправился в триумфальное путешествие по областям, которые за время войны его сына с Неаполем были отняты у Колонна, Орсини и Гаетано, напрасно увивающихся, словно оводы, вокруг золотого быка. Всем этим были очень встревожены короли, а еще больше добрые христиане. Потому что его святость, имея в виду, что возлюбленный сын занят в Неаполе, чтоб доказать любовь свою к возлюбленной дочери Лукреции, на время своего триумфального путешествия посадил ее в Ватикане, доверив ей, при поддержке старейшего кардинала португальского, ведение текущих дел. Мир содрогнулся, словно почуяв порыв ветра от волненья храмовой завесы, и вновь появились проповедники в Германии, Англии, Ирландии, в Польше и Чехии, даже в пределах королевств полночных, – это было хуже поцелуя в плечо…
Микеланджело ваял Давида. Вся Флоренция слышала эти удары, сам гонфалоньер Пьер Содерини слышал их и пожелал увидеть статую, но Микеланджело отказал даже ему, пока она не будет совсем готова. Так что многие смеялись над Содерини, но другие осуждали молодого художника, до того спесивого, что он не ищет благоволения сильных, забывая, что теперь времена уже не те, миновала золотая пора свободы для художников, теперь каждый из них должен иметь какого-нибудь покровителя, чтоб все знали, хороший это или плохой художник, теперь уж судят по имени мецената, а не только по творениям художника. А раз все так делают, почему Микеланджело – иначе?
Но Микеланджело спесив. Патриций Дони вспомнил, что уже тогда, после огромного успеха снежного великана, ему захотелось тоже поскорей похвалиться работой художника, прославившегося за одну ночь и умеющего делать статую даже из снега. Теперь, узнав, что сам Содерини дал камень, тщеславный Дони повторил свое предложение. И Микеланджело, в перерывах между работой над Давидом, написал изображение святого семейства и послал ему, спросив за нее семьдесят золотых дукатов. Но Дони показал картину Леонардовым ученикам, которые хоть и признали, что это хорошо сделано, однако… как странно изображена божья матерь! Она не улыбается! Это не кроткая, милосердная заступница, а героиня, воительница, которая ослабела без младенца и требует его скорей себе, протянув за ним мускулистые руки к святому Иосифу… стоящему позади! Какое неживописное расположение! Чисто скульптурный треугольник фигур с вертикальными осями, а не упоительный и содержательный сгусток события.
"Видно, Микеланджело… – так сказали Леонардовы ученики, собравшись у молодого патриция и склонившись над картиной, – сознательно идет против мудрых указаний маэстро да Винчи, потому что картина его – просто нагромождение фигур с абстрактными лицами и никакого пейзажа вокруг, лишнее пространство по сторонам картины заполнено опять-таки фигурами – не ангелами, а нагими мускулистыми мужчинами, повернутыми всегда не в том направлении, куда направлен взгляд зрителей. Как неживописно! И ни слова о пейзаже, ни сумерек, ни рассвета, ни легкого намека на тень, на обаянье солнечного утра или солнечного света – ничего решительно… только несколько нагих юношей, не связанных с содержанием картины. До чего такая абстрактность чужда живописи! – решили Леонардовы ученики. – И не улыбнется матерь божья, того и гляди, еще начнет бороться за младенца, сильная, могучая, героическая фигура. И все трое клонятся друг к другу, принадлежат друг другу, как странно разработано!"
И молодой патриций Анджело Дони, видя эту необычность, странность и соглашаясь с учениками божественного Леонардо, вместо семидесяти дукатов, как было условлено, послал только сорок, но Микеланджело тут же отправил посланного с деньгами обратно, потребовав вместо семидесяти – сто. Дони опешил и удивленно поглядел на сидевших за столом, а те стали смеяться. Видя, что они смеются, он послал семьдесят дукатов, как было условлено вначале, и велел повесить картину. Но прежде чем ее успели повесить, посланный вернулся с сообщением, что Микеланджело требует либо картину, либо сто сорок дукатов. И Анджело Дони больше на стал торговаться, скорей заплатил сто сорок дукатов за картину, за которую пожалел дать семьдесят.
Микеланджелова статуя, забранная высоким забором, по-прежнему остается тайной. Но никакой тайны не представляет работа Леонардо да Винчи, о которой известно, что он оставил начатые произведения и принялся за портрет монны Лизы из рода гонфалоньеров, дочери Антонио Мария ди Нольдо Герардини, прекрасной супруги Франческо ди Бартоломео ди Заноби дель Джокондо, о которой старый Полициано, знавший ее еще девушкой, говорил, что она lampeggio d'un dolce e vago riso, всегда сияет нежной, блуждающей улыбкой.
В начале 1503 года Макиавелли прислал очень важные сведения о замыслах папского сына, сообщая одновременно об истреблении Сезаровых кондотьеров. Их было трое. Они восстали, сошлись в Маджоне близ Перуджии, присягнули друг другу на верность, их войска пошли за ними, но дон Сезар над этим мятежом своих полководцев только смеялся. Он позвал их в Синигалию для переговоров, они явились, их было трое, и не успели они войти, как по приказу дона Сезара его верный Микелетто двоих тут же задушил, а третьего, который попросил перед смертью папской индульгенции, оставили пока в застенке – не для того, чтоб дождаться из Рима индульгенции, а для того, чтоб дать святому отцу время захватить их покровителя – кардинала Орсини. А потом погиб и этот… без индульгенции, которую так выклянчивал у его святости, отца своего убийцы. Трое было их, и все они погибли. Вот их имена: Паоло Орсини, Оливеротто да Фермо, а третьего, который перед смертью просил индульгенции, звали Вителоццо Вителли, он был герцогом Гравини.
Оливеротто да Фермо! Целый вихрь воспоминаний закружился вокруг Микеланджело при этом имени. Асдрубале Тоцци… Лоренцо Коста… черная Болонья… Оливеротто да Фермо! Еще один мертвый! Как сейчас, слышу насмешливый, резкий и при этом мальчишеский голос, еще одна тень, которая никогда меня не покинет. Оливеротто да Фермо, который тогда все время смеялся.
Черная роза тьмы растет, роняет лепесток за лепестком, вырастает новая, непрестанное превращенье тьмы, и я внятно слышу, как шаг великана могуче звучит перед рядами врагов, построенных к бою. И я буду биться, никогда еще до этого не бился и не боролся я так, как решил теперь. Буду биться против превосходнейших сил, буду биться, счастливый и радостный, без внутренних колебаний, жалкой чувствительности и без пощады к себе, буду биться рьяно, жду со всей страстью этого боя! А там, выходя перед построенными рядами противников, каждый день выступает, насмехается великан, уверенный в себе, потому что он во всеоружии, а у меня – только камень.
"Что ты идешь на меня с палкой? Разве я собака?" – звучит голос из тьмы, голос великана, в котором я слышу тысячи других голосов, слитых в этот единый, грохочущий, оглушительный, в котором я слышу тысячекратно слышанные голоса из Флоренции, Болоньи, Рима, Венеции, Сиены, – отовсюду, голоса кардиналов, меценатов, кондотьеров, женщин, философов, князей, художников, монахов – все в одном великанском крике: "Разве я собака, что ты идешь на меня с палкой?"
Но хуже собаки это время, полное парши, кто до него дотронется, тот заражен, прогоним его, как собаку. Что у меня общего с ним? Но оно встает всюду вокруг меня, темное, безобразное, хочет поглотить, пожрать и меня, размолоть в бесформенную кашу, я чуть было не уступил, но теперь буду биться, биться кроваво, не на живот, а на смерть…
Они идут, валом валят, построились, – верно, все связаны одними неразрешимыми узами тьмы. Но сами для себя они были тягостнее тьмы. Я тоже нагой и не умею ходить в шлеме и в оружии их мрачных сражений, и Давид не умел, предпочел все снять, чтоб ничто не мешало ему в разгар боя, – поэтому сказано: "И снял все это с себя". Нагой и на вид безоружный. Какая сила! И эта пора, мать заблуждений, час неуверенности, рычит мне все свои мерзости, выдавая их за правду, все свои извращения, распутства, лжи, подлости, ниспровергнут весь строй правды и веры, а вместо него выставлена для поклонения чешуйчатая броня насилия и произвола. Я выступил, приняв вызов.
"И проклял филистимлянин Давида богами своими". Проклинают всегда богами своими. Так сказал мне однажды Савонарола: дьявол – карикатура на бога… У него тоже свои обряды, празднества, мученики, искусство, свой культ, свои приветствия, свои праздники… Карикатура, пародия, кривое зеркало порядка и правды. Но и в этом – своя темная тайна…
Проклинают всегда богами своими.
Снова рассвет. Возвращаюсь к работе, к камню, который был мертв, а я воскресил его. Из мраморной глыбы понемногу выламывается стройное нагое тело юноши. Он шагнул, чтоб бросить камень. Правая рука опущена, но уже приготовилась. Через левое плечо перекинут ремень пращи, которую сжимает поднятая и согнутая левая. Прекрасное мускулистое молодое тело насторожено, охвачено ожиданьем боя. Голова Давида обращена к врагу, лоб нахмурен, проборожден двумя глубокими резкими вертикальными складками. Губы сжаты. Он вышел на бой, вызвал на бой, ждет боя, приготовил камень. И метнет его, сильно раскрутив, великану в лоб, так что треснет твердый лоб от удара, и рухнет великан со всеми своими распутствами и заблуждениями. Статуя высотой в пять метров, тело ее сверкает белой гладкостью. Еще в Риме, работая над "Пьяным Вакхом", а потом над Пьетой, он научился особым способом полировать поверхность камня, так чтоб тело было живое и поверхностью своей, а не только движеньем. Падают мало-помалу осколки мрамора, новые плоскости засияли на солнце, новые выдохи материи.
Изнеможенный, обессиленный, больной идет Микеланджело каждый вечер с работы – в свой одинокий угол. Маленькая комната на самой окраине города, такая, в каких он привык жить с детства, домой далеко, он идет медленно, ссутулившись, только теперь чувствует, как ослаб, он плохо ест и спит, каждая большая работа сопровождается у него отвращением к еде, бессонницей, раздражительностью, болезненным давлением в сердце, которое, кажется, вот-вот разорвется под этой тяжестью, а потом, мгновениями, опять расширяется, разгоняя боль по всей груди. Глаза, полные пыли, жжет. Руки стерты резцом и молотком, огрубелые, потрескавшиеся, жилистые. Он чувствует мраморную крошку в волосах, лицо серое, лицо больного, измученного человека. И в его поблеклости шрам разбитого носа выглядит еще безобразней. Он идет медленно, усталый, уже вечер, слишком влажный вечер, чтобы не думать о любви и чтоб в сумраке улочек не прозвучал первый смех влюбленных, прерывистость первых поцелуев… Скоро взойдет луна… Сколько минует вот так недель, прежде чем будет готова статуя? И сколько месяцев и лет пройдет еще, прежде чем его задача будет выполнена, ноша донесена…
Он прислонился к стене дома, чувствуя свое уродство. Почувствовал терпкий, кисловатый запах пота, из-за которого к коже липла одежда, испачканная жирной глиной и пылью, почувствовал зуд от мраморной пыли, которой полны волосы и борода, увидел морщинистость своего изнуренного бессонницей и напряженным трудом пепельно-серого лица, как будто смотрел в зеркало, уродство прорезанного молниевидной кривой размозженного носа. А руки его с искривленными, сорванными, окровавленными, мездроватыми ногтями показались ему отвратительными, как руки незнакомого трупа, найденного в наносах нечистот возле Арно. Слишком влажный вечер дышал на него всеми благоуханиями. Он медленно побрел дальше. Раздраженный, нервный, злой, не думая ни о еде, ни о сне, – только это сильное, потрясающее ощущение своего уродства и резкое, болезненное давление в сердце, готовом разорваться под его тяжестью.
У Санта-Тринита он увидел группу горожан, оживленно беседующих, и понял, что они спорят об одном темном месте у Данта, он услыхал стихи, такие знакомые, ну да, улыбнулся он, девятая песнь "Рая", терцина об искусстве, превращающем здешний мир в горний… он опять остановился и прислушался к их доводам, высказываемым с выражением лица, важным даже в перепалке и торгашеским даже в возвышенном споре.
Вдруг посреди группы он заметил Леонардо да Винчи. Тот молча слушал, одной рукой перебирая искусно подстриженную холеную седую бороду, а другой опершись на плечо замечательно красивого, женственного юноши – Андреа Салаино, который ласково приподымал плечо и время от времени почти бесстыдным движением прижимался щекой к руке маэстро. Леонардо был опять в длинном ниспадающем хитоне светло-лилового цвета, в котором любил совершать вечерние прогулки, ожидая восхода полной луны, так как серебро лунного света сочеталось с лиловым оттенком материи в своеобразно мягкий аккорд, который еще подчеркивался не только широкой золотой оторочкой одежды, но также тем, что хитон был пропитан особенным асфоделевым благовонием, составлявшим собственное изобретение Леонардо, рецепт которого он не сообщил даже супруге своего князя Беатриче д'Эсте, но любезно приготовил ей несколько флаконов этих духов, – увы! – теперь ими душатся все наложницы Людовика Двенадцатого, а не прекрасная Беатриче, давно уже нюхающая асфодели преисподней. Длинный лиловый хитон, непривычное легкое благоухание асфоделей, влажный вечер, холеная седая борода Леонардо и фигура его, высоко возвышающаяся среди спорящих горожан, – все сразу слилось для Микеланджело в один образ, возбудивший еще сильней его раздражительность. Он гневно стиснул зубы, надеясь пройти незамеченным. Проходя с опущенной головой, чтобы лучше скрыть свое безобразие, он услышал, как горожане просят Леонардо истолковать им загадочное место. В то мгновение, когда он как можно тесней прижался к стене, Леонардо да Винчи поднял голову и узнал его. И тихим, немного усталым голосом ответил собеседникам:
– Мне ли объяснять вам это темное место? Вот здесь великий Микеланджело Буонарроти, о котором известно, что он знает Данта лучше всех нас. Я перед ним – как ученик перед учителем. Обратитесь к нему, он истолкует вам неясные стихи об искусстве… Он! Потому что для него нет ничего неясного ни в Данте, ни в Искусстве.
И чуть заметно улыбнулся.
Микеланджело остановился как вкопанный, и пепельно-серое усталое лицо его вспыхнуло гневом. Он выпрямился и, видя, что на него устремлены удивленные глаза купцов, почувствовал себя так, словно со всех сторон по нему скользят маленькие хитрые глазки ящериц, насмехающихся над его запыленным, окаменелым лицом, порванной рабочей одеждой, натруженными руками. Он оценил язвительность Леонардовых слов, величественный, княжеский тон, каким они были сказаны, увидел лиловый хитон, облитый серебром, вдохнул запах асфоделей. Задрожав от ненависти, он подошел ближе к группе стоявших, которые наклонили головы, предчувствуя недоброе, потому что шаг его был шагом мордобойца и кулаки сжаты. Андреа Салаино скользнул по нему ухмыляющимся взглядом, цепляющимся и прилипчивым, и, дрожа, как женщина, прижался тесней к маэстро. Тут Микеланджело заметил, что голос его не слышен. Хоть он говорил. Но голос его был до того пересохший, что сделался беззвучен.
Вместо него говорил Леонардо.
– Стоящие вокруг меня так же страстно желают вашего поученья, мессер Буонарроти, как вся Флоренция – вашего искусства. Мы жаждем… а вы заставляете нас так долго ждать. Страшно долго. Дайте же нам хоть объяснение Данта… хоть этого не закрывайте от нас забором. – И, повернувшись к группе, Леонардо окончил с неповторимым оттенком в голосе и улыбкой: Микеланджело наставит вас, а не я!
Микеланджело стоял уже вплотную к нему, водя своими грязными руками по его благоуханному хитону. Он видел лицо, утомленное, морщинистое, с иронически прищуренными глазами, пристально на него устремленными. И взорвался:
– Ты! Ты! Ты будешь меня корить, что я долго работаю, ты, который тринадцать лет делал только модель памятника своему хозяину… да и той не сумел окончить! Ты, который никогда ничего не кончаешь… к стыду своему!
И он отвернулся движеньем, полным брезгливости. Все остолбенели от изумления. Это было хуже пощечины. Леонардо покраснел, узкая рука его дрожала, нервно теребя складку хитона. А Микеланджело, уже уходя, крикнул напоследок:
– А эти миланские идиоты воображали, что ты хоть на что-нибудь годен!
И он ушел.
Осталась тишина. Он шел в бешенстве, наклонив голову, как бык, горько жалея, что не сказал еще больше. "Но и так довольно… – подумал он с облегченьем. – Шарлатан, комедиант! Вздумал смеяться, что я долго делаю Давида! А сам в тысяча четыреста девяностом году начал делать в Милане модель конного памятника Франческо Сфорца, чертил, исследовал, мерил, выдумывал новые сплавы бронзы, наконец, о модели стали даже писать стихи, всюду – восторг, восхищенье, а чем кончилось?.. Нет ни памятника, который так и не был отлит, ни модели, которой гасконские стрелки пользовались как мишенью для своих ежедневных стрельб, пока не расстреляли вдрызг… А эти миланские идиоты в него верили! Сжав больные руки, он зашагал быстрей, чтоб уж скорей быть дома, одному, словно хотел скрыться со своей ненавистью в какую-нибудь нору, где можно будет не торопясь грызть, сосать ее, дробить на куски, как хищный зверь – кость. Но потом он снова замедлил шаг и поневоле опять заковылял. Жгучая, жестокая боль в сердце мешала идти быстро, спирала дыханье, заставляла шагать, наклонившись набок, так что приходилось, шатаясь, держаться за стенки домов. Так и дошел.
Прежде всего тупо опустился на стул у стола и, хрипло дыша, стал отдыхать. На еду, приготовленную ему старухой за плату, и не взглянул, одним движеньем руки отодвинул тарелку далеко на угол стола. Так сидел в тишине, мире и покое, боль затихала, тихо, миротворно сияло несколько свечей, ночь мягко струилась по крыше дома, и как только работа его будет кончена, он даст себе продолжительный отдых, опять вернутся здоровье и сон, голод и свежесть сил, опять наступят радостные дни. Он снял куртку, смыл пыль с волос, лица и рук, почувствовал себя бодрее. Зажег еще свечей и стал внимательно рассматривать два разделанных мраморных рельефа, которые создавал одновременно, то по ночам, во время бессонницы, то днем, когда не подымался на леса за забором вокруг статуи, а сидел дома. На обоих рельефах была божья матерь с младенцем и святым Иоанном. Он изучал оба внимательно, строго, однако ничего не прибавляя и не сглаживая, а только заботливо прослеживая каждый след удара по камню. Он был удовлетворен той и другой работой и рассчитывал скоро передать оба рельефа заказчикам, а именно патрицию Бартоломео Питти (не возле дворца ли Питти встал он на колени тот раз в ночную грозу, молясь своей "Святой мадонне у лестницы"?) и второму патрицию Таддеи. Эти держали себя не так, как Дони… и Микеланджело улыбнулся, вспомнив, как посланный бегал тогда в изумлении от него к Дони и обратно, как цена росла, и в конце концов Дони заплатил вдвое больше против договоренного. Да, так и нужно с этими знатоками и любителями искусства, только так!.. А Анджело Дони эту самую картину, которую сперва не хотел принимать, говорят, подарил теперь в виде свадебного подарка своей невесте Маддалене Строцци, которую, видимо, будет писать этот юноша из Урбино Рафаэль Санти…
Микеланджело опустил голову на руки, положенные на стол, и стал пить свою усталость, как темное вино, волнующее ему кровь в жилах. Ах, как он нынче устал! И эта глубокая, прекрасная, ночная тишина… Он взял и погасил все свечи.
Только поняв, что это не сон, а на самом деле кто-то стоит за дверью и колотит в нее, желая к нему войти, почувствовал он, как ночь глуха и как он одинок. Удары следовали один за другим. Дрожащей рукой он опять зажег свечи и тревожно взглянул на щеколду, которая дрожала мелкой дрожью. Пробуждаясь от усталости, как от мертвого сна, он старался сообразить, кто может так поздно ночью к нему прийти. Вернулся Никколо? Или это кто из братьев? Не случилось ли чего со стариком отцом? Или Сангалло, либо кто из его слуг? Но все они подали бы голос, назвали бы себя, а этот таинственный ночной посетитель молчит, стоит в темном коридоре и добивается, чтоб впустили, только быстрыми сильными ударами. Ночь нависла, как черный свод. Под ним горит только вот эта свеча на столе. В низкое окно дышит холодная тьма. Опять застучал. Ночной посетитель таинствен и настойчив. Микеланджело встал, бледный, настороженный. Засветил еще одну свечу и, подойдя с ней к двери, быстро отодвинул щеколду.
– Входите! – резко промолвил он.
Дверь неслышно открылась, и Микеланджело невольно вскрикнул.
Вошедший слабым движеньем руки опустил капюшон своего черного плаща и повернул лицо к свету свечи. Это был Леонардо да Винчи.
Несколько мгновений длилась тишина. Оба глядели друг на друга, и свет двух свечей дрожал между ними. Первый заговорил Леонардо.
– Вы меня не приветствуете, Микеланджело? – тихо спросил он.
Микеланджело показал на грубое кресло у стола, а сам сел на лавку по другую сторону.
– Не знаю, – заговорил он хрипло, и голос его дрожал, – как надо приветствовать тех, кто приходит ночью. У меня не бывает ночных посещений. Я всегда один.
– Человек, который всегда один, имеет как раз больше всего ночных посещений. И я… Мы будем друг с другом вполне откровенны, да, мессер Буонарроти? Потому что я именно затем и пришел. Вот вы меня нынче вечером оскорбили при этих купцах, да, оскорбили, – не знаю почему: ведь в словах моих не было решительно ничего, что могло бы дать вам повод для этого. Вы, видимо, переутомились и находитесь в раздраженном состоянии, не владеете собой. Но я пришел не затем, чтобы потребовать от вас извинений или объяснений.
– А зачем же?
Микеланджело услышал в своем собственном хриплом голосе страх. Беспокойно забегал глазами по холодному лицу Леонардо, которое при свете свечей казалось еще бледней и морозней, чем обычно. Удивление, вызванное этим ночным посещением, превратилось в испуг. Леонардо сидел против него с таким видом, словно пришел с каким-то страшным поручением, с чем-то грозящим разрушить его жизнь, изменить его путь. Сидел тихо, как статуя из тьмы у ворот из тьмы, которые раскрываются только в другую ночь, где бесполезно будет ждать рассвета. Руки его лежали неподвижно, как чужие руки на чужом столе, и взгляд его был проникновенный и печальный. Микеланджело встал, чтобы завесить оба мраморные рельефа, но остановился и голосом, на этот раз резким, повторил свой вопрос:
– Зачем вы пришли?
– Чтоб договориться…
– О чем? Я не слыхал ни о каком новом заказе…
– Вы на самом деле думаете, что я прихожу только за этим? Но речь у нас с вами не о будущих заказах… вы не хотите меня понять?
– Договориться! Вы – что? Пришли сказать мне, что Флоренция для нас двоих мала?
– Я думаю, – холодно возразил Леонардо, – что весь мир мал для нас двоих.
Микеланджело прошел поперек комнаты и остановился у дальнего простенка.
– Вот для чего пришли? – прошептал он. – Что вы этим хотите сказать?
– Нам надо либо стать открыто врагами, – ответил своим спокойным, невозмутимым голосом Леонардо, – либо заключить вечный мир. Но не можем мы, мессер Буонарроти, жить рядом, все время друг друга подстерегая, в то же время притворяясь друг к другу равнодушными. Я за мир. Потому что если мы начнем друг с другом бороться, так не перестанем, пока один из нас не будет сражен и пока какой-нибудь правитель или папа на великой арене нашей борьбы не укажет поверженному пальцем дорогу вниз, в ад. Вы хотите доставить миру это зрелище?.. Вот почему я пришел.
– Вовсе не хочу… мне в голову никогда не приходило, – сказал Микеланджело. – Я не знаю… с какой стати нам вступать в борьбу… мы ведь идем каждый своей дорогой…
– Мессер Буонарроти… – рука, поднявшись над столом, прервала дальнейшую речь Микеланджело небрежным, усталым мановеньем, – будем друг с другом откровенны. Я уже старик и видел на своем веку столько лжи, притворства и обмана, что даже заболел тоской по искренним словам, и от вас жду теперь… не будем ничего скрывать… не будем притворяться. Сейчас ночь. Будем говорить иначе, открытей и правдивей, чем говорили бы друг с другом днем. Ведь ночь всегда обнажает сердце человеческое больше, чем дневной свет… есть такие правдивые слова, которые мы находим только ночью… и напрасно хотели бы вымолвить их днем… Это как бы речь глубин, которая должна вновь вернуться в глубины, во тьму… Так будем выбирать такие слова… Они будут предназначены только для нас… Вы, я и ночь, трое нас, tres faciunt collegium 1, и слова эти будут забыты, как только мы опять разойдемся, вы, я и ночь… начнет светать, все опять станет другим. Так вот, мессер Буонарроти, я, старый человек, пришел к вам, юноше, я, чье имя слышно теперь во всем мире, пришел ночью к вам, пока еще, в сущности, только начинающему… пришел затем, чтоб говорить о мире… потому что вы, Буонарроти, я знаю, не такой, как другие, и нам с вами понять друг друга легче, чем кого-либо другого. А вместо этого что-то разделяет нас – это чувствуете вы, чувствую я, что-то враждебное, и хорошо было бы, если б мы это выяснили. Нынче вы на меня резко и беспощадно напали, да, нарочно унизили меня при каких-то купцах… не имевших для вас никакого значения… Хотели унизить меня и унизили. А за что? Что я сказал дурного? Вам случалось, конечно, слышать и более злые слова… и сомневаюсь, чтоб вы сейчас же отвечали на них всегда с такой грубостью. Я знаю, причиной вашего гнева было не то, что я сказал. Так что же? Вы шли с работы, усталый, замученный, весь в грязи и пыли. Я не могу жить без блеска и роскоши, без благовоний, изысканности, хорошей одежды, без слуг, коней, цветов, музыки, красивых лиц и некоторой жизненной утонченности. Тут мы столкнулись… но и не в этом, я знал, причина вашей вспышки. Это, может быть, могло возмутить вас в ту минуту, но не до такой степени. Здесь есть что-то глубже, загадочней… Мы не назовем это, мессер Буонарроти?
1 Трое составляют общество (лат.).
Микеланджело подошел ближе и, глядя прямо в ледяное лицо Леонардо, промолвил:
– Я думаю, мы никогда не сможем этого друг другу назвать. Назовут другие, которые будут судить о том, что каждый из нас создал.
– Вы от меня ускользаете, Микеланджело! И довольно обидно возвращаетесь к тому, что метнули в меня вечером… Каждый из нас создает свое и по-своему… Не будем отдавать друг другу отчет о своей работе, но и не предоставим судить о ней другим… Другие! Кто эти другие? За свое долгое пребывание при миланском дворе я хорошо узнал, кто эти другие… Зачем предоставлять им то, что мы можем сказать друг другу сами?
Микеланджело нахмурился, и лицо его постарело.
– Потому что я… никогда не умею сказать того… что хочу… выходит всегда иначе, чем я имел в виду. Мне всегда была противна болтовня об искусстве, о людях, о жизни… За столом Медичи философы толковали об этом до изнеможения… я понял, какое это пустое занятие… об этом совсем не надо говорить… пользоваться словами, всего значения которых человек даже понять не может… только произносит их… а смысл потом улетучивается… Я не умею выбирать слова…
– А сам – поэт, – покачал головой Леонардо. – Я ведь слышал, вы пишете сонеты.
– Это другое дело… Я создаю стихи так же, как статуи… Я их ваяю!
– Так… – слегка улыбнулся Леонардо. – Я вижу, вы набрасываетесь на все, как женщины. Одолеть. Овладеть. Покорить. Поработить. Но это неправильный путь.
Микеланджело с удивлением поднял голову.
– Почему? Разве есть другой путь?
– Да. – Леонардо опять положил свои тонкие руки на стол и долго смотрел на них. – Цель не в том, чтобы навязать материи свою волю – излить в нее свои мысли и свои страсти… нет и нет, дело идет о чем-то гораздо более трудном и драгоценном… Оставить ей ее жизнь… раскрыть загадку этой жизни… постичь ее… материя хочет жить своей жизнью… не мешайте ей… укажите только на ее тайны… В этом великое искусство… Вот – свет. Долго считали самым формообразующим началом краску… нет, пришлось объявить более существенное – свет, тайну света, перед которым краска вынуждена отречься от своей материальной сущности и подчиниться… дайте жить свету, не навязывайте своей воли ни ему, ни краске, самое великое искусство – выражать только то, что вещь хочет выразить сама…
– Нет! – резко возразил Микеланджело. – Чтобы творить по-настоящему, я должен сперва понять свое собственное сердце. Тема – только отпечаток моей собственной внутренней жизни. Чтобы творить по-настоящему…
– Что это значит – творить по-настоящему, мессер Буонарроти?
Микеланджело, наклонившись к нему через стол, крикнул:
– Знаете, кого вы мне напоминаете, Леонардо да Винчи? Пилата… Пилата. Я не хочу говорить обидного… но – Пилата. Стоите перед божественной правдой и спрашиваете: что есть истина?
– А вы никогда не задавали себе такого вопроса?
Микеланджело, сжав руки, промолчал.
А Леонардо продолжал тихо:
– Несчастный человек тот, кто никогда так не спрашивал, вы молоды, очень молоды по сравнению со мной и, может быть, уже нашли ответ, а я не стыжусь признаться, что хоть и стар, а задаю себе этот вопрос все время. Он помолчал, потом прибавил: – Вот мы уже назвали первое, что разделяет нас, но это еще не главное, источник той ненависти – не здесь.
– Ненависти?
– Да, – кивнул головой Леонардо. – Потому что вы меня ненавидите… Это становится мне все ясней… Да и не вы один… но другие не скрывают причин своей ненависти… Я им мешаю… Они считают меня колдуном… говорят, что я знаюсь с нечистой силой… клевещут на меня, хотят занять мое место… чернят мои произведения, чтобы выставить на первый план свои… Все это мне понятно… Но вы – не то, у вас – совсем другое, и это очень горько, потому что вас ждет та же самая участь, что и меня… и вас в свое время начнут ненавидеть, чернить, я знаю… а мы, два отшельника, которые могли бы так много сказать друг другу, не можем этого сделать… Что-то разделяет нас… чего нам, как видно, никогда не устранить.
Микеланджело быстро встал и прошел по комнате.
– Вы правы, – сказал он, взволнованно разводя руками, – я ненавижу вас… и знаю за что… оттого что вы один из тех… из тех, других…
– Кто эти другие? – устремил на него странный долгий взгляд Леонардо.
– Те… – описал рукой широкий круг Микеланджело. – Те… там, наружи… ночью и днем, огромное стадо, к которому я чувствую отвращение… Время! Все вы, создающие это время! Вы хотели, чтоб я был искренен… Извольте. Я задыхаюсь, захлебываюсь вашим образом жизни и вашими благовониями… всем отталкивающим, что вы приносите с собой… Задыхаюсь в этом времени, оно валится на меня, как потоп… Порой мне кажется, я погиб. Все время стою, увязнув по плечи в какой-то грязи, мерзости, нечистотах, – и не могу вылезть, а видно, все мало – валится, валится и затопит меня, если не будет какого-нибудь чуда… Что меня мучит? Прежде я никогда не мог понять, думал, это моя собственная слабость, – нет, не так, меня мучает и терзает это время… как, бывает, мучает боль головная или в ноге, так меня мучает это время, я не могу от него убежать… надо в нем жить… но я должен как-то его одолеть, иначе оно меня сокрушит… вдруг набросилось на меня, как мародер, искалечило, оглушило, я хочу насытиться и напиться чем-нибудь совсем другим, не тем, что оно мне дает… уйти от него сквозь какие-нибудь большие ворота… Я чувствую его пагубу вокруг себя, всюду чувствую его страшный конец, как собаки заранее предчувствуют пожар… в чем непреходящая ценность, что поставили вы на место порядка, который был разрушен? Вы говорите, что на папском престоле сидит антихрист… все вокруг разваливается, не существует ни нравственности, ни добродетели, Макиавелли объявляет без всякого стеснения, что мы так дурны, оттого что нас развратило духовенство, да, это так, церковь больна, как ей помочь? Если верить в Архисводню… она сама себе поможет, но я-то в этом разложении, в этом гниенье, что? Человек! Вот ваше открытие! Вот что вы обожествили! Но я не знаю ничего более трагического, что вышло до сих пор из рук божьих, чем Человек! Хочу спастись – меня травят, как негодяя, разбойника, изверга естества, травят, как поджигателя… но как мог бы я в чем-то сам от этого оторваться. И вот жду… смерти или жизни?.. Жду… Ожиданье мое до сих пор не кончилось… не может быть, чтобы мне пришлось так жить и дальше, должно наступить какое-то очищенье… Вы меня понимаете? Этого мира уже ничто не спасет. Он окончательно погиб. Но я не хочу гибнуть. Я хочу убежать. Куда? Как? В какую сторону? Где-то есть вещи, взывающие о спасении, как я… предназначенные для великого произведения, но либо никто не приходит его исполнить, либо люди до него не допускают… Я хочу тишины, жажду тишины, чтобы жить, творить, мне нужна тишина вокруг… Но это ваше время беспрестанно кипит… вопит… я знаю, я чересчур уязвим и потому должен постоянно уходить в глубины, чтобы лучше укрыться. Время! Что вы сделали с тем отрезком времени, который был вам доверен? Не могу я убежать… и, значит, должен хотя бы ценой величайших жертв это преодолеть, либо жить и умереть в этом… И вы – один из них! Вы, Леонардо, больше, чем кто-либо! Словно когда-то именно в вас слились все пороки, скорби и недуги этого времени. Преодолеть все… и вас… поймите, кто хочет спастись, тот должен преодолеть и вас, но вы сильней других, до чего я вас ненавижу! Время! И вы! Как я понимаю Савонаролу! Он тоже боролся с этим временем, тоже хотел его преодолеть, тоже явился как будто из других столетий и направлялся в другие – и пал. А я – нет, я не хочу, не имею права упасть… не имею права погибнуть… Я должен победить вас всех, вставших передо мной, как великан в чешуйчатой броне… должен!
– Чем?
– Да хоть… просто камнем… как он… Давид!
Леонардо, немножко помолчав, промолвил:
– Вы говорили о Савонароле… который так хотел победить и пал. А ведь он выступил с самым сильным оружием, применил самое высокое: мученичество. Разве камень – сильней мученичества?
– Не один только камень… – тихо возразил Микеланджело. – Еще боль. Удары.
Леонардо переложил руки со стола на колени, и бросающаяся в глаза бледность их резко выступила на складках черного плаща.
– Я думаю о том, Буонарроти, – тихо сказал он, – что в свое время кто-нибудь скажет вам то, что вы сейчас сказали мне.
– Никогда! – возмутился Микеланджело. – Я никогда не буду никому становиться поперек дороги, всегда буду идти вместе со всеми, кто борется с этим гниением.
Леонардо, глядя куда-то в сторону, улыбнулся.
– Теперь понимаю, почему это будет Давид. Символ вашей жизни – победить ударом, камнем. Великана. А меня вы считаете за одно из сухожилий, один нерв этого великана и… не ошибаетесь. Я рад, что работал в такое время, которое позволило человеку пустить в ход все свои способности, которое освободило его… Но это не то, что вы говорите… Я хотел бы потолковать с вами об этом, когда вам будет за пятьдесят, мессер Буонарроти! Что я теперь? Леонардо да Винчи, это правда, – но что под этим кроется? Я уехал из Флоренции юношей, вернулся в нее изгнанником, на помесячном жалованье из кассы Синьории, которое Содерини подает мне, как милостыню… И я сказал себе тогда, перед своим отъездом: проснись, спящий, проснись, создай произведения, которые и после смерти твоей оставят тебя в живых, а где-то здесь блуждала тень моего бесценного Джакомо Пацци, я ее видел. Я любил эту тень, так же, как любил его живого, и все-таки я предпочел бежать к герцогскому двору, на чужбину, делать чертежи укреплений, писать портреты Моровых наложниц, быть устроителем карнавалов и праздничных иллюминаций… Хотелось бы мне поговорить с вами, когда вы состаритесь, тогда я сказал бы вам, чего пока не могу… Разве я не отвергаю этого времени, не презираю его? Что оно дало мне? Чем я являюсь в нем? Все мы, люди духа, изгнанники в такое время, которое кичится тем, что освободило дух, слуги сильных, живем только милостями правителей, нет для нас свободы искусства, из него сделали предмет торговли, рвут у нас из рук еще не готовые произведения, алкая наживы, я знаю, им нужна не картина, не статуя, им нужна только наша подпись, они продают просто наши имена… И у вас тоже будут неоконченные произведения, Микеланджело, и вы вспомните меня, над которым из-за этого смеялись и которого за это хулили… Будут и у вас… И вот мы двое, чувствующие напор нашего времени больше всех других, для которых оно, наоборот, – лишь плодоносное гноище, мы двое ненавидим друг друга… но не из-за вашего страха перед временем… Нет, дело не в этом, Микеланджело! Как раз тут мы поняли бы друг друга скорей всего, потому что кто пострадал от этого времени больше, чем я? Кем я оказался на старости лет? Странником… зависящим от благосклонности сильных… Вы говорили о потребности в тишине, но сердце любого времени тревожно… кому это известно лучше, чем мне? Кто постиг превратности судеб человеческих больше, чем я? Правитель "золотого века". Вот Лодовико Моро, который теперь, окованный, увезен во Францию… Вот Лоренцо Маньифико, от дела которого ничего не осталось… Я живу тайными летучими мгновеньями, научился ценить красоту каждой минуты… Я понимаю монну Лизу, чей портрет теперь пишу, когда она говорит мне, что помнит о Лоренцо Маньифико только то, что он как-то раз погладил ее по голове, когда она, еще девочкой, сообщила ему, что успела выучить карнавальный сонет во славу матери божьей… Что ж, разве это мало – такое воспоминание о поглаживании по голове? Мы с монной Лизой много говорим об этом, пока я с нее пишу, о красоте и улыбке этих летучих мгновений… Я умею это ценить… но не умею этим удовлетвориться… не умею, Микеланджело! Я все время стремлюсь раскрывать новые и новые тайны, в этом мое бегство от времени… в том, чтоб познать, проникнуть, исследовать, постичь! Есть великие тайны, при которых мы присутствуем… речь идет не только о причинах падения княжеств, о гибели человеческих жизней, как раз когда они находились на вершине своего могущества… нет, даже полет птиц, кривая которого изнемогает как раз в наибольшем подъеме, – тоже такая тайна… Где-то есть точка, из которой все исходит и в которую все возвращается… события, жизни и судьбы, смерть, искусство, порок, добро и зло – единый источник всего… сколько раз мне казалось, что я уже близко к нему! Я знаю, мы ни в чем не сходны с вами в искусстве, но это не так важно… У меня свои неоконченные произведения… у вас будут свои, так же как сейчас там у вас полон угол картонов с набросками тел и отдельных частей, плодами мучительных, изнуряющих часов работы, знаю, вы стремитесь к сверхчеловеческому, а то и к нечеловеческому… а я всегда останусь с человеком и с тем, что познаю своими чувствами… У каждого из нас свои враги… ваши еще растут, как тот юноша, относительно которого я вас предостерегаю…
– Какой юноша? Я не слышал…
– Тот… – улыбнулся Леонардо, – тот любопытный урбинец… он станет великим вашим врагом…
– Рафаэль? – воскликнул Микеланджело и засмеялся.
– Да… – Леонардо тоже смеялся, – он… не всегда придется вам смеяться над ним… доставит вам немало горьких минут… потому что он как раз из тех других – и даже больше другой, чем все другие, Микеланджело Буонарроти. Но дело не в нем и не в остальных. Дело идет о большем. Вы назвали это бегством от времени. Теперь я понимаю эти ваши внезапные отъезды, вы то и дело от чего-то убегаете и то и дело опять возвращаетесь на прежнее место… и в это наше время тоже вернетесь! Нет, дайте мне договорить, Микеланджело: вернетесь… Вы бежите затем, чтобы опять вернуться… Никому не убежать безнаказанно от своего времени, напрасно боретесь… это высокомерие, пустое высокомерие… А может, все-таки! Кто знает? Каждый из нас идет своим путем… Вы хотите убежать с помощью искусства… я иначе, с помощью познанья… да, для меня искусство только проводник к великим тайнам, и так эти тайны меня очаровали, что часто я посвящаю им свое искусство… Познать! Проникнуть! Добраться до того единого, из чего все исходит и к чему все возвращается – жизнь и смерть в одной руке… богатство и бедность… наслаждение и боль… все сливается… добро и зло… как в той пещере из моих детских снов… Я смотрел в нее через узкое отверстие, озаренное полыхающим в нем пламенем, но всякий раз, как чад и дым на мгновенье рассеивались, я чувствовал, что еще минутка… и я узнаю, увижу… а над этим были удивительные краски, созданные игрой атмосферы… светотени… никогда не попадавшие на холст… тайна…
Леонардо, усталый, умолк, устремив взгляд в темноты комнаты. Микеланджело выслушал его, затаив дыханье, с леденящим чувством страха, как безвольный, околдованный… хотел встать и не мог… Да, нечто подобное рассказывали ему однажды о наблюдениях мореплавателей, напрасно старавшихся спасти товарищей, неожиданно прельщенных глубью загадочно появляющихся и исчезающих омутов, гладь которых, как бы золотая и нежно-голубая, поросла невиданными кустарниками, чьи ветви, ожив, обвивают неосторожного, обрекая его на смерть… У Микеланджело было такое ощущение, словно он идет куда-то далеко, потому что должен, таков приказ, свободный выбор больше невозможен, странные, коварные глади, печальная песня великих водных потоков, благоухания дурманящих кустарников, от которых исходит такой аромат, что человек падает в обморок, сходит с ума, – край неосвященный…
– Вы сказали, Микеланджело, – слышит он Леонардов голос из далекой дали, – что я кажусь вам Пилатом… Что есть истина? Вы это знаете? Я не знаю и всю жизнь старался узнать… Что есть истина? Вы были еще ребенком, я спас вашего отца от угрозы быть раздавленным возле Санта-Мария-дель-Фьоре… И отец ваш с гордостью говорил о вас, о созвездиях, под которыми вы родились… они предвещают великое, сказал он. А я тогда уже задавался вопросом, что значит – великое, и нашел слова вашего отца смешными. Что значит – великое? Микеланджело, что есть истина? В этом – великая, неисследимая тайна, или, как вы говорите, чудо… Мы оба жаждем его – вы по-своему, я – жадно стремясь постичь, добиться последней его разгадки… и это изменило бы всю мою жизнь… Пещера с серным пламенем… светотень… И это мое открытие у меня уже отняли, – говорят, недавно один венецианец по имени Джорджоне, попавший в Милан проездом из Болоньи, привез это мое наблюдение в Венецию и там применяет его… Да мне что за дело? Я раздаю все, что имею, лишь бы только добиться, лишь бы увидеть… посвятить этому искусство – не малая цена… а я плачу ее, знаю… но охотно плачу… лишь бы узнать…
– Мессер Леонардо… – прошептал Микеланджело, наклоняясь к нему через стол.
Лицо маэстро было тихо и грустно, как те глади заморских вод, подобные омутам, вдруг обнаруженным в чужом краю, куда еще не ступала нога человека. Ночь была на устах его, он молчал.
– Мессер Леонардо… – просительно повторил Микеланджело.
– …потому что есть великое единство, вот в чем тайна, – вдруг тихо промолвил Леонардо, словно отвечая самому себе. – Еще тогда, в молодости, я чувствовал это, – в то время, когда старый ученый Паоло дель Поццо Тосканелли даром, из любви ко мне, обучал меня тайнам математики и пифагорейскому образу жизни… единство чисел, все – в одном неизвестном, которое, однако, можно установить… Жить в дисциплине, не есть мясо, не знать женщин, ни от чего не приходить в волнение, быть посвященным… Да, уже в молодости… тогда, у Тосканелли… а потом, позже… единство всех вер… тот раз, когда я хотел, воспользовавшись проездом через Флоренцию киррейского диодария, уехать на службу к египетскому султану… единство веры… мусульманская вера, Христова вера, древние мифы о принесении бога в жертву за человечество… все выходит из одной точки и возвращается в нее, подчиняясь тайне чисел… нет различия между добром и злом… ведь сама церковь поет так на литургии в страстную субботу: "Ille, inquam, Lucifer, qui nescit occasum" 1, – о Христе так поют… почему Люцифер?
1 "Вот Люцифер (Светоносец), говорю я, не знающий заката" (лат.).
Тут Микеланджело, напрягши всю свою волю, вскочил и распахнул двери.
– Уходите… мессер Леонардо!
Тот поглядел на него с удивлением, словно просыпаясь… Но достаточно было ему взглянуть на лицо Микеланджело, чтоб он сразу очнулся. Он встал, плотно закутавшись в свой длинный черный плащ.
– Вы наводите ужас, Леонардо…. – прохрипел Микеланджело. – Уходите! Я не хочу, чтобы вы после всего, что я сейчас слышал, оставались здесь здесь, где я живу… работаю… существую… где единственный мой кров и дом…
Лицо Леонардо искривила болезненная, горькая улыбка.
– Разве я сказал что-нибудь обидное? Не помню… Я сказал вам лишь сотую часть тех мыслей, которыми хотел с вами поделиться и ради которых пришел… И вы тоже будете считать меня колдуном, союзником дьявола, как другие, и для вас тоже я богохульник и нечестивец?
– Больше, чем богохульник и нечестивец, Леонардо… Уходите! Теперь я знаю, что нас разделяет…
– Я знал это раньше вас, – сказал Леонардо и, подойдя к нему вплотную, положил свою узкую руку ему на плечо. – Если мы теперь не сказали друг другу всего, твоя вина! Я ухожу, раз ты меня гонишь, такова теперь моя участь быть вечным изгнанником… Но и ты, Буонарроти, изведаешь эту участь… и никогда не забудешь меня и эту ночь…
– Не забуду! – воскликнул Микеланджело. – Всегда буду помнить, куда свалился бы, если б пошел по твоему пути…
– Свалился? – возразил с холодной улыбкой Леонардо. – О, счастливая вина, счастливое паденье! – так бы ты должен был молиться, как молятся священники. Без паденья не было бы искупления. Свалился? Куда? Разве паденье не ведет тоже на небо? А знаешь, о чем мы спорили по поводу Дантовых стихов, когда ты к нам подошел? О том темном месте в девятой песне "Рая", о терцине насчет превращения дольнего мира в горний… вот зачем я позвал тебя, Микеланджело, вот зачем: чтоб ты это объяснил!
– Уходи!
Микеланджело сжал губы, глаза его метали искры.
Еще раз скользнув по нему взглядом, Леонардо да Винчи промолвил:
– Я тебе много предсказал нынче ночью, Буонарроти, прибавлю только вот что: когда ты будешь умирать…
Но Микеланджело быстро захлопнул дверь и, задвинув щеколду, прислонился к двери всем телом, тяжело дыша. Лихорадочно горящие глаза его бегали по теням и зажженным свечам, по стенам и мраморным рельефам, по куче сваленных в углу комнаты расчерченных картонов, всюду…
Снова послышались тихие удары ладонью в дверь. Микеланджело схватился за горло, словно задыхаясь. У него кровь застыла в жилах. Удары возобновились. Гость, видимо, хотел договорить до конца. Микеланджело замер в ожиданье. Послышались медленные, тихие шаги вниз по лестнице. Неотступный все-таки уходил, тяжело ступая. Он был стар.
Микеланджело встал на колени возле стола, протянул на нем руки и, положив голову на столешницу, долго оставался так, не шевелясь.
Начало светать. Наступил новый день. С мучительным давлением в сердце, невыспавшийся, не поев, ослабевший и больной, Микеланджело подошел к забору возле Санта-Мария-дель-Фьоре, отпер калитку и засмотрелся на сверкающую статую. Его Давид почти готов, осталось немного. Камень ожил, это был уже не пролежавший сорок лет в земле мертвый болван, заваленный нечистотами и забытый. Он выпрямился и ждет того, кто в чешуйчатой броне каждый день на рассвете выступает из рядов неприятельских, чтобы в сознании своей силы и гордыни поносить сынов света.
Микеланджело снова принялся за работу.
В этом году, в середине августа, в ворота Флоренции влетел на измученном скачкой коне гонец с известием о скоропостижной смерти его святости Александра Шестого, который выпил по ошибке отравленное вино, приготовленное для другого, и по этому поводу Сангалло возликовал, крепко напившись цельного, ничем не подмешанного вина. Потом он стал жадно собирать все любопытные рассказы о смерти папы и усердно разносить их по городу.
– Испанец умер, – гремел да Сангалло, – с облегчением вздохнут теперь кардиналы, будут опять есть, как я ем, вволю, досыта, по-христиански, воздавая хвалу господу и не опасаясь папского милосердия. Вот увидишь, толковал он Микеланджело, – теперь выберут кардинала Джулиано, кряжистый дуб, а потом, милый мой, наступит наше время, ты непременно поедешь со мной в Рим, непременно, я представлю тебя святому отцу, и уж коли представлю я, который так укрепил ему Остию, что ни Александр, ни Сезар не могли ничего сделать, это будет тебе лучшим препоручительством. Конец теперь ослу этому Браманте! Я, Джулиано да Сангалло, перестрою Рим… и ты со мной, Микеланджело, ты со мной, станешь папским художником… Ну да, я отговаривал тебя от этого, но это было прежде, это при испанце, а теперь – совсем другое дело! Сдох бык Борджа, сдох и не встанет. Сезара бояться нечего!.. А знаешь, тело папы после смерти так распухло, что не влезало в гроб! А знаешь, какие грозные знамения были, когда он помирал? Сказать страшно! А знаешь, когда помер? Помер как раз в третью годовщину со дня убийства его любимого герцога Гандии, которого он хотел сделать императором. Говорят, герцог пришел за ним, весь в пламени…
Да Сангалло был не единственный, кто с увлечением разносил по городу слухи о страшной смерти папы. Все только об этом и говорили, это было как гром среди ясного неба. А новые сообщения были еще страшней первых, все они относились к покойнику, который к утру так почернел, словно должен был навеки оставаться окутанным тьмой, а искаженное лицо расплылось до неузнаваемости, так что даже близко стоящие не могли различить, где у святого отца кончается лицо и начинается горло, а тучное тело еще больше раздулось, так что втискивать его в гроб пришлось шестерым разбойникам, оттого что никто не хотел прикасаться к нему из страха перед моровой язвой. И не находилось никого, кто согласился бы провести у гроба ночь, было слишком страшно, и вихри, странные тени, огненные призраки и другие cose diabolice 1 множились без конца. Так что тело папы целых десять дней лежало в соборе св. Петра без отпевания, без свечей, без погребального покрова, без каждения, без пенья часов, без молитв, десять дней лежал там святой отец, всеми оставленный, "лицом черный, как эфиоп", без тиары, которая не уместилась в гробу, с головой, завернутой в дырявый ковер, пока наконец, из страха перед чумой, его не похоронили тайно и молча, без пения и без присутствия кардиналов, без колокольного звона и процессии, поспешно и торопливо, – гроб перетащили веревками и сейчас же замуровали.
1 Дьявольские явления (ит.).
И невозможно было на чем бы то ни было сойтись относительно смерти папы. Одни утверждали, что он выпил по ошибке отравленное вино, которым собирался попотчевать кардинала Адриано ди Корнето, и повалился на землю, сраженный ядом, быстро распространившимся в его старом теле. А когда его перенесли на постель, вдруг из стены вышла большая черная отвратительная обезьяна и села к нему на постель, ухмыляясь. Но когда позвали телохранителей, чтобы те прогнали ее, папа закричал: "Lascialo, Lascialo! Ce il diavolo!" – "Оставь, оставь ее! Это дьявол!" А когда он скончался с пеною на губах, в изголовье у него встали семь страшилищ, и все присутствующие с страшным криком разбежались. Так говорили одни, которые присутствовали при его смерти.
Но другие возражали, ссылаясь на врачей, доказывавших, что святой отец умер от занесенной в Рим с понтийских болот лихорадки, от разлития желчи и удара. И, умирая, он все время молился, особенно святой Екатерине Сиенской, "этой бедной, слабой, но в то же время такой сильной женщине", которую он всегда почитал, а также пресвятой матери божьей. Он запретил детям своим подходить к его постели, не хотел ничего о них слышать, горячо каялся в грехах, долго исповедуясь епископу Пьеру Гамбо, а потом с великим смирением и сердечным сокрушением причастился святых тайн. После этого ему дали обычное в таких случаях лекарство из толченых драгоценных камней, но ему стало только хуже, и он стал громко взывать к богу. Тогда личный врач его, епископ Ваносси, предложил ему в качестве последнего средства то, которое было применено к Иннокентию Восьмому: вливание в жилы крови трех христианских детей. Но папа вспомнил, что Иннокентия Восьмого и этим спасти не удалось, хоть тогда употреблена была самая чистая кровь только что выкупанных младенцев, и решительно отверг предложение епископа, а потребовал, чтоб ему, вопреки всем обычаям, прочли песнь Якопо Тоди "Stabat Mater Dolorosa". Против этого стали возражать, как против нарушения церемониала, но папа так убедительно настаивал, что кардинал Иллердо послушался и начал читать. В эту минуту сообщили, что дон Сезар тоже умирает, выпив вина из того же кубка, из которого пил отец. Но его святость отнесся к этому сообщению равнодушно и сжатием руки попросил кардинала Иллердо продолжать. "О, quam tristis et afflicta…" – прочел проникновенным голосом кардинал, но тут святой отец, воскликнув громким голосом: "Не отринь меня, пресвятая дева, не отринь!.." – развел руки и спокойно испустил дух.
Так говорили те, кто стоял во время агонии на коленях у постели. Но народ смеялся. А памфлетисты слали в свои города письма об отвратительной черной обезьяне и семи страшилищах. А поэты сочиняли сонеты о погребении папы в аду. А духовенство верило тем и другим, – одни больше в просительный возглас к пресвятой деве, другие – больше в черную обезьяну, в зависимости от сана, бенефиций, пребенды, доходов. Так что в сообщениях о внезапной смерти папы не было единства, а тело его пролежало десять дней без молитв, священников и мессы, одетое руками шести нанятых для этого разбойников, праздно шатавшихся перед Ватиканом, и было похоронено, из страха перед чумой, ночью, тайно, без колокольного звона, без процессии, без кардиналов, гроб просто перетащили веревками.
Между тем дон Сезар невероятным усилием воли преодолел действие яда, приказав, чтобы его, голого, погружали поочередно то в распоротое брюхо мула, между горячими дымящимися кишками и внутренностями животного, то в ванну с ледяной родниковой водой. И уже на четвертый день он смог продиктовать письмо к командующему замком Святого Ангела о наведенных на Рим орудиях.
– Теперь хоть бегай по Ватикану огненный пес, хоть не бегай… говорил да Сангалло, – а испанец помер и тиару наденет кардинал Джулиано, кряжистый дуб! Ах, милый! Вот это хват! Старик, а хват! Кабы все в курии были такие! Так что сядет делла Ровере, племянник Сикстов, на папский престол! Бедный дорогой наш Лоренцо… Ничего-то не осталось от его жизни и творчества, от дел и мечтаний…
Микеланджело удивился, что да Сангалло, о горячей любви которого к Лоренцо Маньифико он хорошо знал, всякий раз приходит в такой восторг при имени главного Лоренцова врага – кардинала Джулиано. Теперь он спросил об этом. Сангалло гордо ударил себя в грудь.
– Я – кондотьер искусства… никогда не забывай об этом! Мне смешны венецианцы… но я строил в Венеции. Чем были для меня Павел и Иннокентий, похвалюсь ли я когда перед престолом божьим, что строил для пап? Нет, никогда не упомяну перед богом ни о папах, ни о кардиналах, епископах и аббатах, а ведь строил по их заказу. Я всегда презирал испанских Арагонцев… а видишь – строил в Неаполе. Не знаю больших варваров, чем французы… но они ко мне обратились, и я поехал во Францию, пускай, подумал я, узнают эти ослы, что такое настоящее, чистое искусство – ну, и поехал и строил во Франции, эти ослы глаза вытаращили, увидя, что такое настоящее искусство. Да, и во Франции строил, и не корю себя за это. Потому что настоящий кондотьер выигрывает сражения только для бога. И я тоже строю только для бога и его пречистой матери. А не все ли равно, кто платит? И ты научишься так глядеть, Микеланджело, и ты тоже… молчи! Чтоб мне не пришлось потом ни о чем напоминать, молчи лучше и верь тому, кто имеет опыт! Только для Борджа я никогда не строил, нет, для них – нет, это было бы уж слишком…
Они шли под похоронный звон. Архиепископ флорентийский, пригрозив смертными карами всем, кто будет распространять страшные сообщения о последних минутах папы Александра, служил в соборе торжественный реквием и с ним – каноники у всех алтарей. Колокола звонили, сзывая народ, а тот не приходил. Было много таких, которые говорили, что перед престолом божьим Александра ждет сожженный Савонарола, и украсили цветами место на площади Делла-Синьории, где находились Савонаролов костер и виселица. Храм был пуст, только священники в черных облачениях неслышно передвигались у алтарей, молясь за упокой души его святости. Потом в пустом храме послышался дрожащий старческий голос архиепископа, воспевающий входную молитву – о том, что горек удел смертный, но утешает обещанье будущего бессмертия, ибо tuis fidelibus, Domine, vita mutatur, non tolletur – жизнь верных твоих, господи, изменяется, а не отнимается… Одиноко разносился богослужебный напев, только статуи святых внимали ему, никого не было. Не пришли ни гонфалоньер Содерини, ни Синьория, ни Совет пятисот, ни члены Коллегии, ни патриции, не пришел и народ.
– Выберут теперь Джулиано, – ликовал да Сангалло под глухой погребальный звон, – и как только ты кончишь Давида, поедем мы с тобой, Микеланджело, в Рим, там тебя ждет великое будущее, увидишь, что мы там вместе сделаем, весь Рим перестроим, выживем осла этого Браманте, который ничего не умеет, весь мир, Микеланджело, будет говорить только о нас…
В тот же день пришло известие, что дон Сезар, вылечившись с помощью внутренностей животного, встал во главе двенадцати тысяч вооруженных, занял римские площади и все улицы, ведущие к Ватикану, и объехал, с вереницей своих знамен, всех испанских и французских кардиналов, требуя, чтобы папой был избран кардинал д'Анбуаз. Но Святая коллегия побоялась, чтобы в Милане королем был француз Людовик Двенадцатый, а в Риме папой – верный друг его, француз д'Анбуаз. Они сидели в конклаве бледные, растерянные, сжав губы, каменные статуи, никто не хотел говорить первый, на улицах гремели барабаны Сезаровых войск, фитили у мушкетов зажжены, – и в конце концов разрубили этот узел испанские кардиналы, но высказались они не за француза д'Анбуаза, а голосовали за Пикколомини, который и был избран папой.
Это был старик, стоящий одной ногой в могиле, безвольный и не способный принимать самостоятельные решения. Приняв имя Пия Третьего, он сейчас же после своего избрания собственным бреве утвердил дона Сезара в качестве высшего кондотьера церкви.
Кардинал Джулиано тотчас уехал в Остию.
СИКСТИНСКАЯ КАПЕЛЛА
– Так ты все-таки стал папским художником! – гудел да Сангалло, сидя против Микеланджело в своем любимом трактире у городской стены и наливая себе вина. – Как кончишь Давида, придется тебе потрудиться насчет выполнения договора, который ты заключил в Риме с Пикколомини на статуи для Сиены… Но я подожду, я верю в Джулиано, я не сдамся, так же как он, конечно, не сдался…
Микеланджело сидел и пошевеливал пустой кубок. Рядом сидел Макиавелли, читая книгу и по временам от души смеясь. Сангалло сердито повернулся к нему.
– Что ты там ползаешь по строчкам, гонфалоньер? Прочти вслух это место, чтоб нам тоже посмеяться!
Макиавелли поднял взгляд от книги и, с своей обычной легкой язвительной улыбкой, промолвил:
– Тебе это не доставит удовольствия, маэстро Сангалло. Наоборот, боюсь, ты еще больше рассердишься…
– Что это такое? – загремел Сангалло, хорошенько отхлебнув. – Новые законы и распоряжения, дорогой мой секретарь военных и иностранных дел, направленные против Медичи? Или это новый план военных действий против Пизы, мы окончим наконец эту бесконечную войну под твоим древнеримским руководством, консул республики, и ты снова справишь великолепный триумф, проехав на золотой колеснице от публичных домов возле Арно, через площадь Синьории, мимо всех трактиров – обратно к Олтрарно? Или, может, patres conscripti 1 по твоему наущению решили ввести новые налоги? Так я лучше с двумя своими остолопами прыгать на костре буду, чем опять платить городу…
1 Сенаторы (лат.).
– Это стихи, – сказал Макиавелли.
Лицо Сангалло вытянулось, – он так и фыркнул, прыснув вином.
– Ты читаешь стихи… и смеешься? Вот чему научился ты у дона Сезара, трибун наш народный? О чем они? О девках?
Никколо Макиавелли перевернул несколько страниц и промолвил со смехом:
– Я вам кое-что прочту, чтоб вас позабавить… Думаю, что от этого вино не прогоркнет.
И принялся читать обычным своим сухим голосом, безуспешно пытаясь декламировать звучно, взволнованно, патетически, отчего получалось еще смешней.
Это была "Траурная песнь", написанная Эрколе Строцци на смерть Борджа. Сперва плакала Рома, возлагавшая все свои надежды на папу Александра и на дона Сезара. Потом поэт вопрошал муз о дальнейших намерениях богов, и Эрато отвечала: Афина Паллада взяла испанцев, а Венера – итальянцев на Олимп, после чего обе направились к Юпитеру и, припав к его ногам, стали коленопреклоненно просить его. Он успокоил их, что хоть не может идти против выпряденной парками судьбы, но что обещанье, которое он дал, исполнится на потомке из рода Эсте-Борджа, сыне папской дочери монны Лукреции. После этого Марс отправился в Неаполь – подымать войну, а Афина Паллада поспешила в Нейи, где предстала в обличье Александра Шестого перед больным Сезаром и, передав ему сказанное Юпитером и утешив его, исчезла, превратившись в ворону…
– Стой! – взревел Сангалло. – Стой и дай сюда книгу!
И он могучим движением схватил ее и вырвал у Макиавелли.
– Я отплачу тебе за нее угощеньем! – захохотал он. – Это замечательная штука! Я научу своих болванов самым трогательным строфам и приглашаю вас нынче вечером ко мне на чтение, – провещал Сангалло. – Нума Помпилий с зашитой пастью будет декламировать за Рому, и я уже заранее вижу, как ловко у него получится. Тиберий своей мычащей глоткой изобразит Афину Палладу, а сам я прелестно сыграю Венеру. Обязательно приходите и тащите всех, кого встретите, будь это хоть сам архиепископ. Объявите по всему городу, что нынче вечером маэстро Джулиано да Сангалло, величайший архитектор Италии, который строил для королей, пап, князей, кардиналов, республик, но главное для бога, устраивает поминки по Александру Шестому и надеется на большее количество присутствующих, чем было на реквиеме в соборе. А потом мы все процессией проследуем к домикам в Олтрарно.
И Сангалло, хлопая книгой по столу, прямо покатывался со смеху.
Микеланджело ничего не сказал, продолжая шевелить пустым кубком. Ему больше не хотелось пить, и он молча глядел на Макиавелли, который с легкой улыбкой постукивал большими суставами своей сухощавой руки по столу. Микеланджело понимал его молчанье, но не понимал выраженья лица. Вдруг Макиавелли встал.
– Я приду, маэстро Джулиано, – промолвил он, – приду сегодня вечером, но сейчас должен идти. У меня есть еще одно важное дело…
Джулиано, затыкая книгу за пояс, резко прервал:
– Что такое?
– Да не любовное… – возразил Макиавелли. – Разговор с Леонардо да Винчи.
Джулиано удивился:
– Что у тебя за дела с Леонардо?
– Это идея Содерини, – ответил Макиавелли. – Гонфалоньер беспокоится, что Леонардо получает деньги из кассы Синьории, не неся никаких обязанностей. Он желал бы ввести какой-то учет. И вот через мое посредничество он хочет предложить ему принять участие в нашем походе против Пизы в качестве военного архитектора. Речь идет о том, чтобы отвести Арно в новое русло и, лишив Пизу воды, принудить город к сдаче…
– А что Леонардо? – тихо спросил Джулиано.
Макиавелли пожал плечами.
– Не то что согласен, а ухватился за эту мысль с величайшим восторгом.
Джулиано сжал свои огромные кулаки и процедил сквозь зубы:
– Содерини – глупец и плебей. Я всегда думал, что он представляет опасность только для города. Но теперь вижу, что дело обстоит хуже: он опасен и для искусства… Как по-твоему, Никколо? Ну разве Содерини – не осел?
Макиавелли ответил, улыбаясь:
– Я давно это знаю, но что могу поделать? Я, между прочим, сочинил про него четверостишие в виде эпитафии, которым можно будет воспользоваться, когда он умрет в изгнании. Вот что я сочинил:
Душа Содерини, покинувши тело.
К воротам ада с воплем прилетела.
Но с ней у Платона разговор был не длинным:
"Ступай в чистилище, к младенцам невинным".
Потому что душенька Содерини, без соли и без масла, лишенная настоящих желаний, как он сам, прямо создана для этого. И небо и ад для него – нечто слишком величественное и возвышенное. Пьер Содерини – ни рыба ни мясо, он владеет только тем, мимо чего великое прошло, не заметив. Бог проявит к нему милосердие и за его плебейские заслуги соблюдет его от великого и после смерти. Только лимб с некрещеными младенцами, душеньками без желаний, без своих собственных грехов и заслуг, – будет его владением, там только осуществит он себя как гонфалоньер несмышленышей.
Сангалло фыркнул в кубок, потом сказал:
– Ты всегда полон желчи, Никколо! Ядовитый и скользкий, как змея. Не хотел бы я стать твоей жертвой! Содерини – глупец, но ты не даешь ему покоя даже после смерти. А почему в изгнании? Что за несчастье пророчишь ты опять, филин? Тебе не по вкусу, что теперь мир? Ведь он пожизненно избран гонфалоньером за свои заслуги, – почему ж ты посылаешь его в изгнание?
– Он будет изгнан! – твердо и резко сказал Макиавелли. – Такие люди, как Содерини, не кончают с собой. Но такие люди, как Содерини, не сохраняют власть на всю жизнь. Он будет изгнан!
Сангалло пожал плечами.
– Мне все равно, где умрет Пьер Содерини, я надеюсь, что еще до этого перееду в Рим. Говорю только, что он – плебей и глупец. Как мог он стать гонфалоньером Флоренции? Человек, который считает деньги, выплачиваемые Леонардо да Винчи… который не умеет найти для Леонардо да Винчи другого занятия, кроме рытья нового русла для Арно… у которого Флоренция полна художников, а он не знает, что с ними делать!
– Человек… – подхватил Макиавелли, – который в такое время, когда создается новая Италия, только и делает, что листает книги, роется в законах, – дескать, создание новой Италии – законное ли это дело? Все у него должно быть по букве закона. В такое время, когда надо быстро и ловко действовать, когда очень часто все зависит от мгновенного решения, он прежде устраивает собрания, комиссии, совещания, заседания, говорит и заставляет других говорить, протоколирует и заставляет протоколировать, изучает разные мнения, проводит опросы, ставит на голосованье. Но события не считаются с итогами голосования, а голосованье в Совете часто не считается с ходом событий. Пока идет обсуждение, пало еще одно княжество, убит еще один союзник, история не стояла на месте и не заботилась о количестве поданных в ее пользу шаров. Пьер Содерини – приверженец актов, грамот, пергаментов, архивных полок и канцелярских свечей. И это – теперь, когда Флоренция могла бы стать первым государством в Италии!.. У нас во главе – приверженец большинства, голосований, совещательных налоев. Всюду после смерти Борджа хаос, новый папа бездарен, Орсини и Колонна опять быстро захватывают свои области, Милан держит под ударом Феррару, где хозяйничают французы, Неаполь стал испанской провинцией, Венеция ведет переговоры с Турцией, Урбино во главе со своим бездарным правителем герцогом Гвидобальдо утопает в сонетах и празднествах; теперь, когда Флоренция могла бы одним сокрушительным ударом сосредоточить в себе всю судьбу Италии, обеспечить Италии самое счастливое будущее, когда она могла бы затмить время Лоренцо Маньифико, нужно только руку протянуть… теперь во главе у нас человек, который сперва поставит на голосование вопрос о том, – если этот вопрос придет ему в голову, действительно ли такая возможность никогда, никогда для Флоренции не повторится и если ее упустишь, так это уж навсегда!..
Сангалло, внимательно посмотрев на его горькую улыбку, промолвил:
– Никколо, ты весь как клокочущий вулкан…
– Который никак не дойдет до извержения, понимаешь? – усмехнулся Макиавелли. – Столько правителей… и среди них – ни одного настоящего. Никто в Италии – от первого до последнего, – да, никто не знает, в чем она нуждается… только я. Не смейся надо мной, маэстро Джулиано, да, да, только я, сидящий здесь, в трактире у ворот, и собирающийся сейчас договариваться о рытье нового русла для Арно, целый день гнущий спину над ненужными актами, которые Содерини посылает мне для ненужного исполнения, а я кладу потом на архивные полки Синьории, в то время как события сыплются, как из рога изобилия, – и все государственной, государственной, государственной важности!
– Кто же ты такой, Никколо? – вдруг спросил Джулиано да Сангалло, глядя в его возбужденное лицо.
Макиавелли выпрямился и пошел к выходу. Только на пороге остановился и устремил на Сангалло острый взгляд пылающих глаз. Голосом, в котором слышались гордость и боль, который пламенел и жегся, как раскаленный стальной прут, он промолвил:
– Я – наставник, маэстро Сангалло, наставник правителей… в такое время, когда правителей нет.
И ушел.
После небольшого молчания Сангалло налил себе вина и тихо промолвил:
– Странный человек этот Никколо, правда, Микеланджело?
– Мучается… – ответил Микеланджело. – Тоже хочет творить, а не может, не дают ему… Вот он и мучается своим проклятым бессилием, он, в котором сила так и переливается и хочет выплеснуться через край. Ничего не может поделать…
– Теперь будет договариваться с Леонардо, который для Содерини не по карману… Содерини не желает, чтобы Леонардо получал деньги зря! Вот до чего мы во Флоренции дошли: художники должны будут представлять счета!.. Ах, где они, времена Лоренцо Маньифико, который полагал, что для чести и блага страны художники нужней чиновников и полководцев, окружал их большей пышностью, чем своих придворных, и предоставлял им полную возможность работать свободно, не зная никаких забот… А где времена Козимо Медичи?.. Теперь это уж похоже на сказку!.. Где они? Ты слишком молод, а я их очень хорошо помню… от этого теперешнее кажется еще хуже… Козимо Медичи, pater patriae, обрушился раз на Синьорию: "Дайте художнику время! Произведения художника должны сперва созреть, чтобы достичь вершины прекрасного! Только бездушный человек либо деревенщина может понукать художника, торопить его!.." Так говорил Козимо Медичи, а после него – Лоренцо Маньифико… А где времена божественного Гиберти? Пятьдесят лет кормили его флорентийские цеха, пока он окончил двери баптистерия, чудо искусства, других таких нет во всем мире…
– Достойные украсить врата рая… – прошептал Микеланджело.
– Да, – кивнул головой Сангалло, тряхнув своей могучей шевелюрой, других таких нет во всем мире, и когда-нибудь ангелы навесят их в райских воротах… Да, тогда понимали, как важно для художника – иметь время… А теперь! – Сангалло презрительно махнул рукой и громко плюнул. – При таких вот Содерини…
"У тебя будут рвать неоконченную работу из рук… – слышал Микеланджело тихий голос Леонардо… – Это для них – предмет торговли, а не искусства, они покупают наши имена, чтобы сейчас же выгодно их продать… вот их отношение к искусству: быстро купить и выгодно продать… и у тебя будут неоконченные произведения, и у тебя, Микеланджело… который меня за это корил…"
– Вести счеты с Леонардо! – ворчал сквозь зубы Сангалло. – Да разве можно оплатить его труд?.. Но Содерини этого никогда не поймет… Содерини… как это сказал Никколо?.. приверженец архивных полок и канцелярских свечей… чиновник, который хочет, чтобы у него все счета были в порядке… Пятнадцать флоринов в месяц. На месте Леонардо я давно бросил бы их Содерини в лицо… На, лопай, мужлан!.. – сказал бы я ему, это плата для моего дурака с зашитой пастью, а не для художника… Ты представляешь себе, Микеланджело! Старик Козимо и не подумал удерживать при себе Филиппо Липпи, несмотря на то что выплатил ему вперед большую сумму… Филиппо Липпи, беспокойная, горячая натура, не успел кончить один из многих уже оплаченных ему заказов, почувствовал, что его тянет в другое место, но когда на него пожаловались Козимо Медичи, тот сказал: "Оставьте перед ним двери открытыми! Художники – не вьючные животные! Их нельзя ни запирать, ни принуждать к работе…" Вот что приказал старый Козимо Медичи, так понимали нашу работу настоящие правители, князья, доброхоты и ценители искусства… И тогда можно было свободно творить великие, возвышенные, непреходящие произведения… А Содерини что? А ему подобные? Пятнадцать флоринов в месяц для Леонардо да Винчи из кассы Синьории, по его мнению, много… он, конечно, и это называет растратой казенных денег!
– Что делает теперь Леонардо? – прошептал Микеланджело.
Сангалло пожал плечами.
– Начинает… и не оканчивает. Начнет одну работу, сделает набросок… а потом вдруг бросает, чтобы на несколько недель заняться изучением птичьего полета или какого-нибудь вновь найденного скелета… Опять уходит с головой в математику, геометрию, изобретает всякие диковинные приспособления, забывая о набросанных картинах… Иногда, говорят, даже у его близких такое впечатление, что живопись ему в тягость. Это какое-то тяжелое ярмо, от которого хорошо бы освободиться… словно он считает ее чем-то второстепенным… дополнительным к его научным исследованиям… С самого приезда к нам он пишет картину с изображением святой Анны, для церкви святой Аннунциаты… к набросанной картине в процессиях паломничают, так она прекрасна… а ему и дела нет: месяцами к ней не притрагивается; теперь задумал строить улицы в два яруса, оба – с пешеходной и проезжей частью, предвидя, по его словам, огромное развитие городов и обезлюденье деревень, так он хочет, дескать, подготовить города к принятию такого количества народа… Вот чем забавляется! А в это время князья и герцогиня шлют ему умоляющие письма, чтоб он что-нибудь написал для них, по своему выбору… Напрасные ожидания! И портрет монны Лизы тоже не так-то скоро будет готов, главной задачей станет для него теперь – произвести расчет, как лучше изменить русло Арно, чтобы отвести реку от Пизы, и тогда город, оставшись без воды, сдастся на милость… кого? Содерини, который, как гонфалоньер, один пожнет лавры победы… за какие-нибудь пятнадцать флоринов в месяц! А ты слышал, что сказал Никколо? Ведь Леонардо с восторгом накинулся на этот план – и я верю: он такой!..
– Маэстро Джулиано, – после небольшого молчания промолвил Микеланджело. – Прости, что я так говорю, но… не надо смеяться над Макиавелли: он очень мучается…
– Никколо? – удивился Сангалло. – Я нынче уже второй раз слышу это от тебя. Замечаю, что он в последнее время язвительней и ожесточенней, чем обычно, но ведь он до сих пор никогда не сердился на шутки… Ты считаешь, отчего он стал таким? Оттого что Содерини не интересуется его планами и предложениями? Думаешь, его на самом деле так терзает бездействие Флоренции, тогда как, по его мнению, Флоренция должна взять на себя руководство всей Италией? Ты только представь себе лицо Содерини, когда Макиавелли в смиренной позе ничтожного секретаря начинает поучать гонфалоньера в таких вопросах… которые этому плебею и во сне не снились…
– По-моему, здесь дело не столько в Содерини, – прошептал Микеланджело. – Мне кажется, тут что-то совсем другое, что я могу доверить только тебе… Может быть, это дон Сезар, дело в том, что дону Сезару не удается осуществить свой план, несмотря на слабость Пия Третьего…
– Что ты говоришь? – изумился Сангалло. – Ты думаешь, что Макиавелли… и дон Сезар!
– Я думаю только то, – ответил Микеланджело, – что Никколо считал дона Сезара единственным человеком, способным руководить, по его выражению, этим стадом – толпами продувных, трусливых, подлых и сбитых с толку людей, которых только он может повести к определенной цели, к созданию великой империи, о которой Никколо никогда не перестанет грезить; понимаешь, только дон Сезар – правитель, настоящий князь, какого требует наше время, князь, а не государишка!
Сангалло взволнованно встал, прошел взад и вперед по трактиру, потом опять шумно сел…
– Не говори этого! – сердито воскликнул он. – Никколо не такой. Он хорошо узнал, что за чудовище дон Сезар. Ведь он сам присутствовал при убийстве кондотьеров в Синигалии и писал об этом Синьории…
– Сезар для него князь, – возразил Микеланджело, – я хорошо знаю, потому что Никколо так гнушается людей и думает о них так дурно, что одного только Сезара считает способным установить в охваченной разбродом Италии порядок, он сам не раз говорил мне об этом, я только не могу повторить точно его слова. А теперь он предвидит его падение – и это для Никколо страшный удар, все время чего-то искать, и всякий раз быть обманутым в своем ожидании, и при этом слышать стоны нашей страны, мечтать о былом ее величии и – никого не находить! Такого положения мы с тобой, маэстро Джулиано, не можем даже себе представить…
– Кровавый Валентино, герцог Сезар… и наш Никколо, тертый калач? загудел Сангалло. – Это ты мне славную новость преподнес! Но именно потому я не успокоюсь, пока его не вылечу! Если он придет нынче на мой вечер траурной декламации – а он, конечно, придет, – так услышит, кроме причитаний Ромы, Афины Паллады и Венеры, еще причитанье флорентийца Никколо Макиавелли…
– Не делай этого, маэстро Джулиано! – взмолился Микеланджело, кладя руки на его руки. – Ты никогда не делаешь людям зла. Зачем же хочешь сделать зло Никколо?
– Я это сделаю! – загремел Сангалло. – Именно потому, что люблю Никколо, потому и сделаю! Разве нет другого выбора, как только между Содерини и доном Сезаром? Уже такие времена? Но ведь есть еще Пьер, князь-изгнанник, Пьер Медичи, наша великая надежда!
Микеланджело улыбнулся.
– Это только твоя надежда, маэстро Сангалло. А Макиавелли никогда не пойдет за Медичи.
– Так я его заставлю! – стиснул зубы Сангалло.
Микеланджело поглядел на него с нескрываемой горечью.
– Лучше не будем говорить об этом… Насчет Медичи мы с тобой никогда не сойдемся. Оставим это, маэстро Джулиано. А если ты нынче вечером начнешь вышучивать Никколо, и он захочет отшутиться… я боюсь, как бы между вами не возникла вражда, которую трудно будет устранить, потому что его шутка была бы, конечно, злой… Ты сам говоришь, что он был нынче ядовитый, как змея, и ты не хотел бы стать его жертвой… Если ты станешь раздражать его сейчас, когда он так расстроен, ничего хорошего не получится. Но я тебя предупредил, и больше не будем говорить об этом! Займемся лучше Леонардо… Подлей мне!
– Ишь какой ты решительный! – засмеялся Сангалло. – Пей, милый, ты прав, отложим политику до вечера, до этого траурного празднества… А сейчас поговорим о твоей работе. Кажется, дело идет к концу?.. А что потом?
– Потом исполню заказ для Сиены… и, кроме того, я подписал договор с каноником Санта-Мария-дель-Фьоре на статуи двенадцати апостолов…
Сангалло возмутился. Загремев, он вскочил и крепко схватил Микеланджело за плечи.
– Ты спятил! – крикнул он. – Пятнадцать статуй для Сиены… двенадцать для Санта-Мария-дель-Фьоре… да когда же ты кончишь?
– Не знаю, – прошептал Микеланджело.
Сангалло рассвирепел.
– Ты очумел, над тобой все смеяться будут! Неужели ты не понимаешь, что действуешь бессмысленно, безответственно. Тут дела на всю жизнь хватит… а ты одним росчерком пера взял и подписал. Надо бы тебе сейчас вот здесь, в трактире, хорошую взбучку задать. Обязательство на двадцать семь статуй! Да про тебя будут говорить, что с тобой серьезного дела иметь нельзя! Это с твоей стороны скверно, просто даже недобросовестно…
Микеланджело пристыженно опустил голову.
– Ничего теперь не поделаешь. Уже подписал.
Сангалло ударил кулаком по столу и чертыхнулся так, что кубки зазвенели.
– Не справишься! Двадцать семь статуй! Ведь это значит: ни одной удачной! Надо сейчас же расторгнуть договор! А ты собирался со мной в Рим. Чтоб и там тоже осрамить меня? Ну как ты рассчитываешь выполнить свои обязательства? Мы живем не при Козимо или Лоренцо Медичи! А в Риме ты принялся бы заключать новые договора без всякого стыда? И к тому же у тебя нет ни одного подручного, ни одного ученика, ты все хочешь делать сам… И двадцать статуй – еще прежде, чем кончишь Давида! Тебе не стыдно? Совсем с ума сошел? Но коли сошел, так один только я буду знать, что ты не в здравом уме подписывал, а другие скажут: мошенник!
Микеланджело покраснел.
– Да, да, мошенник… так о тебе будут говорить, ведь каждому понятно, что невозможно заключить договор сразу на двадцать семь статуй – пятнадцать для Сиены, двенадцать для Флоренции! Немедленно от одного договора откажись, понимаешь, немедленно! А лучше бы всего расторгнуть оба! Как мог ты это сделать? Слушай, если кто в тебя верит твердо и безусловно… если кто доверяет тебе, так это я, который позвал тебя из Рима сюда для того, чтобы ты создал здесь лучшее свое, великое творение, посрамив всех, поднял забытый камень, на который не отважился такой ваятель, как Дуччо, я позвал тебя сюда, и я же хочу отвезти тебя обратно в Рим, к папскому двору, я верю в тебя, в твою работу, в твое искусство, но я же знаю границы человеческих возможностей, что – безумие или обман и что человек может осуществить на самом деле! А если ты не веришь и мне, если, может быть, думаешь, что мне не дорог твой успех, тогда очень жалко, что здесь нет Граначчи, – ты не застал его здесь, он пишет картины где-то в Болонье: он, твой приятель с юности, сказал бы тебе все это еще решительней, еще резче… Вот как с тобой обстоит дело, Микеланджело! И я вижу, к чему ты идешь… Сплошь одни неоконченные произведения, одно начатое, ничего завершенного, все брошено для чего-то другого – и одно хуже другого…
– У меня не будет неоконченных произведений!.. – побледнел Микеланджело.
– Будут! – воскликнул Сангалло в сердцах. – И все художники будут указывать на тебя пальцами, смеяться над тобой и над теми, кто принимал тебя всерьез, будут говорить: "Вот дураки, которые ему верили!.. Микеланджело, никогда ничего не завершающий, годами делающий одну статую, чтоб у него потом не осталось от нее даже модели…"
Микеланджело, с пепельно-серым лицом, сжал руки:
– Никто не имеет права так обо мне говорить!..
– Будут так говорить! – пропыхтел Сангалло. – Будут так говорить, да еще назовут мошенником. Да ты вообще понимаешь, что это такое – двадцать семь статуй? Отдавал себе отчет, подписывая договор, что это значит создать их на самом деле? Задавался таким вопросом? Несчастный тот человек, который никогда им не задавался. Рассчитываешь чего-то добиться ложью? Самообманом? Мошенничеством? Ловкостью рук? Подделкой? Двадцать семь статуй! Верю, что ты их начнешь, но – начнешь, и только! И никогда не закончишь, никогда! А это величайший позор для художника – начинать, все время только начинать, все время что-то новое – и ничего не кончать, великая неспособность достроить здание, и таким ты будешь – на посмешище всем!
– Маэстро Джулиано… – с трудом произнес Микеланджело, – мне надо… я не виноват, что такой… но мне надо иметь перед собой всегда либо сверхчеловеческую задачу, либо никакой…
– Но пойми же! – закричал Сангалло, ломая ему руки выше локтей. Двадцать семь статуй – это может быть сверхчеловеческой задачей и для ремесленника, и для каменотеса, а ты сделай пусть только одну, в которую ты вложишь все свое лучшее, которая тоже была бы для тебя сверхчеловеческой задачей. Откажись от этих договоров, Микеланджело, откажись! Поверь мне, я старый, опытный человек, всегда хотел тебе добра и сейчас хочу добра… И что только толкнуло тебя на такое безумие?
– Тень… – промолвил Микеланджело.
Сангалло поглядел на него с недоумением.
– Тень… – повторил Микеланджело глухим голосом. – Когда-нибудь я расскажу тебе об этом подробней, маэстро Джулиано, а сейчас еще не могу. Но некоторое время тому назад ко мне пришла тень, которой я с детских лет боялся… Понимаешь, это был величайший ужас моего детства… Еще ребенком я со страхом ждал, как бы она не появилась на самом деле… не только в виде тени… Я лежал, закинув руки за голову, глядел во тьму между стропилами над собой, на чердаке, где я спал, и вдруг это появлялось, вставало в углу мансарды, большое, черное, бесформенное… медленно ползло к моей постели, на которой я метался, лепеча слова молитв, – страшно было не то, что оно вдруг бросится на меня, ко мне на постель, а в этом медленном подползанье… Вот оно уже возле меня… расплывшееся, разросшееся, огромное… Да, так было с самого детства… Я чувствовал еще ребенком, что она когда-нибудь придет… и в часовне Санта-Мария-дель-Кармине, во время копированья фресок в пустом храме, я этого боялся… Все были связаны одними неразрешимыми узами тьмы… Я так читал… И вот он пришел… пришел и проклял меня богами своими… Нет, я не брежу, маэстро Джулиано… он в самом деле был у меня ночью, неотступный, неотвязный, искушающий… и в то же время печальный, как только дьявол умеет быть печальным… "Что такое истина?" – спрашивал он меня с горькой улыбкой… И еще говорил: "Мы два отшельника, Микеланджело, как бы мы могли понять друг друга!.." Так умеет говорить только дьявол-отшельник… И много другого говорил еще об искусстве, о нашем времени, о тайнах, о жизни, о красоте и улыбке мгновений… Призрак, черный призрак у ворот ночи… был у меня… Я запретил ему, только когда он повел речь о моей смерти… Довольно того, что он наговорил мне перед тем… И он прибавил: "Хотелось бы мне поговорить с тобой, когда тебе тоже будет пятьдесят лет!.." Что же он – верит или знает, что я тоже когда-нибудь ослабну?.. Неужели я никогда от него не избавлюсь? Да, я знаю, он придет еще… на самом деле придет, когда и я буду старик и надо будет подводить итоги… Придет и потом… я знаю… Ничто не нарушало глубокой ночной тишины, среди которой мы сидели друг против друга – безнадежность, страшная, отчаянная безнадежность, мертвые омуты загадочных вод в незнакомых краях, соблазняющие золотой и голубой поверхностью, – голос морока, голос темнот, который я слышал в страшные ночи свои еще ребенком, еще мальчиком… "Я вижу тебя всегда, – говорит голос, – вижу тебя всегда, и не скрыться тебе от меня и при дневном свете, вижу тебя и в полдневном солнечном сиянье, и в полночь, не скрыться тебе от меня, придет день – ты узнаешь меня до конца…" Была ночь, я услыхал тихие удары ладонью в мою дверь… сказал себе: "Разве я отмечен?.." – и открыл… Он вошел, закутанный в длинный черный плащ, как сама ночь… Бежать было некуда… Он долго говорил о жизни и искусстве, печальный, тоскующий, тихий, страшной отчаянной безысходностью веяло от каждого его усталого движения, от его печальных, чужих рук… таких худых и надушенных… говорил о тайнах, о мертвых пещерах с серным пламенем… передо мной появились глубокие тихие омуты, только броситься в них, изнемочь, отказаться от всего, сладко утонуть, оставить эту кровавую борьбу, заснуть в этих волнах… он говорил тихо, словно засыпая… Все выходит из одной точки, и все в нее возвращается… Существует великое единство судеб и чисел… чистая пифагорейская жизнь без женщин, без страстей… Он был тягостней тьмы… И движенья его изнемогали, словно он был связан узами тьмы… Он говорил… нет разницы между добром и злом… между верой в бога и науками язычников… все выходит из единого и возвращается в единое… Христос-Люцифер… это было страшно… немыслимая, невообразимая жизнь… Лучше сразу покончить с собой, чем жить под бременем такого познанья… Тень…
Обессиленный, он умолк и провел дрожащей рукой по влажному лбу.
– Великан, возникший из египетской тьмы… И я решил убить его камнем… работой… Двадцать семь статуй, говоришь ты с ужасом… но если бы кто предложил мне в те дни заключить договор на сотню статуй, я подписал бы все… Все!.. работать, делать, творить, понимаешь, маэстро Джулиано, все время творить и творить, отдавать себя, всего себя раздать, не дать говорить материи, как она сама хочет… нет, а раздать свое собственное сердце, впечатлеть его в камень, еще горячее, творить вот так, из собственного нутра… не из нутра материи… оттого что тогда мне пришлось бы снова бояться мертвых глыб и не верить им… но это было когда-то, еще до того, как я узнал, что должен делать, как указывает сердце, не выражать чувственно только то, что хотят сказать свет, краски, форма, камень, а выражать то, что хочет сказать моя душа… моя собственная душа… Творить, творить, творить, оканчивая, не отбегать все время от работы за новой тайной… а знать одну-единственную тайну: искусство… Творить до головокруженья, а если хочешь – так загнать себя до смерти, но творить… а не так, как эта тень, убивающая все своей мучительной жаждой, пройти мимо добра и зла…
Сангалло положил ему руку на плечо.
– О ком ты говоришь? – спросил он.
Тишина.
– А… что было потом? – прошептал Сангалло.
– Он проклял меня богами своими, – ответил Микеланджело. – Сказал: "И через паденье можно попасть в рай, счастливая вина! Тебе же хуже, что ты не хочешь, чтоб я открыл тебе все…" Так сказал он и прибавил: "Много я предсказал тебе этой ночью, но скажу еще: когда ты будешь умирать…" Я выгнал его, и он ушел так, словно привык, чтоб его гнали отовсюду. Но на лестнице повернул обратно и стал опять тихо стучаться в дверь. Была ночь.
Сангалло задрожал и стиснул Микеланджелову руку.
– Это было давно?
– Перед тем как я подписал договор на статуи двенадцати апостолов для Санта-Мария-дель-Фьоре. Я когда-то знал одного старого нищенствующего монаха, он говорил мне: каждый христианин должен бы выбрать себе особым покровителем какого-нибудь из апостолов. О них написано, что они будут судить двенадцать колен. Тогда б он призывал не только своего заступника, но и будущего судью. Так говорил мне тот старый монах. И я уже начал ваять одного из них…
– Еще не окончив Давида? – вырвалось у Сангалло.
– Да, – кивнул Микеланджело. – Святого Матфея…
Они встали и пошли. Всю дорогу молчали. Но при прощанье Сангалло сжал руки Микеланджело и загудел:
– Многое теперь мне уже ясно, милый, но… Я ведь все-таки знаю границы человеческих возможностей и боюсь за тебя. Я больше не корю и не браню тебя, а только прошу: расторгни один из этих договоров… Это невозможно? Я понимаю, знаю, вижу. Но знаю также, что человек может выдержать… Я много строил, работал, – когда-нибудь расскажу тебе… А сегодня обещай мне: расторгни один из этих договоров. Хоть этот папский, сиенский…
– Если я увижу, что правда не справляюсь, то один договор расторгну, маэстро Джулиано! – сказал Микеланджело.
После этого они простились, и Микеланджело долго глядел на его могучую фигуру, медленно, важно удаляющуюся и отвечающую небрежным, величественным кивком на почтительные поклоны встречных.
Микеланджело вернулся в свое одиночество. Но так как надвигался вечер и падали ноябрьские сумерки, его охватила щемящая тоска. Все помутилось мрамор и мысли, вечер и сердце. На улицах свистел холодный осенний ветер, принося и разбрасывая груды листьев из садов, стены дворцов стали вдвое голей и унылей. По улицам шли редкие прохожие, они спешили, словно оставив где-то свои человеческие лица. Всех их где-то ждали, где-то там для них были приготовлены стол, тепло, улыбка, постель. Четыре стены с послушными, прирученными предметами. Ветер мчится по улице, и она словно вернулась в прежнее время, когда он ходил этой дорогой с Граначчи, с фра Тимотео или с Аминтой. Эти камни стоят, а с ними и время, ничто не возвращается, не течет, и ты останешься опять одинок, невыразимо одинок. Останешься живым, сопровождаемый всеми тенями, приставшими к тебе еще в блужданьях по Медицейским садам, в сумраке переполненного храма, где бушевали и кровоточили слова Савонаролы, во время езды в Венецию по сожженному краю, в Болонье на черной глине пьяццы, в темных римских переулках, по которым ты шел, думая о двух письмах, каждое из которых означало смерть, тенями вечера у Санта-Тринита с группой купцов, спорящих о темной терцине из Данта, тенями отовсюду. И вечно будешь мучить сердце и дух свой тем невыраженным, которое будешь всегда слышать в себе и видеть перед собой, засыпая и просыпаясь, и чему никогда не сможешь дать форму, чего никогда не выразишь. Оттого что в душе у каждого человека есть вещи невыразимые и тяжелые, которыми охотно поделился бы с другими и которые не имеют выраженья: оно еще не найдено. Холодный камень вокруг, ветер свистит, золотые и красные листья несутся по слякоти улиц, а он стоит здесь, забытый, словно не имея имени.
Он пошел. Вечер стоял широким сводом, красота города была затуманенная и хрупкая, ноябрьская. Морщинистые улицы были зарешечены тенями, в церквах отдыхали алтари и молитвы, никто не поднимал на их лестницы дорожного посоха и четок слез, чтобы пронести это через всю свою жизнь. Колокола уже спали, но стояла такая тишина, что еще был слышен их звук, давно уже отзвучавший. Так дошел он до Арно. Лунные блики ныряли в волны, но не расплывались, резко обозначенные, твердые, сверкающие и осенние, словно из блестящего металла. Ворон тьмы замахал над рекой длинными крылами, рябя ее засыпающий мир и покой. Вода уходила, словно дорога вдаль, и он глядел на нее, – что ты хочешь от меня, река? Что ты хочешь, тень, выступившая из нее и наклонившаяся ко мне? Мои мысли уже спокойны, может быть, я нынче засну…
Тут он подумал, до чего перемены в жизни происходят скрыто и незаметно, не явно, а в глубокой тайне, и мгновенья их могут казаться будничными, обыденными, и только потом с изумлением видишь, что это не был тогда обычный день в твоей жизни, а торжественная, возвышенная минута, прошедшая тихо и скрыто, а ты не понял… Ты еще ничего не подозревал, а жизнь твоя была разрублена надвое, то, что было, никогда уже не повторится… а все будет другое… Где отыскать мост? Как связать былое с тем, что наступило?
Когда он изменился так, что теперь самому себя не узнать? Да он ли это? Он обращается к себе, а ему отвечает кто-то другой, и, как у многих, у него тоже есть дни и периоды, когда ему остается только забыть свое имя. Он пошел по берегу Арно. Сумрак сгущался, волны реки сливались с тьмой, не было берега на другой стороне, не было другой стороны, – волны и тьма. Ноябрь.
Тогда… тогда тоже был ноябрь, когда он первый раз бежал из Флоренции, спасаясь от призрака мертвого Лоренцо Маньифико, приходившего предостерегать, – бежал, спасаясь от всех видений, являвшихся вокруг и внутри него… Был ноябрь, шел частый дождь, все было мутным и седым от дождя, а потом вдруг все озарило солнце, осушило кусты, зажгло пожар в садах…
Был ноябрь. А Кардиери тогда плакал. Он не хотел бежать с ним, не хотел оставлять Аминту, – Аминта никогда не пошла бы добровольно в изгнание, она ждала, глядясь в зеркало, подарок философа, она выбросила увядшие цветы под дождь, она всегда представляла себе любовь иначе, всегда одна, даже когда сильней всего любила – одна… И Кардиери плакал. Был ноябрь.
Волны Арно выходят из тьмы и уходят во тьму, они видели пожары, передвижения войск, плен, они приняли в себя сновиденья утопленников, они идут и идут, приняли пепел Савонаролы, идут и идут, приняли гниющие останки казненного Джакомо Пацци, который призывал дьявола в свой смертный час, идут и идут, из тьмы и во тьму, над ними мчится холодный ветер, ворон тьмы машет длинным черным крылом…
А тогда было солнце и шепот трав, когда он ходил тут с Аминтой, губы которой были горьки, которая ни о чем его не спрашивала, он вернулся из Болоньи, весь израненный, она поняла все и ни о чем не спрашивала, впустила его тогда ночью, когда он постучал, и он вошел, не зная, куда скрыться от своей боли, открыла ему, не спросила ни о чем, только губы ее были еще более горькими, но ему как раз эта горечь и была сладка.
Сколько раз потом ходили они вместе по берегу Арно ясным солнечным днем, он ваял тогда святого Иоанчика для паука – Лоренцо Пополано, она ничего не говорила, не осуждала, была тихая, проникновенная, руки ее все время что-нибудь хоронили, глаза ее были умудренные, понимали каждое движение его губ, они ходили долгие часы вот так, вдвоем, молча, это были прекрасные дни, солнечные, а потом она вдруг угасла… Но тогда она еще была жива, тогда еще говорила ему: "Я полюбила тебя, Микеланджело, за твое прямодушие и твое детское сердце, ты пришел безоружный к волкам".
Волки! Нет, это была не Аминта, это была та, другая… Белый жемчуг в волнистых черных волосах, глаза фиалково-голубые, древняя, наследственная и хрупкая, накопленная столетиями красота, ты никогда не хотел от меня ничего, как только видеть меня, никогда передо мной не хвалился, вот, мол, как я, человек из праха и глины, могу ваять людей из мрамора и бронзы, никогда не говорил мне, что я красива, никогда не просил меня подарить тебе любовь и ночь…
Волны и тьма, тяжкий суровый ноябрь, тосканский край без далей и берегов. Волны идут из тьмы и во тьму, тогда был тоже ноябрь, и Кардиери плакал. "Не покидай меня, Микеланьоло!" Так он просил. А позже Граначчи говорил: "Не убегай от меня опять, Микеланджело!.." Но я должен был. Должен был дальше и дальше, за своей участью.
Оставь меня, дай мне вернуться к своей судьбе, вернуться к своей жизни… и это я слышал. И пошел. Волны, волны идут, я встретил ее, наклонная башня была высокая, над ней шли тучи, и казалось, башня валится на нас, чтоб похоронить навсегда, она шла рядом со мной, будто была по-прежнему прекрасна, нимфа Аретуза. Я знаю, что где-то там, не у нас, ты был остановлен любовью, молчи, не говори мне ничего, эта любовь была, наверно, печальна, если ты вернулся один и вернулся так… Вот что она сказала мне, был ясный полдень, благоухала трава, небо было светло-голубое, может, это был только сон, она пришла, словно ожившее изображение с какой-нибудь старинной фрески, я чувствовал ее тепло и словно призрачные руки в моих ладонях, это был не сон, это была действительность, я наклонился к ее волосам, вдохнул их благовонье и грусть, мои губы блуждали в них, в твоих волосах, о любовь, вечно нетленная, но это был только сон… Потом она назвала меня по имени, это была действительность, не сон, и я попросил, чтоб она повторила. Она тихо произнесла: "Микеланджело Буонарроти". Что она этим хотела сказать? Просто назвать мое имя? И промолвила: "Ты сперва солгал о своих скитаньях, – я догадалась по твоему виду, – говоря, что был в Лукке, Сиене, Венеции, Риме, это обозначало, что ты был только у нее. Но если ты много любил, то поймешь, почему я нынче все рассказала тебе о Кардиери, я очень любила его, больше, чем всех остальных, а все-таки как будто его никогда не было. Ты когда-нибудь поймешь, Микеланджело. Это не был воскресный день любви, он не скрывал от меня ничего, он любил меня больше жизни, но я не могла иначе… Ты тоже когда-нибудь так поступишь…"
Мы шли, нам встречались разные люди, живописец Лоренцо Коста, кондотьер Оливеротто да Фермо и много других. И когда мы дошли до той вон излучины Арно, она мне сказала: "Существует великая, безмерная любовь, но и она не вырвет нас у нашей судьбы, не освободит от нее, мы всегда возвращаемся к нашей собственной жизни", – так сказала она мне вот здесь, у Арно, и улыбка ее была горька.
А потом наступила та ночь, жестокая ночь после встречи с болонскими купцами в трактире у стен, я вышел, шатаясь, как слепой, у меня было такое чувство, словно я убил ее тем, что не дал ей маски и плаща и не бежал с ней, – вышел, шатаясь, как убийца, как безумец, пришел к ней, вернулся к ней, не зная, где скрыться, она отворила мне, ни о чем не спросив. Она знала все. "Пойдем, – сказала она, – у нас есть дом".
Нет, это было не так. Но если я что и позабыл, то только не маску.
Арно! Дикий поток взметающихся темных волн, вот здесь она, наверно, много мечтала о своей великой любви, о Граначчи, нимфа Аретуза превратилась в подземный источник, они встретились где-то там, в глубине, слились вместе там, внизу, где нет солнца, в темнотах, в подземелье, а потом выбились на поверхность вместе, одной великой рекой…
Арно! Дикий поток взметающихся волн, облитых холодным ноябрьским лунным светом, – без берегов, без границ, – волн, катящихся вдаль… Ворон тьмы, перелетая, машет крылами над этим большим кладбищем.
Если бы был здесь Граначчи! Но он давно уж в Болонье, и я с ним здесь после своего возвращения из Рима не встречался. Пишет картины, не творит, пишет – и за то благодарен богу. Граначчи, который хотел, чтоб силой молитв изменилась любовь. Девы скал с терновыми венцами на головах. Сбереги мне Аминту! Это будет вечно терзать…
А как он отнесся к известию о казни Аминты? Он был еще здесь. Навестил он ее в тюрьме?
Разорванное горло, растерзанное хищными волчьими клыками. Удавленное горло, стянутое крепкой петлей в руках палача. А я ушел…
Здесь ходил я с ней, здесь, вдоль Арно, с монной Кьярой, с Кьярой Астальди, княгиней болонской. И горечь губ ее была мне сладка. Руки ее как будто все время что-то хоронили, умудренные глаза видели мои ошибки и метанья, она молчала или говорила о других – о Торнабуони и остальных…
Потом Рим. Триумфальная арка Тита, к которой прилеплена высокая разбойничья башня баронов Франджипани. Страшные, зловещие знаменья в воздухе и на небе, "Пьяный Вакх", бог, который пошатывается, девушки, танцующие среди роз, ослепительная белая гладкость тел – и тело, полное тины, разлагающееся, гнилостное тело будущего императора, вытащенное со дна Тибра. Круг сужается.
Я работаю. И мое имя навсегда останется высеченным на ленте скорбящей Матери, я отдал его только ей, и она будет знать его, пока его не произнесут на Страшном суде. Оно врезано так твердо и надежно, что она никогда не утратит его и никто никогда его не сотрет.
Какой это был путь – от смеющегося "Фавна", которому я выбил зубы из-за насмешки Лоренцо Маньифико, до Рима, до собора святого Петра, к моей Пьете! Мне двадцать восемь лет… это до сих пор я? Называю себя – слышу только имя своего забвения.
Волны, волны, волны. Волны тьмы, волны Арно, волны времени. Все – без границ, без берегов, без конца, из тьмы во тьму, вдаль.
"Ты не справишься с этой задачей! – слышу грохочущий голос, заглушающий эту тишину. – Это было безумие, ты начнешь и никогда не кончишь… двадцать семь статуй!"
Да, это было безумие, я поступил необдуманно, но то были дни, когда, если б мне предложили заключить договора на сто статуй, я подписал бы. Потому что ко мне приходила тень. И придет опять. Обещала.
Волны Арно, волны тьмы, волны времени… и волны протяжно гудящих колокольных голосов. Сперва он в изумлении остановился, словно под влиянием яркой звуковой галлюцинации. Но опять услыхал то же самое – и так внятно, что ошибки быть не могло. Была почти уже ночь, но звонили колокола всех флорентийских храмов, и металлический голос их сливался с ноябрьской ночью, с шумом воды, разносимый ночным ветром, – рос, становился могучим, затихал, уходил, приближался опять, вся Флоренция взывала своими колоколами, вопияла их голосом к небесам, и снова звук тяжело падал на землю, ночные колокола бушевали на всех башнях, били, гудели, ночь отвечала протяжным отголоском, колокола, колокола, колокола…
Он побежал по улицам. Всюду встречал он группы горожан, выбежавших из своих домов, одетых наспех, растерянно перекликающихся, это был не набат, а звон торжественный, величавый. Колокола гудели с колоколен, и колокольни гудели вместе с ними, ночь полнилась колоколами, во всех окнах горел свет, а на улицах – факелы.
Дойдя до дома Сангалло, он увидел хозяина, бегающего перед дверью в лихорадке восторга. Оба его слуги стояли оторопелые у выхода, с светильниками в руках, и возле них – группа известных патрициев, шумно ликующих, словно хлебнув лишнее, – видимо, гости Сангалло, слушавшие траурную декламацию. Среди них был и Макиавелли, тихий и молчаливый, с книгой эпитафий Эрколе Строцци, которую он смущенно держал в руках.
Увидев Микеланджело, Сангалло рванулся к нему и сжал его в объятиях.
– Habemus papam! – закричал он изо всех сил. – У нас есть папа, ты знаешь об этом? Вот уж не ждал, что мой поминальный пир так окончится! У нас папа, новый папа! Только-только, вот сейчас ночью, пришли первые сообщения… Пий Третий умер, папа – уже не Пикколомини, он помер, правил ровно двадцать пять дней… старый, больной человек, плохой выбор сделали испанские кардиналы, помер он у них… И тотчас после его смерти был созван конклав – самый короткий из всех, какие были… Он длился минутку, и знаешь, кто был избран? Кардинал Джулиано делла Ровере! Мой дорогой Джулиано! Мой Ровере! Кряжистый дуб! И принял имя Юлия Второго! Избран быстро и единогласно, все тридцать семь кардиналов голосовали за него! Наконец-то дождался! И я вместе с ним! Микеланджело! Микеланджело! – ликовал Сангалло, обнимая его, отбегая прочь и вновь возвращаясь к нему, как помешанный. Микеланджело! Теперь будет Рим – и какой Рим! Рим Юлия Второго! Совсем не похожий на то, что было! Его святость напишет мне… и я возьму тебя с собой! Весь Рим будет наш! Конец Браманте этому с его сбродом! Мы, мы вдвоем, Микеланджело, мы двое и третий – он, он, Юлий! Дождался-таки. При Сиксте ждал, при Иннокентии ждал, при Александре Борджа ждал, при Пие ждал… и дождался в моей укрепленной Остии! Вот видишь… А помнишь, что я предсказывал, еще когда мы встретились после твоего возвращения из Болоньи? Он будет, будет папой, сказал я, не сдастся, выиграет этот бой, придет день – сядет на престол, ничто не удержит… И вот уже – папа, Юлий Второй! Наконец-то папа без сыновей, без племянников, без умыслов создать империю! Наконец-то папа, который знает, в чем сейчас нуждается церковь! Юлий Второй! Он сметет теперь все следы Борджа, казнит Сезара, опять наведет порядок в церкви, непременно наведет, ей-богу, наведет, кряжистый дуб мой, он не только папа-молитвенник, он еще и воин, – все это он осуществит, вот увидишь! Готовься к отъезду, милый, папское послание придет с минуты на минуту… И мы тотчас в путь! В Рим, где будет легко дышать, где кардиналы не будут умирать ни от шпанских мушек, ни от папского милосердия, где не будет адских наваждений, – в Рим, очищенный от испанцев, поповских содержанок, от Борджа, от всяких родственников, сыновей, племянников… Совсем, навсегда подох бык Борджа, с избранием Юлия Второго навсегда околело кровавое Борджево чудовище, говорят, дон Сезар – в ватиканской тюрьме… Микеланджело – Рим!
Освободившись наконец от его объятий, Микеланджело подошел к группе патрициев, обсуждавших вопрос о том, где закончить этот веселый вечер. Они громко приветствовали его, дружно смеясь. Улицы были полны народа. Всюду огни – на улицах и в окнах. Колокола ликовали на всех колокольнях, гудящий голос их плыл в ночи, – они ликовали, пели. Микеланджело искоса кинул взгляд на Макиавелли. Тот стоял в сторонке, глядя на огни и движенье. В руке он по-прежнему, – видимо, сам того не замечая, – держал книгу с эпитафиями Эрколе Строцци. Губы его были сжаты. И в свете факела Микеланджело заметил, что он страшно бледен – до белизны.
А колокола гудели.
Потом они перестали гудеть, наступили обыкновенные дни. Сангалло тревожно бродил по городу в ожидании папского гонца. А того все не было. Только пришло известие, что Юлий Второй выпустил дона Сезара из Ватикана, после того как тот отдал все завоеванные им города. И дон Сезар, не сдаваясь, сел на корабль, плывущий в Неаполь, чтобы скрыть там свои приготовления к новой войне. Он был торжественно, с почетом принят испанским вице-королем, старым военачальником Гонсало де Кордова, который когда-то сдал ему Капую и выдал короля Фредериго. Возрадовался дон Сезар, получив ручательство дружбы и поддержки, ручательство, которому он доверял, так как военачальник Гонсало де Кордова, истребитель мавров, командир отборных испанских полков, под названьем tercios, светило военного искусства, трижды за ночь встающий на молитву, дал ему в свое время ручательство предать в его руки короля Фредериго, и было тогда четыре тысячи убитых, не считая женщин, которые бросались со стен, только чтоб не попасть в руки победителей. Поэтому поверил дон Сезар рукопожатью местоблюстителя Гонсало де Кордова, но на другой же день был схвачен, закован и посажен на корабль, плывущий к испанским берегам, в Пампелуну.
Юлий Второй очищал церковь и Италию.
А Микеланджело кончил статую Давида. Был конец декабря, перед самыми святками, когда гонфалоньер Содерини объявил, что придет за ограду у Санта-Мария-дель-Фьоре – посмотреть статую, потому что за четыреста золотых, в которые обошлась Синьории эта статуя, следует прежде всего показать ее гонфалоньеру, а потом уж другим. Статуя стояла готовая, отклонить посещение было уже невозможно. Микеланджело попросил было Сангалло принять участие во встрече Содерини, но потом порадовался, что маэстро с чертыханьем отказался. Потому что теперь с Сангалло лучше было даже не разговаривать. Он ходил злой по городу, не имея ни минуты покоя, и то и дело хмуро поглядывал на ворота. Папский гонец все не приезжал… а был уже конец декабря.
Из Рима пришли новые вести. Юлий Второй взял в руки меч и направил его острие против всех, рассчитывавших воспользоваться падением Борджа, чтоб расхитить последние владения церкви. Он нашел папскую казну пустой и Церковное государство в развалинах. Тогда папа надел броню, но не стал садиться на белого иноходца, употребляемого только при торжествах, коня-старца, привыкшего носить старцев под балдахином, а оседлали папе боевого коня, привыкшего к битвам, и папа, в шлеме и боевом снаряжении, выехав перед ряды своих войск, дал приказ к выступлению. И рухнули укрепления мятежных городов под ударами папского меча, и страхом пахнуло на всех от этого тиароносца, который, в шестьдесят лет, ночует со своими войсками в мороз и бурю под открытым небом, не боясь тягот войны, человека с изборожденным морщинами грозным челом, с орлиным взглядом острых глаз, неутомимого в труде и сражениях, кидающего свои силы на непокорных, восстанавливая былые, почти забытые границы Церковного государства. Один военный поход следовал за другим, не успевали опомниться, как папа опять уже стоял у ворот, – он угрожал не интердиктами, так как не желал, чтоб города наполнялись некрещеными и непогребенными, чтоб народ жил без месс и таинств, и не отлучениями, а острием меча и орудиями своих войск. Для кого добывал он города, княжества, государства? Было известно, что у него нет ни сыновей, ни племянников, а сам он – старик, равнодушный к богатству и роскоши. Папа отвечал из своей ставки: "Церковь только одолжила, а не даровала вам власть, светские правители, и теперь она требует ее обратно, ибо вы оказались недостойными этого благодеяния; расхищая ее владения, одеяния и драгоценности, вы хозяйничали ради своей пользы, не думая о том, что грабите достояние божие. Я пришел покарать непокорных служителей, забывающих, что светская власть их – лишь слабый отблеск бесконечного могущества церкви. Святая мать наша церковь вверила вам народ свой и богатство свое, уступила вам часть своих правомочий, приблизив вас таким путем к алтарям, как никого из своих подданных, но вы, преисполнившись гордыни и алчности, забыли о том, что вы – только ленники царя небесного и его видимого наместника на земле, не пожелали дать отчет в правлении своем ради оказанного вам милосердия, так давайте его теперь под угрозой меча".
Так писал старик в тиаре и броне, и над ним уж не смеялись, потому что тотчас вслед за его посланиями гудели шаги папских отрядов, вооруженных копьями, мечами, аркебузами и пушками, грохотали барабаны папских войск, во главе их выступал папа, его молитвы и славословия заглушались походными военными песнями, рушились непокорные стены и падали башни, бежали князья, становились на колени у разбитых ворот синьоры, покорно отдавали ключи и учились понимать смысл слов, произносимых папой: "gens sancta, regale sacerdotium" – "священный народ, царственное духовенство".
Не сразу давалось это понимание после правления Борджа, но старик никому не предоставлял особенно много времени. Либо покорись добровольно и отдай требуемые области, либо будешь покорен по-военному. Шептали даже о том, что папа точит меч и против испанца в Неаполе, и против французов в Милане,- тайно распространялся его призыв к изгнанию "варваров из Италии".
Так что во многих городах колокола трезвонили уже не торжественно, не во славу, а били в набат. А во Флоренции опять стали благовестить, сзывая в храм, на молитву. Но долго ли это продлится?
Был морозный декабрьский день, когда Содерини с небольшой свитой пришел к Санта-Мария-дель-Фьоре, где его почтительно ждал Микеланджело. Гонфалоньер был невысокого роста, коренастый, с сухим, пергаментным лицом, и глаза его все время мигали, словно от непривычки к дневному свету. Лоб его между густыми щетинистыми бровями прорезали две морщины. Он шел гордо, потому что всегда ходил так, опираясь на длинную черную трость, сопровождаемый не придворными, а чиновниками, которые шли за ним, сгорбившись и махая рукавами плащей, словно большие птицы – бессильными, сломанными крыльями. Они почтительно скучали, идя смотреть статую, за которую город заплатил четыреста золотых теперь, когда так нужны деньги на новые вооруженные отряды против Пизы. "Художественные причуды опять вошли в моду, – шептались они. Содерини – великий человек, он хорошо делает, поддерживая этих художников, в городе будет одним беспокойным элементом меньше, и забудутся времена Лоренцо, по прозвищу Маньифико". Они шли за Содерини, осторожно ступая между осколками мрамора, сберегая обувь, сберегая слова. Содерини, опираясь на высокую черную трость, коренастый, строгий, шагал впереди.
Вот он увидел статую. Мрамор пятиметровой высоты горел белым огнем на зимнем солнце. Обнаженный Давид глядел вдаль, готовый к бою. Праща покоилась у него на плече, свешиваясь на спину, вот-вот он одним движением сдернет ее, вложит камень. Это не Донателлов нежный, полудевический-полумальчишеский Давид в пастушьей шляпе, фигура танцора, левая рука в бок, маленькая нога попирает отрубленную голову – как бы украшение победителя. Это Давид призванный, знающий свое предназначенье, выступивший затем, чтобы смыть позор и сразить чудовище, понимающий, что это будет бой не на живот, а на смерть. Он внешне спокоен, но все его обнаженное юное тело дрожит от внутреннего напряженья, каждый мускул налит силой, которая брызнет в одном ударе. Поза спокойная, не выдает волненья, решительная, драма его – внутри, в сердце. Только глаза говорят об этом, наморщенный лоб да сжатые руки. Мальчик превратился в героя, он идет защищать себя и всех сынов духа и света от великана насилья и тьмы. Великан был во всеоружии, во всей силе и всей надменности, и вызывающая насмешка его и броня были броней и насмешкой захватчика и насильника. А у Давида ничего нет, он все снял с себя, стоит обнаженный и почти безоружный, – только праща да камень. Выпрямился и ждет.
Содерини засмотрелся на статую в изумленном молчанье. Это было совершенно не то, чего он ждал и что ему случалось видеть прежде. Прежде всего, многого не хватает: головы Голиафа, меча, улыбки победителя. Этого высокого обнаженного юношу можно назвать кем угодно, но только не Давидом. И все же гонфалоньер чувствовал, что всякое другое название было бы неправильным, ложным, это не кто иной, как именно Давид, юноша, выступивший, чтоб победить, – только Давид, хоть и без меча, улыбки, отрубленной головы великана и других атрибутов. Содерини чувствовал, что должен что-то сказать, все равно – осудить или похвалить, но как-то выразить свое отношение и не просто как зритель, а как человек, оплативший заказ. Он смотрел и думал. Почтительная свита стояла позади, изумленно глядя на мрамор. Это не Давид, это Гигант, – зашептали одни, а другие растерянно замахали крыльями.
Содерини несколько раз с важным видом обошел вокруг статуи, оглядел ее внимательно со всех сторон и наконец промолвил:
– Это лицо… Микеланджело Буонарроти, тебе не кажется, что лицо немного неподвижно? По-моему, это оттого, что велик нос…
По свите в черных плащах пробежал почтительный шумок. Содерини, видимо, ждал этого одобрительного шелеста, так как кивнул головой и прибавил:
– Может, сумеешь поправить?..
Микеланджело молча взял резец, поднялся по лесенке к голове статуи и там несколько раз легонько ударил, не прикасаясь к камню. С лесенки и с лесов просыпалось немножко мраморной пыли.
– Стой! – воскликнул гонфалоньер, поспешно подняв трость. – Довольно! Так великолепно. Теперь лицо прямо ожило.
Микеланджело, не сходя с лесов, зажмурил глаза. Словно исчезли года и в благоухающих Медицейских садах стоял пятнадцатилетний подросток перед глыбой нечистой материи, откуда улыбалась голова фавна, первая его работа. "Полубоги так не улыбаются… – слышит он голос Лоренцо. – И потом… у старых людей не бывает всех зубов… тебе бы надо это поправить…"
Балагурство! Балагурство! Ухмылка! Насмешка! Всегда будет так. И он схватил тогда резец, ударил молотком и разбил "Фавну" рот, так что смех фавна превратился в ухмылку флорентийского купца, у которого пропала либо жена, либо деньги. Правитель хотел шутки и получил ее. Но потом камень отомстил мне. Я лишился носа.
И теперь опять сухой, хриплый голос гонфалоньера: "У этого лица великоват нос… Стой! Вот теперь сразу ожило…"
Микеланджело стоял с закрытыми глазами. Да, всегда будет так. Что Лоренцо Медичи, что плебей Содерини, все это – те, остальные. Я хочу им дать все безраздельно, самое возвышенное, а они хотят – чтоб ухмылка. Ну и получили. И будут получать. Вместо статуи Данта… снежного великана. Осклабленная пасть "Фавна" с выбитыми зубами. А теперь, махнув резцом в воздухе, изобразив удар, скинув горстку мраморных осколков с лесов, я оживил лицо Давида. Оживил нос.
Содерини остался очень доволен.
– Слезай, Микеланджело Буонарроти, – ласково промолвил он. – Работа хорошая, хоть он и голый совсем. Эта нагота немножко портит дело, он слишком уж голый, а ты не должен забывать, что вокруг статуи будут прогуливаться и молодые особы, стыдливые девицы, – видно, тебе не хватило камня, не удалось кое-что прикрыть… Ну, не стоит подымать сейчас спор, да и стыдливые девицы выходят когда-нибудь замуж, теперь – не времена Савонаролы, не каждую девушку ждет монастырь… Работа хорошая, Микеланджело Буонарроти, и я рад, что мы заказали тебе, а не маэстро Кантуччи Сансовино, который хотел к испорченному камню добавить еще один, целый, и таким способом выйти из положения, – это, конечно, обошлось бы дороже. Ты уже получил плату? Ах да, вспоминаю, получил, за деньгами приходил твой отец, это хорошо, что ты так заботишься о семье, чтоб ей не жить за счет города. Хорошая работа и хорошая идея. Давид… символ флорентийской свободы! Потому что… – тут Содерини повысил голос, и почтительная группа чиновников поспешно приблизилась, чтоб лучше слышать, проявляя как можно больше внимания, – потому что мы окружены целым морем врагов, по сути дела, одиноки и безоружны и полагаемся лишь на помощь божью. Политика Флоренции – осторожная и мудрая, мы избегаем всяких необдуманных и недальновидных шагов, помышляя лишь о благе Флорентийского государства и о мире. Но как можно говорить о мире среди войн? До сих пор не покорена Пиза, а уж поднялись новые враги. Они нам не страшны, друзья! Будем, как Давид, решительно и твердо верить в право и справедливость, эти высокие нравственные ценности, с помощью которых он, орудие господне, защитил не только свою свободу, но и свободу своего народа. Мы никому не бросаем вызова, но и не отступим ни перед кем. Пусть всегдашней нашей мыслью будет: защитить свободу Флоренции от внешнего и внутреннего врага. Как это, спросите вы, разве и среди нас есть враги? Да, есть! Остались еще среди нас тайные приверженцы Медичи, презирающие власть народа и мечтающие о власти тирана. Благодаря богу их коварные расчеты все более теряют почву, так как, друзья, пользуюсь случаем, чтобы сообщить вам здесь, перед статуей Давида, этим прочным символом нашей свободы, радостную весть, полученную нынче моей канцелярией. Пьер Медичи, этот вечный зачинщик всех переворотов в нашем городе, источник беспокойства, справедливо изгнанный народом из страны, утонул во время битвы на реке Гарильяно. Он состоял на службе у Людовика Двенадцатого, наступал с французскими войсками против испанцев, обороняющих Неаполь, и погиб. Французы понесли в этой битве поражение, и Пьер Медичи во время бегства утонул. Таким образом, Флоренция избавилась теперь от трех главных своих врагов: папы Александра, дона Сезара и Пьера Медичи. Но подымаются новые. Поэтому не будем никогда забывать Давида, этот великий библейский символ доблести наших граждан…
Пьер! После ухода Содерини Микеланджело сел на балку лесов и, сложив руки на колени, предался своим мыслям и воспоминаниям. Пьер! "У меня три сына, – говорил Лоренцо Маньифико, – один умный, другой добрый, а третий глупец". Пьер, дикий и неукротимый Пьер, больше Орсини, чем Медичи, мечтающий о самодержавной власти, по примеру Арагонца, по примеру Лодовико Моро, Пьер – на коленях у постели умирающего отца. "Если кто из Медичи станет тираном, он лишится Флоренции. Теперь иди и молись". Пьер, смеющийся над тогами философов, тискающий женщин, восхваляющий меч. И был ноябрь, без конца лил дождь, Кардиери, смертельно бледный, рассказывал о появлении Лоренцо. Тогда еще правил Пьер; и правил сильной рукой, родных дядей смог заточить, раз они стояли поперек дороги, меч обеими руками держал, укрощая город. Но вот поднялся седой мрак у постели лютниста, и вышел из него Маньифико в плаще, какого не взял бы себе и бродяга, от него шел запах дыма и гари, взгляд его был невыразимо грустен и печален, волосы сожжены. "Пойди и скажи моему сыну, что он скоро будет изгнан и уж никогда, никогда не вернется. Это потому, что не послушался моих советов". Но Пьер пренебрег, вестник несчастья был избит и прогнан, как шут. "Неужели ты не мог убедить моего сына, что говоришь правду? – сказал Маньифико на следующую ночь, явившись в одежде, разорванной собаками и опаленной огнем. – Он никогда не вернется и погибнет не в сечи, а в волнах…"
Я тогда в смертельном ужасе бежал из Флоренции. Болонья. Церковная скамья, место отдыха изгнанников, бревно под голову и руки покинутых. Сумрак Сан-Доменико. Дикий, судорожный плач, молитва, в которой князь-изгой боролся с богом. Сетованья среди молчаливых каменных фигур святых. Рассказ изгнанника, стенанья беглеца. "Чего нужно здесь Медичи?" – крикнула Донателлова статуя Юдифи, взмахнув мечом и кинув отрубленную голову в бегущих. Звонили колокола, сбегался народ, град камней – в окна дворца, где стоял окровавленный кардинал Джованни, непрерывно крестясь. Рваный и ободранный, бросая преследователям перстни и драгоценности, – вот как Медичи бежал навсегда из города, который отец его когда-то сделал первым городом в Италии. "Пока буду жив, не перестану драться за тебя, моя Флоренция!.."
Сан-Доменико, тишина и плач. Опершись лбом на ребро скамьи, это плакал Медичи, это плакал правитель Пьер, – это мужчина плачет о Флоренции. Рваный и ободранный, ибо сон сбылся, он грызет свои кулаки воина, чтобы подавить плач, это всхлипыванья и рыданья человека в бегах, слезы человека, лишенного власти, вопль изгнанника и тоска тем более жгучая, чем родина прекрасней. На башнях черной Болоньи гудели колокола.
Потом Рим. Вечно пути твои будут скрещиваться с путями Медичи, Микеланджело. Перед дворцом Орсини ждали юноши с оружием и конями. Выбежал человек в панцире, громко смеясь. Снова с мечом. Смех и меч – то и другое подходило к Флоренции, все вскочили на коней и в карьер! Там ждали вооруженные отряды, передвигавшиеся только по ночам. Пьер! Все было подготовлено как нельзя лучше, казалось, ничто не может разрушить великий замысел… И вновь забушевал на кампанилах всполошный звон, вновь сбежался вооруженный народ, пьяньони разъярены до исступления, Пьер четыре часа не слезал с коня, дожидаясь у ворот, а стража смеялась над ним, грозя со стен кулаками… И вновь изгнан, отогнан от ворот.
А остальные поплатились шеей. Семидесятипятилетний старик Бернардо дель Неро, молодые патриции Лоренцо Торнабуони, Джаноццо Пуччи, всегда веселый Луиджи Камби, Франческо Ридольфи… и Аминта, танцовщица Аминта, всегда верная, всегда останусь медицейской, сказала она, а Пьер бежал…
А потом от отчаяния опять поступил на французскую службу. В чем ему не помогли Карл Восьмой, синьоры Бентивольо, венецианцы и Сиена, в том должен был теперь помочь Людовик Двенадцатый. Но и это оказалось напрасной мечтой, напрасным разочарованием, напрасными воинскими муками, напрасными несчастьями. "Передай моему сыну, что он больше никогда, никогда не вернется… и погибнет не в сече, а в волнах…"
Несчастная битва на реке Гарильяно. Погиб во время бегства. Утонул. Пьер в панцире.
Так что теперь главой рода Медичи стал Джованни, но он – кардинал…
А глава Флоренции – другой Пьер, Пьер Содерини, гонфалоньер несмышленышей, по выражению Никколо Макиавелли, который посылает его после смерти управлять некрещеными младенцами. В ушах Микеланджело снова прозвучал сухой, скрипучий голос Содерини. Политика Флоренции… власть народа… никогда не забывайте, друзья, Давида, символ мужества наших граждан… как ужасно, наверно, для человека с характером Макиавелли служить под таким началом…
Пьер! Знает ли уж Сангалло об этом? И как он к этому отнесся?
Он поднял глаза, и вот – Сангалло перед ним, словно явился по его зову. С ним еще кто-то, такой же могучий, громадный и седой. Микеланджело узнал его и радостно сжал его руку. Это был Джулианов брат Антонио да Сангалло, тоже архитектор.
"Нас – целое семейство Сангалло, – говорил маэстро Джулиано, – и все строители, ни папы, ни епископы уж больше не отличают нас друг от друга, только бог отличает, столько нас, строителей Сангалло, лучших архитекторов Италии, каждый настоящий мастер, не то что осел этот Браманте…"
Они стояли перед ним вдвоем, Антонио да Сангалло первый раз видел статую и был потрясен. Он еще раз пожал Микеланджело руку.
– Я только час, как приехал из Венеции, но брат тут же повел меня смотреть твое произведение, Микеланджело, – промолвил Антонио да Сангалло, встряхивая длинной седой шевелюрой. – Это прекрасней, чем я ожидал. Мне еще ни разу не приходилось видеть такой прекрасной вещи. Больше уж никто не отважится говорить здесь об античности: ты перерос всех античных мастеров, Микеланджело…
Антонио да Сангалло был старше брата, и глаза его сразу налились слезами. Это были большие, черные, искренние глаза, полные доброты и ума. Микеланджело покраснел. Похвала была прекрасная, так как маэстро Антонио слыл великим знатоком ваяния. Лоренцо Маньифико так ценил его, что всегда отводил ему почетное место за столом, по правую руку от себя. Именно Антонио да Сангалло однажды явился к Лоренцо Маньифико и растерянно сообщил ему новость, которую брат не хотел сам сообщать брату. Любовница младшего брата Лоренцо, Джулиано Медичи, тайно родила сына, у Джулиано теперь – незаконный ребенок. А когда горячо любимый Джулиано, во время восстания Пацци, был убит, Лоренцо, по просьбе, переданной опять через Антонио, взял принца в число своих сыновей, воспитал его в память брата, как родного сына, и это был Джулио, который потом так полюбил Микеланджело, что оба мальчика вместе ходили в Санта-Мария-дель-Кармине, Джулио, за которым маэстро Антонио никогда не переставал следить, рассматривая возложенное на него когда-то поручение как свой нерушимый священный обет.
Но кардинал Джованни Медичи разъезжает теперь с обоими юношами – родным братом Джулиано и побочным, Джулио, тоже рукоположенным в сан епископа, – по Англии и Германии и, наверно, не знает еще о смерти Пьера…
По дороге к местожительству Микеланджело, занимавшего теперь каморку в больнице Сан-Онофрио, толковали все время о статуе Давида, причем говорил, главным образом, маэстро Антонио да Сангалло, а Микеланджело делился с ним подробностями, относящимися к ходу работы. Джулиано шел, нахмурившись, и молчал. Микеланджело только перед Сан-Онофрио отважился заглянуть ему в лицо. И тихо промолвил:
– Ты уже знаешь о Пьере… маэстро Джулиано?..
Сангалло кивнул головой.
– Знаю, – мрачно сказал он. – У меня теперь только одна надежда и один государь – Юлий Второй. Больше никого не осталось, только он. И я жду. Он тоже ждал. И дождусь. Гонец его еще приедет за мной. Я понимаю, что у Юлия после интронизации много хлопот, но на зиму он вернулся в Рим и справляет там рождество. И гонец его, наверно, уже в пути…
На смену рождеству пришел Новый год, 1504 год спасения, а гонца от папы все не было. Между тем Содерини созвал художников на совет: куда поставить статую Давида? Пришли все, и первый – Леонардо да Винчи. Пришли и остальные приглашенные: старый Боттичелли, добрый Филиппино Липпи, Пьер ди Козимо, Лоренцо ди Креди, даже Пьетро Перуджино оставил свою мастерскую с приторными мадоннами, которых не успевали изготовлять ученики, в то время как он ходил между ними, придавая там и сям еще сладости краске и смеясь над глупцами художниками, зря теряющими время на изучение анатомии. Пришел архитектор Мончатто, Козимо Роселли, Антонио и Джулиано да Сангалло, золотых дел мастер Сальвестро, и только сели – пришел и сел среди них последний, еще весь в дорожной пыли. Это был Франческо Граначчи.
Сначала выступил первый герольд Синьории мессер Франческо, удививший собрание предложеньем поставить статую на место Донателловой "Юдифи". Все были озадачены. Предложение это было воспринято как официальное, как требование Синьории, но многим пришло в голову – зачем их, собственно, позвали? Что за этим предложением скрывается? "Юдифь" – это была защита от Медичи. Все зло, которое постигало Медичи во Флоренции, приписывалось зловещему влиянию этой статуи, и многие давно желали ее уничтожения, но Лоренцо Маньифико никогда не позволил бы уничтожить творение Донателло, даже если оно приносит несчастье. И ее спрятали в подвал, но потом народ нашел ее, поставил на место и под ней сделали надпись: "Exemplum salutis publicae" – "Пример общественного спасения". Отрубленная голова тирана…
А теперь ее надо убрать, чтоб дать место Микеланджелову "Давиду". Разве после смерти Пьера можно не бояться Медичи, разве "Юдифь" больше уж не представляет собой примера общественного спасения? Разве больше нет других Медичи? Главой рода стал кардинал Джованни, он спешит из чужбины в Рим… Но кто поймет нынче политику Содерини!
После того как герольд мессер Франческо окончил речь, другие стали робко выдвигать свои предложения, но мессер Франческо твердо и неотступно стоял на своем. Тогда поднялся Джулиано да Сангалло.
– Содерини знает толк в статуях столько же, сколько во Флоренции, он хочет то и другое уничтожить, – сердито начал он, не обращая внимания на растерянные, испуганные взгляды остальных. – Вы уничтожите "Давида", если поставите его на открытом пространстве, без защиты от бурь, вихрей и ливней. Эта статуя создана на века, а не ради политических замыслов гонфалоньера! Какое нам дело до Содерини? Вы спрячете "Юдифь" и этим сбережете ее, поставите "Давида" на ее место – и он будет уничтожен. Вот как понимает искусство Содерини. Я предлагаю поставить под Лоджией!
После этого встал Леонардо да Винчи и, перебирая узкой рукой свою длинную седую бороду, подробно, со знанием дела осветил вопрос о неблагоприятном влиянии атмосферы и метеорологических явлений на мрамор.
– Это такая прекрасная статуя, что другой подобной ей не найти во всей Италии, – сказал он. – Потомство никогда не простит нам, если мы своевольно выставим ее на гибель. Я присоединяюсь к предложению маэстро Джулиано да Сангалло.
Но они остались в одиночестве. Несмотря на проклятья и громыхание Сангалло, несмотря на авторитет Леонардо, никто не решился голосовать против предложения первого герольда Синьории, представителя Содерини – мессера Франческо. И было вынесено решение поставить статую на площади, на открытом пространстве перед Палаццо-Веккьо, как символ мужества флорентийских граждан. Там, где стоял снежный великан.
Статую доставили туда только в середине мая. Перевозить начали вечером, после "Ave Maria", во время которой все молились, стоя на коленях, – мастера и сотни рабочих. После чего статую подняли с помощью особого приспособления, которое нарочно для этого придумали и из могучих дубовых бревен изготовили маэстро Антонио и Джулиано да Сангалло, положили ее на смазанные жиром крепкие деревянные катки и поволокли по улицам. Путь от Санта-Мария-дель-Фьоре до Палаццо-Веккьо занял четыре дня. После доставки на место к статуе пришлось приставить караул, так как в первую же ночь ее забросали камнями. Поймали восемь парней, головорезов из Олтрарно, посадили их в тюрьму, где эти песковозы признались в том, что принадлежат к пьяньони, савонароловцам, которые считают удаление Юдифи началом подготовки к возвращению Медичи, что рассмешило Содерини. Но Содерини не хотел признать, что во Флоренции, помимо тайных приверженцев Медичи, есть еще пьяньони. Однако невозможно было скрыть наличие караула на площади возле статуи и утаить головорезов в тюрьме. Тут Содерини сообразил, что Давид ведь голый. И было объявлено, что парни из Олтрарно хотели разбить статую камнями просто из стыдливости, возмущенные ее наготой.
Статую доставили на площадь в середине мая. Но только в начале июня с великим трудом удалось поднять ее на предназначенный для нее пьедестал.
Давид встал и устремил взгляд на врагов в ожидании боя. И великан тьмы проклинал его богами своими. Давид стоял, дар и вызов, – уже не Дант, не снежный великан, а Давид, побеждающий камнем.
Молва о Микеланджеловой статуе пошла по всей Тоскане. Старые маэстро, качая головой, твердили, что ни Донателло, ни Верроккьо не снискивали такой славы, как этот молодой ваятель, ожививший мертвый камень, безобразный, забытый камень, сорок лет засыпавшийся мусором и грязью, изувеченный камень, испорченный, расколотый неосторожным ударом, камень, о котором даже прославленные, искусные художники твердили, что он ни на что не пригоден, из него уже ничего нельзя сделать. Но камень вдруг встал из земли, как стена, как кулак, против напирающей тьмы и хаоса, молоденький Давид, принявший бой и отвечающий боем.
Была весна, когда два всадника, быстро скачущих по римской дороге, говорили об этом.
– Ну, что ты там оставил? – спросил маэстро Джулиано да Сангалло.
Они выехали в Рим два дня тому назад, как только пришло папское посланье.
Микеланджело поднял голову.
– Уезжая первый раз, я оставил там, в Медицейских садах, свои девятнадцать лет, – а сады потом погибли в пожаре. Все сгорело: мои кустарники, деревья, аллеи, по которым я бродил, мои мечты, – я вернулся из Болоньи совсем другим. Что я там оставляю теперь? Неоконченную статую святого Матфея, картон в зале Синьории, Граначчи и несколько могил.
Сангалло сдержал бег коня, и некоторое время они ехали молча. Вокруг апрель, как тот раз, когда они встретились на дороге из Болоньи и впервые поехали вместе.
Весна.
– А правда… – начал после небольшого колебания Сангалло, – правда, что ты несколько месяцев тому назад хотел ехать в Турцию?
Микеланджело кивнул головой.
– Не стану скрывать от тебя: хотел. Понимаешь, тень! Я всегда буду сражаться с ней. Он когда-то хотел в Египет… а я теперь в Турцию, к султану. Я уж начал переговоры через францисканцев. Но потом все провалилось.
– Из-за чего?
Микеланджело прошептал:
– Из-за Граначчи… Франческо Граначчи…
– Дай бог здоровья славному Граначчи, – воскликнул Сангалло. – Он тебя отговорил?
– Нет, мы с ним мало говорили… Он, может быть, даже не знал об этом… Но однажды, гуляя по берегу Арно, в любимых моих местах, он рассказал о том, как в последний раз был у танцовщицы Аминты, знаешь, которую казнили, ты сам писал мне в Рим о ее смерти. Граначчи был у нее в тюрьме в ночь перед казнью… Он рассказал мне об этом… и это решило весь вопрос.
Сангалло посмотрел вопросительно, но Микеланджело нетерпеливо махнул рукой.
– Нет, нет, не теперь, маэстро Джулиано, когда-нибудь потом, в Риме, в одну из римских ночей… Ведь мы будем проводить там много времени вместе, там я смогу больше об этом рассказать, пойдем с тобой как-нибудь на Трастевере, – там есть место, которое я люблю больше всего на свете: Сан-Козимато…
– Я что-то не помню этого места… – проворчал Сангалло.
Галоп. Они опять погнали коней. Это маэстро Джулиано рвется вперед, кипя замыслами и энтузиазмом, – но Микеланджело – плохой спутник в этом долгом путешествии, он по большей части молчит, оттого-то Сангалло и спросил его, что он оставил во Флоренции, что так молчалив. Начатую статую… такой ответ был для Сангалло неожиданностью. Неужели Микеланджело еще не нарушил ни одного из этих несчастных договоров? Но сейчас – ни слова, он спросит об этом только в Риме, когда Микеланджело обратится к нему с просьбой быть свидетелем при заключении какого-нибудь нового договора. Начатую статую, Граначчи, несколько могил… что он этим хотел сказать? И картон!
Сангалло поспешил ухватиться за это, радуясь возможности о чем-то говорить.
– Прекрасная работа, милый, этот твой картон для зала Синьории! Вот видишь, ты поднялся-таки победителем по лестнице Палаццо-Веккьо! Прекрасная работа! Битва при Кашине – из Пизанской войны. Стоит мне зажмуриться, как она прямо у меня перед глазами… В жаркий день воины купаются в Арно, как вдруг – набат, враг налетает, воины впопыхах выбегают из воды, спешат одеться, хватают копья, латы, всякое оружие, голые и еще мокрые, разнообразнейшие положения тел, выпрямленных, стоящих на коленях, сидящих, убегающих, скорченных, падающих, борющихся… блестящий замысел, Микеланджело, и мастерское исполнение… но и переполоху наделало-таки! Не успели повесить эту вещь в зале, как начали приходить целыми группами… все эти художники… принялись изучать, только и речи что об этом, Бандинелли каждый день ходил, и Алонсо Беручете Спаньоло с ним, о Франчабиджо мне говорили, что он готов был прямо переселиться туда, дневать и ночевать там. А остальные? Россо, Матурино, Лоренцетто, Триболо, Якопо да Понтормо, Пьетро дель Варга – они целые дни простаивали перед картоном, изучая, срисовывая… Никогда не забуду того бледного малого с горящими глазами, – ну знаешь, Андреа дель Сарто, он стоял перед ним, как перед чудом, дрожа всем телом, проводил там все время – с утра до вечера, наверно, даже есть не ходил домой, с места не трогался, пока все не скопировал… И знаешь, что больше всего меня умилило? Когда пришел наш милый Филиппино Липпи, он уже кашлял, харкал кровью, ему нельзя было вставать с постели… а он все-таки пришел незадолго до смерти. Прекрасно ты это сделал, Микеланджело!
– Он приходил, чтоб предложить мне мир… а я хотел боя и вступил в бой. Я не хочу с ним мира! – прошептал Микеланджело.
Сангалло приблизил своего коня вплотную к его коню.
– О ком ты говоришь? Кто предлагал тебе мир?
– Он… – возбужденно ответил Микеланджело. – Он, призрак этот. Пришел тогда ночью и говорит: "Либо вступим в открытую вражду, либо заключим с тобой вечный мир, не можем мы жить друг возле друга все время настороже. Я за мир", – сказал он мне. Он. Великий и знаменитый. Которого называют божественным. И приходит, предлагает мир. Опять искушенье. Все, что он ни скажет, ни сделает, все – искушенье. Но я понял, что с ним нельзя заключать мир. Я выбрал войну. Она уже идет. Когда в мае ему заказали роспись в зале Синьории…
– Леонардо да Винчи! – воскликнул Сангалло. – Так ты все время о нем говоришь?..
– Да, – отрезал Микеланджело. – Леонардо да Винчи, и между нами страшная, глубокая, непреодолимая ненависть… причину которой я теперь знаю… и он тоже знает, и знал прежде, чем я… он сам мне сказал…
– Леонардо! – повторил в изумлении Сангалло. – Я об этом догадывался… Правда, сперва плебей Содерини поручил роспись зала ему… для того чтоб он как-нибудь оправдал свои пятнадцать флоринов в месяц, после того как замысел перекрыть Арно и отвести его в другое русло окончился таким позорным провалом… И Леонардо начал изображение борьбы за знамя с битвы при Ангиари, с победы флорентийцев над миланцами… начал и не окончил…
– А почему? – вскипел Микеланджело. – Почему? Ведь этого нашего боя можно было б избежать… По-моему, он сам вызвал меня, неожиданно бросив работу…
Сангалло пожал плечами.
– А что он когда оканчивал? Говорят, нашел у Плиния какой-то новый способ окраски штукатурки и решил сейчас же испробовать. И принес в жертву этому опыту свое произведение… Видимо, ему не было дела ни до произведения, ни до тебя… Он думал только об этом опыте… Наложил на стену слой гипса, написал часть фрески, потом разложил под ней большой угольный костер, – чтобы с помощью сильного жара высушить всякие примеси, которые он подбавил к краскам для получения особых, необычных оттенков. Да, огонь высушил нижнюю часть изображения, но в то же время расплавил верхнюю, откуда потекла штукатурка с краской…
– Вечно одно и то же! – воскликнул Микеланджело. – А искусство? Чем он был бы, если б искал только искусства? Он никогда ничего не окончил и не окончит, кроме портретов наложниц Моро…
– Это неправда, Микеланджело, – сказал Сангалло.
– Не окончил фресок в Синьории… ему не дороги они, не дорого искусство, ему важней произвести новый опыт, ты сам говорил. И тогда Содерини обратился ко мне. Я ни о чем не просил, ничего не домогался, я ваятель, а не живописец. Но когда мне предложили, принял. Принял, как вызов на бой – с ним. Между нами никогда не может быть мира!
– Но все-таки…
– Молчи! И его после этой живописи навещали, несмотря на такую неудачу… Мальчишка Рафаэль Санти, который чуть на колени перед ним не становится прямо на улице, сказал ему: "О божественный, этот Микеланджело недостоин развязать ремни у вашей обуви". Да, так сказал… Рафаэль!
– И тебе донесли? – тревожно покачал головой Сангалло. – Не верь Перуджиновым ученикам, мазилам этим. Я знаю, это они приходили и передали тебе Рафаэлевы слова. Ну когда Перуджино желал мира между художниками? Он греет руки на чужих ссорах…
– Мне нет дела ни до Рафаэля, щенка этого, ни до Перуджино! Мне важен он! Он тогда правду сказал: "Не только Флоренция мала для нас двоих, а весь мир!"
– Теперь во Флоренции не будет ни одного из вас. Ты едешь в Рим, а он…
– Тоже уехал? После позора с фреской?..
– Тоже уехал, – спокойно ответил Сангалло. – Из-за Содерини. Гонфалоньер очень обидел его: во-первых, урезал ему плату из-за неудачного плана с руслом Арно и этой растекшейся фрески, урезал из этих жалких пятнадцати флоринов… и еще велел, негодяй, чтоб остаток выплатить Леонардо… медью, медными деньгами! Тогда Леонардо собрал, вместе со своими учениками, столько денег, сколько получил из кассы Синьории за все время, послал Содерини и в тот же день уехал из Флоренции.
– Куда?
Сангалло пожал плечами.
– Скитаться… не имея пристанища… Может, к кому из учеников, вечный изгнанник он, Леонардо! Это тебе ничего не говорит? Твоя ненависть к нему не уменьшилась? Не забывай, что он единственный имел смелость поддержать меня, настаивая на установке твоей статуи под Лоджиями Деи-Ланци… "Я не знаю произведения прекрасней во всей Италии", – так заявил он на том совещании.
Микеланджело сжал кулак.
– Ложь! Ложь и ложь! – крикнул он. – Все время – искушенье! Не верю я ему, не верю.
– Вы еще, наверно, встретитесь…
– Да, наверно. И я хочу быть готовым!
Дорога в Рим. Апрель. Весна. Скачь и топот коней. Пейзаж изменился. Высокие пинии, кипарисы, пологая ширь Кампаньи. Развалины. Вечер. Они скачут уже по Виа-Аппиа. Виден Рим. Но ворота уже заперты. Привал вне стен. Край благоухает тьмой. Ночь. Микеланджело сидит у огня, не спит. Он оставил больше, чем начатую статую, Граначчи, могилу Лоренцо Маньифико, Аминты, Кардиери, мамы Лукреции, Филиппино Липпи. Где-то там, позади, лежит большой отрезок его жизни, словно унесенный в безвозвратное мутными волнами Арно. Но средь сумятицы волн стоит высокая снежно-белая статуя Давида, оплот против великана тьмы. Вот докуда дошел я от усмехающихся фавновых губ. Вот докуда.
А позади – жизни, смерть, работа, до того тяжкая, изнурительная, что сердце то и дело грозит разорваться от напряженья, позади множество несбывшихся мечтаний, двадцать девять лет жизни, позади все упоенья молодости, позади – кончина Лоренцо, молитвы фра Тимотео, беседы платоников, поучения Полициано, лихорадки, болезни, унесшие пепел Савонаролы бурные волны Арно, молчаливые взгляды Аминты и недавние слова Граначчи, река без берегов, без границ, из тьмы во тьму, из света в свет, позади – рваные лохмотья ужаса. А впереди – Рим. Вечный город, погруженный теперь во тьму. Рим, спящий каменный зверь, который с восходом солнца проснется и раскроет свою прожорливую пасть. Рим, город золота, роскоши, дворцов, крови и алтарей. Рим… и в нем, на ленте, протянутой по груди матери божьей, склоненной над замученным сыном, навсегда высечено его имя. Оно тоже ждет. А вокруг те, "остальные".
Ночь проходит, гордая и безымянная.
Вот открылись ворота. В город въехали на рассвете.
Но по дороге в Ватикан узнали, что папа служит нынче раннюю мессу в Сикстинской капелле, и отправились туда.
Микеланджело хотел посмотреть на Юлия Второго близ алтаря. И увидел.
Впервые стали они с ним лицом к лицу, но папа не подозревал, что Микеланджело стоит в толпе, незнакомый пришелец. Золото алтаря горело яркими отблесками огней, и сам папа, в лиловом литургическом облачении, – был весь в золоте и огнях. Микеланджело увидел старика, снявшего шлем и панцирь и надевшего богослужебные одежды, чтобы славить бога молитвами, а не мечом. Вокруг него кардиналы, усадившие его под балдахин, кардиналы, среди которых он узнал мертвенно-бледное, восковое лицо кардинала Риарио – он тоже в облачении, так как на этой мессе дьяконит. Папа встает, обращает свое сухое, морщинистое старческое лицо с короткой жидкой белой бородой к алтарю. Читается входная молитва. Нынче пост.
Сикстинская капелла. Не к статуе Давида, а вот куда пришел он теперь, в эти четыре стены с голым потолком, покрытым голубой штукатуркой. На стенах фрески Боттичелли, Синьорелли, Гирландайо, Козимо Роселли. Посмотрел на них – какие бессодержательные, серые! Он вдруг понял слова дяди Франческо тот раз, когда дядя заговорил о живописцах, которые изобретают и молятся только кистью… а не сердцем.
Да, нигде на этих стенах, нигде – не было сердца. Он смотрел, а от алтаря неслось пенье, и только сейчас до него дошло сладковатое благоуханье ладана. Сикстинская капелла, построенная папой Сикстом, величайшим противником Флоренции, ярым врагом Лоренцо Маньифико, с которым он неустанно боролся до последнего издыханья, напрасно разжегши мятеж Пацци… Почему именно здесь стоит он, Микеланджело, почему именно сюда привела его начинающаяся новая эпоха в его жизни, когда он оставил позади одни могилы и скалу, поднявшуюся, как кулак, против тьмы, почему именно сюда, – что это за новое странное знаменье?
Старец на папском троне читал молитву. Узкое лицо его – торжественное и тяжелое! Слегка запавшие глаза горели необычайным, неистовым огнем, палящим и пожирающим, перед этим взглядом содрогались города и правители, взгляд этот был страстный и жесткий, сокрушающий и разящий, но способный ободрить слабых, влить в них силу и энергию. Старик произносил слова медленно, важно, он молился. Шла месса.
Микеланджело тоже молился. Прииди, дух святой, да будет царствие твое… Единым словом, единым воздеванием руки держит этот старец века. И пока руки были простерты, народ побеждал, по Писанию… От великого потопа до царства духа, до господства третьей ипостаси, о которой в христианском мире чаще всего забывают, которая в пренебрежении, там – белая голубица!
Волны и столетия, могучие исполинские фигуры, все – от сотворения мира и до Страшного суда – здесь налицо, все на этом непрерывном жертвоприношении. Он засмотрелся в молитве на голубой потолок, на стену над алтарем и вокруг. Неужели никто не видит?
Плиты, апрельское солнце, золото и свечи, решетки, краски одежд, пространство, полное молящихся, – тех, что вошли в двери капеллы, и тех, для кого раскрылись свод и стены, чтоб они сошли вниз.
Сангалло, до того неподвижно стоявший на коленях рядом, вдруг наклонился к нему и дрожащими губами зашептал. И могучие руки его, сложенные для молитвы, дрожали. Микеланджело уловил только обрывки фраз.
– Ты этого не можешь знать… а я помню… я стоял прямо за спиной у Лоренцо… Санта-Мария-дель-Фьоре… на всю жизнь мне эти слова в память врезались… тексты… мы пришли в удивительный день… те же слова, тот же текст, та же месса… как месса Пацци…
Микеланджело побледнел и крепко сжал руки. Вечно будут знаменья, недоступные его пониманию, которых никому не постичь… Вечно. Он устремил взгляд на алтарь.
Иподиакон читал теперь библейский текст, был пост, и он читал из пророка Даниила:
– "И ныне услыши, боже наш, молитву раба твоего и моления его, и воззри светлым лицом твоим на опустошенное святилище твое…"
Капелла поставлена Сикстом и в ней при появлении Микеланджело читается тот же текст, что и на мессе Пацци! Что-то ждет его здесь?
В это мгновенье раздался звучный, торжественный голос кардинала Рафаэля Риарио:
– Sequentia sancti evangelii… 1
1 Святого Евангелия чтение (лат.).
Весь храм встал на ноги. Это было как буря, как глухое грохотанье, мужчины и женщины поднялись со своих скамей, чтоб внимать слову божию, поднялись одной волной, так что загудели стены капеллы, словно камни вот-вот рухнут на ожидающий народ. Огни свечей быстро заколебались от волненья воздуха, когда железо и мечи захрустели о дерево и камень, встали все, дворяне, бароны римские, патриции, купцы, простой люд, встало множество с гулом бури, и потом сразу волна вдруг утихла и замерла. Микеланджело встал вместе с остальными.
Кардинал Рафаэль Риарио, смертельно бледный, в лице ни кровинки, благовествовал Евангелие.
ЧАСТЬ ВТОРАЯ
ПАПСКАЯ МЕССА
Дохнешь дыханием своим – и возникнут.
И обновишь лицо земли.
Церковная молитва
ПОВЕЛИТЕЛИ НАД БЕЗДНАМИ
В середине марта жара стала нестерпимой; Рим, опаленный зноем, катившимся волнами по иссохшим, выжженным улицам, мертвенно синел под стеклянным небом, изливавшим пламя. Камни города становились мягкими и рассыхались, дома покрылись чешуями лысин и щербин, воздух стоял свинцовый, неподвижный и в то же время сероватый, как собачья шерсть. С потрескавшейся глины улиц вздымались вихри пыли, жгучей, словно падающий пепел, от которого резало легкие и глаза, жгло перепекшиеся губы. Уровень воды в Тибре понизился, вода издавала запах гнили и тины. Огромное кладбище памятников, статуй, терм, арок, руин, седых башен и укреплений выдыхало свою вековую затхлость на изнемогающую от жара и жажды окрестность. Небесные знаменья предвещали, что такое страшное парево в марте, какого не бывает и в июле, сулит Риму в этом году более раннее появленье лихорадок, болезней и громадной смертности, чем в другие годы, а когда было получено известие о возникновении большого морового поветрия в Ферраре, Рим содрогнулся от ужаса, и кардиналы, отказавшись от празднеств, стали поститься, сетуя на то, что папа не дает распоряжения о выезде вон из города.
Но Юлий Второй, казалось, бросил вызов даже солнечному зною, многодневному жару, всему этому марту с его мором и смертью. Привыкнув к лишениям, жажде, лихорадке и всем тяготам, связанным с жарой и капризами погоды, он не только не делал распоряжений о выезде за город, но, наоборот, запретил кому бы то ни было из курии без его распоряжения покидать Рим до пасхи. И все-таки иные надеялись, и тупое ожиданье их походило на ожиданье их мулов, которые стояли навьюченные на квадратных дворах дворцов, где листва деревьев сожжена солнцем, фонтаны высохли и их водоемы потрескались. Но папа Юлий Второй, бывший кардинал Джулиано делла Ровере от Сан-Пьетро ин Винколи, выезжал из Рима только для новых войн, а еще было время выступить против Перуджии и Болоньи. Пока все погибало от невыносимого зноя, он, наклонившись над широким столом, покрытым документами, длинными свитками географических карт, планов и договоров, готовил новые походы. Глубоко запавшие сверкающие глаза его легко проникали в сеть интриг, коварства и тайной вражды. Худые, жилистые руки тянулись через стол к распятию и опять возвращались в прежнее положение. Иллюминованный молитвенник покоился на ворохе военных сводов и донесений разведки. В положенное время он читал часы – между осмотром нового оружия, как умел читать их, сидя в седле боевого коня среди сражений. Жара за окнами полыхала пламенем, но старик этого не чувствовал. Страшная сила огня, горевшая у него внутри, поглощала все. Он ждал. Ему не страшны были ни свирепость солнца, ни гневное изумление Святой коллегии, и потому в мертвой тишине раскаленных дней кардинальский пурпур прилипал к хилым телам, с которых приходилось по нескольку раз в день смывать пот духами, все время возраставшими в цене. Уезжать из Рима воспрещено. Отряды папских войск отдыхали в тени садов и под соломенными кровлями трактиров, изнывая не от жары, а от мирного существования.
Прелату Теофило Капицукки, одному из секретарей Святой апостольской канцелярии, помнящему времена Борджа, этот мертвый Рим без празднеств казался теперь гигантским высохшим колодцем, где даже вязкая грязь отвердела и потрескалась от зноя. Он сидел за столиком, тяжело переводя дух от одышки и с трудом не давая глазам смыкаться. Воздух в Апостольской канцелярии был теплый, тяжелый, неприятный. Скрип гусиных перьев по пергаменту рьяно несся от всех столиков, над которыми горбились писарские спины, пропитанные усердием и зноем. Капицукки сонно прислушивался. Однообразный шелест пергамента усыплял не меньше, чем гнетущая истома. К скрипу перьев по коже присоединялся звук его одышливого дыхания. Еле слышно жужжало дрожащее парево.
Взгляд прелата медленно, лениво прошел по рядам писарей, которые кончат свой труд только поздно вечером, когда опустится прохладный сумрак и измученная земля начнет жадно пить холодную тьму. Тогда только он при свечах, во влажной свежести ночи, проглядит покрытые строками пергаменты, не пропущено ли какое важное слово, потому что это были документы великого значения, предназначенные для государей, епископов, аббатов и всего честного христианского народа – это были индульгенции.
Губитель непокорных городов, Юлий Второй укреплял основы Вечного города. И повелел государям всего мира отдать Риму свои сокровища. Рим, драгоценный камень божий, должен быть весь оправлен в золото. Он должен быть прекрасней всех городов христианских. Юлий читал Писание: "Ты говоришь: Я совершенство красоты! А пределы твои – в сердце морей. Строители твои усовершили красоту твою". Он думал при этом о Риме. И читал дальше: "Из Сенирских кипарисов устроили все помосты твои: брали с Ливана кедр, чтобы сделать на тебе мачты; из дубов Васанских делали весла твои; скамьи твои делали из букового дерева, в оправе из слоновой кости с островов Киттимских; узорчатые полотна из Египта употреблялись на паруса твои и служили флагом; голубого и пурпурового цвета ткани островов Елисы были покрывалом твоим". Он читал и думал при этом о Риме.
"Перс и Лидиянин и Ливиец находились в войске твоем и были у тебя ратниками, вешали на тебе щит и шлем. Сыны Арвада с собственным твоим войском стояли кругом на стенах твоих, и Гамадимы были на башнях твоих; кругом по стенам твоим они вешали колчаны свои; они довершали красу твою".
Перевернув страницу святой книги, он замечтался, думая о Риме.
"Фарсис платил за товары твои серебром, железом, свинцом и оловом. Иаван, Фувал и Мешех торговали с тобою, выменивая товары твои на души человеческие и медную посуду. Из дома Фогарма доставляли тебе лошадей и строевых коней и лошаков. Многие острова производили с тобою мену, в уплату тебе доставляли слоновую кость и черное дерево. Арамеяне за товары твои платили карбункулами, тканями пурпуровыми, узорчатыми, и виссонами, и кораллами, и рубинами. Иудея и земля Израилева за товар твой платили пшеницей, и сластями, и медом, и деревянным маслом, и бальзамом. Дамаск торговал с тобою вином Хелбонским и белою шерстью. Дан и Иаван из Узала платили тебе выделанным железом: кассия и благовонная трость шли на обмен тебе. Купцы из Савы и Раемы торговали всякими лучшими благовониями, и дорогими камнями, и золотом платили за товары твои… И ты сделался богатым и весьма славным среди морей…"
Думая о Риме, он растроганно повторил последнюю фразу святого текста. Но он добился тиары в шестидесятилетнем возрасте и знал, что близок к могиле.
Всякий раз, повторяя у вечерни псалом сто двадцать девятый, он думал о том, сколько лет ему дано еще прожить, и в эти уже недолгие годы старик, переживший суровые периоды борьбы за жизнь и престол, рассчитывал еще перестроить церковь и Рим, расширить и укрепить границы Папского государства, вырвать церковные лены у некоторых князей, а христианский люд у дьявола. Он спешил. Лихорадочно разрушал и лихорадочно строил, расточал благодеяния, не скупился на кары. Имя его было бичом, которым он хлестал противников по спине, так же как друзей – по лицу. Каждый изведал жгучесть ударов… Юлий Второй встает в бесконечной силе своего величия и налагает на весь мир обязанность: содействовать обновлению церкви и Рима…
Священники, художники, кондотьеры со страхом и тревогой толпятся в сенях его покоев, робкие, растерянные, и сразу замолкают: вдруг двери распахнулись, старик вошел быстрыми мелкими шагами и окинул огненным взглядом их коленопреклоненные ряды. Ему известна обязанность каждого из них, и он точно знает – выполнена она или нет. За ним стоит кардинал Алидоси, высокий, бледный, молчаливый, лицо полно глубокой, тяжелой думы, взгляд отсутствующий, обращенный в никуда. Преданнейший друг папы, прошедший вместе с ним через все муки, все изгнания, все происки Борджа, все опасности яда и кинжала, друг испытаннейший. Папа ничего не предпринимал без Алидоси, который всегда молчит, высокий и строгий, немой даже на зов своего собственного сердца. Только задумчивое лицо с резкими чертами да глаза выдают какое-то тщательно скрываемое страдание, тяжкую тайну в глубине души, неколебимо похороненную там ужасную загадку. Папа, немного сгорбленный, опирающийся на высокий посох слоновой кости, который служит и для величия и для расправы, выкликает коленопреклоненных по именам – так, словно из плотно сжатых узких губ его вылетают искры, словно он каждое имя высекает камнем из огнива, и они подходят принять новое бремя, новую кару, новую награду. И когда уж им показалось, что они заметили на морщинистом, высохшем лице его улыбку, сила его неожиданно прорывается наружу в страшной вспышке бешенства, которое, смяв, повергает их снова на землю. Юлий испепеляет их, кипит гневом, колотит посохом слоновой кости по их согбенным спинам, он ждет от них больше, он всегда ждет от них того же, чего требует от самого себя, ищет и не находит, видит только сокрушенные и беспомощные, жалкие фигуры растерявшихся людей. Ах! Если б вот этими судорожно сжатыми руками остановить время, сжать отдельно каждое сердце и выдавить из него всю кровь до последней капли, всю силу до последнего трепета!..
Тяжелый парчовый занавес сомкнулся за его быстро удаляющейся, наклоненной фигурой, торопливый стук посоха слышится уже далеко, а они все стоят, перепуганные, словно пройдя сквозь огонь. Они слышат, как папа торопится в свой рабочий кабинет – затевать новые военные походы, новые стройки и новые буллы, исправлять нравы орденов, возвращать монастырям дисциплину, рассматривать планы архитекторов, статуи и картины художников, добычу раскопок и оружие. Нет покоя старику, то и дело сменяющему папский паллий на панцирь воина.
Рим! Богатым и весьма славным сделаю я тебя, драгоценный камень божий, весь оправленный в золото, целый мир склонится перед твоим величием, не будет города прекрасней во всем христианском мире! И, вернувшись из первых походов против захватчиков церковных владений и Борджевых приверженцев, он принялся прежде всего за строительство в Ватикане, чтоб превратить этот каменный прибой башен, башенок, садов, тюрем, твердынь и церквей в резиденцию, величественную уже по внешнему своему виду. Но не успел приступить, как обнаружилось, что древняя базилика всего христианского мира – храм св. Петра – грозит рухнуть. Столетия и вихри, войны и пожары промчались по ее тысячелетним стенам, и было удивительно, что она еще стоит, до того покосившаяся, что расселины ее внушали папам страх. За много десятилетий до того папа Николай, пятый по счету с этим именем, хотел начать починку, да война помешала и другие заботы, а потом он умер. И другие собирались – и тоже умерли. А древняя базилика продолжала перекашиваться, наклонившись так, что, кажется, вот-вот упадет, как во сне Иннокентия Третьего – все здание церкви, пока не подпер ее человек в одежде нищего, по имени Франциск, родом из умбрийского города Ассизи. Столько пап хлопотало, а лучше не смотреть: стены трескались под тяжестью столетий, алтари расседались, фрески лупились, сырость ползла по стенам, которые потом обжигал и крошил зной, а из всех работ по восстановлению, начатых столько десятилетий тому назад, было закончено одно лишь небольшое возвышение в глубине храма, каких-нибудь пятнадцать стоп над полом.
Юлий Второй остановился перед этим ненужным возвышением, и лицо его застлала печаль. Он увидел церковь и увидел крест, опустившись на колени и закрыв лицо руками. Да, так повелось со времен Николая Пятого, родня, племянники и сыновья, девки, кутежи, частые войны – не во славу церкви, а ради богатства рода, – вероломства, святотатства, убийства, ложь, гнусности, Рим разграбленный, церковь униженная, море позора, волны крови. И страшный сон его дяди – Сикста – в ту ночь, перед конклавом, – по Ватиканским галереям ходит человек, у которого нет ни облика, ни красоты, кровавые следы босых ног на плитах, троекратное падение под крестом, виноградник мой избранный, я тебя выпестовал, и как же стал ты мне горек, – меня распинаешь, а Варраву отпускаешь! Папа стоял на коленях у покривившихся, расседающихся стен, белая борода его спускалась по сложенным рукам, молитвенно прижатым к самому подбородку. Да, так бывало, наверно, и раньше, но больше всего – со времен Николая… ах, этот лигуриец Парентучелли – за три года епископ, кардинал и папа! Пришел не только лигуриец Николай, пришли Платон, Сенека, Птолемей, а потом – Овидий, Гораций, Вергилий, лавина пергаментов и заблуждений. За находку оригинального текста Евангелия святого Матфея – пять тысяч дукатов, а за простой перевод Гомера – десять тысяч, папский двор уже не монастырь, не монашеский орден, а библиотека, пиршественный зал, академия. А в это время сотни тысяч стоят на коленях в Константинополе, ожидая лютой смерти под водопадом кривых сарацинских сабель и в слезах взывая к Панагии, пресвятой деве – о помощи и чуде.
В пламени рушится Византийская империя, напрасно умоляя Рим о помощи, ворота мира вышиблены, и несметные полчища магометан ринулись из своих пустынь в Европу. Величайшим наслаждением для Николая было расхаживать по библиотеке, которую он собрал с великим тщанием и ценой многих жертв, один зал полон греческих, другой – латинских рукописей. А на зубцах замка Святого Ангела качался труп Стефано Поркаро и девяти его катилиновцев. Потоп язычества из азиатских ли степей, из философских ли аудиторий – усиливался. А правил Николай, первый гуманист. Падало королевство за королевством. Он строил великолепные библиотеки, предпринимал дорогие раскопки. Но что осталось здесь, в соборе св. Петра, из всех этих начинаний? Возвышение в глубине храма на каких-нибудь пятнадцать стоп выше пола…
Потом Каликст Третий, первый Борджа, со своими несчетными племянниками и всякими родственниками, вызванными им из Каталонии, среди которых тогда уже вырисовывалась на заднем плане фигура Родриго Ланколо, впоследствии Александра Шестого. Папа Каликст, призывавший к крестовым походам против турок, когда они решили пройти с мечом всю Италию, но их остановил у Белграда герой Хуньяди, – Каликст Третий, поклявшийся захватить всю Византийскую империю, тысячи миссионеров были посланы во все страны Европы, торжественно воздвигался крест и провозглашались призывы к бою, но христианские государи не верили, так как за папой стоял с вкрадчивой улыбкой его любимый родственник, тот самый грозный Педро Луис Борджа, которому папа обещал, что сделает его византийским базилевсом, императором всего Востока. А потом внезапно наступила агония Каликста, Педро Луис помер от лихорадки, спасаясь от преследования Орсини, Византию так и не взяли, в соборе св. Петра осталось возвышение на каких-нибудь пятнадцать стоп выше пола…
Стены базилики продолжают расседаться. Трещины растут, Каликсту наследует сиенец из рода Пикколомини – Пий Второй, бывший поэт-лауреат императора Фридриха, впоследствии именованный современным Тацитом, Эней Сильвий. Он правит, не зная сна. Ночи его бессонны. Болезнь, против которой бессильны знаменитейшие врачи, приглашенные издалека. Ночи его белые. Мучаясь бессонницей, он зовет писцов, диктует им до рассвета. Вот какова жизнь народов и королевства за Альпами, вот каковы их деяния и судьбы… Светает. Гуманистические закругленные периоды папы полны бессонницы, все слова его – без сновидений. И он Рима не любил. Боялся Рима. Папа-странник, так называли его, папа – странник из страха перед кознями. Весь свой понтификат проездил он из города в город, блуждая по всем краям. И у него был свой Поркаро, как у Николая Пятого, его катилиновца звали Тибурцио, а потом – кондотьером Пиччинино и князем Тарентским… Сиенец Пий все время бежал от чего-то, мучимый бессонницей, находя покой только в горных лощинах, на носилках над пропастями Апеннин, над шумом водопадов, над водными гладями в начатых постройкой акведуках… Так он больше и не вернулся в Рим и умер от горя в Анконе… Нет, он ни кирпича не прибавил к этим пятнадцати стопам выше пола…
А Павел Второй из рода Барбо! Тут уж не один только Платон и Сенека, тут выступают на сцену и римские гении, пахнущие плесенью и увешанные редчайшими драгоценностями. Теперь приносят жертвы не только богу, приносят жертвы и Ромулу и Ремулу, папские прелаты зовутся Каллимахом, Главком, Петронием, Асклепиадом… И папский двор – уже не монастырь, каким был прежде, и не академия, как при Николае, теперь он – роскошный дворец, полный статуй, картин, дорогих тканей, предметов, добытых раскопками, золота, янтаря, горных хрусталей, жемчугов, драгоценностей. Жемчугов, драгоценностей, – но больше всего именно жемчуг любит Павел Второй из рода Барбо, венецианец.
И народ плясал под окнами папы, а тот смеялся, и вместе с ним смеялся канцлер церкви кардинал Родриго Борджа, впоследствии Александр Шестой. Папа смеялся и строил великолепные дворцы, но и у него тоже был свой катилиновец, и у него был свой Поркаро и Тибурций, по имени Платин, весьма ученый, с венчиком редких волос вокруг лысого черепа, – обнаруживший, что privilegium Constantini 1, при помощи которого столько пап обосновывало свою светскую власть, – просто благочестивый подлог, совершенный в древнее время одним монахом, слишком пылким угодником папства. Император Константин, умирая, не завещал в благодарность за избавление от проказы всю светскую власть папе Сильвестру, древний документ оказался подделкой. Катилиновец Платин! Двадцать суток провел папа, осажденный в Ватикане, но победил святой отец и, ввергнув заговорщиков в узилище, устроил на радостях новое празднество большие ристания у себя под окнами, – на глазах у него бегали взапуски старики, евреи, ослы и буйволы, папа смеялся, народ ликовал, – возвышение в глубине храма так и осталось на пятнадцать стоп выше пола…
1 Привилегия Константина (лат.).
А остальные? Дядя Сикст, со своим великим замыслом передать тиару своему возлюбленному Пьетро Риарио, который ввиду этого уже распустил всех своих придворных девок, но Пьетро отравили венецианцы, а его союзника, милого Галеаццо Мария, убили миланские катилиновцы в храме Сан-Готтардо, и Пьетро ходил потом по залам Ватикана огненным призраком, пока его не сменил убитый родным братом, доном Сезаром, папский сын, герцог Гандии Борджа… Дядя Сикст! А после него генуэзец Иннокентий Восьмой из рода Чиба, облагавший все преступления налогом, доход с которого плыл в мошну его сына Франческо Чибы, карточного мошенника и завсегдатая публичных домов, мужа Маддалены Медичи… Потом Александр Шестой Борджа, грозовая туча, золото и яд, женщины и убийства, дон Сезар, дон Жоффруа, герцог Гандии, донья Санча, Лукреция Борджа, римский инфант, сыновья и дочери; управление Ватиканом и папской политикой, пока папа преследовал Орсини, вверено женщине, дочери Лукреции, разлив ужасов, поголовное умирание кардиналов, князей и прелатов, ужины с голыми женщинами, cosa diabolica… 1 Потом Пий Третий, бессильный больной старик, правивший под охраной испанских знамен дона Сезара ровно двадцать пять дней.
1 Дело дьявольское (ит.).
Огромные величественные здания, дворцы, водопроводы, новые укрепления, твердыни, библиотеки, сады, роскошные замки, раскопки, восемь пап, восемь понтификатов и крохотное, ненужное, смешное возвышение на каких-нибудь пятнадцать стоп выше пола в глубине храма…
Юлий Второй молился возле расседающихся стен базилики – на коленях и стоя, прислонившись лбом к поручню подставной скамейки для коленопреклонений, и старческий шепот его звучал сипло и глухо. Позади него стоял кардинал Алидоси, высокий, хмурый, безмолвный, со своим отсутствующим взглядом, взглядом в никуда. Папа читал плач пророка Иеремии, начав со стиха Алеф. Как одиноко сидит город, некогда многолюдный! Он стал как вдова; великий между народами, князь над областями сделался данником.
Потом он встал от молитвы и взял это дело в свои руки, имея мало времени впереди и мысля при этом о вечности. Вызвал знаменитейших архитекторов. Первым явился маэстро Браманте из Милана, изысканный, вежливый, учтивый, облаченный в славу, как в пурпурный плащ, испытавший все наслаждения, вечно алчущий денег, почестей, женщин. В свои шестьдесят лет он еще возит с собой прелестных молодых красавиц, до того очаровательных, что других таких в мире не найти. В каждом его слове – коварство, в каждом движении – княжеская утонченность, усвоенная при дворе Сфорца. Он не терпит превосходства, не терпит возражений, не переносит противодействия. Все считают его гением, но ему этого мало, он требует, чтобы ему воздавали чуть не божеские почести, как в свое время Паррасию и Скопасу Галикарнасскому. Во всей Италии нет более крупного храмостроителя, и он это знает. Возвел себе великолепный дворец с роскошными комнатами для своих подруг, устраивает пиры, принимает кардиналов и римских баронов. Но вот приехал маэстро Джулиано да Сангалло из Флоренции, шумный, простой, бушующий, стихийный, полный детского благоговения к папе, которому еще при Борджа построил укрепления в Остии и которого любит со страстной восторженностью. Он ест за троих, много пьет, отличается прямодушием, полон бурного веселья, каждому славно в обществе маэстро Сангалло. Во всей Италии нет более крупного храмостроителя, и он это знает. Их целое семейство – Сангалло, и все строители, тут не разберешься, один только бог разберется, и он благоволит к ним, к этим кондотьерам искусства, а больше всего – к маэстро Джулиано, который любит папу Юлия и вместе с ним немало пострадал от всяких козней, еще когда тот был только кардиналом Джулиано делла Ровере от Сан-Пьетро ин Винколи.
Оба маэстро – Браманте и Джулиано да Сангалло – начертили каждый свой план и ждали решения святого отца, какой он примет. Тысячи рабочих толпами стекаются в Рим. Дороги полны народа. Многие едут с семьями, переселяются из Абруцц, Ломбардии, Неаполитанской и Миланской областей, из княжества Тарентского, из королевства обеих Сицилий, трясясь на шатких возах, распевая дорогой, а тысячи идут пешком со всех сторон, краев, городов – строить собор. Руки казначеев погружались в папскую казну по самые локти, но папская казна была не бездонная, войны за обновление границ Папского государства велись уже давно, и кондотьеры должны были всегда быть самые лучшие и войска – наилучшим образом вооружены. А папская казна пересыхала так же быстро, как теперь римские колодцы от жары. Из-за этого и писали нынче так усердно в Святой апостольской канцелярии весь знойный день напролет, вплоть до прохладной ночной тьмы, потому что дорогам нельзя было давать отдыха. В Рим валили толпы с лопатами, кирками, заступами, молотками; из Рима, наводняя все дороги, шли проповедники, исполненные духа божьего, наделенные высокими грамотами отпущений и восторженно поспешающие во все страны – от Исландии до Сарацинского царства, от самых северных, терзаемых бурями и покрытых вечным морозом мысов – до сожженной солнцем испанской Сьерры. Весь христианский мир должен был оплатить построение собора, великолепием превосходящего все соборы в мире.
Писали старательно. Секретарь Теофило Капицукки, отирая пот с жирного лица и сонно жмурясь от ослепительно яркого солнечного света, прислушивался к однообразному шороху пергамента и ждал.
На галерее, за дверями Апостольской канцелярии, слышались беспокойные шаги человека, расхаживающего взад и вперед. Туфли его из красной кожи приглушенно хлопали по плитам зала, который он мерил широкими шагами. Он тоже ждал. Смуглое лицо его выражало нетерпенье. Жгучие глаза горели диким зеленым пламенем. Высокий лоб изборожден складками гнева и ненависти. Узкие хищные руки с длинными пальцами беспокойно теребят рукоять меча. Прелат Капицукки, тяжело дыша, с облегченьем считает эти шаги за дверью, – звук их родит в нем злорадство. Прелату известно, кто там расхаживает в дорожной одежде модного розового оттенка, бряцая мечом о плиты папской галереи. Это кардинал Ипполито д'Эсте, хищник из Феррары. Он ждет папского разрешения на отъезд, в чем ему уж столько раз было отказано, ждет упорно и гневно. Теперь он подстерегает мгновенье, когда выйдет папский секретарь граф Ингирами, чтоб еще раз попытаться вынудить разрешение… прелат Капицукки с удовлетворением чмокает толстыми губами, – он знает, что и на этот раз хищник подстерегает напрасно. Туда-сюда, туда-сюда… бряцанье меча на повороте галереи… туда-сюда, туда-сюда… через минуту не захочешь быть на месте секретаря Ингирами. Кардинал Ипполито изгнан герцогом Альфонсом из Феррары из-за женщины и хочет туда вернуться ради нее? Писари выводят красивые буквы – индульгенции, облегчающие и разрешающие на недели, месяцы, годы, toties quoties 1, частичные, полные, неограниченные, полномочные… Прелат Теофило здесь не затем, чтобы наблюдать за ними, но ему все-таки нужно ждать, и он спокойно ждет, с удовольствием прислушиваясь к буйному нетерпенью шагающего за дверью. В Ферраре свирепствует мор, за несколько недель в ямы за городом было выброшено сто трупов, папская дочь Лукреция Борджа, трижды выданная замуж по расчетам Александра, теперь Альфонсова жена, герцогиня Феррарская, бежала в Ровиньо, хоть и беременная уже настолько, что лишь с великим трудом перенесла тяготы поспешного бегства, а ее провожатый, старый придворный поэт Тито Веспасиано, poeta laureatus, в дороге скончался от моровой язвы, вспыхнувшей и в свите убегающей герцогини. Четыре тысячи беженцев сгрудились у городских ворот, продираясь с помощью кулаков и топча друг друга, черный ужас навалился на Феррару, мрачную и кровавую и без мора, – а этот хищник за дверями, в модном розоватом наряде и красных туфлях, бряцающий мечом, хочет вернуться в погибающий город? Ради женщины? Пухлые губы прелата искривились в презрительной усмешке. Туда-сюда, туда-сюда… шагает человек по дороге в ад.
1 Столько сколько (лат.).
Прелат Теофило Капицукки астматически засипел, сложил тучные руки на коленях и погрузился в мечты, следя за боязливым бегом перьев по пергаменту. Кардинал Ипполито д'Эсте! Капицукки знал связанную с ним историю, как и все в Риме, – это была история, достойная Феррарского двора.
Кардинал имел всех женщин, которых желал, потому что был жесток и хорош собой. При дворе герцога жила молоденькая сестра Лукреции – Анджела Борджа, ослепительно прекрасная, как все, принадлежащие к роду папы Александра. Она была жестока и хороша собой и отвергла домогательства кардинала. Тут нашла коса на камень – оба непримиримые и страстные, оба неуступчивые. Кардинал, оскорбленный и взбешенный отказом, не понял, в чем дело. Но женщина в таких делах видит дальше мужчины. Она знала, что любовь их была бы беспрестанной борьбой, кошмаром, опустошеньем. Между тем кардинал продолжал страстно мечтать – и не только о чудной любовнице, способной дать наслаждение, но и о гордой, властолюбивой подруге, чей борджевский характер будет ему в помощь на пути к высшим целям. Нежно и страстно нашептывая о любви, он в то же время нашептывал и о будущей папской тиаре, которую вновь озарило бы золотое сияние Борджа. Она отвергала, и ее сопротивление переросло уже в ненависть. Она чувствовала к нему тем большее отвращение, чем ясней понимала, насколько они с ним друг на друга похожи. Распутная и вероломная, она презирала его за распутство и вероломство. Сластолюбивая, она ненавидела его за сластолюбие. Слушая его страстные речи, она словно глядела в какое-то страшное, холодное зеркало. И узнавала там свою собственную опустошенность. Она испытывала разочарование не в нем, а в самой себе и потому ненавидела его, а не самое себя. Уходила к себе в комнаты, словно отравленная его словами, и долго сидела там одна, подперев подбородок узкими ладонями и глядя в черную тьму такими расширенными глазами, словно глядела в огонь. Ей было ясно, что, полюбив его, она не познала бы ничего другого, как только самое себя и всю печаль своих мечтаний. А он не понимал, потому что был жесток и хорош собой. Ее отказ только сильней разжигал страстное желание, жалящее его. Он приказал своему придворному – Лодовико Ариосто – сложить канцону, сообщающую Анджеле Борджа о клятве, которую он дал себе, – овладеть ею, хотя бы это было трудней, чем завоевать весь мир. Лодовико Ариосто, которого кардинал кормил одним черствым хлебом, обидами и жалкими подачками, сложил, чтоб лучше выслужиться, прекрасную, изумительную канцону и продекламировал ее под ласкающие колебания лютневых каденций, среди тяжелого благовония феррарских роз, но Анджела закусила свои гордые губы до крови и ушла, не дожидаясь конца.
При дворе Альфонсо был князь Джулио, брат Ипполито, неженатый юноша, полный девичьей свежести и неги. Она влюбилась в него, оттого что трогательная робость и нежная, исполненная пылкого, благоговейного преклонения застенчивость так уравновесила неистовый напор кардинала, что это дало ей возможность снова найти себя. Девичьи руки его были алебастровой белизны и отличались хрупкой прозрачностью, выдававшей голубую сеть жилок, лицо его, чистое и целомудренное, обрамляли мягкие кудри волос, падающих волнами на стройные плечи, но очаровательнее всего были глаза, ясные и невинные, без единой тени лукавства, всегда устремлявшие на нее взгляд, полный стыдливого пыла, глаза глубокие и задумчивые, склоненные вежды любви, огонь сдержанности и нега мечтаний, взгляд из великих глубин и далей, взгляд – тихая ласка, любовный сонет, рыданье и счастье. Она послала ему локон от своих бронзовых волос, золотую ленту, которую носила на голой груди, и письмо. Джулио оставил себе локон, ленту и письмо и с тех пор стал мечтать не только о сладостях любви, но и о кардинальском пурпуре, так как принадлежал к роду д'Эсте, – которого Юлий не любил, – только был незаконнорожденным отпрыском герцога Эрколе и придворной девицы Изабеллы Ардуино. Смешон стал ему теперь брат Ипполито, ему, юноше, еще доверяющему залогам любви.
А в это время между Анджелой Борджа и кардиналом Ипполито разыгрывалась мучительная драма, – судорожная страсть, ненависть и желанье друг друга, тайные потрясенья, такая сложная, жестокая драма, что и мука становилась в ней наслажденьем. Но одинокий Джулио, юноша девичьей неги и прелести, ни о чем не подозревал, ему было довольно, что у него – лента, локон и письмо. Он воображал, что можно навсегда овладеть женщиной при помощи одной ночи и объятья. И ночь эта должна была стать для него празднеством, которое обеспечит ему также кардинальский пурпур. Этому празднеству он радовался заранее.
И празднество было устроено, на нем игралась "Ослиная комедия, или Азинариа", составленная по бессмертному Плавту, с многочисленными танцевальными и прочими интермедиями. Радовались и Джулио и кардинал. А после представления был бал, Ипполито танцевал с Анджелой и опять спросил ее, подарит ли она ему нынче ночью счастье. Тут в ней вспыхнуло все ее борджевское высокомерие, и она, обжигая его взглядом, ответила, что ей никто не может дать столько счастья, сколько доставляет один только взгляд его брата Джулио. После этого кардинал перестал танцевать и вышел из зала, чтобы приготовить месть.
"Не помогла канцона, поможет сталь", – сказал он себе. Актеры из "Ослиной комедии" были для него просто смешны, он о зверях думал. Гон по лесным оврагам был ему больше с руки, чем придворный бал в честь рода д'Эсте. Поэтому на другой день, во время травли волка, он приказал своей свите загнать Джулио, который был робок, как девушка, и плакал, в лесную трущобу. Там брат-кардинал пошел против брата-священника и, кипя от ярости, приказал выколоть ему глаза. Потому что эти глаза притянули к себе Анджелу больше, чем все тело кардинала, честные и невинные, склоненные вежды любви, каждый взгляд их – пылкий любовный сонет; Анджела должна была получить их на золотом блюде, как презрительный подарок кардинала. Джулио кричал не своим голосом, это сделали острым сучком, но один глаз все-таки заслонил ему ангел-хранитель своими воскрылиями, так что Джулио был ослеплен не вполне, в углу правого глаза сучок соскользнул, разорвав щеку до кости. В таком виде Джулио принесли пред герцога Альфонсо, который прекратил охоту и проклял обоих своих братьев-священников. Джулио, мечущийся в муках боли и тьмы, со слезами обещал вернуть ленту, локон и письмо, но кардинал Ипполито стоял гордо, уже не в охотничьей куртке, а облаченный в кардинальскую мантию, потому что никто не смеет поднять руку на князя церкви, под страхом навлечь на себя страшнейший ее гнев. И герцог Альфонсо плюнул на землю перед кардиналом и повелел в наказание вывести его за городские ворота, в изгнание, имея в виду курию и Рим. И так кардинал Ипполито, в наказание, был возвращен в Святую коллегию, к папскому двору, а Анджела Борджа, отвернувшись с пренебрежением от Джулио, который между тем все больше слеп и слишком по-детски и беспомощно просил ее отомстить за него, вышла замуж за воителя графа Алессандро Пио Сассуоло, бойца из рода князей Капри.
Это маленькое происшествие долго занимало умы в Риме, и сам прелат Теофило Капицукки сочинил на эту тему несколько насмешливых эпиграмм, которые имели такой успех, что кардинал Ипполито заплатил большую сумму денег своим шпионам, чтоб они установили, кто автор. Прелат Капицукки помог обнаружить сочинителя, не только отделавшись таким путем от одного из своих врагов, но еще получив подарок от кардинала. А сам продолжал развлекаться. Развлечения прелата Теофило отличались всегда тихим, скрытным и незатейливым характером. Развлекался он и сейчас. Тем, что в ожидании прихода приятелей с удовольствием считал хищные шаги за дверями. А приятели все не шли…
Свинцовый зной отнимал дыханье. Губы прелата тихо шевелились. Ближайшие писаря уже готовились произнести: "Amen!" – как только слова его молитвы станут более внятными, потому что он, конечно, читает наизусть какую-то часть своей службы, но никто не мог различить ни словечка в его шепоте, который вдруг прекратился, после чего одутловатое лицо прелата стало спокойным и довольным, – явное доказательство того, что молитва оказалась доходчивой, ведь в этом душном пареве да при его мучительной астме молиться нелегко. Они тотчас опять склонили головы над пергаментом и принялись усердно выводить красивые буквы. Отпущения для всего христианского люда, каждый имеет возможность за определенное пожертвование получить отпущение грехов, приняв этим участие в построении собора, великолепней которого не будет во всем мире. Рим уже полон художников. Тысячи рабочих стекаются со всех краев, знаменитейшие художники со всей Италии съезжаются в Рим для украшения базилики. Индульгенции нагромождаются – неполные, полные, на месяц, на сто, на двести, на триста лет, – кто не поспешит воспользоваться такой возможностью откупиться от мук чистилища, отменить кару за свои грехи? Проповедниками кишат дороги во все страны, а здесь писаря усердно пишут, задыхаясь от жары, спины промокли от рвения и усилия, пишут так усердно, что не могли сказать "аминь" в ответ на молитву своего прелата.
Зной пылает. В воздухе пахнет серой. Прелат довольно улыбается, писаря пишут отпущенья, туда-сюда, туда-сюда – шагает человек по галерее в ад.
Капицукки опять довольно улыбнулся, повторяет отдельные цифры, столько уж раз тщательно проверенные. Больше двадцати тысяч золотых он на это дело не даст, ведь и так – целое состоянье, правда, очень выгодно помещенное, эта торговля наверняка даст десятикратный доход. Рим полон художников, они едут сюда из Флоренции, Болоньи, Сиены, Вероны, Падуи, Венеции – отовсюду. Налицо избыток искусства, слишком много искусства, но спрос все растет, Рим помешался на искусстве, никто теперь ни к чему не стремится, кроме как иметь фрески на стенах, хорошие картины, дорогие статуи, образцовые собрания.
Торопливо роют на всех улицах и площадях, чтобы воздвигнуть роскошные, дорогие здания. Но необходимо этот поток искусства ввести в какое-то разумное русло, бедных художников обманывают купцы, а бедных купцов обманывают художники, – так было, пока за все это дело не взялся прелат Теофило, который больше двадцати тысяч в него не вложит. Основав с двумя торговыми компаниями акционерное общество по продаже и покупке произведений искусства, он скоро понял, какая это была блестящая идея. Любой художник, желающий устоять в борьбе, вынужден опасаться гнева Теофило Капицукки, секретаря Святой апостольской канцелярии, и рад продать ему свое произведение по цене, которую назначит Теофило, держащий в своих руках список заказов Святой канцелярии. Поэтому они приходят и подписывают договоры, это оправдывает себя, так как Апостольская канцелярия потом вспомнит о них при папских закупках. Приходят и купцы, все боятся разгневать Святую канцелярию – теперь, в правление Юлия. И они покупают у Теофилова общества – хоть втрое, хоть впятеро дороже, а покупают. Прелат Теофило опять удовлетворенно замурлыкал и потер руки. Только вчера подписали новые договоры Перуджино, Брамантино, Лотто, Перуцци, Аньеси, толстый, добродушный фламандец Ян Рёйше, потом Джулио Пиппи, Якопо Сансовино, Андреа Сансовино, Франческо Рустичи, Содома… При этом имени прелат Теофило слегка омрачился. Очень легко было договориться с живописцем Аньеси, называемым также Перегрино Ромперо, а приятелями кратко – Тонио, но неприятно иметь дело с живописцем Содомой, называемым также Джованни Бицци, а приятелями коротко Джанни, который пришел заносчивый, язвительный, заранее несогласный. Стройный, гибкий и до того беспокойный, словно все время готов к прыжку, смуглый, как арап, он бросил шляпу на стол, между бумагами прелата, так что даже разметал их, словно продолжив этим пренебрежительный жест своей узкой руки, и на все любезные, льстивые слова во время переговоров отвечал презрительно, гневно – с криком и топаньем. Ни сиенские патриции Перуцци, Севини, Спанокки, для которых он писал их возлюбленных, ни богатые аббаты, заказывавшие ему изображения святых и портреты своих наложниц, видимо, не научили его ни учтивым речам, ни хорошим манерам и обхождению, так как Содома вел себя в Святой канцелярии грубо и так торговался, будто покупал на конном рынке лошадей для своей конюшни. Дело в том, что Содома был страстный любитель женщин и лошадей, женщин и животных, и в такой же мере терпеть не мог прелатов. И требовал денег. Денег, много денег, очень много – вперед. Ему заметили, что у него есть недвижимость и золото в Сиене. На это он, дико сверкнув глазами, ответил:
– У меня только сад возле Ново-Поццо, где я сею, а другие снимают урожай. Да дом в Балтероцци – вместе с тяжбой против Никколо да Либри. Я взял с собой в Рим восемь коней, о которых говорят, что это мои ягнята, а я их баран. Потом обезьяну и говорящего ворона, – держу его, чтоб он научил говорить еще неученого осла, которого я вожу в клетке. Еще со мной сова, чтоб нагоняла по ночам страх на дураков, и филин, чтоб ночью гукал мне, когда я его поглажу, – это возвращает меня к моей молодости, моему родному краю и первым приключениям. Потом у меня с собой два павлина, две собаки, две кошки, два кобчика, шесть кур и восемнадцать цыплят, две цесарки и много других животных, перечисление которых утомило бы присутствующих. Со всеми этими я не сплю, хоть меня и зовут Содомой. Но для любовных утех я вожу еще трех зверей: моих женщин. Две брюнетки и одна светловолосая, – одна из Вероны, другая из Падуи, третья, светловолосая, – из Венеции. С ними я сплю, когда вздумается, иногда по очереди, а то со всеми тремя сразу. Но это не все. Присутствующим понятно, что мне нужно теперь много денег, чтобы все это кормить. Кроме этих трех бестий, я вожу с собой еще для удовольствия…
Тут прелат Капицукки поспешно замахал руками и астматически захрипел, так что было слышно. Содоме выплатили все, что он требовал, и он ушел легкими, быстрыми шагами, смеясь и попросив благословения. А с Аньеси разговор был другой. Живописец Аньеси, называемый также Перегрино Ромперо, а приятелями коротко – Тонио, попросил задатка так робко и учтиво, что и прелату, и его друзьям было смешно, и так как было известно, что Аньеси живет в прелюбодейной связи, Капицукки сперва доверительно потолковал с ним насчет евангельских заповедей, а потом направил его к своему компаньону Тиньосини, вложившему в дело пятьдесят тысяч и потому имевшему право перенести разговор о милосердии на деловую почву больше, чем кто-либо. Проникновенно побеседовав с живописцем Аньеси о его семье, его отпустили, пообещав горячо молиться за него, не дав задатка да еще продав ему две индульгенции, которые так нужны прелюбодеям. Аньеси отдал им все, что имел, и за ним еще записали долг. Потому-то прелат Капицукки, вспоминая вчерашнее, так удовлетворенно улыбался и грезил с открытыми глазами. Он потер руки и снова пробежал внимательным взглядом по рядам писарей, но тут к нему подошел привратник и, почтительно согнувшись, доложил о приходе тех, кого прелат Теофило так терпеливо ждал: его торговых компаньонов.
Они вошли с многочисленными поклонами – Квараччо да Тринча, римский патриций, и Чезаре Тиньосини, алеппский комтур ордена де Спиритуалибус эт Ангелис. По рядам писарей пробежал восторженный шепот, многие согнули свои и без того согбенные спины в учтивом поклоне, но оба высокопоставленных гостя не обратили на писарей никакого внимания, а любезно улыбались прелату, который предупредительно повел их в удаленную комнату, где им не помешают ни скрип перьев, ни шаги за дверью. Там они уселись, чтоб посовещаться, сперва речь пошла о женщинах, о жаре и о вчерашнем; презрительно осудив поведение живописца Содомы и еще раз с легкой насмешливой улыбкой подтрунив над живописцем Аньеси, который не только не получил денег, а еще купил индульгенции на свое прелюбодеяние, – это по совету Чезаре Тиньосини. И комтур Тиньосини, содержавший двух любовниц – Пентезилею и Гипсипилу, поблагодарил прелата, когда тот осведомился о здоровье обеих хрупких красавиц в эту полную заразой жару, и в ответ предупредительно высмеял ожиданье кардинала Ипполито, процитировав при этом несколько остроумнейших эпиграмм прелата – в доказательство, что он помнит их все наизусть.
Но патрицию Тринча было скучно слушать. Все эти любезности мешали приступить прямо к сути дела, а у него было мало времени, его еще ждали у банкира Киджи. При обмене любезностями он всегда скучал, и его всегда где-нибудь ждали. У него были друзья при дворе Юлия Второго, так же как среди французов. Ровере считали, что он предан им, Медичи глядели на него как на своего приверженца, испанские дворяне из Неаполя тайно ходили к нему на дом. Венецианский посланник прибегал к его советам, но сведения и указания его очень ценил также римский доверенный Баязета. В большой игре, требующей судьбоносных решений, патриций да Тринча всегда умел сделать ставку на какую-нибудь забытую карту и всегда выигрывал. Его всегда где-нибудь ждали. Он раскидывал сети, налаживал отношения, вел переговоры, а при обмене любезностями скучал.
Чезаре Тиньосини, алеппский комтур, наоборот, любил комплименты, так же как женщин, деньги и величие. Обладатель больших богатств, он тем не менее надеялся пройти в царство божье сквозь игольное ушко. А пока не прошел, пользовался богатством по-своему, и лицо его было сурово, так как он питался золотом и почетом. И никто не осмеливался заглянуть, что у алеппского комтура де Спиритуалибус эт Ангелис под плащом, – а там были поступки – и хорошие и дурные.
Оба сидели за столом, покрытым тяжелой парчой, учтиво улыбаясь, комтур Тиньосини легко и элегантно строил свои округлые предложения, а патриций Тринча с вежливым видом молча скучал. Комтур сообщил о тайном намерении святого отца навсегда изгнать французов из Италии при помощи новой войны, несмотря на наличие между святым престолом и французами крепкого договора, и вполне одобрял это намеренье, оправдывая его верой в бога, справедливо карающего такие разбойничьи нападения, посредством какого французы проникли в страну. Но патриций Тринча не одобрял намеренья прогнать французов, вторжению которых он в свое время очень радовался. Конечно, в конце концов получилось не совсем то, что он предполагал, но они были ему еще очень нужны, так зачем же их прогонять? Поэтому он только вежливо улыбался, но скучал и говорил мало, тогда как комтур Тиньосини излагал свои мысли горячо и благоговейно, потому что владел большими богатствами и боялся за них. А прелат Капицукки только хрипел, слушал и улыбался втайне, так как видел обоих насквозь.
Но его охватило волнение, когда Тиньосини, едва они приступили к переговорам и проглядели вчерашние счета, многозначительно объявил, что на это их совещание придет маэстро Браманте. Тут прелат Теофило в изумлении схватился за край стола, сдвинув парчу, причем мертвенная синева его тучных рук резко выступила на пурпуре ткани и ее золотом шитье. Маэстро Браманте, сам божественный маэстро Браманте, покоривший весь Рим, придет сюда, к ним, в Апостольскую канцелярию! Это выходило далеко за пределы того, на что прелат Капицукки мог рассчитывать. Он онемел от неожиданности, и хриплое дыханье его стало более тихим, сиплым и неровным. Теперь уже комтур Тиньосини улыбнулся втайне, весь раздувшись от гордости, так как посещение Браманте было всецело его заслугой. А патриций Тринча сидел спокойно, невозмутимо, погруженный в свои мысли и планы, веря в Браманте и в банкира Киджи.
Ждать пришлось недолго. Браманте вошел, одетый в шелк переливчатого цвета, и уселся, как вельможа среди подчиненных. Заложив руки за спину, он обращался сам к себе и отвечал в пространство, ни на кого не глядя. Уже звуком голоса он подчеркивал, что привык говорить с папами, королями, герцогами, князьями. Прелат Теофило хотел было дать понять, что ему случается беседовать даже с богом, но из этого ничего не вышло, – Браманте ответил в пространство, даже не взглянув на него. Только когда перед ним положили список художников, с которыми заключены договоры, он внимательно над ним наклонился и обмакнул перо в чернила. Глаза у него были узкие. Лицо – красивое, древнеримское, лицо сенатора времен Августа, лицо повелителя. Все притихли, когда он стал вычеркивать некоторые имена, решая их судьбы одним росчерком пера. Он не желает, чтобы зачеркнутые получили заказ от папского двора, и чем скорей они исчезнут из Рима, тем будет лучше для них. Он терпеть их не может. Патриций Тринча слегка нахмурился было, потому что некоторым из них уже были выданы задатки, но комтур Тиньосини остановил его взглядом. Тринча пожал плечами. Если алеппский комтур заставляет его воздержаться от возражений, пускай заплатит за это молчание, – у него денег куры не клюют. А не заплатит, патриций Тринча выйдет из акционерного общества, будет основано другое, лучше и богаче… Разве после этого совещания не будет еще встречи с банкиром Киджи? Говорят, иерейские деньги не приносят счастья, лучше обратиться в другое место. Снисходительно улыбаясь изысканным любезностям прелата и комтура, он молчал. Ему всегда было скучно, когда говорили любезности. А Браманте вычеркивал одни и вписывал новые имена. Потом пододвинул исправленный список к комтуру и, ни на кого не глядя, сказал:
– Я люблю ясность. Я окажу вам поддержку, если вы будете слушаться моих советов. Потому что не надо брать кого ни попало. Здесь у вас есть имена совершенно лишние, которые ничего не говорят, – например, какой-то Аньеси. Чем вы будете разборчивей, тем лучше. Не забывайте, что все время приезжают новые, лучшие. Я сам попросил его святость вызвать из Урбино одного молодого живописца, в которого очень верю – Рафаэля Санти, он, конечно, затмит всех. И другие приедут. Не торопитесь сразу, чтоб для других осталось. Не забывайте, что вместе с настоящими художниками съехался и всякий сброд, который надо отстранить. К счастью, святой отец считается с моим мнением, и я уже предотвратил немало бед. Не дальше, как сегодня… – Браманте сделал паузу, ожидая вопроса. Но они слишком почтительно слушали, чтоб решиться задавать вопросы, так что он не дождался бы. И потому прибавил: – Этот флорентийский строитель, Джулиано да Сангалло, покидает Рим. Для построения святого Петра его святость утвердил мой план.
Они встали, рукоплеща и поздравляя наперебой. Он отстранил их излияния княжеским мановением руки, но глаза его говорили о другом. Победа далась нелегко, он имел основания быть довольным. Он знал, что им двоим – ему и Сангалло – в Риме было бы тесно. Он сразу понял, как только святой отец, помимо него, пригласил в Рим также своего давнего строителя маэстро Джулиано из Флоренции, что борьба будет не на живот, а на смерть. Он твердо решил добиться победы и немедля кинул в бой всю силу своего искусства. Для яда и прочих козней еще было время. И никто не узнал бы Браманте в ту пору, когда он начал воевать с маэстро Сангалло из Флоренции своим искусством. Римские бароны разочарованно миновали его дворец, пиры прекратились. Его красивые юные подруги скучали в комнатах, обслуживаемые евнухами из Берберии и болтая друг с дружкой о всяких пустяках. Цветы вяли, вино горкло, огни гасли. Месяцы тянулись медленно. Шестидесятилетний Браманте с высоким лбом римского сенатора эпохи Августа, изрытым затверделыми вертикальными морщинами, с глазами, горящими жгучим огнем, склонившись над своими чертежами и планами, вел большое и ожесточенное сражение, в котором на карту было поставлено все, а не только вопрос о разгроме противника. Он знал, что стоит теперь перед тем, к чему вся его славная миланская деятельность была лишь подготовкой. Знал, что пробил его роковой час. В случае поражения он решил навсегда разорвать пурпурную тогу своей славы, открыть себе жилы в теплой ванне и умереть, как умирали римляне. Он бился за свое искусство и за свою жизнь. Он умел кидаться весь безраздельно в самую пучину наслажденья и самой утонченной чувственности. Но умел и отвернуться от них, забыть их, решительно и твердо отстранить все их трепеты и зовы. Без пищи и почти без сна старик подымал огромные плиты базилики, придавал ей определенную форму, напрягая до предела технические и духовные возможности, разбивая тысячелетия об ее острые углы, разрушая и строя Рим. Бременем его была мысль из камня и железа, он ее плавил и притесывал в сверхчеловеческом усилии гигантского размаха. Никаких препятствий. Иглой, остро отточенным павлиньим пером и циркулем вычерчивал он план совершенного творения, которое должно было пережить всех пап, стены которого распадутся, только когда уйдет последний папа и на место его воссядет в своем вечном понтификате сам Иисус Христос, чтоб судить мир огнем. Склонившись над книжным столом, над которым время остановилось в пламени вечера, подобное белой, морозной пирамиде льда, Браманте придавал тяжелую вещественную форму представлениям, мысли, мечте. Наес est domus Domini firmiter aedificata 1. Дом святости строит этот человек, чей лоб мучительно собран в морщины, а глаза горят от вечного бдения и ночного труда, дом молитвы для всего христианства, vere non est hic aliud nisi domus Dei et porta caeli 2, и просящий в нем получит, ищущий найдет и стучащемуся отворят. Ты, сидящий превыше херувим и правящий всеми властями небесными! Плита на плиту, гигантский размах свода, абсиды будто шлемы. Все прежние его работы были только ступенями большой лестницы, ведущей к этому созданию, – Санта-Мария-прессо-Сан-Сатиро, Санта-Мария-делле-Грацие, Сант-Амброджо, Санта-Мария в Аббьатеграссо, Санта-Мария-делла-Паче, Сан-Пьетро-ин-Монторио, Санта-Мария-дель-Пополо, все, до сих пор так прекрасно им созданное и увенчавшее имя его славой и лаврами, было лишь тасканьем камней для этого здания, которое должно стать вершиной и венцом. Он выжимал новые формы, изобретал, творил. Могучий куб, к которому прильнули четыре других, плотно примкнутые и образующие вместе с центральным кубом подобие равноплечного креста; между плечами креста – новые кубы часовен, совершенно самостоятельные, и при них – четыре высокие колокольни; в целом – сложное сочетание кубических строений, расположенных лучеобразно по отношению к центру, но друг с другом ничем не связанных, кроме как колоннадой. Снова и снова составляет он планы отдельных частей, высчитывает, исправляет.
1 Вот дом господа, прочно построенный (лат.).
2 Воистину здесь не что иное, как дом бога и врата неба (лат.).
Глубокая римская ночь, в которую старик рушит только что им возведенное и строит опять, быстрым, лихорадочным росчерком пера уничтожает и губит плод многих утомительных часов и недель, чтобы начать вновь и вновь, не отступая, сраженный, снова встает и кидает новые силы в этот бой, насыщаясь одним ячменным хлебом и утоляя жажду терпким вином; измученное лицо его посерело от усталости, руки обессилели от напряжения, но только что возникшая новая мысль проклевывается в нем слишком болезненно, чтобы можно было от нее отмахнуться. Он отходит от стола только для того, чтобы подойти к своей библиотеке, заглядывает в Витрувия, вспоминает все свои долгие ночные разговоры с Бароцци Виньоло, но есть одно сочинение, к которому он все время возвращается, как к таинственному источнику, к которому он припадает всякий раз, как почувствует упадок сил, – чтобы снова стать бодрым. Рукопись, всегда тщательно спрятанная, а теперь разложенная на широком столе между свитками чертежей и рисунков. Это копия еще не изданной книги его миланского друга Леонардо да Винчи, раскрываемая именно в тех местах, где речь идет о зодчестве. Дороже божественного учителя Витрувия ему эти страницы, из которых прямо вытекает его план базилики: безупречная, холодная симметричность, ледяной расчет, огромный собор как основа, и к нему прилегают другие, меньших размеров, соборы, большой куб, прорезанный четырьмя равными рукавами.
О ком он при этом думает – о боге или о себе? Этот огромный замысел, гигантское здание для всего человечества, с могилой первого папы, святого апостола Петра, и мученическими могилами стольких святых, – нигде не украшено крестом. Кафедральный собор всего христианства будет без креста. Он забыл про крест, а потом уж не нашел для него места.
Дело идет не только о базилике св. Петра. Он продолжает обдумывать и чертить. Два ряда строений соединят крепость Николая Пятого с Бельведером, виллой, выстроенной Иннокентием Восьмым. Фасад здания будет представлять собой двойные лоджии, устроенные по образцу окружности большого стадия, а на заднем плане будет еще один полукруг, опирающийся на Бельведер и открывающийся прямо на апартаменты Юлия Второго, необъятная абсида храма, чей свод – небеса, храма под открытым небом, вечным небом римским. Но и этими зданиями дело не ограничивается. Новый ряд лоджий расширит апостольский дворец до самого Тибра…
Они сидели, ошеломленные, слушая молча, не шевелясь. Прелат Капицукки сдерживал свое шумное дыхание, и тучные руки его дрожали от плохо скрываемого волненья, Тиньосини расширенными глазами ловил каждое движенье Брамантовой руки, рисовавшей в воздухе аккомпанемент к некоторым словам, патриций Тринча сидел бледный, потому что сердце у него всегда сжималось перед грандиозным, – когда у других щеки горели от быстрого тока крови, у него они делались бледными, сердце отзывало кровь к себе, и он всегда становился лицом серый, как мертвец. Браманте говорил пылко, в пространство, ни на кого из них не глядя. Знал, что им – непонятно, что это – слишком сверхчеловеческое и огромное для их разумения, но продолжал объяснять, развивал свои мысли и планы под влиянием внезапной потребности ослепить, возбудить восторг, потешить свою гордость, вызвав благоговейно притихшее почтение, – вдруг почувствовал потребность в этом захватывающем триумфе и втайне следил, какое действие производят его слова. Сам папа Юлий Второй, восхищенный его планами, спустился с высоты престола, чтобы радостно обнять его и украсить золотой цепью. Наконец-то нашелся человек, постигший его необъятные замыслы и не боящийся поднять на свои плечи самые тяжелые бремена! Папа Юлий нетерпеливо разворачивал длинные свитки его чертежей и набросков, мысля о вечности. А те трое сидели неподвижно, с пылающими щеками и блестящими глазами, он потряс их своими объяснениями, они жадно глотают каждое его слово, у них дух захватывает от огромности плана, формы которого он выгнал в жесточайшей борьбе, какую ему когда-либо приходилось вести, а ведь он не юноша, а старик, шестидесятилетний старик. Он снова полюбовался на их глубокое, немое изумление, и на увядших губах его промелькнула гордая улыбка. Скоро вот так же безмолвно, изумленно будут сидеть вся кардинальская коллегия, римские патриции и дворянство, завистливые и сварливые корпорации художников, высокопоставленные представители и доверенные иностранных государей – все, кто разнесет потом его славу по всему миру. Он глядел через высокое окно на разлившиеся по холмам каменные волны Рима, отделяющиеся в жгучем солнечном зное резкой белизной своей от коричневой, илистой поверхности Тибра. Вечный город, драгоценный камень божий, весь в золоте… И он закончил, полузажмурив глаза:
– А если понадобится, возьму свод Пантеона и подниму его вверх, на арки Константиновой базилики.
Воцарилась тишина.
Браманте встал и прошелся взад и вперед по комнате. В открытые окна лились волны нестерпимого жара, воздух имел запах серы и привкус свинца. Снова улыбка искривила губы архитектора, но это уже не была улыбка высокомерия и самодовольства. Он остановился перед столом, за которым они по-прежнему сидели молча, следя глазами за его хожденьем. Первым пришел в себя патриций Тринча. "Каким этот старик умеет быть жестоким…" – подумал он, глядя на его улыбку, полную осторожности и лукавства. Тринча хорошо знал такие улыбки и всякий раз при виде их невольно хватался за рукоять кинжала. Однажды он, возвращаясь из Сан-Джиминьяно, попал в руки разбойников, вместе с двумя приставшими к нему в пути крестьянами, понадеявшимися на его меч и свиту. Но свита сбилась с дороги, и он, крепко привязанный к дереву, смотрел на допрос с пристрастием, которому подвергали одного из крестьян, обессилевшего от пыток. Над крестьянином стоял разбойник, обещая ему жизнь и свободу, если он введет их тайком в деревню и спрячет у себя до ночи, когда можно будет приступить к поджогам и ограблению самых богатых дворов. Пытаемому и жаждущему пить после страшных порций соли, всыпанных ему в глотку и раскрытые раны, они обещали масла и воды, исподтишка друг другу улыбаясь. А другой раз на пыльной дороге в Орвието он увидал змею, обвившуюся вокруг большого хомяка, тщетно пытающегося освободиться и отчаянно кусающего пустое пространство. Блестящее тело пресмыкающегося медленно вытягивалось, свертывалось, извивалось в пыли и шипело от довольства и предвкушения. Это была не атака, а жестокая, мучительная игра, с наслаждением растягиваемая, глядя на которую становилось не по себе. Змеиное тело изогнулось дугой, отпрянуло от перепуганной жертвы, опять медленно подползло ближе, волочась между холмиками земли. Это было еще не прикосновение смерти, но его упоенно и сладострастно замедленное предчувствие – не только прямая черта флейтового, трепещущего змеиного тела, но улыбка, ядовито-лукавая и в то же время любовно-взволнованная, улыбка смерти, кинутая вот здесь на глину почвы, улыбка спиральная, волны которой все время менялись, – узкая змеиная головка и трехгранная улыбка, изящно вырезанная.
Тринча невольно слегка отодвинулся в кресле. Классически прекрасное лицо Браманте вдруг изменилось, некоторые черты исчезли, другие резко выступили вперед, он поднялся величественно, взявшись обеими руками за доску стола, и перестал говорить в пространство, а обратился прямо к ним.
И в сознании да Тринча убийца из Сан-Джиминьяно и змея снова заслонили человека, украшенного папской золотой цепью и награжденного титулом главного папского строителя храмовых зданий.
– Для меня главное – очистить здесь атмосферу… – слышался сухой, невозмутимый голос Браманте, совершенно непохожий на тот, которым он говорил о своих планах. – Вы поможете мне, а я помогу вам. Ваша мысль – хорошая, она вполне оправдает себя в смысле дохода, мне не надо, чтоб вы делились со мной, я не участвую как вкладчик и не буду брать прибыль, – вместо денег буду давать только советы. Для вас, конечно, не будет иметь значения, если некоторым людям придется исчезнуть как можно скорей из Рима, – а если они не обратят внимания на мои предостережения, я найду способ устранить их так, что их отсутствие никто и не заметит. Первый из них и самый важный – это Сангалло, но он уже не опасен. Его святость, восхищенная моим творчеством, решительно отклонил все его планы, так что с этим флорентийцем, слишком много о себе воображающим и детски наивно ждущим папского зова, теперь навсегда покончено, – удар настолько сокрушительный, что он от него никогда не оправится. Для Рима, для папы, для искусства, для всего – он умер. Но мертвецы распространяют зловоние. Надо удалить все остатки…
Прелат Капицукки, жмуря заплывшие жиром глаза от слепящего солнца, прошептал:
– Мне известно, что здесь еще ученик его, этот Андреа Контуччи, по прозванию Сансовино…
Браманте махнул рукой.
– Этот останется, на него можно положиться. Между Сангалло и Сансовино еще во Флоренции произошла размолвка, я знаю, это из-за брошенной, оставленной глыбы мрамора, о которой Синьория вдруг вспомнила – и теперь во Флоренции из нее сделана статуя Давида. Брался сделать Сансовино, но Синьория по совету Сангалло поручила другому. Маэстро предал своего ученика, изменил ему, а таких измен ученики никогда не прощают. Сансовино отошел от Сангалло – и правильно сделал, пускай Джулиано заплатит за свою измену. Теперь Сансовино – мой ученик и очень верит мне, я не предал его из-за какого-то испорченного куска мрамора. Андреа уже открыл мне многое насчет мастерской Сангалло, это полезный союзник, надеюсь, в скором времени Апостольская канцелярия поможет мне найти для него работу. Мы должны наградить Сансовино.
Прелат Капицукки понимающе заморгал и слегка поклонился. Но комтур Чезаре Тиньосини сделал нетерпеливое движение и смущенно стал мять свои худые руки. Все помнили, что комтур плащ свой заслужил не на поле боя, а получил при папе Александре Шестом, по случаю празднества в год Милости, когда он внес большую сумму. Алеппский комтур де Спиритуалибус эт Ангелис, несмотря на суровое и гордое выраженье лица, упитанного золотом и почетом, перед тем как сделать решительный шаг, всегда терялся. Неуверенным потираньем худых рук разогнав свою робость, он прошептал:
– Здесь еще сын его…
Браманте на этот раз не махнул рукой, как сделал при упоминании об Андреа Контуччи Сансовино, а резко и презрительно рассмеялся:
– Антонио да Сангалло? – Посмеялся еще немного, потом прибавил: – И он теперь тоже мой ученик.
Они сникли, так как никому не одолеть победоносно улыбающегося Браманте. А прелат Теофило устремил на Браманте подобострастно сияющий взгляд. Секретарь Святой канцелярии мог оценить Брамантовы слова лучше, чем кто-либо другой, и преклониться перед великим мастерством, даже для него недостижимым. Восторг его был так глубок и пылок, что, казалось, он испытывает теперь к Браманте еще больше уважения, чем прежде, когда тот с таким упоением объяснял свои планы и намеренья. Но патриций Тринча, склонив голову, молча думал о старом маэстро Сангалло, который так долго ждал, возложив все надежды на кардинала Джулиано делла Ровере, от св. Петра в Оковах. Повержен навсегда, мертв для папы и для искусства, – а вдобавок и родной сын перешел к победителю-врагу. Снова возникло впечатление той змеиной улыбки на пыльной дороге близ Орвието, не прикосновенье смерти, а сладострастно продлеваемое ожиданье ее. Теперь надо бы спросить, кто из Сангалловых друзей и учеников должен исчезнуть из Рима, но он молчал и продолжал молчать, когда уж отогнал все воспоминания об Орвието и о Сангалло, молчал и, глядя на Брамантово лицо, учился понимать многое.
Браманте равнодушным движеньем холеной руки перебирал шитую золотом парчовую скатерть. Он слушал тишину и мягкое жужжанье дрожащего парева. С наслаждением зажмурился, думая о наступлении вечера. Тогда во влажном воздухе, полном благоухания умирающих цветов, загорятся сотни и сотни огней, и под смех красивых женщин, под звон серебряных чаш и блюд поплывут сладкие звуки флейт, виол, лютен и клавикордов, свежие девичьи и мальчишеские голоса начнут петь новые мадригалы и сонеты в искусном, прелестно скомпонованном двоегласии и троегласии. Пользуясь влажной свежестью ночи, он устроит пир для прекрасных женщин, посланников, кардиналов и дворян, на котором объявит о своем новом сане, о великой своей победе – принятии его планов его святостью. А потом будет одна из самых сладких ночей, какие ему приходилось переживать под римским небом и в течение которой он вознаградит себя за все свое самоотречение. Позвать и этих трех? Они еще будут полезны, а Гипсипила, любовница комтура, очень красива.
– На галерее, – сказал он, постукивая пальцами по тяжелой скатерти стола, – ждет человек, который мне так же противен, как Сангалло, и которого я не потерплю в Риме. Он должен исчезнуть навсегда, как исчез Сангалло… И вы мне поможете!
Прелат Капицукки поглядел на него растерянно, в испуганном изумлении.
– Кардинал Ипполито? – прошептал он тревожно.
Туда-сюда, туда-сюда… бряцанье меча на повороте галереи… туда-сюда… В самом деле, там до сих пор звучат шаги хищника из Феррары. Неужели Ипполито д'Эсте, совершенно равнодушный к искусству, а главное – к построению собора, тоже чем-то опасен маэстро Браманте?
– Там двое в дорожной одежде, – продолжал Браманте. – Оба хотят видеть папу. Один – потому что уезжает, другой – потому что приехал. Какое мне дело до кардинала Ипполито? Пускай убирается в Феррару или в преисподнюю, мне безразлично. Но другой… другой, который ждет…
Браманте встал, и в позеленевших от ненависти, сузившихся зрачках его вспыхнули острые огоньки. Руки сжались, лицо стало серым.
– Микеланджело Буонарроти! – крикнул он. – Бывший ваятель Лоренцо Маньифико, Сангалло привез его ко двору Юлия, он соблазнил папу предложеньем надгробия и получил от его святости один из самых крупных заказов. План папского надгробия! "Сто тысяч скуди…" – сказал этот флорентиец, и святой отец, увидев чертеж, ответил: "Ты получишь двести тысяч золотых скуди, если осуществишь то, что здесь начертил". Вы понимаете? Нынче двести тысяч скуди, а сколько завтра? Нынче план Юлиева надгробия… а завтра какой? На площади святого Петра высятся горы мраморных блоков, которые Буонарроти навозил из Каррары, и все это – материал, чтоб строить одно только надгробие? Микеланджело для меня хуже, противней Сангалло. Площадь завалена мраморными глыбами – на радость папе, на потеху римлянам, назло мне и всем нам, художникам, которым скоро придется стать в сторонку и, сложа руки, глядеть, как работает Буонарроти. Бродяга без имени, без средств, без сановитости, без покровителей, без благообразия и хороших манер. Надгробие! Мраморные горы статуй, которые он хочет нагромоздить в выстроенном мной соборе… Я должен строить для того, чтоб он, совсем завладев сердцем папы, наполнил здание своими работами? Я? А святой отец соблазнен, околдован этим планом, только о нем и говорит, Буонарроти участвует во всех папских покупках, и когда, перед самым его отъездом в Каррарские каменоломни, в Риме выкопали Лаокоона, кого святой отец тут же позвал смотреть на эту добычу? Может быть, меня? Или Кристофо Романо? Или Андреа Бриоска Ричча? Или Туллио Ломбарди? Или хоть этого Сансовино? Или Лучано да Лаурано? Нет, он позвал Микеланджело, и Микеланджело не постеснялся исправлять даже старого Плиния, – твердит его святости, что Лаокоон изваян не из одного куска камня. Да, Буонарроти, флорентиец!
Браманте взволнованно прошелся по комнате, по-прежнему с сжатыми кулаками. Слова его звучали резко, похожие на карканье, повторяясь.
– Я позабочусь о том, чтобы не было надгробия, а вы позаботьтесь, чтобы в Риме не было Микеланджело. Это страшный враг – хуже, чем старик Сангалло. Это враг всем нам. Андреа Сансовино, вернувшись во Флоренцию славным зодчим и ваятелем португальских королей, был вынужден уступить ему. Был вынужден уступить, не получил даже испорченного камня, и статую Давида изваял Буонарроти. Мой дорогой, бесценный друг, лучше которого я никого не знаю, божественный Леонардо да Винчи тоже должен был ему уступить, после того как вернулся во Флоренцию, прославленный так, как только может быть прославлен смертный. Картон для большого зала Синьории сделал Буонарроти, а Леонардо скитается теперь по городам, словно бездомный изгнанник. И так все время. Говорят, в Болонье, как только там появился Микеланджело, ему должен был уступить мой знакомый, Лоренцо Коста, хотя до тех пор в Болонье не было художника крупней Лоренцо Косты. Вот как опасен этот флорентиец! Лоренцо Коста, Андреа Сансовино, Леонардо да Винчи, – нет, надо сейчас же принимать меры. Я не хочу испытать судьбу Сансовино, Косты и Леонардо. Я – Браманте!
Лицо его окаменело. Он опять глядел и говорил в пространство, а не этим трем онемевшим, испуганным слушателям. Много было толков о тех способах, какими Браманте умел устранять неуступчивых соперников, – не всегда побеждал он искусством. При дворе Сфорца, в золотой век Милана, при Лодовико Моро, он научился многому, еще неизвестному в Риме. И голос его был тяжелый, повелительный, в классически прекрасном лице древнеримского сенатора времен Августа не дрогнул ни один мускул. Так вот зачем он пришел! Прелат Капицукки чуть-чуть пошевеливал губами. Это он наскоро про себя подсчитывал прибыль и расходы, какие повлечет за собой предложение Браманте, если принять его. Комтур Тиньосини подсчетов не производил: он знал, что отказаться невозможно. А патриций Тринча молчал, учился понимать многое.
Вдруг голос Браманте зазвучал мягче, приятней. Он промолвил с улыбкой:
– Разделите со мной радость по поводу принятия моих планов его святостью. У меня соберется избранное общество, приходите и вы. Там, улучив минутку, договоримся в одной из комнат о дальнейшем. Дело не очень легкое, но я уверен – удастся. Кардинал Рафаэль Риарио уже дал свое согласие – и не только он. Повторяю: я постараюсь добиться от его святости, чтобы не было надгробия. А вы постарайтесь, чтоб не было Микеланджело. – Потом спохватился. – Не думайте, что во мне говорит боязнь…- Он окинул их быстрым, испытующим взглядом. – Я много таких Микеланджело со своей дороги убирал, все они сгинули, а я, Браманте, остался. Почему я о нем завел речь? Я хочу работать спокойно, мне предстоит создать величайшее произведение в своей жизни, и никто не должен мне мешать. Я буду строить собор для всего человечества, буду строить Рим. Что для меня Микеланджело? Просто кто-то мешающий, как римлянам мешают его каменные глыбы, которые он нагромоздил на площади святого Петра. Я не хочу, чтоб мне мешали. И не стал бы даже думать о нем, если б мог довериться его святости. Вы же… знаете, как легко соблазнить святого отца любым новым планом, который обещает умножить величие его понтификата и славу Рима. Но я добился успеха у папы искусством своим, а Буонарроти вкрался в его сердце хитростью и от этой хитрости погибнет. Пускай возит свои мраморы на римскую площадь, – этим он только людей насмешит. А придет время, святой отец еще отдаст их мне! Микеланджело Буонарроти…
Браманте провел рукой по своему высокому, надменному лбу и умолк. Вздрогнул, как от неожиданности… Словно рука его тронула не горделивый свод лба, а, вытянутая вперед, натолкнулась на стену и бессильно упала вниз. Откуда этот легкий оттенок страха в его властном голосе, оттенок, для других неприметный, но который сам он чувствует и не может прогнать? Почему вообще он объясняет все это трем посторонним, интересующимся только наживой и не понимающим добрую половину из того, что он хочет сказать? Ведь это выглядит так, словно он пытается оправдаться, извиниться… Это он-то! Который никогда ни перед кем не оправдывался и не извинялся. А теперь он словно неуверен в себе, словно все время хочет что-то заглушить у себя внутри, словно всеми этими словами, обращенными к трем здесь сидящим простым барышникам, хочет что-то доказать самому себе… Зачем он, собственно, пришел сюда?
С каких пор стал он искать таких союзников? Что побудило его объяснять вот этому пройдохе, астматику-прелату, каждую минуту подсчитывающему в уме расходы и доходы, этому патрицию, который играет свою жалкую роль, напуская на себя важность и обманывая самого себя, да какому-то богачу, не знающему, куда девать деньги, купившему себе звание комтура вместо третьей любовницы, чтоб придать больше блеска и пышности своему имени, но мертвому ко всему духовному, – рассказывать этим трем ничтожествам о своих планах, своей победе, своей борьбе? Разве один уж приход его не говорит о слабости и растерянности? Триумф изумления! С каких пор ему этого не хватает? Он всегда взирал сверху вниз на такие вещи, был завален ими, пресыщен, знал о своей гениальности. А теперь за ними гоняется? Разве ему уж не довольно папского объятья и золотой цепи наивысшей степени, а понадобились еще вот эти ничего не говорящие физиономии? И нужно все время напоминать людям, что это еще он, Браманте?
Резкая бороздка морщины пересекла его лоб, слегка порозовев от внезапного прилива крови. Высшая цель моей жизни… А мне шестьдесят лет… И Леонардо да Винчи было шестьдесят, когда этот юноша вдруг грубо и жестоко встал ему поперек дороги. Да, молодость… И Леонардо был, конечно, так же уверен в своей победе, своем искусстве и правде своей жизни, как теперь уверен он, Браманте. Леонардо приступил к делу со всем своим опытом, в полной силе своего сердца и духа, как творец, как великий творец… И все-таки этот юноша победил одним своим картоном! А краски на стене в зале Синьории растеклись…
Микеланджело тридцать лет.
Леонардо шестьдесят, мне шестьдесят, папе Юлию шестьдесят.
Почему, собственно, произнес я эти слова: "Не думайте, что во мне говорит боязнь"?
Ах, как я понимаю теперь папу Юлия! Иметь силу так остановить время вот этими руками, которые мнут плиты базилики, задержать великую звездную стрелку времени, воспротивиться рушащимся, оглушительным каменьям часов, ибо каждый из них падает, как обломок скалы, срывая и унося с собой кусок жизни, цветущие кусты счастья, персть и глину боли, и лишь отзвук желанья, бесконечный отзвук желанья возвращается над паденьем этих каменьев, звучит…
А иной раз ползет, как змея из скал.
Восстать против этого неумолимого порядка, сломать, вдребезги разбить морозную, леденящую пирамиду времени, вздымавшуюся над его столом, когда он, старик, изнеможенный мучительной работой, с глазами, воспаленными от бессонницы и ночного бденья, в упорном усилии провоевать и прострадать свой величайший бой, чертил и обдумывал план здания для будущих тысячелетий, поднимая его стены, арки и своды, плавил и ваял мысль в напряженнейшей творческой борьбе. И папа Юлий тоже лихорадочно спешит, зная, что жить осталось немного. И в эти уже немногие оставшиеся годы он тоже хочет создать величайшее свое произведение: перестроить церковь и Рим. Каждая секунда полна утомительнейшего труда и настойчивейшего усилия. Старик верит, что ему будет дано победить, довести до конца, достроить, укрепить. Верит, что вырвет у смерти эту драгоценнейшую добычу. И папа Юлий, старик в панцире, не знающий ни отдыха, ни сна, тоже слышит оглушительный грохот рушащегося каменья часов, лавину времени, и руки его тянутся к кресту, чтоб они опять вернулись. А иногда время ползет, как змея из скалы, медленно, кольцами, коварно, и папа уже готов пронзить копьем и шпорой ее отвратительную узкую головку, переживем с божьей помощью и века, пока не будет достроено, увидишь, победим и время, не умрем еще, нет, не умрем, победим…
А этот юноша приходит и предлагает надгробие.
Надгробие! Так жестоко и грубо может поступать только молодость, только горячая, пылкая, жадная молодость.
Надгробие! И папа, сойдя с архиерейского трона, дотронулся посохом из слоновой кости бедер юноши, опустил глаза и кивнул.
Но я не кивну! Браманте закрыл лицо руками. Хоть мне и шестьдесят лет, я еще всего не сказал, – наоборот, только теперь хочу сказать самое великое и высокое: я возвожу свод над средоточием всего мира, собор всего человечества, возникает первая за тысячелетия базилика всего христианства и будет стоять тысячелетия, укрепленная мной до самого основания, пока в вечном понтификате своем не приидет сам Спаситель – судить мир огнем. Нет, нет, нет! Я не уступлю! Никто не встанет на мое место! Искусством и ядом, всем пламенем своего духа и кинжалом буду я защищаться и биться, биться не на живот, а на смерть против всех тридцатилетних, зовись они Микеланджело или еще как-нибудь. Может, мне даже нет шестидесяти, а это только мои вновь разыгравшиеся боли, старые раны, отголоски жадного стремленья, бесконечные отголоски стремленья, которые всегда звучат, звучат и над обвалом этих камней, – это только мои страхи, а не время, не расступилась под моими ногами земля, я стою твердо, мне нет нужды чем-то себя оглушать, зачем-то притворяться, в чем-то оправдываться, что-то себе и другим доказывать…
Почему я сказал те слова?
Он дал ладоням соскользнуть с лица и опять увидел удивленные, непонимающие глаза тех троих, которые сидели молча, почтительные, неподвижные, испуганные. Горячая, пылкая молодость… А перед ним – словно три мертвеца. Белый налет на лицах, морозный иней смерти, на теле – вместо комтурского плаща и патрицианского камзола только пепельный саван, веночки да клубки червей в волосах и бороде, сердца, полные пепла, головешки спекшейся крови. Он пошатнулся, ему показалось, что он теряет сознание. Схватился за край стола и так замер, стоя с полузакрытыми глазами, а они, испуганные, вскочили и бросились к нему. Старик дрожал, лица покойников были слишком близко, руки, к нему прикасавшиеся и заботливо его поддерживавшие, леденили, от них несло запахом и холодом могилы. Ему страстно захотелось из них вырваться, убежать, нет, он еще не так стар, может, ему еще нет шестидесяти, нынче еще наступит чудный вечер, полный благоухания цветов в садах, загорятся сотни и сотни огней, и под смех красивых женщин, под звон серебряных чаш и блюд поплывут сладкие звуки флейт, виол, лютен, клавикордов, дышащие свежестью девушки и юноши запоют на три голоса новые мадригалы и мотеты, будет пир, после которого его прелестные подруги устроят ему одну из самых сладких ночей. Горячая, пылкая молодость…
Он победил Сангалло искусством, а кто когда имел возможность этим похвастаться? Он победит всех, и тогда – высокие стены и грани собора остановят время на веки веков.
А сейчас шаги времени внятны. Это уж не паденье камней, не ползучие движенья в извивах и коварных спиралях, это шаги, молодые, упругие шаги. Он их слышит, они отдаются под высоким ломаным сводом галереи, гудят отзвуками, свод возвращает их стенам, и стены звучат их отголоском, шаги, шаги и галерея, они приближаются и удаляются, длинная галерея отвечает, может, еще не дойдут, – вот опять послышались, – за столькими стенами, за столькими комнатами, за столькими талонами, а все-таки слышны и здесь, время и шаги ходят и ходят по длинной галерее, он слышит их… И вдруг остановились. Сразу. Вот сейчас. Застыли. Тишина. Старик перевел дух, и лицо его опять стало суровым. Он устремил на своих собеседников холодный взгляд и встал с кресла, объяснив обычным своим, повелительным голосом минутное недомогание. Шаги остановились. Пропали. Опустились так глубоко, что их перестало быть слышно. Тишина.
Микеланджело на галерее опустился на колени. Кардинал Ипполито д'Эсте, злясь на его присутствие, сделал то же. Распахнулась тяжелая завеса – и вышел папа.
Он не знал, что его здесь ждут; остановился в удивлении, подняв густые белые брови. Он был разгорячен мыслями о войне, и посох слоновой кости в руке его дрожал. Потому что до этой минуты он был с командирами частей, отказывавшимися выступать в такую адскую жару, требуя отсрочки. Знойный воздух падает, как горячий пепел, небесные знаменья предвещают только гибель и мор. Сложив мечи на плитах пола – в зале, где был прием, и воздев руки, как для молитвы, они не жалели слов, колотя себя в грудь и наперебой убеждая в своей преданности и храбрости. Говорили все сразу, стараясь друг друга перекричать, а папа стоял, стиснув зубы и прожигая их насквозь быстрыми, мечущими искры взглядами. Никто не обвинит их в нерадивости на папской службе, они доказали это многими победоносными сражениями, некоторые от усердия расстегнули куртки, показывая свои раны, другие, захлебываясь словами, перечисляли названия завоеванных городов. По первому слову святого отца, по его короткой команде они всегда тотчас бросались на приступ врукопашную, круша ряды неприятелей, валя башни мятежных городов, вырывая ключи из рук устрашенных синьоров, проламывая стены. Но сейчас – солнце! Солнце – это противник, против которого не выстоят ни сила, ни храбрость их. Войска изнемогут, не дойдя до неприятеля, колодцы на дорогах высохли, мясо протухнет, в провианте разведутся черви. Спаленная солнцем земля, великая пустыня, леса без тени, горящие деревни, горящая трава, скалы – кузнечный горн, окрестность – печь для обжигания извести, – и в них вступят сгорбленные, сломленные тяжестью жары люди. Их со всех сторон обступят страшные призраки: привидения в полдень, паника войск, голод, жестокая жажда, болезни от грязной болотной воды. Они преувеличивали все это, крича и хватаясь за край папского плаща, веявшего над ними, так как папа без устали ходил вдоль их рядов быстрыми мелкими шагами. Раскаленный яростью солнца панцирь не так жжет, как сердце, но перед ним стояла на коленях вся зыбкость человеческая, он еще раз взглянул на их полные страха и ужаса лица, на их жилистые руки убийц, хватающие его теперь за плащ, на их бессильные, коленопреклоненные фигуры, и лицо его исказилось гримасой. Он слегка отступил, вырвав свою одежду из их пальцев, и остановился, сжавшись, тяжело дыша.
Все готово к походу. Он хотел сам стать во главе войск, чтоб повести их на венецианцев, прячущихся за щитами Людовика Двенадцатого, который разгромил в пух и прах Милан. Венецианцы! Сейчас самое подходящее мгновенье ударить по ним и навсегда покорить их. Тщетно противятся они португальской силе, овладевшей Индийским океаном; мир их с Турцией висит на том шелковом шнуре, на котором качается его зачинатель Хайрудбек, посланник Баязета Второго в Венеции, прозванный сарацинами "Вели", что значит "Святой"; император Максимилиан выжидает в области Форли, и отряды его нетерпеливо глядят за зеленые воды Адидже, на противоположный берег, где в высоком сборчатом шатре венецианский providitore 1 пишет спешные послания о помощи и усилении гарнизонов; неаполитанские испанцы с неудовольствием подсчитывают, сколько апульских гаваней успел вооружить дож и прокуратор святого Марка-евангелиста под предлогом обороны против турок. Сейчас – самое подходящее время для того, чтобы навсегда усмирить гордую республику. Романью, папскую Романью сделал своим достояньем проклятый дон Сезар, сын папы Александра Шестого, никогда не перестававший мечтать об императорской короне. Проклятый теперь далеко, он бежал, а все не перестает мечтать об императорской короне, в пыли и грязи несет собачью службу в качестве простого bandero 2 где-то в Испании, но после его паденья венецианцы стали рвать папскую Романью на куски, пока не вырвали из нее четыре самые драгоценные жемчужины – Равенну, Червию, Римини, Фаэнцу. Столько непокорных князей были разбиты и вынуждены вернуть свою кровавую добычу, и венецианцы тоже должны вернуть четыре похищенные ими жемчужины, как бы ни прикрывались они французскими рыцарскими щитами Людовика Двенадцатого.
1 Попечитель (ит.).
2 Начальник отряда (ит.).
Две крепости стоят на пути этого похода на Венецию, две твердыни, которые нужно сперва разметать, – это Перуджия и Болонья. Необходимо выступить как можно скорей, чтобы через разметанные камни этих крепостей двинуться дальше и дальше – до самых венецианских лагун. В Перуджии кровавый Джанпаоло Бальони, в Болонье – псы Бентивольо, в Милане – Людовик Двенадцатый, и венецианцы только осклабляют свои желтые лица в лисьи усмешки, не обращая внимания на проклятья. Папа, сжавшись и стиснув посох слоновой кости дрожащей рукой, окинул огненным взглядом ряд коленопреклоненных. Командиры его войск! Он вперил в них ненавидящий взгляд, дрожа от нескрываемого отвращенья. У Джанпаоло Бальони в Перуджии великолепная армия, навербованная еще доном Сезаром. Кондотьеры с самыми громкими именами, покрытые пылью многих победоносных сражений, стоят во главе этих войск, с которыми дон Сезар в маске, папский сын, imperator in potencia 1, хотел завоевать Италию. Джанпаоло, после кровавой свадьбы Асторро с Лавинией Колонна, который один несет теперь на себе родовое проклятье, знает своих и уверен, что никто из них не предаст. Человек, выросший среди великих родовых убийств и за одну ночь овладевший городом, где на улицах валялись еще не остывшие трупы его братьев и дядьев, никогда не признает себя лишь временным вассалом церкви. Великолепное войско его подступило к границам Папского государства, и тень дона Сезара – с ними. И Джанпаоло уже переселился в Орвието и дает приказы к продолжению наступленья. Они идут под грохот барабанов, и знамена, где еще недавно сиял золотой бык Борджа, шумят на полночном ветру. Ни один из его кондотьеров не станет просить на коленях об отсрочке. И лучшие пушечники Италии, ценой великих жертв раздобытые доном Сезаром, сопровождают эти части. Но лучшие мастера отлили орудия и для болонских Бентивольо, их пушкарей охотно взял бы к себе сам император Максимилиан. Болонья стоит прочно и гордо, она одерживала верх и над войсками посильней папских швейцарцев, из-за зубцов их тройных укреплений слышен насмешливый смех защитников, и прославленные болонские скьопетти упражняются каждый день, даже в самую свирепую жару, под командованием знаменитых военачальников, из которых ни один не станет на колени перед своим государем, чтоб просить об отсрочке.
1 Претендент на императорский трон (лат.).
Папа глядит на них, закрывающих лицо руками от его взгляда – в ожидании страшного взрыва ярости и тюремного заключения в Адриановых стенах. Глядит и задыхается от омерзения. Если б он одним взмахом посоха мог снести с плеч эти склоненные головы, он бы сделал это, но на его костыле вырезаны изречения о милосердии, стихи псалмов, рыданья и сетованья, отпущения. Всякий раз, вспомнив об этом, он удивлялся! Сила – милосердие, власть отпущенье. Высокий посох, которым он пасет стада народов, расположенных от востока до запада солнца, от моря до моря, от ледяных гор и темных вечных морозов до жарких долинных краев, где нагие бронзовые люди в первобытной невинности срывают с деревьев райские плоды, живя среди ручных зверей, высокий посох властелина над народами и псалмопевцами. А в стихах, вьющихся вокруг вершины посоха, словно пышно разросшиеся листья, говорится: "Одни колесницами, другие конями хвалятся, мы же именем божьим". И еще: "Не медли, господи!" И дальше: "Не боюсь тысяч, обставших меня лагерем". И в другом месте: "Что такое человек, что ты обращаешь внимание на него, – смертный, что ты печешься о нем?" И еще: "Над врагами моими возвысил меня, потому славлю тебя, господи, между народами". И много еще – о том, что другие надеются на силу голеней и рук воинов своих, мы же на твердыню божью. И все, о чем в плаче своем молился святой пророк Иезекииль. А вокруг самой вершины обвился стих об ангеле, пребывающем с теми, кто больше боится бога, чем врагов. И было там написано: "Нынче в ночь умру, могу надеяться только до утра".
Он читал, поворачивая посох и бродя взглядом по отдельным стихам. Тишина сгустилась. Не переставая жужжало дрожащее парево. Воздух, пропитанный всеми бурями, набряк и пах серой будущих молний. Тишина оглушала, свертывала всю кровь сердца, затворяла уста, так что дыханье выходило только с хрипом, как при кончине. Потом почти овеществлялась, становилась непроницаемой, разрушалась, обваливалась и опять восстанавливалась, – все было набито тишиной. Коленопреклоненные стенали только в сердцах своих, так как чем глубже было папское молчанье, тем грозней должен быть приговор. В конце концов они, не выдержав, подымали белки глаз, с зрачками бегающими, как вспугнутые звери. Лучше б он закричал, кинулся на них, стал их бить и колотить, срывать с них командирские отличия, ломать мечи, позвал стражу!.. Но папа стоял, не двигаясь. Они глядели, выпучив глаза, на его сгорбившуюся фигуру и видели, что он читает. Читает по своему посоху, как по молитвеннику.
Потом он вдруг резко повернулся. И, уже не глядя на их посиневшие лица, не разрешив ни словом их ужаса, оставив всех в полном пренебрежении и не дав никаких приказаний, вышел из зала.
Длинная галерея. Старик идет своими быстрыми, торопливыми шагами, стуча посохом в плиты. Написано: "Нынче в ночь умру, могу надеяться только до утра".
Длинная галерея прямо окровавлена выдыхами солнечного жара. Он остановился. Перед ним стоял на коленях кардинал Ипполито д'Эсте, выклянчивая разрешенье на отъезд.
Тут папа не выдержал и разразился жестоким, колючим хохотом. Это была судорога смеха, злая, ненавидящая, поток смеха, бивший из его сжатых губ, из огненных глаз, из сухих худощавых рук, из всей его сжавшейся старческой фигуры, смех, смех, пожирающий, едкий. Над чем он смеялся? Ипполито, поглядев растерянно, увидел, что кардинал Алидоси, высокий и молчаливый, успокоительно кладет руки папе на плечо. Тут Ипполито понял, что папа так жестоко высмеивает не только его просьбу, тут что-то большее, – может быть, старик смеется над всем, что совершил, что хочет совершить, смеется, может быть, над своим собственным сердцем, и оттого все вокруг – так безжалостно и жестоко. От этого старческого смеха мороз подирает по коже, он падает и разбивается, словно куски льда, то со скрипом проходит сквозь крепко сжатые зубы, то хлынет свободно, и редкая, длинная борода Юлия замарана этим смехом, его слюнями, – нет, кардинал Ипполито не хочет строить догадки, он продолжает говорить, как проситель, будто не слыша этого смеха, говорит подробно и с великим смирением, словно святой отец сидит перед ним на троне и внимательно слушает. Говорит жадно, и в речь его все время врывается мутная пена старческого смеха, тщетно кардинал Алидоси снова кладет свою исхудалую, трагическую руку папе на плечо, папа смеется, стиснув зубы, харкая смехом, сверкая глазами, согнувшись. А Ипполито, то краснея, то бледнея, продолжает объяснять, почему он жаждет вернуться в город, где свирепствует мор. В Риме перехвачено сообщение о готовящемся заговоре против герцога Альфонсо, план и список участников попали в руки Ипполито, этого нельзя никому доверить, и нужно действовать как можно быстрей, сперва понадобится загнать много коней, чтоб потом затравить заговорщиков, если на то и другое будет согласие его святости, чтобы спасти Ипполитова брата герцога, верного союзника святого престола… А папа все смеется, смеется над Ипполито, над Феррарой, над войсками и заговорщиками, над мором и над собой. Ипполито, раскрыв розовый дорожный камзол на груди, стал читать имена, понизив голос, в котором прозвучала боль, так как первым в списке стоит брат его Джулио, дважды ослепленный, не только сучком, но и злобой, до того забылся молодой иерей, что устраивает заговор против брата герцога. Прелести уж в нем нет никакой, он – слепой, и кровавый шрам тянется у него через всю правую щеку. И девичьей нежности тоже больше нет, он готовит смерть. Анджела Борджа не стала за него мстить, отвернулась от него с презреньем, он хочет отомстить теперь сам, – юноша уж не верит залогам любви. Но здесь и другие имена – граф Ферранте, клирик Жан де Гасконь, граф Боскетти, придворные сановники, военачальники, клубки змей расползлись по охваченному мором городу, чьи стены еще не обсохли от крови прежних убийств, он растопчет эти змеиные гнезда, сметет их краем своего кардинальского плаща, он не побоится вступить в зачумленный город, чтобы спасти брата герцога, верного воина церкви.
Смех прекратился. Папа, тяжело дыша, оперся на Алидоси и долго молчал. Понемногу приходило успокоенье, но руки все дрожали. Потом, взглянув на завешенные Шалоном двери, он произнес одно только слово:
– Поезжай!
Оно скатилось, как капля крови.
Ипполито встал и устремил на папу долгий, застывший взгляд, словно сбитый с толку столь неожиданным позволением больше, чем решительным отказом.
– Поезжай! – повторил папа и, выпрямившись, прибавил: – Но клириков моих не трогай! Особенно Жана де Гасконь надо беречь, он – мой!
Ипполито медленно поднял руку для клятвы, все еще не понимая: он ждал яростной вспышки, бури, чего угодно, только не согласия и смеха. Он колеблется, слишком еще растерянный, и хищные глаза его блестят от удивления. Но кардинал Алидоси незаметно делает ему знак – скорей удалиться. Только тут он пришел в себя и уходит, бренча мечом, без единого слова и без единой мысли.
Мягкие торопливые шаги Юлия и стук его посоха – уже на другом конце галереи. И на том, что служит ему опорой, написано: "могу надеяться только до утра". Он идет. Перед ним на коленях – новая фигура, юноша в дорожной одежде без украшений. Юлий дотронулся до него посохом.
– Ты!.. – воскликнул он радостно.
Это обозначало приказ – подняться.
Микеланджело встал. Они вошли в горницу с голыми стенами, без фресок, без ковров; дубовый стол не украшен искусной резьбой, кровать – простая. Несколько рундучков с разбросанными на них книгами, чертежами, географическими картами, грамотами. Между двух окон монастырской формы висело распятие. Папа опустился на стул и закрыл глаза, уйдя в себя. Здесь, в однообразии и наготе серых стен, жил он, пока для него еще не приготовили и не украсили росписью и Шалонами покои в другом крыле. Здесь, в горнице, похожей на каморку рабочего, жил папа, затопивший Рим искусством, а церковь – величием и славой. Потому что он никогда не входил в комнаты Борджа, считая своего предшественника Александра Шестого похитителем тиары и святокупцем, сыном курвы и дьявола, воссевшим на папский престол лишь с помощью денег, хитрости и святотатства. И до того омерзительным было для него все борджевское, что даже воздух тех комнат казался ему отравленным преисподней. И он приказал запечатать знаменитые Александровы покои и окадить дверные косяки ладаном. И вот глазел там с люнет золотой бык Борджа, подле быка Аписа, в пустое пространство, и золотые, нежно и сладостно-голубые, чудного оттенка фрески Пинтуриккио крало время и пожирала известь, папа Александр в торжественном облаченье, с одутловатыми щеками, сжав руки, преклонял там, на Пинтуриккиевом лугу, колена перед распятым Спасителем, и никто этого не видел, Лукреция Борджа, с золотым облаком волос вокруг прелестной головы, в обличье великомученицы святой девы Екатерины, защищала веру перед судьей доном Сезаром и герцогом Гандии, и никто на нее больше не любовался. Печати были крепкие, свинцовые, с вытесненным на них предостереженьем. Только время, как змея из скал, проползало по этим комнатам, питаясь старой кровью да плесенью. А папа Юлий Второй жил пока в голой горнице, без фресок и ковров, дожидаясь, когда крыло дворца устроят так, чтоб оно стало достойным его величия. Он долго сидел, заслонив глаза руками, потом заговорил, не отнимая их от лица.
– Ты вернулся, Микеланджело…
– Из Каррары… – тихо ответил Буонарроти, эти сжатые стариковские руки словно лежали на его губах. – Часть мраморных глыб уже в Риме, часть я велел везти во Флоренцию, буду там работать над самыми трудными статуями, да и флорентийские рабочие дешевле римских. Много камня пропало при доставке морем в бурю и непогоду, много переломали, разбили, испортили при перевозке. На днях жду еще корабли, которые подрядили у судовладельцев в Лавагве за двадцать два золотых дуката. Потом…
– Когда ты приступишь?
Микеланджело промолчал.
Юлий Второй медленно опустил руки и посмотрел на него своим обычным сверкающим взглядом.
– Тебе что-нибудь мешает? Ты знаешь, я нарочно велел построить мост от Ватикана к тому месту, где ты будешь работать, чтоб можно было каждый день ходить и смотреть, как ты творишь. Такое у меня нетерпенье… Ты ждешь, когда получишь весь камень?
Так как ответа не было, он продолжал:
– Это напрасно. Никогда не надо ждать. Написано – могу надеяться только до утра. Ждать, все вы только и знаете – ждать! А время летит, не ждет. Я тебе приказываю, а ты повинуйся, Буонарроти! Я хочу завтра же видеть тебя за работой, никаких препятствий не должно быть! У меня впереди меньше времени, чем у тебя, я хочу дождаться своего надгробия, хочу видеть его. Повтори еще раз, порадуй мне сердце, повтори еще раз, что ты собираешься изваять?..
– Это не будет пристенное надгробие, как делают обычно, – тихо начал Микеланджело. – Никакой плоской ниши, заполненной саркофагом и ангелами. Я хочу, чтоб это было обособленное строение, развернутое на четыре фасада и разделенное на три разных яруса. Мраморная гора. Сорок статуй и множество рельефов. Нижняя часть будет расчленена нишами между пилястров. А в нишах и перед пилястрами – статуи, олицетворяющие частью разные искусства, свободно развивающиеся под покровительством вашей святости, частью – все завоеванные вашей святостью города и области. По углам галереи второго яруса будут четыре огромные статуи: Моисей, святой Павел, затем фигура Жизни деятельной и фигура Жизни созерцательной, мраморные стены будут украшены бронзовыми рельефами. Вершину третьего яруса образуют статуи двух ангелов, несущих гроб с телом вашей святости. Один из ангелов будет радоваться вечной славе, а другой скорбеть над землей, отнятой у вашей святости. Вокруг…
– Мраморная гора, – промолвил Юлий Второй и с удовлетвореньем кивнул. Потом взгляд его загорелся и речь стала порывистой. – Что мешает тебе приступить? Зачем и ты медлишь? Тоже ждешь, чтобы спала жара или, может, тоже раскрыл заговор? – Он засмеялся, едко, отрывисто, потом продолжал: Нет такой силы, которая могла бы помешать тебе завтра же первый раз коснуться резцом первой глыбы. Никто не смеет! Вижу: ты только вернулся, и знаю, что в такую адскую жару путь из Каррары нелегок. Но помни: нет отдыха для тех, кто хочет довести свое дело до конца. Настоящие творцы отдыхают только в могиле. Не ссылайся ни на трудности дороги, ни на усталость. Завтра, Буонарроти, завтра же.
Он встал, подошел ближе.
– Глаза твои говорят внятней уст. Ты не хочешь, это ясно. Значит, и ты сопротивляешься, и ты! Все вы одинаковы. Все слабы и беспомощны, сильны только своим упорством, сопротивленьем. – Он сжал руки и прошипел: – Вот так сжать ваше сердце!
В нем опять закипала вся сила гнева. Но, стоя вплотную к Микеланджело, он мирно продолжал:
– Почему ты упорствуешь? Что мешает тебе? В чем затрудненье? Или дом возле храма святой Екатерины, который я подарил тебе, нехорош? Или у тебя нужда в деньгах? Разве я не приказал, чтобы наша казна была всегда для тебя открыта? Не приехали твои флорентийские каменотесы? Мне говорили, что их у тебя полон дом. Дурные вести от родных? Но что родные для художника? Трудности с камнем? Но им у тебя завалено полплощади святого Петра, да сколько еще – между храмом и крепостной стеной, а в пути – новые барки! Здесь кто-нибудь мешает? Назови только – и он будет убран с дороги. У тебя враги? Укажи – и завтра утром их уже не будет в городе. Может быть, я к тебе недостаточно внимателен? Ах, Буонарроти, нет в Риме другого художника, для которого я был хоть когда-нибудь так же доступен, как для тебя, и которому я больше доверял бы. На кого ты можешь пожаловаться? Говори откровенно, и мы даем тебе наше слово, что примем все во внимание и уладим. Кто мешает тебе в твоей работе?
Микеланджело поглядел на него, сложив руки.
– Ваша святость, – промолвил он.
Огненная молния мелькнула в глазах Юлия второго, он сделал шаг назад, сжав дрожащей рукой пряжку плаща на груди. Морщины его сухого лица застыли, голос стал хриплым.
– Приказываю тебе завтра же приступить к работе; если не подчинишься, будешь наказан. Как ты смеешь утверждать, что я мешаю тебе, не даю работать?
Мгновенье Микеланджело колебался, встать ли ему на колени или отвечать стоя. Он остался на ногах и, выпрямившись и теребя край своего запыленного камзола, заговорил торопливо, прерывисто, сперва блуждая взглядом по голым стенам, по безмолвной фигуре кардинала Алидоси, но не видя, не замечая ни стен, ни кардинала, ничего, и, только вперив взгляд в папу, увидел все.
– Святой отец, я не хочу упорствовать… Я был всегда послушен вашим желаньям… но нынче… нынче произошло нечто такое, после чего у меня нет уверенности, что…
– Нет уверенности… нет уверенности… – зло усмехнулся папа. – Что же, тебе не довольно моего слова, чтоб чувствовать уверенность?
– Святой отец, – продолжал Микеланджело, – сейчас же по своем возвращении из Каррары я пошел навестить своего друга, старого маэстро Джулиано да Сангалло, с которым я приехал в Рим и который представил меня вашей святости. Я не нашел его ни дома, ни вообще в Риме. Мне сказали, что он неожиданно уехал. И потом, уже здесь, во дворце, я узнал, что ваша святость, хоть и вызвала его к себе, отказалась теперь от его услуг и наградила золотой цепью главного строителя церковных зданий – Браманте из Милана. А ведь вы – мне больно вспоминать об этом – вызвали Сангалло для построения базилики и все поручили ему. Я стоял на коленях поодаль, когда вы говорили Сангалло: "На что ты можешь пожаловаться? Может быть, на недостаток моего внимания? В Риме нет другого художника, для которого я был хоть когда-нибудь так доступен, как для тебя, и которому я больше доверял бы". А теперь он изгнан, изгнан навсегда. Никто не верил вашей святости больше, чем он, – он, разделявший вместе с вами всю тяжесть ненависти вашего предшественника, он – строитель ваших укреплений, скрывавшийся во Флоренции и с нетерпеньем ждавший той минуты, когда ваша святость взойдет на папский престол. Он всегда удерживал меня от поступления на папскую службу: до тех пор, пока тиара не перейдет к кардиналу Джулиано делла Ровере, – говорил он. И вот теперь кардинал Джулиано делла Ровере надел тиару, я – на папской службе, а тот, который все свои надежды, свою жизнь, свое искусство, все сложил к подножию вашего трона, изгнан. Теперь этот старик – маэстро Джулиано да Сангалло – в зное и дорожной пыли тащится, посрамленный, обратно во Флоренцию! А почему? По желанию Браманте, этого льстеца, распутника и отравителя. Он изгнан ради него. Что Браманте рядом с Сангалло? Но, говорят, теперь в Риме базилику будет строить Браманте, все будет строить Браманте, все отдано Браманте, который всецело овладел сердцем вашей святости. И я должен начать работу. И я получил ваш приказ, святой отец. Но кто мне поручится, что завтра я не буду вынужден отправиться по пути Сангалло?
Посох слоновой кости взметнулся было для удара. Но взмах прервался, рука с посохом упала, и Юлий Второй схватил Микеланджело за руку.
– Ты напоминаешь мне о Сангалло? – крикнул он. – Из-за Сангалло отказываешься? Кто для тебя Сангалло? Больше, чем я? Значит, после его бегства мой приказ уже ничто? Это я изгнал его? Нет, он сам изгнал себя, сам. И обманул меня так же, как самого себя. Принял заказ, а сделать не смог. Не хватило смелости, понимаешь, Буонарроти, не хватило смелости – ни для того, чтоб справиться с задачей, ни для того, чтоб мне об этом сказать. Попробовал провести меня и себя самого, думал, что, может, еще когда-нибудь выйдет, а я могу подождать, но меня не провел, я понял, что работа его плохая, а он даже себе в этом не признается. Мне такой человек не нужен, я его не хочу, мне и кондотьеры такие милей, которые признаются в своей слабости, пусть даже обвиняя во всем солнце, – милей мне, чем такой вот Сангалло, который каждый день говорил мне: сделаю – и не сделал. Потом пришел со своими предложениями Браманте. Я тебе покажу, Микеланджело, они здесь лежат, на рундучке, и ты, как художник, изумишься их красоте и величию. С этой минуты – что для меня Сангалло? Браманте – гений, я еще раз убедился в этом и хочу иметь его при себе. Что для меня сердце, Микеланджело?
Он отпустил его руки и стал ходить мелкими гневными шагами по комнате.
– Пострадал из-за меня, говоришь? Но другие тоже страдали. Что же, мне награждать всех, не глядя на то, что они умеют, и если даже стараются меня провести? Каждому полагается плата за то, что он страдал, верил в меня, желал моей власти? Разве понтификат мой – только удобный, надежный приют и всегда накрытый стол для тех, что желают снять богатый урожай со своей прежней веры в меня? А как они в меня верили? Прятались, пока я воевал. А теперь пускай воротятся времена Александра, и я, им в награду, покупай девок и продавай алтари? Позвал я Сангалло. Вот, говорю, у тебя теперь развязаны руки для работы, живи свободно в моей приязни и твори! Больше никто не будет тебя преследовать. Тебе поручено дело, благодаря которому ты станешь бессмертным… Вот моя награда. За что же ты меня коришь, Микеланджело? Он оказался слаб, провалил дело, проиграл Браманте и опротивел мне. Оттого что, поверженный, не дрался, как подобает мужу, до последней капли крови, в пыли, на коленях – да, хоть в пыли, на коленях, но отстаивая последнюю честь: честь доблестной гибели, а бежал, скрылся, изгнал самого себя. И ради такого человека ты теперь отказываешь мне в просьбе?
– Я знаком с чертежами маэстро Джулиано, – ответил Микеланджело. – Он показывал мне, перед тем как отдать вашей святости. Это был хороший христианский храм, прекрасный храм получился бы.
– Знаешь, что это было? – воскликнул папа. – Брунеллески ваш это был, вот что! Постоянный образец для Сангалло, всегдашний Брунеллески! Но я хочу уже большего, и все мы хотим большего! Почему вы, надменные флорентийцы, не хотите хоть раз признаться, что живете одним прошлым своих мастеров и давно уже превзойдены! Понимаешь, что это было? Правда, хороший, христианский храм, такой же, пожалуй, как его Санта-Мария-делле-Карчери там, у вас. Все, как у вас там: Брунеллески и Санта-Мария-делле-Карчери. Но для Рима, для моего Рима этого недостаточно. Ты ведь знаешь, чего я хочу, к чему стремлюсь: базилика всего человечества, гигантское здание, такое гигантское и величественное, как сама церковь. Творение безмерное, которое я передам вечности.
Старик быстро наклонился над рундучком, взял несколько листов и развернул их перед Микеланджело.
– Смотри! Смотри! Это Браманте!
И Микеланджело с первого взгляда постиг всю слабость Сангалло и торжество Браманте. Теперь он понял, почему старый маэстро Джулиано не стал дожидаться вечера, а уехал во Флоренцию по самой жаре, глотая посрамленье и пыль. Микеланджело стал не спеша разворачивать новые и новые листы, рассматривать их. И видел в духе.
Вот базилика построена, усилия по выведению свода и стен завершены, отделка не имеет себе равных. Эта каменная сокровищница молитв и богослужений стоит, не зыблемая ни бурями грядущих веков, ни разливами крови, ни пожарами войн. Метлы божьего гнева не прикасаются к ней, ангел карающий обходит ее. Волны погибели с грохотом откатываются от ее стен, и она, белая, ослепительная, озаряет все царства земные. И видел он неоглядные толпы языков, несчетные поколенья, неизмеримые множества, смиренно паломничающие к этому дворцу бога и грядущих понтификатов. Паломническое пенье гудит без отзвуков. Слова дробятся в песнопеньях, взаимно друг друга проникающих. И вдруг он видит, как эти толпы сбиваются с дороги. Блуждают. Стремятся к алтарю св. Петра и не могут найти. Видел, как они бродят, растерянные, по капеллам, а пути в главный неф нигде нету. Он опять развернул некоторые листы и принялся внимательно рассматривать, ошеломленный этим открытием. Он слышал, как волны толп, катящиеся, как в море, разбиваются о стены, отступают, вновь кидаются на стены и вновь оказываются отброшенными. Центр храма высится сам по себе, резко отграниченный, без всякой связи с капеллами. И капеллы тоже – совершенно самостоятельные здания, прилепленные с четырех сторон света, от них нет пути к центру, розе искупления. Храм… это Христос, и с давних пор строители, молясь своим творчеством, всегда строили храмы в форме креста или распятого тела. А Брамантовы ротонды всегда нарушали эту стародавнюю каменную молитву. Одним из его изобретений было также воскрешение круглых античных храмов, приспособленных к христианскому культу. Но храм… это Христос, и нарушение канона здесь всегда мстит за себя. Свод перестает быть образом надежды и жажды рая, плиты пола – смиреньем, алтарь – головой, а боковые нефы распятыми, пригвожденными руками. И здесь – та же месть. Независимые друг от друга капеллы – словно шляпки крепко вбитых гвоздей. Округлость центрального собора – даже не античный периптер, и здесь тоже – уход за пределы того, что задумано строителем, получилось нечто большее. Этот круг – терновый венец.
Микеланджело молча сложил планы обратно на рундучок, выпрямился. Пронзительный, острый взгляд Юлия следит за его медленными движеньями.
– Много гробниц святых придется закрыть и разобрать, – промолвил Микеланджело, стесненный этим взглядом.
– Я перенесу их в другое место, – ответил папа.
– Гробница святого папы – апостола Петра – бесцеремонно сдвинута.
– Этого не допущу, – сказал папа.
– Фасад обернут вокруг храма, нет места для хоров, эти четыре рукава ни капеллы, ни хоры, ни нефы.
– Но они прекрасны, великолепны, – возразил папа.
Микеланджело склонил голову и медленно промолвил:
– Нигде нет креста, Браманте не поставил креста.
– Я поставлю сам, – сказал папа.
Тут Микеланджело молча отошел, а старик крикнул ему вслед:
– Ты все еще перечишь мне?
– Я не перечу вашей святости, – возразил Микеланджело, – я всегда хотел исполнять ваши желанья. Но до сих пор никогда не работал по команде и вот так – без подготовки…
– У меня будешь работать по команде, – ответил Юлий. – И все у тебя приготовлено, даже отговорки. Или хочешь быть тоже, как… как остальные?
– Никогда я не хотел быть, как остальные, – воскликнул Микеланджело. Я всегда давал отпор этим остальным. Всегда воевал с ними. Мрамором, камнем. Доказательство этого – мой "Давид". Я иду один, как он, всегда против остальных. Один, совсем один.
Юлий минуту молчал. Потом, сев и сложив руки на своих худых коленях, промолвил:
– Что знаешь ты об одиночестве…
Голос его – чужой. Словно старик обращался с этими словами к самому себе. И ответил себе молчаньем. Только рука его, медленно поднявшаяся от разбитых долгими молитвенными преклонениями колен к без устали горящим глазам, говорили вместо слов. Но, вспомнив о юноше, он кривит губы в усмешку.
– Ты был в Каррарских горах, но там нет одиночества.
– Там нет ничего, кроме одиночества, – ответил Микеланджело. – Там мне больше всего хотелось работать. Если б я мог там остаться, так создал бы совершенное. Над мрамором – тишина. Высокое звездное небо над мраморными горами, по тропинкам которых я бродил без проводников и без отдыха. Слушал, как отовсюду говорит камень, и это было одиночество – камня и мое. Там я испытал страстное желание создавать гигантские статуи из этих гор, огромные фигуры, которые было бы видно издалека, как когда-то ваятель Дейнократ хотел превратить целую гору Афон в статую своего обожаемого Александра Великого. Вонзить резец в эти скалы, огласить всю горную цепь ударами своего молотка, высечь фигуры гигантов, идущих мраморной поступью по облакам, превратить горные пики в статуи. Но я не мог. Почему?
– Существуют не только горы, – ответил папа. Он расправил высохшей рукой складки своей мантии. – Есть еще бездны. Понимаешь? Вопрос не в том, чтоб овладеть горами, сперва надо овладеть безднами, а не то у тебя все рухнет, и бездна поглотит и гору, и твое созданье. Ты боишься глубин? Привыкай к ним, чтоб не знать головокруженья. Бедный! Ты видел их только в пустыне выжженных Каррарских гор, там, среди природы. Но на безлюдье невозможно быть одному. Среди природы много такого, с чем приходится все время говорить, и для человека, живущего духом, для святого самое желанное место бесед – пустыня. Только среди людей можно быть одному, совершенно, совсем одному. И величайшие бездны – не там. Они здесь. Овладей ими.
– Я много думал о безднах, – ответил Микеланджело. – Но они были подо мной. Я шагал всегда выше.
Папа улыбнулся. Улыбка его вонзилась в Микеланджело двумя остриями: насмешкой и снисходительностью.
– Всегда шагал выше, – резко повторил Микеланджело.
– А я наклоняюсь к ним, – сказал папа.
Тишина. Микеланджело взглянул неуверенно, вопросительно.
– Ими не овладеешь, убегая, – продолжал Юлий, и тонкая улыбка написала на пергаментном лице его больше, чем говорят слова. – И не убежишь от них, забравшись куда-то ввысь. Бездны кричат. Об этом говорится в Писании, надо бы тебе знать. И голос их слышен, хоть на самую высокую гору убеги. Крик их заглушает удары твоего резца, и это нечто такое, с чем тебе никогда не справиться. Ты – должник гор? Но и должник бездн. Ты взыскуешь вершин? Но не забывай и глубин! И тут и там найдешь одиночество – есть одиночество бездн и одиночество гор. То и другое – в человеке. Ты так полон гордыни, что хочешь бежать людей? А сказал, что воюешь. Чем? Бегством? Так – не сделаешься властелином. А я схожу к ним вниз. Спускаюсь настолько вглубь, чтоб они знали, что я – среди них. Только таким путем владею я не только безднами, но и горами.
Запутано странствие человека с сердцем, пылающим сотней пламен, непрестанно раздуваемых новой тревогой. Он слышит шум орлиных крыльев в облаках, паденье гальки из-под его ног, шорох крыльев и трав, голоса предвечерья. В лучах заходящего солнца бездны горят не тем огнем, что вершины гор, сердце человека горит среди сумеречных теней, и что ему теперь паденье городов, истребленье народов, гибель пленных! Бездны кричат, сказал папа, который нисходит на их зов, чтоб овладеть горами. Вихри глубин, стоны тьмы, вопль бездны. Кардинал Ипполито… не думал ли старик и о нем, говоря об одиночестве и безднах в человеке? Кардинал Ипполито д'Эсте стоял на коленях возле меня, и сердце его, налитое кровью, колотилось так, что хоть ударов его не слышал я, но их слышали ангелы в горних кругах неба. Бродить по тропинкам мраморных гор, скрываясь, вдыхать и пить эту глубокую великую тишину над каменным миром гор, мечтая о гигантах, видимых даже с моря. Не овладеешь безднами, все рухнет в них, бездна поглотит гору и твое создание, сказал папа. Овладей ими.
– Я овладею, – сказал Микеланджело.
Юлий Второй сделал ему знак встать на колени.
Это значило – прощанье. Но прежде чем произнести святые слова, старик сказал:
– Мы с тобой еще не раз будем говорить об этом, Микеланджело, потому что я полюбил тебя больше, чем кого-либо. А теперь хочу, чтоб ты приступил к работе. Вот в то время, как все говорят о моих победах и желают мне долгой жизни, ты избран для того, чтоб изваять мое надгробие. В то время, как все, в надежде на щедрые награды, жадно ждут от меня будущих шагов и долгого правления, ты создавай мое надгробие. В то время, как многие страстно жаждут, чтоб моя власть продлилась, пока я не осуществлю всех своих замыслов, не укреплю церковь и весь мир, ты оббивай камни, которые положишь на мою могилу. Тебя избрал я для этого дела, не сопротивляйся мне. Я верю, ты никогда не пойдешь по пути Сангалло. Миллионы христиан глядят на меня и живут под моей властью, но из них один ты избран для того, чтоб думать о моем погребении. Я не отпущу тебя, Микеланджело, ты – как стих на моем посохе, мне в предостереженье. Начинай как можно скорей. Уж смеркается, смеркается, мой Микеланджело. А написано: "…могу надеяться только до утра".
И он дал ему благословение.
Вновь тот шип смерти кольнул его в сердце. Он почувствовал, что на вершине своего могущества и славы благословляет человека, который говорит о его гробе. Это будет мраморная гора, – так сказал Микеланджело, и он слушал с удовольствием. Эта мраморная гора будет для его высохшего старого тела, для кучки пепла и костей. А столько еще надо сделать! Весь мир, люди северных равнин и люди на морях, люди неизвестных, только теперь открытых стран и островов, люди в золоте и блеске торжищ и городов, миллионы бездн все ждет его знака, его слова, его дела… гигантского дела и для миллионов тех, кто только родился. Страшно состояние, в котором находится церковь после падения Борджа, всюду нужно опять ввести дисциплину, многое построить заново, все обновить, многое искоренить, безмерное, сверхчеловеческое дело возложено на его старческие плечи, а времени осталось мало, уже смеркается. Не пять талантов, не два, не один дал мне бог, как тот господин в притче рабам своим, а целую церковь, чтоб я управлял и умножал, прежде чем буду призван дать отчет. Пять талантов получил и пять других приобрел на них добрый раб, награжденный похвалою, величие и слава которой потрясают сердце: "Хорошо, добрый и верный раб! В малом ты был верен, над многим тебя поставлю, войди в радость господина своего". А последний, убоявшийся распорядиться, употребить в дело талант свой и закопавший его в землю… Не боюсь я, боже, ты знаешь, что не боюсь, без отдыха бросаю всю силу свою против всех врагов достояния твоего и тех душ, что ты вверил мне в паству, но времени мне мало остается, – время, время, время! Столько еще нужно сделать, а дни летят, полные медлительности, препятствий, помех… Владеть безднами! А этот коленопреклоненный юноша думает уйти ввысь, ввысь… боится глубин. Глубины горят не тем огнем, что вершины гор в лучах заходящего солнца, а сердце человека горит средь сумеречных теней – и что ему паденье городов, истребленье народов, гибель пленных! Страшно подумать теперь о мире, терзаемом бесконечными моровыми поветриями, войнами, голодом и такой убийственной ненавистью, словно кровавые перстни – единственные дары любви. Что произошло бы, если б я умер? Я, который один еще сдерживаю эти тучи разрушенья, я, подлинный наместник божий на земле, единственный, кто еще успокаивает ее метанья и лихорадку! Жить, жить, еще долго жить! До тех пор, пока все не будет совершено… А я даю благословение юноше, говорившему об одиночестве, бегстве и вершинах. Он один ваяет мою гробницу. Он положит каменные глыбы на мою могилу, он готовит мои похороны. Во имя отца, и сына, и святого духа, аминь… Он говорил о вершинах и одиночестве. Паки – аминь.
В то же мгновение они услышали голос.
В тишине их молчания он прозвучал так неожиданно резко и странно, что и папа и Микеланджело – оба остолбенели. В углу комнаты, перед распятием, стоял на коленях кардинал Алидоси, наклонив голову к концам пальцев своих сложенных рук, – он молился, читая часы, для которых пришло время, и не обращал внимания на разговоры. Бледный и строгий, он стоял на коленях, не двигаясь, опустив глаза, и задумчиво-трагическое лицо его, полное страстно скрываемого страдания, было теперь возвышенное, просветленное. Голос звучал спокойно, неторопливо, каждое слово взвешено. Микеланджело обратил внимание на то, что слышит голос Алидоси первый раз в жизни. Сернистое парево дрожало в дневном зное, до сих пор еще тлевшем, хотя уже ложились первые тени. Мертвый воздух давил. Они остолбенели, оттого что голос Алидоси зазвучал так внезапно и неожиданно, как если бы кто-то таинственно провещал им из дальних далей, отсутствующий, забытый. А кардинал неторопливо молился:
– "Recordare, Domine, testamenti tui et dic Angelo percutienti: cesset iam manus tua, ut non desoletur terra et ne perdas omnem animam vivam. Ego sum, qui peccavi, ego, qui inique egi; isti, qui oves sunt, quid fecerunt? Avertatur, obsecro, furor Tuus, Domine, a populo Tuo. Ut non desoletur terra et ne perdas omnem animam vivam". – "Вспомни, господи, завет свой и скажи ангелу бичующему: да престанет рука твоя, чтоб не погибнуть земле и ты не истребил всякую душу живую… Я тот, кто согрешил, я тот, кто совершил беззаконие; а эти овцы что сделали? Отврати, заклинаю тебя, господи, гнев твой от народа твоего. Чтоб не погибнуть земле и ты не истребил всякую душу живую…"
Надгробие! Юлий Второй! Рим и все края земли! Целый мир мог теперь сделаться этим надгробием! Микеланджело встал. И почувствовал на плече своем руку папы и забыл все, что хотел сказать, услышав голос папы.
– Завтра начнешь, Буонарроти, – промолвил Юлий Второй. – И знаешь, где поставь мне надгробие? Там… Там… знаешь… в глубине храма, пятнадцать стоп над полом, на том ненужном возвышении, только там, Микеланджело, больше нигде не хочу, только там.
ПО ПУТИ САНГАЛЛО
Они сидели перед папой на низких стульях, похожие в своих длинных пурпурных мантиях на красные грибы. Юлий Второй, возвышаясь над ними на небольшом округлом подиуме, взирал сверху, со своего высокого кресла, на их оливковые лица; совещание о торжествах было только что окончено. Ближе всех к папскому креслу сидел кардинал Алидоси, на голову выше остальных, потом любимые папские племянники: кардинал Сикст Гара делла Ровере, кардинал Риарио делла Ровере, кардинал Леонардо Гроссо Ровере, а дальше – остальные приглашенные: кардинал Виджери, кардинал Фазио Санторо из Витербо, кардинал Сиджисмондо Гонзага, кардинал Карло дель Карретто – граф Финале, кардиналы Орсини и Колонна. Затем, образуя новый полукруг, как маленький золотой перстень вокруг пурпурных звезд, стояли одетые в золото начальники отдельных римских областей, римские патриции. Маэстро Браманте сидел поодаль, классически прекрасный профиль его рисовался на темном фоне шалона, и место рядом с ним было пусто, так как кардинал Габриэле де Габриэлибус утром этого дня умер.
Был уже апрель, страшное парево не умерялось – несмотря на молебны, служившиеся ежедневно у всех алтарей. Люди падали на улицах от теплового удара. Жара раскалила Рим добела. Нарывы глодали тела. Люди ползали вдоль стен, дрались за воду, бились друг с другом за тень. Воспаленные глаза гноились от пыли, голубые и красные круги все время плясали в глазах, доводя до безумия. Легкие не хотели впускать внутрь огонь, кровь задыхалась. У кардинала Габриэле от жары произошел разрыв сердца, и он упал на ступени алтаря, когда молился о дожде. И теперь место его было пусто.
Сидели молча, окончив совещание и ожидая папского слова. Юлий Второй, весь сияя от радости и восторга, медлил отпустить их, перебирая в мыслях все, что здесь было решено. Два великих свершения – уже близко, так близко, что стоит только протянуть к ним свою жилистую руку и крепко сжать ее. Два великих свершения его мечты и его жизни: построение собора и новая война. Через несколько дней будет торжественно, согласно точно разработанному здесь церемониалу, положен первый камень в фундамент базилики св. Петра – по плану Браманте. А вскоре после этого торжества он двинет войско против Перуджии, не глядя на жару и страшные тяготы похода. Потому что он отдал приказ, пренебрегши на этот раз обычной своей ненужной снисходительностью ко всяким слабостям и человеческой зыбкости. Первый удар – Перуджия, второй – Болонья. Венеция сама рухнет, а потом… Старик мнет себе руки. Глаза его блестят, густые брови вздрагивают. Губы сжаты, следя за мыслью, уже не блуждающей. Падение Венеции будет одним из самых тяжких ударов по французской обороне, которая закачается и падет, и так уже потрясаемая напором испанцев. Что сможет сделать Людовик Двенадцатый, если вся Италия подымется против него по папскому приказу, – как она поднялась против его предшественника, этого слюнявого эпилептика Карла Восьмого? Две великие, ослепительные мечты, чьим золотым сияньем озарены его глаза, руки и губы, вся его фигура: построение собора для всего христианского мира и изгнание чужеземцев, изгнание незваных гостей из Италии, приведение их к полной покорности святому престолу. А за французами придет очередь неаполитанских испанцев…
Кардиналы сидят молча на своих стульях, долго длится тяжкое молчанье папы. Что ж он не отпускает их к накрытым столам и ваннам? Порядок торжеств точно установлен, разработан, иноходцы их приготовлены к страшному походу против Перуджии, чего же еще нужно? Ах, сладостные, золотые времена папы Александра!.. Молчали, склонив головы, – не все они были делла Ровере. Через несколько дней им придется жариться в знойных потоках свирепого солнца – на торжестве закладки базилики, а потом испытать все муки военного похода, ведь папа не позволит остаться, вся Коллегия должна будет выступить с ним. Каждая минута отдыха теперь дороже золота, и недолго осталось им есть на серебре. Они молчали и, вдыхая зной, выдыхали досаду и недоуменье.
Вдруг Юлий сошел с возвышенья и, взяв кардинала Гонзага за руку, стал о чем-то с ним говорить, так как Гонзага был ему нужней остальных. После того как он отошел с ним к окну, они тоже получили право открыть рты. Обращаясь друг к другу, они стали шептаться, дополняя слова движеньем глаз. Слова были любезные, а взгляды горькие, – хваля устами, они жаловались глазами и сердцем. Потом тихо заговорили об умершем. Браманте подошел к ним, кивая в знак согласия. Он мог только подтвердить то, о чем шептали врачи, не желая говорить об этом вслух: кардинал Габриэле де Габриэлибус умер не от теплового удара.
Кардиналы почувствовали жуткий озноб. Близился великий праздник светлого Христова воскресения и с ним – закладка нового собора, о котором говорят теперь во всем Риме: новое строительство, новая эпоха в жизни церкви. Но какая же новая эпоха в жизни церкви, если кардинал де Габриэлибус умер так же таинственно, как умирали при Борджа? Врачи шептались, кардиналов знобило. А Браманте улыбался, сверкнув несколько раз взглядом на Юлия, который беседовал с Гонзага, став вплотную к нему. Для Браманте эта смерть кардинала накануне праздника и торжеств, – конечно, тоже некстати. Начнется строительство собора. Святой отец пойдет в торжественной процессии от главного алтаря старой базилики капеллы св. Петрониллы – наружу, к выкопанной яме, где будут ждать два кардинала-дьякона, церемониймейстер и двор. Золотых дел мастер Кавадассо приготовил уже великолепный сосуд с монетами, – две из них червонного золота, – который будет замурован в фундамент. А краеугольный камень из чистейшего искристо-белого мрамора ждет, обложенный пальмовыми листьями. Одним из кардиналов-дьяконов должен был быть Габриэле де Габриэлибус. А он нынче утром умер. А недавно умер и церемониймейстер маэстро Бурхард, который вел подробнейший дневник правления папы Александра, макая перо больше в желчь, чем в чернила. И прелат Тиньосини, брат алеппского комтура, умер неделю тому назад, оставив свою гробницу недостроенной. И маэстро Бурхард строил себе гробницу, и кардинал Габриэле строил гробницу, – но не дождались, померли.
Браманте улыбается, улыбка его вкрадчивая, соболезнующая, ему жаль всех, кто строит себе гробницы, а их довременно кладут где-нибудь в другом месте. Мертвец, не имеющий покоя. А ведь после смерти человек должен быть, так сказать, запечатан в земле или в камне, чтоб ни одна человеческая рука никогда больше его не касалась, чтоб только голос ангелов мог пошевелить тело, раз и навсегда здесь положенное. Кардиналы слушали, глядя с опаской. Потому что почти все они уже строили себе гробницы. Александр Шестой отнимал у них богатства и поместья, можно сказать, еще при жизни, а Юлий Второй отнимает после смерти. Все оставшееся после умершего кардинала конфискуется в папскую казну. Но они больше любили своих близких, чем папскую казну, и, жалуясь на папу, что он не позволяет им выражать свою любовь к сыновьям и родственникам в завещаниях, не хотели оставлять свое имущество и папской казне. Они строили дорогие дворцы для своих мертвых тел, не жалея денег. Папа мог захватывать их богатства, поместья, замки, ренты, коллекции, крепости и области, но он не мог отобрать у кардинала его гробницу. Юлий Второй становился безопасен для кардинала только после того, как тот ляжет в могилу.
А у Юлия Второго гигантские замыслы насчет обновления церкви и Церковного государства, – на осуществление этих замыслов понадобится много времени и денег. Кардиналы скрываются в гробницах. Теперь повсюду строятся кардинальские гробницы, это – последняя римская мода. И, слушая речи Браманте, каждый думает о себе.
Браманте слегка пожал плечами. Можно ли верить тайному перешептыванию врачей? Нет сомнения, что бедный Габриэле де Габриэлибус умер не от жары, но то, что врачи рассказывают о таинственном влиянии недостроенных гробниц, о темном призывании смерти каждым ударом молотка, о подземной глине, выбрасываемой полными лопатами рабочих и желающей быть восполненной гнилью тела, пока еще живого, которое она зовет и за которым посылает свои загадочные мрачные лучи, это просто россказни, недостойные веры! Окончив, Браманте слегка отступил и, не глядя на Юлия, заметил только, что тот побледнел и сжал руки. Тут кардиналы неуверенно пожали плечами. Никогда не надо отвергать древнюю мудрость необычных истин, в которые человеческому разуму не проникнуть. Разве мало, в самом деле, случаев внезапной смерти от этого душного зноя, как немало и недостроенных гробниц! Маэстро Браманте хорошо говорить! Ему долго еще не придется строить себе гробницу, цель жизни у него еще впереди, а его юные страстные подруги заботятся о том, чтобы кровь его не старела и не ослабевала. Маэстро Браманте строит храмы, а не гробницы, и он – не князь церкви, ему незачем думать о том, куда запрятать после смерти свое имущество от папской казны. Они молчали, думая о своих гробницах.
Тут Браманте заметил, что Юлий тоже молчит. Кардинал Гонзага уже дважды ответил на предыдущий его вопрос и перечислил воинские части, ожидающие в Мантуе. Длинный папский посох задрожал, потом вдруг ударил по спинке трона. Все в испуге обернулись, – среди глубокой тишины размышлений, в которые они были погружены, удар пришелся словно по их спинам. И кардинал Риарио, как всегда, пепельно-бледный, изумленно повернул свое посиневшее лицо к дяде, ожидая вспышки ярости. Никогда нельзя было быть спокойным, всегда найдется что-нибудь такое, чего не скроешь от сверкающих глаз папы. Они ждали испуганно, каждый перебирал в уме свои слабости. На кого из них падет сейчас пламя гнева? Высоким, старчески дрожащим голосом папа затянул молитву. Они, облегченно вздохнув, горячо подхватили. Совещание было окончено.
ЧЕШСКИЙ РОМАН ОБ ИТАЛЬЯНСКОМ ВОЗРОЖДЕНИИ
I
В двадцатые – сороковые годы нашего века чешская литература выдвинула плеяду замечательных писателей. Фучик, Гашек, Чапек и еще малоизвестный у нас, но не менее заслуживающий всемирной славы Ванчура подарили не только отечественной, но и мировой литературе целый ряд блестящих произведений. Преждевременно погибшие в бурю конца тридцатых – первой половины сороковых годов (Фучик, Ванчура, Чапек) или в период межгрозья начала двадцатых годов (Гашек), они заложили необходимые основы для долгожданного литературного расцвета.
Можно сказать, что с наступлением XX века кончился национально замкнутый период становления чешской литературы, период ее пребывания "в себе", и начался период яркого и содержательного цветения – "для себя" и для всего мира.
Перелом, конечно, отнюдь не случайный. Он был подготовлен всем ходом развития чешской литературы, тем подспудным возрожденческим течением, которое росло и крепло на протяжении всего XIX века от романтиков тридцатых годов (К.-Г. Маха) через Врхлицкого и до двадцатых годов нашего века включительно, когда возникло объединение писателей и художников "Деветсил", давшее огромный толчок развитию чешской литературы.
Но решающую роль в этом расцвете наряду с передовой творческой традицией сыграла, как всегда в таких случаях, историческая обстановка.
Страна вступила в новую фазу своего бытия: первая война дала ей самостоятельность, Мюнхен потряс всю нацию до основания, период оккупации до предела напряг, а разгром фашизма развязал все ее силы. Крайнее обострение народной борьбы против ожесточенного исторического врага на последнем этапе – вот чем было обусловлено духовное возрождение, пережитое чешской литературой в двадцатые – сороковые годы.
Это явление – многообразное, сложное, в социальном, художественном и философском отношениях весьма содержательное – еще ждет своего исследователя.
Мы попытаемся здесь ознакомиться с одной лишь гранью его, – если не самой главной, то все же очень существенной, к тому же удобной для рассмотрения благодаря обозримости материала.
II
Полтора века тому назад Пушкин, совершая свой подвиг создания русской литературы, подвиг "дарования" ей внутренней свободы, расковал ее также и в том отношении, что научил ее говорить о чужом, как о своем, выражать свое через чужое, перевоплощаться в это чужое, вольно дышать своим собственным дыханием в чужом воздухе. Именно здесь – великий смысл "протеизма" Пушкина, его "вселенскости".
А в двадцатые – сороковые годы XX века долго созревавшая в борьбе против чужеземного, через отталкивание от этого чужеземного и замыкания в своем, чешская литература, достигнув окончательной зрелости в условиях последнего великого Сопротивления, тоже перешла в наступление; в ней начался знаменательный процесс овладения чужеземным, процесс творческой переработки и усвоения его. Появилось не одно только уменье глядеть окрест, но и искусство узнавать свое в чужом, познавать свое не только непосредственно, но и через чужое, подобное. Познавать и выражать это познание в исторически соответственных прекрасных формах.
И не случайно, конечно, первый взгляд переживающей свое возрождение чешской литературы притянула к себе именно эпоха итальянского Возрождения.
III
В 1948 году вышел роман Франтишка Кубки "Улыбка и слезы Палечка". "Содержание моих исторических произведений всегда злободневно, – говорит Кубка. – Впервые я всерьез обратился к историческому жанру, когда в Чехии свирепствовал террор оккупантов. Мои друзья умирали в тюрьмах и концлагерях. Незваные пришельцы и коллаборационисты пытались затемнить самосознание чешского народа и разорвать все его связи с отечественной исторической и культурной традицией. Я считал своим патриотическим долгом, насколько это было в моих силах, распахнуть окна в чешскую историю и в отрезанный от нас мир". И вот явилась книга о Палечке. "Это мой первый роман, – говорит Кубка. – Я писал его восемь лет, с 1941 по 1948 год". Создававшийся отчасти в годы оккупации, а затем в годы бурных послевоенных событий, приведших к краху буржуазной республики и возникновению народной социалистической Чехословакии, роман уже не ограничивается показом домашнего исторического прошлого, – внимание его тянется к событиям мировой истории.
Герой романа Кубки, королевский шут Палечек, – лицо полуисторическое-полулегендарное. Но автор наполняет этот образ вполне конкретным современным содержанием: "Мой Палечек XV столетия стал для меня родным братом чешского прогрессивного интеллигента времен фашистской неволи".
Прототип – "друг молодости автора, коммунист-врач, который до самой смерти колесил и блуждал по Праге, принося знакомым и незнакомым утешение и надежду на лучшее будущее". Однако здесь важно подчеркнуть, что это только одна сторона дела, только одна составная часть того сплава, каким является этот образ Кубки. "Я видел в нем человека Возрождения… Яркий свет Ренессанса, увиденный Палечком в Италии, развеял в его душе средневековую мглу…"
IV
В романе "Улыбка и слезы Палечка" тема итальянского Возрождения еще не заполняет всего поля зрения; это еще роман на чешские темы: продолжается борьба чешского народа за свое национальное лицо, а итальянский элемент дан в значительной мере еще как антагонист: всенародно избранный чешский король Иржи вступает в борьбу с папой за частичную независимость Чехии от Рима в области религиозно-политической.
Но образ Италии в преддверии к высокому Возрождению (вторая половина XV века) дан очень цельно, с большой прелестью и значительной исторической содержательностью. Этот образ не только противопоставлен суровому образу послегуситской Чехии, но и контрапунктирует с ним, оттеняя его и проникая внутрь него. Король Иржи показан как политический деятель европейского масштаба, а главный герой – чешский патриот Палечек, кончивший курс в Падуанской академии, – живое воплощение Ренессанса в некоем чешском варианте. Повествование играет яркими красками, изобилует острыми положениями, полно воздуха и отличается чисто ренессансной пышностью, непринужденностью, свободой.
V
Предлагаемый теперь вниманию советского читателя роман "Камень и боль" создан рано умершим чешским писателем Карелом Шульцем (1899-1943) (кстати сказать, принадлежавшим вместе с Фучиком, Незвалом, Ванчурой к объединению "Деветсил" и участвовавшим в его творческих поисках). Этот роман уже безраздельно посвящен итальянскому Возрождению, – притом эпохе высшего его расцвета, периоду высокого Возрождения (конец XV – начало XVI века). Речь в нем идет о жизни Микеланджело. Оба романа писались одновременно: Кубки – с 1941 по 1948 год, Шульца – с 1942 по 1943 год, когда смерть прервала работу, принудив писателя оставить вещь неоконченной; повествование доведено до 1508 года, до переезда Микеланджело в Рим для росписи потолка Сикстинской капеллы, то есть до того момента, когда начинается новый период в его жизни. Годы юности, годы молодых творческих исканий позади. Тридцати трех лет приступает Микеланджело к созданию знаменитого потолка. Перед нами, таким образом, роман о молодости и творческом становлении великого художника.
Написанные в условиях оккупации, оба исторические романа чрезвычайно актуальны, представляя собой особую форму борьбы с ней; в них чешский народ, в лице своих художников слова, через голову немецко-фашистского варварства протягивает руку к высшим культурным достижениям человечества, как бы говоря: я принадлежу человечеству, и эти ценности принадлежат мне, и никакое насилие не в состоянии этого изменить. Мастерство, свобода и красота, с которыми я перевоплощаю их в своем творческом слове, – непререкаемое свидетельство моего права на них. И в этом – мой ответ нацистскому разбою, не менее веский, чем те удары, которые он получает на других фронтах.
Таков общественный смысл обоих романов. Во всяком случае – поскольку речь идет о романе Кубки. Что же касается романа Шульца, к которому это тоже, безусловно, относится, то о нем сказать так недостаточно. В Шульцевой трактовке материала есть нечто большее. Герой Кубки – чех; он приникает к роднику Возрождения и упивается его живой водой, всем существом своим ощущая всю ее необходимость для развития, процветания и счастья чешского народа; автор в какой-то мере, очень тактично, не нарушая художественной цельности, все же присутствует в повествовании, глядя на события глазами своего мудрого шута и произнося суд над ними его словами.
А у Шульца – не так. Тут мало говорить об артистической свободе и раскованности воспроизведения. Тут надо говорить о другом.
VI
Общеизвестна классическая характеристика эпохи Возрождения, данная Энгельсом во Введении к "Диалектике природы". "Это был величайший прогрессивный переворот из всех пережитых до того времени человечеством, эпоха, которая нуждалась в титанах и которая породила титанов по силе мысли, страсти и характеру…" И несколько выше: "В Италии наступил невиданный расцвет искусства, который явился как бы отблеском классической древности и которого никогда уже не удавалось достигнуть" 1.
Эта итоговая, фронтальная характеристика очевидным образом требует раскрытия явления, заглядывания за его фасад, проникновения в глубь процесса, его породившего. И Энгельс тут же указывает путь к такому проникновению. Он говорит, что "герои того времени не стали еще рабами разделения труда… Но что особенно характерно для них, так это то, что они почти все живут в самой гуще интересов своего времени, принимают живое участие в практической борьбе, становятся на сторону той или иной партии и борются кто словом и пером, кто мечом, а кто и тем и другим вместе. Отсюда та полнота и сила характера, которые делают их цельными людьми" 2.
1 К. Маркс и Ф. Энгельс. Сочинения, т. 20. М., 1961, с. 346.
2 Там же, с. 347.
Речь идет, таким образом, о динамической цельности – цельности, осуществляемой и отстаиваемой в борьбе духовной и практической.
Понятая в этом смысле цельность является тем критерием, который позволяет судить о степени глубины и верности того или иного отражения той эпохи. Именно с этой точки зрения, конечно, и следует судить о романе Шульца: насколько глубоко и цельно воспроизведен там характер Микеланджело, характеры других действующих лиц – тех великих и малых "титанов", которыми наполнены страницы романа, – наконец, характер эпохи в целом.
VII
Роман Шульца, конечно, не первая попытка дать цельный образ той великой эпохи. И нам будет легче оценить его по достоинству, если мы поставим рядом с ним два произведения, созданные уже в наше время или на подступах к нему.
Роман русского писателя Д. С. Мережковского "Леонардо да Винчи" вышел как раз на рубеже нашего столетия – в 1900 году, в самый канун тех грандиозных событий, которые привели человечество, говоря словами поэта, к "невиданным переменам". Русско-японская война, 1905 год в России, первая мировая война, Октябрь и возникновение Советской власти, ряд европейских революций, появление фашизма и его разгром, вся эта цепь мировых событий все, что присутствовало в сознании Шульца, когда он писал свой роман, – для автора "Леонардо да Винчи" еще не существовало. Символист и мистик Мережковский писал свой роман в некоем (хотя и кажущемся) историческом затишье; он мог делать вид, что не замечает надвигающегося исторического урагана, – вернее, мог выражать предчувствие его грозного приближения лишь в отраженной форме борьбы двух мистических ипостасей – Христа и антихриста. А когда гроза разразилась, пришел Октябрь, – автор "Леонардо" попросту ушел в эмиграцию, где и умер.
Но роман его интересен. Прежде всего он хорошо написан я дает немало в познавательном отношении (кроме мистики, принимающей к тому же не слишком большое непосредственное участие в формировании образов, там много реального исторического содержания, поданного ярко, художественно; в частности, автор широко и умело использовал архив Леонардо для воссоздания его внутреннего образа).
Но для нас главное – не в этом. Главное в том, что это документ той эпохи, когда он был написан, и – само собой – документ, рисующий общественную позицию автора. "Тишина" этой эпохи и этой общественной позиции отразилась прежде всего в выборе главного героя: это – отнюдь не бунтарь Микеланджело, это – созерцатель Леонардо; да и его образ дан сугубо "тишайшим": это – свободомыслящий мудрец, отнюдь не деятель. Такое понимание предопределило весь стиль романа. В нем, конечно, даны исторические события, но – как необходимый фон. Если там что и рокочет, то лишь в отдалении, чтоб мы еще ясней почувствовали царящую в душе Леонардо тишину. Изложение спокойное, ясное. Основная идея – безнадежность, одиночество и бесплодность всякого дерзновенного мыслительного поиска самого по себе. Что же ему противопоставляется? Слияние мысли с действием? Нет – с верой. Начало антихриста – познание – должно слиться с началом Христовым – верой, – вот единственный выход для человечества и конечная цель исторического процесса. Что же касается действия, то оно, наоборот, отметается. Именно из-за этого не попал в герои романа Микеланджело. Это очень важный момент, и мы на нем остановимся.
Известно, что между Леонардо да Винчи и Микеланджело не было приязни. Слишком многое разделяло их в самом подходе к тому, что составляло дело жизни обоих: к искусству. Как-то раз произошло открытое столкновение. О нем повествуют и Мережковский и Шульц. Как выглядит эта сцена у Мережковского?
"Проходя мимо навеса, увидел Леонардо собрание полузнакомых людей… "Мессере, мессер Леонардо! – окликнули его. – Пожалуйте сюда, разрешите-ка наш спор". Он остановился. Спорили о нескольких загадочных стихах… в тридцать четвертой песне "Ада"… Пока ему читали неясный текст, "Леонардо, немного прищурив глаза от ветра, смотрел вдаль, в ту сторону… откуда тяжелой, неуклюжей, точно медвежьей поступью шел небрежно и бедно одетый человек, сутулый, костлявый, с большой головой, с черными, жесткими, курчавыми волосами, с жидкой и клочковатой козлиной бородкой, с оттопыренными ушами, с широкоскулым и плоским лицом. Это был Микеланджело Буонарроти". Далее следует подробное описание неприглядной наружности Микеланджело.
"Леонардо всегда надеялся, что ссора его с Буонарроти кончится миром… Такая тишина и ясность были в сердце его в эту минуту, и он готов был обратиться к сопернику с такими добрыми словами, что Микеланджело, казалось ему, не мог не понять. "Мессер Буонарроти – великий знаток Аллигиери, молвил Леонардо с вежливой, спокойной улыбкой, указывая на Микеланджело. Он лучше меня объяснит вам это место". Микеланджело, услышав имя свое из уст Леонардо, остановился и поднял глаза". Увидев "ясную улыбку соперника и проницательный взор его, устремленный невольно сверху вниз, потому что Леонардо был ростом выше Микеланджело, робость, как это часто с ним бывало, мгновенно превратилась в ярость. Наконец он с усилием проговорил глухим, сдавленным голосом: "Сам объясняй! Тебе и книги в руки, умнейший из людей, который доверился каплунам-ломбардцам, шестнадцать лет возился с глиняным Колоссом и не сумел отлить его из бронзы – должен был оставить все с позором!" (Курсив в этой цитате мой. – Д. Г.)
Как мы видим, вся сцена отмечена печатью решительного морального превосходства Леонардо над Микеланджело… Последний "чувствовал, что говорит не то, что следует". Ему не хватает обидных слов для унижения Леонардо. Он глядит на противника "с презрительной усмешкой, которая ему не удавалась, только искажала лицо его судорогой, делая еще безобразней" 1.
1 Мережковский Д. С. Полн. собр. соч., т. II. М., 1914, с. 231-233.
Итак, лишь созерцание мудро и прекрасно. Действие слепо и безобразно. Все совершилось, как предупреждала монна Лиза во время одного из сеансов, когда она позировала Леонардо, писавшему ее знаменитый портрет: напрасно, мол, Леонардо думает, что Микеланджело в конце концов, преодолев свою ревность, порожденную робостью и неуверенностью в себе, поймет всю его, Леонардову, благожелательность, готовность признать превосходство Микеланджело. "Может быть, – возражает монна Лиза, – мессер Буонарроти силен, как ветер, раздирающий горы и сокрушающий скалы перед господом. Но нет у него тишины, в которой – господь. И он это знает и ненавидит вас за то, что вы сильнее его, – как тишина сильнее бури".
Таков смысл знаменательнейшего по своему "ноуменальному" значению события эпохи – спора двух титанов Возрождения, изображенного русским писателем-символистом на рубеже нашего века.
VIII
Но пройдет еще какое-нибудь пятилетие – и многое, очень многое изменится. Обстановка, художник, картина. Грянул первый раскат мировой бури: русский 1905 год. На авансцену выступили новые, демократические силы. Замечательный французский писатель-демократ Ромен Роллан в 1906 году выпускает свою книгу на великую тему о Возрождении. Его герой – уже не Леонардо. Он создает биографию Микеланджело. В книге нет Леонардовой тишины, уводящей прочь от бурь – в созерцание. Но можно ли сказать, что вот она-то уже вторит буре с небосклона? Посмотрим.
"Леонардо был человек статного сложения, обходительный и вежливый. Однажды он прогуливался с приятелем по улицам Флоренции. На нем была длинная, до колен, розовая туника; волнистая борода, искусно завитая и расчесанная, струилась по его груди. Возле церкви Санта-Тринита несколько флорентийцев обсуждали какое-то непонятное место из Данте. Подозвав Леонардо, они попросили его разъяснить им смысл этого отрывка. Мимо как раз проходил Микеланджело, и Леонардо сказал: "Вот Микеланджело, он вам объяснит, что значит этот стих". Микеланджело, думая, что Леонардо насмехается над ним, желчно ответил: "Сам объясняй, ты ведь великий мастер, сделал гипсовую модель коня, а когда надо было отлить его из бронзы застрял на полдороге, опозорился". С этими словами он повернулся спиной и продолжал свой путь. Краска бросилась в лицо Леонардо, но он промолчал. А Микеланджело, не довольствуясь этим и желая еще сильнее уязвить соперника, крикнул: "Только твои остолопы-миланцы могли поверить, что ты справишься с такой работой!" "И вот этих-то двух людей, – заключает Ромен Роллан, гонфалоньер Содерини решил противопоставить друг другу, поручив им одну работу… Так начался поединок между двумя величайшими мастерами Возрождения" 1.
1 Роллан Р. Собр. соч., т. 2. М., 1954, с. 105-106.
Было бы большой ошибкой за протокольным сходством (если не тождеством) обоих отрывков не заметить разительной разницы: у Ромена Роллана этот эпизод – столкновение всего лишь двух лиц, в котором едва намечены характеры; а у Мережковского тут – столкновение двух начал, двух резко обозначенных принципов, двух символов, противоречие которых составляет внутреннюю духовную драму эпохи.
"Отдаваясь безраздельно своим страстям и своей вере, Микеланджело ненавидел противников своих страстей и своей веры, – комментирует этот эпизод Ромен Роллан, – но еще сильнее ненавидел он тех, кто был чужд всяких страстей и лишен всякой веры". А именно таков был Леонардо. "Мягкая, несколько даже застенчивая натура и ясный скептический ум, ничем не скованный и все понимающий, далекий от родины, от религии, от всего мира", чуждающийся "кипевших тогда во Флоренции страстей" и "чувствовавший себя хорошо только в обществе титанов, как и он сам, свободных духом".
Мы видим, что, переместив свое авторское внимание с Леонардо на Микеланджело и тем самым удалившись от индивидуалистического, символистского понимания эпохи, Ромен Роллан (не забудем, это еще только 1906 год) делает все же попытку дать конфликту "объективное", "беспристрастное" толкование. "Поединок между величайшими мастерами Возрождения" в конце концов сводится к тому, что им обоим заказано по фреске в зале дворца Синьории. "Флоренция разделилась на два лагеря, один горой стоял за Леонардо, другой – за Микеланджело. Время сравняло все, – ставит точку Ромен Роллан. – Оба произведения погибли".
Конечно, задача биографа не вполне совпадает с задачей романиста; первому объективность более пристала 1. Но и ему не избежать необходимости истолкования фактов и характеров, тем более если в роли биографа выступает художник слова. И Ромен Роллан истолковывает события, создает образ и характер своего героя. В чем же видит он драму жизни Микеланджело, смысл его борьбы?
1 Блестящий образец такого рода объективной научной биографии – книга А. Дживилегова "Микеланджело", в серии "Жизнь замечательных людей" (Молодая Гвардия, 1938).
"Трагедия Гамлета! Мучительное несоответствие героического гения отнюдь не героической, не умеющей желать воле и неукротимым страстям…"
"Отсутствие гармонии между человеком и действительностью, жизнью и законами жизни даже у великих людей всегда порождается не величием их, а слабостью… Судьба, описанная нами здесь, трагична потому, что она являет пример врожденного страдания, страдания, которое коренится в самом человеке, неустанно подтачивает его и не отступится до тех пор, пока не завершит своего разрушительного дела…"
Итак, заменив титана-созерцателя Леонардо титаном-борцом Микеланджело, Ромен Роллан затем делает шаг назад: выдвигая на первый план навязанные облику Микеланджело черты слабости, растерянности, одиночества, он, по существу, лишает своего героя всяких титанических свойств и превращает его в слабого и бессильного перед лицом своей эпохи страстотерпца-христианина. "Это один из наиболее ярких представителей того великого человеческого племени, которое вот уже девятнадцать веков оглашает Запад стенаниями скорби и веры; это – христианин", – говорит он.
Мережковский – весь в старом – признает титанизм Микеланджело, хоть относится к нему враждебно, видя в нем слепую силу; Ромен Роллан (в 1906 году) – тут уже новое – всей силой своей гуманной натуры симпатизирует Микеланджело, делает его своим героем, но отказывает ему в титанизме, несмотря на такие цитаты, как вот эта, из биографии, написанной учеником Микеланджело Асканио Кондиви: "Однажды, проезжая верхом по окрестностям Каррары, он увидел возвышающуюся над морем скалу; ему страстно захотелось превратить ее всю, от подножия до вершины, в статую колосса, который был бы виден издалека мореплавателям. Он и выполнил бы свое намерение (в котором, однако, не видно ни слабости, ни христианского смирения, – прибавим мы от себя. – Д. Г.), если бы имел на то время и соизволение папы (с которым был связан контрактом на постройку папской гробницы. – Д. Г.)".
Немало еще воды утечет, прежде чем фигура Микеланджело будет измерена в полный рост, во всех ее правильно понятых противоречиях – в смутных человеческих слабостях и светлой титанической силе.
IX
Пройдет ровно три с лишним десятилетия. Но за это время не только много воды утечет. За это время обрушатся миры и на их месте возникнут новые. И вот новый художник слова, находясь отнюдь не в затишье и не в преддверии великого социального катаклизма, а в самом эпицентре его, создает новую книгу о Микеланджело. Все здесь иначе – и, конечно, отнюдь не по прихоти автора. Не спокойный, ясный, стройный, упорядоченный роман о художнике-мыслителе, не уснащенную цитатами "объективную" биографию или житие непонятого своим временем художника-страдальца пишет он. Перо в руках у этого писателя – резец. Он не рассказывает о своем герое. Он перевоплощается в него. Перевоплощается в его эпоху. Кидается в нее стремглав, как в бурные волны своей собственной современности. На всем повествовании, если можно назвать повествованием этот проносящийся перед нами бешеный поток, это бурное половодье образов, происшествий, событий, столкновений, лежит печать того самого неистовства (террибилита), которую носит на себе и творчество главного героя. Действительность? Эпоха? Вот она – вся перед нами. И не в сторонке, как фон, а мы сами – в ней. Это не повествование, это – действо. Мы не только все видим воочию, мы соучаствуем во всем.
И прежде всего, конечно, в становлении Микеланджело – ваятеля и борца. Он выплывает откуда-то из недр эпохи, с которой у него один и тот же подслушанный автором единый ритм. Неразрывно связанный с эпохой, он в то же время ожесточенно единоборствует с ней. Первая работа его – "Мадонна у лестницы". "Моей мадонне не хватает улыбки. Привыкли, чтоб она улыбалась. Мария снисходит к человеческим скорбям. А моя божья матерь не улыбается. Моя божья матерь не снисходит. Она – повелительница, царица. А все-таки сидит у лестницы. Так сидят одни нищенки". И младенец не благословляет, "как привыкли". Так рожденный в недрах своей эпохи титан сразу начинает подымать голову. Ничуть не страдательно, совсем не по-христиански. Неплохое начало для человека, которого пытались объявить гонимым судьбой жертвенным христианином.
Следующий шаг – "Битва кентавров с лапифами". Царь лапифов Иксион полюбил Юнону, Юпитер послал ему призрак великой богини, и смертный, соединившись с этим призраком, стал родоначальником дикого племени получеловеческих чудовищ – кентавров; их битва с народом лапифов и победа последних над ними знаменовали торжество человеческого начала над звериным или духа над материей, в толковании придворного философа Медичи – платоника Полициано. "Но Микеланджело, после первых же ударов по камню, забыл о смысле поучительно-философского сказания…" Его сознание художника заполнено другим. "Он нашел форму. Почувствовал до тех пор не испытанное острое наслаждение пропитать камень пленительной, гибкой формой борющихся друг с другом тел, создать произведение из сплетенных рук и ног… Заставить играть множество форм, слив их при этом в единый образ силы и напряженных мышц, человеческие тела, яростно связанные в узел и спутанные, обрисовать в борьбе разнообразнейшие и сложнейшие движения мужской фигуры – выпрямленной, замахнувшейся, падающей, поверженной, вырвавшейся из тисков вражеских рук… Какое ему дело до античности!.. Тело! Не античное, спокойное тело, а тело в стремительнейшем напряжении форм… Вся картина кричит. Это формы, обладающие голосом. Формы горячие, распаленные. Жизнь, хлещущая сквозь пластическое напряжение сражающихся мышц…"
Нет, не христианином, – воителем вступил Микеланджело в жизнь, с первых же шагов отметая противоречия и подымая на щит властное, ожесточенное, победоносное творчество. Творчество форм, а не правил морали, – не претворение материи в дух, а претворение ее в образ. В этом – его поиск.
Вот Микеланджело стоит в раздумье перед купленной им каменной глыбой… "Он… положил на мрамор обе ладони. Это было движение чистое и любовное, как если б он нежно прикоснулся к любимой голове, успокаивая ток крови в ее висках. Он чует, чует. Таинственная, стремительная, лихорадочная жизнь бушует где-то там, в темной материи, он слышит, как она зовет, кричит ему, чтоб он освободил ее, дал ей форму и язык… Обнаженный и морозно-холодный, камень пылал жарчайшим внутренним огнем. Сосуды, которыми он пронизан, были напряжены и наполнены пульсирующей мраморной кровью, – сухие на поверхности и горячие внутри… Он передвинул руки немного выше. Здесь трепет затихал, здесь наступило тайное спокойствие, но и оно было глухое, там была большая глубь, омут гармонии, аккорд форм, взаимно друг друга проникавших. Но чуть дальше руки его пронзила острая боль, там было, видимо, самое уязвимое место камня, вся материя вздрогнула, словно он коснулся обнаженной раны, всади он сюда резец, сердце камня тут же разорвется и глыба рассядется. Нет, сюда нельзя, нанести удар здесь – значит умертвить камень. Даже если б не раскололся, все равно умер бы, стал бы медленно чахнуть и в конце концов рассыпался бы в прах… Под этим местом в камне таится смерть. И, наоборот, наклонившись ниже, чтоб поласкать форму материи, округлой, как самые нежные женские лядвеи, томящиеся желанием, сжатые и трепещущие, он учуял в глубине место, где таилась, быть может, какая-то большая тяжелая гроздь, налитая застывшим соком, которая только и ждет, чтоб ее выдавили, ждет и благоухает, сильное благоухание подступило прямо к ладоням. Он гладил камень нежной, чуткой рукой, словно успокаивая. И вдруг смутился. Да, это здесь. Это уже не прикосновение, а ощупывание, уверенное, вещественное, сильное, грубое. Здесь сила камня, узлы его вздутых мышц, которые нужно разъять, чтобы открыть доступ к сердцу. Здесь он раскроет камень и вырвет его сгорающую внутри жизнь, здесь мощь, и объем, и начало удара. Он выпрямился. Ничего вокруг не видя, ничего не слыша, думая только о камне. Сердце его билось где-то там, внутри глыбы, кровь его текла по мраморным жилам, камень стал сильней его, он высился перед ним, как огромные тяжелые ворота, как судьба. И он сжал в руке резец, как единственное оружие, как оружие и против самого себя…"
Раскрытие этого внутреннего процесса построено Шульцем на основании свидетельства самого Микеланджело. "Когда совершенное и божественное искусство порождает идею формы и движений человеческой фигуры, то первым преломлением этой идеи будет простая модель из скромного материала. Затем в диком и полном силы камне осуществляются обещания молота, и идея обретает новую жизнь в столь совершенной красоте, что никто не может ограничить ее вечность". И еще яснее: "Величайший художник не имеет ни одной идеи, которую глыба не таила бы в себе. И она – то единственное, чего может достигнуть рука, повинующаяся разуму" 1.
1 "Микеланджело". М., Искусство, 1964, сонеты 236 и 151.
Итак – поиск формы, ничего больше? Столько нравственных усилий, такая напряженная духовная борьба, столь острые и даже ожесточенные драматические коллизии, и в итоге – всего-навсего художественная форма!
Тогда заслуживает ли этот открыватель форм названия титана?
Или что же она такое – эта художественная форма, служившая не для одного Микеланджело только, но и для всех "титанов Возрождения", а вслед за ними – для каждого светского (то есть не работающего на определенную церковь) художника великой самоцелью?
Исчерпывающий ответ на этот вопрос дает глава романа под названием "Боязнь чего-то, не имеющего формы". Микеланджело с детских лет страдал припадками панического ужаса перед бесформенным (отчасти напоминающий страх Паскаля перед бездной или страх Ипполита в "Идиоте"). Ромен Роллан увидел в этом лишь изъян нервной системы, индивидуальную слабость, болезненно развившуюся вследствие внутреннего одиночества. Шульц раскрывает глубокий творческий смысл этого явления: художник воплощает в наиболее чистом и сильном виде великое неистребимое свойство человека – жажду быть "демиургом", преобразователем враждебного, бессмысленного хаоса в радостный, светлый космос. Движущая Микеланджело ненависть к хаосу – начало творческое, и одно из величайших достижений эпохи Возрождения состоит в секуляризации этого чувства, до тех пор отчуждавшегося в пользу бога, который, по Библии, создал мир, надо думать, тоже из страха перед хаосом.
Пересказывать главу нет надобности. Здесь приведем лишь одну фразу, сказанную (вернее, подуманную) великим ваятелем по поводу его "Кентавров и лапифов": "Все требует формы, чтобы быть познанным". Что же еще можно ждать от художника? Ведь это и есть его историческое, вселенское дело. Для кого-кого, а уж для него-то форма полна содержания. У Микеланджело эти поиски скрытой в диком камне формы приводили к созданию Давида, Брута, рабов… Ибо когда художник говорит о форме, он говорит о воплощенной идее. И это – единственное содержание, которое он знает. Идея невоплощенная для художника не существует: она для него бессодержательна.
X
Как же подан в романе Шульца конфликт между Микеланджело и Леонардо? Это очень существенно для понимания романа, так как ссора между двумя великими творцами нового искусства, при всей биографической эпизодичности столкновения, является как бы оселком, позволяющим установить ценность и глубину философской позиции биографа-художника. Мы уже видели изображение этого драматического момента у Мережковского и Ромена Роллана. У первого смысл эпизода вскрыт глубоко, хоть и не до конца, и, конечно, применительно к основной философской идее автора: неистовый волюнтаризм Микеланджело посрамлен в угоду аналитической созерцательности Леонардо. А Ромен Роллан вовсе не ставит себе задачи вскрыть идейный смысл столкновения; его занимает лишь психологическая сторона вопроса: измученный трудностями жизни, неуверенный в себе страдалец допускает несправедливый, но простительный в его положении выпад против раздражающего своей сдержанностью и учтивостью конкурента.
С позицией Ромена Роллана стоит сопоставить еще одно изложение означенного события: в недавно вышедшей книге американского писателя Ирвинга Стоуна "Муки и восторги. Биографический роман о Микеланджело" 1. Биография, написанная Стоуном, содержит много ценного материала: излагается в беллетристической форме жизнь художника, не выходя за пределы фактов. По Стоуну, вся ссора сводится к тому, что Леонардо недооценивал значение и возможности скульптуры, ставя гораздо выше живопись, и это больно задевало Микеланджело, который чувствовал себя прежде всего ваятелем. К тому же пренебрежительный отзыв о ваянии со стороны такого авторитета, как Леонардо, мог повредить оценке Давида 2. Отсюда едкие слова Микеланджело о неспособности Леонардо к ваянию, сказанные в лицо последнему. А через некоторое время Микеланджело и вовсе мирится с Леонардо, придя к нему в дом, чтоб перед ним извиниться и выразить ему сожаление по поводу гибели его фрески "Битва при Ангиари" 3.
1 Stone Irving. The and the Ecstasy. A biographical Novel of Michelangelo. London, 1961.
2 Там же, с. 351-352.
3 Там жe, с. 425.
Вернемся теперь к Шульцу. У него мы видим и сцену столкновения на улице (как у Мережковского и Ромена Роллана), и сцену посещения (у тех двух отсутствуют). Но все здесь по-другому. В обеих сценах Микеланджело дан в полный рост: это не исступленный, яростный слепец, неукротимо действующий, но плохо отдающий себе отчет в смысле своих действии (Мережковский), не раздраженный жизненными неудачами, гонимый вихрями судьбы странник (Ромен Роллан) и не задетый собратом по ремеслу самолюбивый художник (Стоун) – хотя и у Шульца он и неистов, и гоним судьбой, и профессионально дорожит своим искусством больше жизни. В чем же существенное радикальное отличие его образа у Шульца от того, что дали другие?
В том, что здесь Микеланджело – великий правдоискатель, глядящий в глубь явлений, с которыми ему приходится иметь дело, отметающий все, с чем не может мириться его совесть, отстаивающий каждым творческим шагом своим свойственное ему понимание жизненных ценностей.
Разница ощутительна уже в первой, "уличной", сцене. У Шульца Микеланджело не зря пришел в неистовство. Леонардо не просто уступает ему роль толкователя Дантовых темнот. Он говорит: "Вот здесь великий Микеланджело Буонарроти… Он истолкует вам неясные стихи об искусстве. Он! Потому что для него нет ничего неясного ни в Данте, ни в искусстве… (Курсив здесь и дальше мой. – Д. Г.) Мы жаждем, а вы заставляете нас так долго ждать… Дайте же нам хоть объяснения Данта… хоть этого не скрывайте от нас забором" (ядовитый намек на то, что Микеланджело ваял в это время под открытым небом своего Давида, до поры до времени окружив его от посторонних глаз глухой изгородью. – Д. Г.).
"Микеланджело почувствовал себя так, словно со всех сторон по нему бегают маленькие хитрые глаза ящериц, насмехающихся над его запыленным, окаменелым лицом, порванной рабочей одеждой, натруженными руками" (он возвращался домой с работы над своим Давидом. – Д. Г.). Язвительность Леонардовых слов, величественный, княжеский тон, какими они были сказаны, обшитый серебром лиловый хитон Леонардо и распространяемое им благоухание духов асфоделей – вот что приводит в бешенство Микеланджело, недомогающего, усталого, с глазами, полными едкой пыли, с руками, стертыми резцом и молотком, с мраморной крошкой в волосах… Последовал взрыв, полный уже знакомых нам оскорбительных выпадов по адресу Леонардо.
Уже в этой сцене социальный смысл конфликта, благодаря резко обозначенной, выразительной светотени, раскрыт глубже, чем у Ромена Роллана. Но философское содержание здесь еще не затронуто. Для того чтобы раскрыть и исчерпать его до дна, передав через это и свое философское понимание эпохи, Шульц вводит совершенно новую сцену – сцену посещения. Но только это – не учтивый визит одного художника к другому, равно великому. Это – тайное ночное посещение. И приходит не Микеланджело к Леонардо извиниться за то, что наговорил лишнего, а наоборот: Леонардо приходит к обидевшему его Микеланджело – для того, чтобы… Сейчас увидим, для чего. Но сперва почему ночью? Потому что, по словам Леонардо, "…ночь всегда обнажает сердце человеческое больше, чем дневной свет… есть такие правдивые слова, которые мы находим только ночью… Это как бы речь глубины…".
И вот он пришел договориться. О чем? О новом заказе? Нет. Сказать, что "Флоренция для нас двоих мала"?.. "Я думаю, – холодно возражает Леонардо, что весь мир мал для нас двоих. Но нам надо либо стать открыто врагами, либо заключить вечный мир, чтобы не доставлять миру зрелище борьбы двух великих". – "Но с какой стати нам вступать в борьбу?.. Мы ведь идем каждый своей дорогой…" В ответ на это Леонардо предлагает свое объяснение их вражды; последовательно отвергая более поверхностные толкования, он доходит до самого существенного: "Вы шли с работы, усталый, измученный, весь в грязи и пыли. Я не могу жить без блеска и роскоши, без благовоний, изысканности", и т. д. "Но не в этом причина вашей вспышки. Здесь есть что-то глубже, загадочней. Вы не скажете – что?" – зондирует Леонардо своего собеседника. "Пусть скажут другие, которые будут судить о наших творениях", – отвечает Микеланджело. "Нет, зачем предоставлять другим то, что мы можем сказать друг другу сами?" И Леонардо дает свое объяснение разделяющей их обоих вражды. Ее источник – диаметрально противоположный взгляд на творчество по всей линии, от исходных позиций до конечных целей. "Вы набрасываетесь на все… Одолеть, овладеть. Покорить. Поработить". А "…цель не в том, чтобы навязать материи свою волю – излить в нее свои мысли и страсти… Дело идет о чем-то гораздо более трудном и драгоценном… Оставить ей ее жизнь… раскрыть загадку этой жизни… постичь ее… Материя хочет жить своей жизнью… не мешайте ей… Укажите только на ее тайны… В этом великое искусство… Самое великое искусство – выражать только то, что вещь хочет выразить сама…" "Нет, возражает Микеланджело, – я должен сперва понять свое собственное сердце. Предмет – только отпечаток моей собственной жизни. Только так можно творить по-настоящему…" А что значит – творить по-настоящему? Этот созерцательно-скептический вопрос Леонардо заставляет Микеланджело сравнить своего собеседника с Пилатом. И это первое, что их разделяет, – пристального созерцателя жизни и борца, отстаивающего свою правду в ней. Расселина уходит вглубь. Между ними не только разногласие: между ними ненависть (со стороны Микеланджело). "Вы правы, я ненавижу вас… оттого что вы один из тех… других… Те… там, наружи… огромное стадо, к которому я чувствую отвращение… Время! Все вы, создающие это время… Я задыхаюсь в этом времени, оно валится на меня, как поток… Стою, увязнув по плечи в какой-то грязи, мерзости, нечистотах… Меня мучает и терзает это время… Я не могу от него убежать, но должен как-то его одолеть. Этому миру уже ничего не спасти. Он окончательно погиб. Но я не хочу гибнуть. Я должен победить вас всех, ставших передо мной, как великан в чешуйчатой броне…" – "Чем?" – "Да хоть просто камнем… как он… Давид!" – "Но Савонарола тоже хотел победить время и пустил в ход самое сильное оружие – мученичество. Разве камень ваше мученичество?" – иронически спрашивает Леонардо. "Не один только камень… – тихо возразил Микеланджело. – Еще боль. Удары".
Смысл творчества Микеланджело как борьбы против своего времени, борьбы, основанной на "понимании своего собственного сердца", встает во весь рост. "Символ вашей жизни – победить ударом, камнем, – говорит Леонардо. – А меня вы считаете частицей великана, которого сразил Давид. Да, я рад, что работал в такое время, которое позволило человеку пустить в ход все свои способности, которое освободило его… Но… разве я не отвергаю этого времени, не презираю его? Все мы, люди духа, – изгнанники, слуги сильных, которые торгуют нашими именами… Тут мы поняли бы друг друга скорей всего… Ведь никому не убежать безнаказанно от своего времени". Истинная и конечная причина другая. Леонардо выражает ее несколько сложно, но смысл предельно ясен. Проследим за его мыслью. Она имеет очень важное значение для понимания его самого, а главное – для понимания Микеланджело. "Я все время стремлюсь раскрывать новые и новые тайны, в этом мое бегство от времени… В том, чтоб познать, проникнуть, исследовать, постичь!.. Где-то есть точка, из которой все исходит и в которую все возвращается… События, жизни и судьбы… добро и зло – единый источник всего… Для меня искусство только проводник к великим тайнам… Все выходит из одной точки и возвращается в нее… Нет различия между добром и злом…"
И тут наступает окончательный разрыв. "Вы наводите ужас, Леонардо. Уходите!.. Теперь я знаю, что нас разделяет… Я всегда буду помнить, куда упал бы, если б пошел по твоему пути…"
Так постепенно – пласт за пластом – обнажается истина: перед нами столкновение морали человека-борца с аморализмом сверхчеловека-созерцателя. Весь напряженный диалог искусно соткан из противоречий. Можно подумать, будто спор идет между искусством как таковым (Микеланджело) и искусством как средством познания (Леонардо): "Вы хотите убежать с помощью искусства… Я иначе, я – с помощью познанья…" И даже – будто сверхчеловеческие позиции занимает Микеланджело, а Леонардо стоит в один ряд, плечом к плечу с человеком. "Вы стремитесь к сверхчеловеческому, а то и к нечеловеческому, говорит Леонардо, – а я всегда останусь с человеком и с тем, что познаю своими чувствами". Но это только нечто вроде обмена рапир, которое мы видим в последнем бою Гамлета. На самом деле человечен Микеланджело в своей непримиримой борьбе против жизненной данности – за утверждение своих внутренних ценностей, и сверхчеловечно абстрактное, созерцательное познание Леонардо, внешне покорствующее жизни, но стремящееся свести ее к абстрактному, умопостигаемому, бездеятельному единству, "точке, из которой все исходит" и в которой снимаются все различия, вплоть до различия между добром и злом.
Читателю, конечно, ясно, какое звучание имела эта проблема в момент написания романа, да и сохраняет до сих пор.
XI
Но реален ли такого рода конфликт между двумя гениями, делавшими (вместе с третьим, тогда только начинавшим свою карьеру – Рафаэлем) одно и то же дело? Вернее, имел ли право современный романист прочитать этот исторически достоверный конфликт именно так? Дает ли творчество этих гениев пищу для такого толкования разделявших их противоречий? И поскольку любой гений – сын своей эпохи, благоприятствовала ли эпоха высокого Возрождения возникновению такого рода противоречий, были ли они тогда возможны и неизбежны?..
Старое рухнуло. Италия (а в ней, как в своем прообразе, все средневековье) превратилась в атомный котел, где все сместилось, сорвалось со своих якорей, помчалось в пространство. Каждая часть, стремясь утвердиться в своей отдельности и самостоятельности, но продолжая свой распад, выделяла огромное количество скрытой "внутриатомной" энергии, но в то же время самим процессом этого излучения закрепляла свою ограниченность и недостаточность. Ибо ничто обособленное, какие бы ни таило оно в себе запасы энергии, не может быть полным и совершенным. Все хочет вернуться к истинному своему значению и не в силах сделать это. Церковь, превратившаяся в светскую блудницу и архисводню, едва выдвинув из собственных недр своего очистителя Савонаролу, тут же и уничтожает его. Мирская власть, рассыпавшись на отдельные куски в виде княжеств – тираний, стремится к высшему своему единству – цезаризму, но ни один из рвущихся к цезарской власти кандидатов, даже самый талантливый и безжалостный из них – Чезаре Борджа, не в состоянии совершить этого исторически еще не созревшего перехода. И гениальный провозвестник деспотизма, впервые возведший политику в ранг высокого искусства, задолго до Ницше выдвинувший перед человечеством идеал мощи без внутреннего величия, Макиавелли осужден испить до дна горькую чашу сознания своей недостаточности, передав своего "Князя" в виде завещания тем, кто спустя два века будет строить уже не в Италии, а на всем пространстве Европы "просвещенный", а в дальнейшем – и непросвещенный абсолютизм. Элегантная философская и филологическая мысль сплоченных вокруг Лоренцо Медичи платоников тоже не ко времени: возрождая древнюю мудрость, она не способна воплотить ее, не способна воплотить себя, – оставаясь совершенно чуждой широким кругам; к тому же, отвергая аристотелизм, как основу схоластики, она отвергала его и в целом, вместе с его реально познавательными научными устремлениями. А время было такое, что даже астрология, алхимия, магия – и те вожделели стать подобием науки.
Безудержно ширилась ойкумена, со всеми ее полусказочными загадками и действительными тайнами. Мир, до тех пор плоскостный, воочию приобретал третье измерение. И единое мироздание, совсем недавно замкнутое в своих точно очерченных сферах, вдруг, порвав путы, вышло на безграничный простор, чтобы в конце концов, уже в наши дни, рассыпаться в пространстве непостижимым фейерверком бесчисленных разбегающихся вселенных…
А на самом дне гигантского атомного котла, в котором все вещи стремительно теряли свою прежнюю и приобретали новую форму, кипела и вовсе обесформленная и обезличенная плазма – низы…
XII
Все эти и многие другие грани эпохи нашли в романе Шульца полноценное отражение.
Повторяем, это – не рассказ, не повествование. Это – действие, в котором мы участвуем. Эффект присутствия достигается стремительностью непрерывной смены картин, внезапными изменениями места действия, ритмически возвращающимися эмоциональными повторами, многие из которых играют роль лейтмотивов, связанных с той или иной темой или образом, смещением планов и внешнего, через неожиданные переходы от внутренней к прямой авторской речи и обратно – в пределах одного и того же предложения, этажированным повторением фраз в виде взвихренных перечислений и целым рядом других приемов, отнимающих у читателя всякую возможность созерцать описываемое с одного фиксированного пункта и порывисто перебрасывающих его из одной социальной, бытовой, духовной стихии – в другую.
Ошеломив нас симфоническим переизбытком жизненных звучаний, автор безраздельно владеет нашим сознанием и заставляет нашу мысль, отказавшись от обычного читательского "противостояния" тексту, двигаться по предуказанным авторской волей орбитам.
Роман воспринимается как музыка – не как литература. Он действительно полон симфонизма. И это – несмотря на свойственную ему высокую точность словесного рисунка. Нелегко было бы подсчитать всех выведенных там лиц: каждая страница буквально кишит ими. Но ни одно не промелькнет перед нами вскользь обозначенной тенью. Каждое получает исчерпывающую и действенную характеристику, каждое дано в наиболее содержательном ракурсе, самое незначительное необходимо для понимания целого, так как не введено извне, а выросло из него. Страницы романа испещрены этими как бы беглыми, но в действительности тщательно выписанными миниатюрами. И они не только не теснят друг друга, не создают толчеи, но все точно знают свое место, как каждое маленькое стеклышко знает свое место в огромном мозаичном панно. Поначалу изумляешься этому искусству, умеющему сочетать ораториальный симфонизм целого с мельчайшей подробностью тонкой миниатюры. Но вскоре изумление уступает место пониманию; здесь все: и крупное, и мелкое, все эти великие люди и малые людишки, эти знаменитые лица и безвестные, а подчас и вовсе темные личности – равно неотделимые, а потому и равно значительные частицы эпохи, плоть от плоти и кость ее, – эпохи, понятой органически, на основе единого начала, проникающего не только все члены организма, но и все молекулы его, от великого противоборца Микеланджело или гениального соглядатая и таинника природы Леонардо, запечатлевших свои победы, до какой-нибудь полубезумной старухи-колдуньи, тоже по-своему противоборствующей и постигающей, но терпящей полное крушение, обезличенной и раздавленной. Столь неравные перед лицом грядущих столетий, все они равны здесь, как участники великой исторической драмы, драмы высвобождения общественных сил, высвобождения личности из пут распадающегося общественного целого, драмы неистовых самопоисков нового человека, раскрывающегося и в ничтожестве, и в величии, и в зверстве, и в добре. Безоглядно устремленная к самостоятельному совершенству недостаточность, жаждущая независимой полноты ограниченность – в этом противоречии смысл всех, больших и малых, драм, изображаемых в романе. И в этом смысл драмы эпохи в целом.
XIII
Но как же так? Ну – недостаточна и ограниченна полубезумная старая колдунья Лаверна и подобные ей бесчисленные жалкие твари, считавшие себя людьми, но безжалостно лишенные этого звания эпохой. Недостаточен и ограничен Савонарола, жаждущий влить новое вино в старые мехи. Недостаточен и ограничен Чезаре Борджа, претендующий на роль властителя нового времени, но неспособный вложить в толкование этой роли никаких новых идей, которые отличали бы его от прежних и современных ему тиранов. В силу того же противоречия между порывом к новому и недостаточностью средств для его осуществления или хотя бы полноценного и всестороннего понимания не выдержали исторического экзамена ни Лоренцо Медичи со своей Платоновой академией, ни Макиавелли со своим "Князем", вышедший сеять не в пору.
Пусть все эти и им подобные явления – от мала до велика – ограниченны и противоречивы в силу резкого несоответствия между их жаждой самоутверждения и средствами для этого, предоставленными им эпохой. Но можно ли говорить о недостаточности и ограниченности мировых гениев, подаривших человечеству совершеннейшие шедевры искусства? Разве здесь предельная, полная, сверхдостаточная осуществленность не самоочевидна?
Шедевры, которыми любуются и никогда не перестанут любоваться поколения, насыщая ими свой внутренний мир, как хлебом насущным, – сами есть результат борения, которое создатель их вел с самим собой, со своим временем и с другими творцами, ему современными, предлагавшими свои пути и способы решения тех же исторических проблем. Обращенные лучезарными ликами в грядущее, эти шедевры темными корнями своими погружены глубоко в историческую почву. Борения, их породившие, проходят в непрерывных притяжениях-отталкиваниях, испытываемых гением по отношению к самому себе, за осуществление своего замысла (пресловутые "муки слова" – см. приведенный нами отрывок об осмотре камня), по отношению к своей эпохе (см. цитированный нами отзыв Микеланджело о его времени), от которой художник хочет бежать, но, конечно, никуда не скроется; наконец, по отношению к своим современникам – соперникам по творчеству.
Эти борения кроются за всяким шедевром, или, вернее, внутри него. И чем содержательней, переломней, революционней эпоха, тем более напряженные борения ведут к созданию данного шедевра. В муках нет ничего прекрасного. Но прекрасное рождается только в муках. Это и есть темные корни лучезарного цветка. Огромное достоинство романа Шульца в том, что он показал эту неразрывную связь "камня" (понимая под "камнем" не только материал творчества, но и весь противостоящий художнику объект в целом) и "боли" со всей возможной выразительностью и глубиной. Мы видим не только творческие муки Микеланджело, но и его сложные отношения с эпохой, от которой он то хочет бежать, то бросается в самую гущу ее, как строитель, а то и каменотес, то, уйдя в себя, преодолевает ее гигантским творческим усилием, воплощая вырванные у нее же откровения в своих немилостивых мадоннах, кипящих жаждой жизни и ненавистью к неправде, юных атлетах, грозных пророках или в виде умудренного жизнью старца, который в стремительном полете передает проснувшемуся к жизни юноше эстафету поколений.
Мы видим, что победу над своим временем великий художник одерживал лишь в творческие минуты, а в жизни изнемогал от непосильного единоборства с эпохой (и этим, конечно, объясняется, но все же вряд ли оправдывается переоценка жертвенно-христианского момента в его облике, допущенная Роменом Ролланом). Потому что он был одинок, не имея возможности опереться на ту силу, которую жадно искал и угадывал в своем творчестве, но на которую в то время художнику еще нельзя было опереться, – и в этом была его историческая неполнота и ограниченность, которую он чувствовал не менее ясно, чем свой титанизм. В мире духа он был полный властелин – и не только над камнем (которым владел до такой степени, что порой даже частично не отделывал своих статуй, давая зрителям почувствовать силу "дикого камня", подобно тому как укротитель оставляет своим хищникам немного их былой непокорности для контраста, чтоб было яснее его торжество), но и над стихом, который он тоже иссекал (а не пел, как Петрарка): недаром знаменитое четверостишие о статуе "Ночь", "пройдя веков завистливую даль", ровно через три столетия захватило Тютчева, как выражение его собственной ненависти к Николаю I, доведшему Россию до Крымской катастрофы, и заставило нашего поэта, в поисках наибольшей точности выражения, трижды перевести это четверостишие: один раз на близкий к итальянскому французский и два раза на русский язык.
Но властелин над камнем и словом в жизни был рабом. Его замыслы стоили дорого: ведь он мыслил в масштабах горных вершин, жаждал ваять утесы. Кто же мог обеспечить их осуществление? Только тогдашние хозяева жизни: папа, тираны, знать, патриции. Эти выбрасывали несметные суммы на роскошь и разврат, но заставили гения скомкать грандиозный замысел гробницы Юлия Второго, навязывали ему чуждые по духу предприятия (гробница Медичи), делали из его творческой мысли шутовскую потеху (снежный великан). Эта эпоха родила невиданных гениев, но ставила их под контроль утонченных (а случалось – и невежественных) самодуров-толстосумов.
Но не это, налагаемое эпохой, ограничение было самым существенным. В конце концов "раб" разрывал оковы и умел осуществлять замыслы, которые выше эпохи. Самым существенным, что приходилось преодолевать, были рабство наследию и борьба с другими титанами за свое место в мире духа. Эта внутренняя борьба была много глубже, значительней и творчески неизмеримо содержательней, чем борьба с препятствиями внешними, неизбежная во всяком классовом обществе и лишь приобретавшая в эпоху высокого Возрождения характерный огромный размах.
Преодоление средневековья – вот что составляло суть противоречивого процесса создания идеала личности нового времени. Эта победоносная борьба велась с переменным успехом.
Величайший гений, идя вперед, не может, да и не должен вполне отрываться от прошлого. Изобретая свои летательные аппараты, Леонардо был целиком ограничен понятиями средневековья: человеку суждено было летать не как птицы, не с помощью гребли, а совершенно по-новому – с помощью винта, о чем изобретатель не мог подозревать, не имея идеи мотора. Тут боренье гения с прошлым не увенчалось успехом: победа осталась за прошлым. Но в другом случае эксперимент великого анализатора природы прошел блестяще, дав результат поистине эпохальный – на века: взяв из рук мадонны младенца и тем самым рассредоточив внутренний мир женщины, прежде сведенный к материнству, он переплавил ее в женщину нового времени, созерцательную и скептическую, чувственную и вещую, как душа самого великого мастера. Прекрасная своей юностью и чистотой, хотя уже лукавая, мадонна Литта стала загадочной зрелой Джокондой. Но разве этот, по существу, первый в истории светский портрет женщины поворотом фигуры ее, внешней неподвижностью, сосредоточенностью всего движения во внутреннем мире, снисходительность улыбки, обращенной к зрителю и ко всему человечеству в его лице, самой условностью пейзажа, наконец, не уводит мысль к тем живописным мадоннам и еще дальше иконописным богоматерям, чей канон он так дерзко и так победоносно нарушает? Джоконда – не только первый женский портрет, открывающий новый жанр мировой живописи, но и великий пример преодоления средневековья титаном Возрождения – не путем отвержения прошлого, а путем его органического перевоплощения… А чудо слитости противоположностей – взволнованное многообразие фигур в строгом прямолинейном единстве целого, неповторимое согласие линий в вихревом смятении чувств, претворение мировой трагедии в воздушную гамму мягчайших тонов – Леонардова "Тайная вечеря", то живое и ясное воплощение "темной" Гераклитовой "гармонии, возвращающейся к себе", "расходящегося, согласующегося с собой" – разве это не христианский витраж, просквоженный лучами античной свободы и меры?
У Микеланджело было меньше счетов со средневековьем: он боролся с ним, опираясь на древнюю традицию – не только античную, казавшуюся ему слишком статуарной, неподвижной, а в значительной мере на библейскую, дававшую больше простора и свободы его титаническому исступлению. Все же, думается, мысль, создававшая "ветхозаветного" Давида, не миновала при этом и средневековой идеи змееборчества, глубоко, органически переработанной, как глубоко переработаны им были традиционный образ мадонны – с младенцем и в группе Пьета, а также картина Страшного суда, где Христос выступает не как грозный, но справедливый евангельский судия, явившийся "с силой и славой великой" чинно творить нелицеприятный суд, а скорей в роли исступленного, беспощадного пророка-бичевателя, чуждого новозаветной "благодати", знающего одно лишь "отмщение", один немилосердный ветхозаветный "закон". Правда, в последнем случае католическое понимание с его исступленным Dies irae шло ему навстречу. Но, в общем, гордиев узел, приковывающий художника к эпохе через тяготевшую над ним традицию, Микеланджело сумел попросту разбудить, отступив, в смысле выбора сюжетов – патриархи, пророки, – на шаг в глубь истории; ведь Ветхий завет, по сравнению с христианством и классикой, предоставлял титанической воле художника значительно больший простор. (Это относится и к сивиллам, поскольку эти "теневые" фигуры античности не оставили по себе никакой иконографической традиции.)
У младшего из троих – Рафаэля – отношения с традицией были сложней. Он высоко ценил христианскую культуру. Его мадонна не сядет у лестницы, как нищенка, устремив взгляд в пространство, не взглянет на мир смелым, ироническим взглядом Джоконды. Она парит, обратив к нам взгляд теплящихся, как две кроткие лампады, не ведающих лукавства и гнева очей. Течет среди облаков. Без движения. И откуда взяться движению? Ведь она – мечта, мечта о добре, виденье, плывущее в воздухе, застывшее в нереальном, почти иконописном пространстве, среди облаков-ангелочков, и ветер райских кущ надувает ее покрывало, словно парус корабля, спускающегося с небес, чтобы "выпрямить" нас, освободив от непосильного бремени противоречий. А в самом "языческом" из творений Рафаэля – фреске "Афинская школа" – в центре две фигуры: Платон и Аристотель. Они спорят. Первый свободным и величественным жестом воздел правую руку ввысь, к миру "идей", второй, прекословя, ровным, но сильным движением протянул свою вперед, к зрителям. Направляющая нашу мысль в "горняя" вертикаль и направляющая ее к познанию дольнего мира горизонталь составляют вместе завуалированный, но внятный для глаза и мысли знак креста – в своеобразном, неброском ракурсе.
Как видим, и Рафаэлю пришлось, в его поисках нового человека, вступить в определенные отношения со старым мировоззрением. Он не отошел от него, как Микеланджело, в порыве невиданной мощи и не подверг его разъедающему химическому анализу мысли, как Леонардо. Он сохранил его, приняв в себя целиком, но наполнив совершенно новым содержанием.
Каждый из троих в борьбе с традицией действовал по-своему. Ибо все трое вели великий спор друг с другом, и способ их борьбы с эпохой, ее данностью, целиком определялся содержанием этой главной борьбы – их борьбы между собой. Больше, чем все другие, они были связаны друг с другом великим борением, полным притяженья-отталкиванья. Каждый из них глубоко сознавал и чувствовал в одно и то же время и свою призванность осуществить великую историческую переплавку старого, ущербного человека в нового, совершенного, и необходимость осуществить это дело своим собственным путем, и невозможность сделать это только своим путем, все же недостаточным, ограниченным, несмотря на всю его гениальность. Эти титаны боролись с эпохой ради общего им всем троим исторического дела, одновременно борясь между собой – каждый ради своего собственного утверждения в этой борьбе, – иными словами, ради собственного понимания ее смысла и способов ведения. Именно таково содержание уже знакомого нам конфликта между Леонардо и Микеланджело. Такими же были и отношения обоих с третьим участником великой игры – Рафаэлем, в романе по ходу драмы лишь намеченные.
Творя единое, все трое друг от друга отмежевывались, ища своей полноты не в сочетании усилий, а в индивидуальном творческом самоособлении. Ни один из них не был в силах разрешить историческую задачу в одиночку, в противовес двум другим. Но каждый, споря с двумя другими, разрешал свою часть задачи. И вместе они разрешили ее всю.
Гениям казалось, что они теснят друг друга, – в ту эпоху, когда все друг друга теснили, домогаясь своей полноты. Но история и на этот раз оказалась непревзойденным режиссером. Она распорядилась по-своему. Сперва выпустила на сцену Леонардо, возложив на него обязанность сказать миру: вначале было Слово, то есть мысль. Новый человек найдет свое совершенство в познании. Познание спасет мир. Тогда на сцену истории неистовым оппонентом выступил Микеланджело: нет, сказал он, вначале было дело. В действии – вот в чем новый человек найдет свое совершенство. Деятельность спасет мир. И это был огромный шаг вперед в развитии исторической драмы: мысль и деятельность, познание в сочетании с действием, это было уже много – на пути к человеку нового времени. Все ли? Нет, не все. Надо было сохранить еще одну ценность, неизвестную ни античной свободной мысли (источнику Леонардова познания), ни ветхозаветной миро-устрояющей деятельности (существенному источнику Микеланджеловой действенности), – ценность, внесенную в мир христианством: умиление, то есть способность "благоговеть перед святыней "красоты", понимаемой не как эстетическая только, но и нравственная категория. И вот последним пришел Рафаэль со своим словом: вначале была Красота, то есть добро, – сказал он. Новый человек найдет свое совершенство а прекрасном. Красота спасет мир.
Раскованный ум, раскованная сила, раскованное чувство красоты-добра… Каждое из этих начал, взятое в отдельности, развитое на полной свободе, ничем не ограниченное, обнаруживало свою ограниченность (абстрактный характер процесса познания у Леонардо, механическое перенесение им принципа "наблюдения" с мира природных явлений на мир явлений общественных, идея сведения всего сущего в "одну точку"; "странничество" Микеланджело и безудержный волюнтаризм его, не всегда подчиненный суровой дисциплине замысла, чем, быть может, объясняется наличие незаконченных работ; слишком легкое, не без оттенка полемичности, снятие противоречий у Рафаэля, этого, можно сказать, единственного смертного, не изведавшего горечи изгнания из рая). Но, вместе взятые, взаимно друг друга ограничивая и углубляя, они и составили координаты духовного мира нового человека.
Вместе эти три гения сделали то, что никто из них не был в силах сделать один. Открылась новая страница истории. Родился образ новой человеческой цельности и совершенства, образ "выпрямленного" человека. Теперь оставалось только воплотить этот идеал в жизнь…
XIV
Чехословацкая критика не без основания называет стиль "Камня и боли" барочным – за его преизбыточность. Но кипенье слов, кипенье образов, кипенье мыслей здесь – больше чем стилистический прием. Продиктованная обстоятельствами изображаемой эпохи и одновременно той общественной обстановкой, в которой роман был написан, преизбыточность эта не только тешит глаз и слух читателя яркими красками и необычными повествовательными ходами. Она целеустремленна, позволяя следовать не за одними "мыслями великого человека", но за всеми движениями его внутреннего мира, знакомя нас с огромным художником и огромной эпохой "изнутри и снаружи", будя в читателе ответное кипенье мыслей и чувств. Образ молодого Микеланджело дан действенно и выразительно, открывая ясную перспективу на его дальнейшую творческую жизнь. Это, безусловно, один из лучших литературных портретов его в мировой литературе.
Д. Горбов




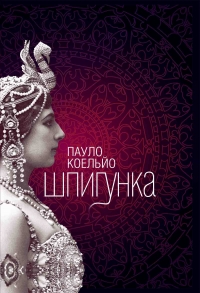
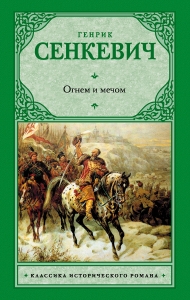
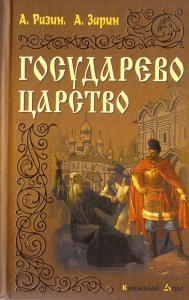


Комментарии к книге «Камень и боль», Карел Шульц
Всего 0 комментариев