Георгий Васильевич МЕТЕЛЬСКИЙ
ДОЛЕНГО
Повесть
о Сигизмунде Сераковском
ОГЛАВЛЕНИЕ:
ЧАСТЬ ПЕРВАЯ
Глава первая
Глава вторая
Глава третья
Глава четвертая
Глава пятая
Глава шестая
Глава седьмая
ЧАСТЬ ВТОРАЯ
Глава первая
Глава вторая
Глава третья
Глава четвертая
Глава пятая
Глава шестая
Глава седьмая
Глава восьмая
---------------------------------------------------------------
Повесть писателя Георгия Метельского "Доленго" посвящена
Зыгмунту (Сигизмунду Игнатьевичу) Сераковскому - неутомимому
борцу за равноправное единение России и Польши, за теснейший
братский союз населяющих эти страны народов, ссыльному солдату,
отдавшему половину своей жизни борьбе за облегчение солдатской
участи, за отмену позорных и мучительных телесных наказаний в
армии, другу Чернышевского, Шевченко, сотруднику некрасовского
"Современника", наконец, вождю восстания, охватившего в 1863
году Литву и Белоруссию.
Писатель изучил большое количество исторических материалов,
много ездил по стране. Г. Метельский известен как автор
художественных произведений, в числе которых сборники повестей и
рассказов - "Чистые дубравы", "Листья дуба", "Один шаг", "В
трехстах километрах от жизни", "Лесовичка", "Ямал - край земли",
"Янтарный берег", "В краю Немана", "Восемь дней ожидания" и
другие.
---------------------------------------------------------------
ЧАСТЬ ПЕРВАЯ
Глава первая
В дверь резко и бесцеремонно застучали.
- Кто тут? - спросил жилец по-польски. Он ждал этого стука, хотя не такого требовательного и немного позднее, ближе к рассвету.
- Полиция... Откройте! - громко ответили по-русски.
- Одну минуту. Я не одет...
Первой мыслью было выпрыгнуть в окно, в темень, в грозовой ливень, продолжавшийся уже два часа подряд... Он рывком отдернул занавеску и при свете озарившей землю молнии заметил у самого окна мундир полицейского.
Бежать было некуда.
Стук повторился.
- Вы скоро там? - нетерпеливо спросил другой голос.
- Я готов, - ответил жилец и отпер дверь.
В коридоре он увидел двух жандармов с саблями - пожилого и помоложе, хозяина корчмы, где он проводил ночь, жену хозяина, прислуживавшую вечером, и возницу, который привез его вчера в эту корчму близ австрийской границы. Возница, в длиннополом кафтане, подпоясанном узким ремешком, в облезлой меховой шапке и с грязным шарфом на шее, молча показал на него и сразу же попятился, скрылся в полумраке коридора. Остальные вошли в комнату, хозяин корчмы услужливо светил фонарем.
- Ваш вид на жительство? - спросил пожилой жандарм.
Жилец протянул ему отпускной билет, выданный в Петербурге около месяца назад. Жандарм бегло взглянул на бумагу.
- Разрешите узнать, каким образом вы очутились в Почаеве, вместо того чтобы следовать или находиться в Херсонской губернии?
- Я заехал к матери в село Лычше Луцкого уезда...
- Без разрешения? - Жандарм улыбнулся, показывая этим, что ему заранее известно все, о чем будет говорить молодой человек в студенческой куртке.
- Я узнал, что матушка больна, и счел сыновним долгом ее проведать.
- Так, так... Ваша фамилия?
- Она написана в отпускном билете Санкт-Петербургского университета... Билет же вы изволите держать в руках.
- Меня не интересует, что там написано. Постарайтесь отвечать на задаваемые вопросы!
- Пожалуйста... Сераковский. Сигизмунд Игнатьевич.
- Звание?
- Потомственный дворянин Волынской губернии.
- Год рождения?
- Тысяча восемьсот двадцать шестой.
- Вероисповедания?
- Римско-католического.
- Подорожная при вас?
- В кармане сюртука, который висит на вешалке, вернее, на гвозде, вбитом в стену.
Подорожную жандарм достал сам.
- Выдана восьмого апреля тысяча восемьсот сорок восьмого года... Пункты следования... - прочел он вслух. - Почему не отметились в Житомире?
- Не успел. Я уже говорил вам, что торопился к больной матери.
- У вас есть вещи?
- Вот только саквояж.
- Разрешите взглянуть...
Саквояж был почти пуст. В нем лежала пара чистого белья, польская драма "Иордан", почтовая карта Российской империи и восемнадцать полуимпериалов в потертом кожаном портмоне.
- А это что такое? - грозно спросил жандарм, вынимая из-за подкладки саквояжа пистолет.
- Он даже не заряжен, - ответил Сераковский спокойно.
- Не имеет значения... Попрошу вас следовать за мной.
- Куда?
- Это вас не касается, господин Сераковский. Вопросы здесь задаю я, а не вы.
Жандарм помоложе взял саквояж. Сераковский надел студенческий сюртук, шапку и вышел из комнаты. Во дворе ждала пролетка, в которую жандарм постарше сел первым. Рядом занял место Сераковский, второй жандарм вскочил на козлы, махнул на прощание рукой полицейскому, и пара коней не спеша потрусила по размокшей немощеной дороге.
Уже начало светать. Гроза ушла на север, необычно ранняя, первая в этом году, небо очистилось, и лучи еще невидимого солнца вдруг вспыхнули на позолоченных куполах Почаевской лавры. Туда уже стекались богомольцы.
- Спать хочется, - устало сказал жандарм постарше. - Ни дня тебе, ни ночи... Беспокойное время настало, господин Сераковский.
И он посмотрел в сторону границы, за которой лежала принадлежавшая Австрийской империи Галиция.
Сераковский вдруг усмехнулся:
- В одной из французских газет недавно была напечатана карикатура: из бутылки шампанского с надписью "Франция" вылетает пробка, да так, что разносит и французский трон и самого Луи Филиппа. А рядом - Россия. В виде штофа русской водки... - он показал руками, как примерно выглядит этот штоф. - Водка, само собой разумеется, не бурлит, и на пробке спокойно и величественно восседает наш монарх.
- Карикатура на государя императора?! - Жандарм повысил голос. - Я запрещаю!..
- К сожалению, вы не поняли ни меня, ни французского художника. Своим рисунком он хотел показать, что в России все так спокойно...
- Вот вашего брата и тянет за границу, - ворчливо сказал жандарм.
- Надеюсь, это относится не ко мне.
- Именно к вам, господин Сераковский. Признайтесь, ведь вы хотели уйти в Галицию и об этом договорились с извозчиком... Нам, господин Сераковский, все известно.
- Ни с кем я не договаривался! И вообще, зачем мне переходить границу? - Сераковский пожал плечами.
- Ну это ясно - чтобы принять участие в мятеже, в смуте, которая там поднялась... Хорошие люди из Галиции к нам бегут, - доверительно сказал жандарм. - А вы куда? Такой молодой, и уже в инсургенты! Вам ведь только двадцать два года!..
...Итак, Крыштан его предал. Кто бы мог подумать!
Он вспомнил, как в Кременце на постоялом дворе встретил этого разбитного извозчика. Сюда Сераковский приехал с умыслом. Отказавшись от записанного в подорожной направления, он побывал сначала в Житомире, где повидался с младшим братом Игнатием, еще гимназистом, потом через Луцк поехал в село, где жила мать, и уже оттуда направился в Кременец, поближе к австрийской границе. Там и познакомился с Крыштаном. Извозчик был как извозчик - пожилой, смуглый, кудлатый, много говорил и много жестикулировал при этом. Сераковский нашел его в бедной и грязной лачуге с почерневшими стенами и провисшим от ветхости потолком. У раскаленной печи стояла пожилая женщина с лихорадочным чахоточным румянцем на щеках, должно быть жена Крыштана. За столом, на полу и на деревянной кровати возилось множество оборванных детей - мал мала меньше.
- Пан Соснович посоветовал мне обратиться к вам с одной деликатной просьбой, - сказал Сераковский, войдя в лачугу извозчика.
- Слушаю пана, - ответил хозяин, наклоняя прикрытую ермолкой голову.
- Мне надо перебраться на ту сторону, - Сераковский показал рукой по направлению к границе. - Там у меня невеста.
- О, у пана невеста! - Крыштан причмокнул языком. - Но это не так просто - попасть в Галицию, как кажется пану.
- Конечно, не даром...
- И сколько пан заплатит?..
Сначала все шло хорошо, Крыштан довольно быстро доставил его в Почаев, небольшое местечко, существующее в основном за счет богомольцев, стекавшихся в лавру, и посоветовал остановиться в захудалой корчме, куда среди ночи и явились жандармы.
Сейчас он снова ехал в Кременец обсаженной вязами дорогой с полосатыми верстами, с той лишь разницей, что теперь его сопровождал не Крыштан, а два жандарма. Выехав на тракт, кони пошли резвее, и часа через два на горизонте показались две костельные башни с железными крестами.
Они въехали в город через Русские ворота - массивную арку в толстой крепостной стене. Пролетку начало нещадно трясти на булыжной мостовой, по сторонам которой стояли похожие друг на друга островерхие каменные домики ремесленников. К толстым шулам ворот были прибиты цеховые знаки, заменяющие вывески, - ножницы (здесь живет портной), бочка (бондарь), лошадиная морда (извозчик)...
В жандармском управлении, куда они приехали, Сераковского поместили в пустую комнату с решетками на окнах, столом в углу и двумя стульями, один из которых предназначался для посетителей.
- Можете располагаться как дома, - сказал жандарм. - Сейчас вам принесут из трактира завтрак. Небось проголодались? А я пойду спать...
Завтрак был скудный, невкусный, и Сераковский едва поковырял вилкой. Когда убрали посуду, в комнату, гремя саблей, вошел жандармский офицер, задавший примерно те же вопросы, что и жандарм в почаевской корчме.
- Давали ли вы извозчику поручение вести переговоры о проводнике через границу? - спросил офицер.
- И не думал давать таких поручений, - ответил Сераковский.
- Я вам советую признаться и рассказать обо всем совершенно откровенно.
- Мне не в чем признаваться.
- Ну что ж, в таком случае я буду вынужден препроводить вас в Житомир к губернатору.
От Кременца до Житомира добрались немногим более чем за сутки. Бричка ехала знакомой с детства дорогой. Вот и памятный поворот на Лычше, высокий черный крест с иконкой, повязанной вышитым рушником. Сераковский попросил жандарма остановиться.
- Хочу взять немного родной земли, - сказал он. - Не возбраняется?
- Что ж, можно... - равнодушно ответил жандарм.
Сераковский набрал горсть земли у кромки поля и завернул в носовой платок.
Утром уставшего от быстрой езды и бессонной ночи Сераковского доставили к губернаторскому дворцу. Беседа с начальником губернии была непродолжительной. Сераковский по-прежнему отрицал свое намерение нелегально перейти границу.
- Вы не желаете, молодой человек, сказать всей правды, а посему заставляете меня делать то, чего бы мне не хотелось.
Волынский губернатор соврал. У него уже лежало полученное из Петербурга предписание - срочно и под строгим караулом переправить Сераковского в Третье отделение.
Путь был наезжен. В прошлом году по нему везли арестованных членов Кирилло-Мефодиевского братства. И в одной из бричек сидел охраняемый полицейским и жандармом Тарас Григорьевич Шевченко. Дело не удалось сохранить в тайне, и в студенческих кружках Петербурга бурно и гневно осуждался произвол "коронованного жандарма" - Николая I, жестоко расправившегося с участниками Кирилло-Мефодиевского братства. Одним из кружков руководил студент камерального отделения университета Сигизмунд Сераковский.
...Летели лошади. Смотрители на почтовых станциях услужливо предлагали отдохнуть, но сопровождавший Сераковского жандарм показывал запечатанный сургучом пакет и требовал свежих лошадей.
- И рад бы, да ничего не поделаешь - служба!..
Станционный смотритель записывал подорожную в шнуровую книгу, Сераковский с жандармом торопливо пили чай или обедали, и снова ямщик понукал лошадей.
В Петербурге, на заставе, пассажиров прописали.
- Вот мы и опять путешествуем, - сказал жандарм знакомому чиновнику.
- Поменьше бы таких путешествий. - Чиновник в ответ грустно улыбнулся. - Намедни одного в цепях из столицы проводили. Не встречали?
Перед ними лежал Петербург. Он медленно появлялся из тумана, вырастали громады серых зданий, заслоняя друг друга, кирпичные дымящиеся трубы заводов на окраине, кладбища за каменными оградами и теряющиеся в пасмурном небе шпили и купола церквей.
Потом были торцы Невского, набережная реки Фонтанки, Цепной мост, проехав который бывалый извозчик сам свернул на Пантелеймоновскую, где и остановил притомившихся лошадей.
- Приехали, господа хорошие!
У железных ворот дежурили два "архангела" - жандарма. Они охраняли вход в огромный серый дом во дворе - печально знаменитое Третье отделение собственной его императорского величества канцелярии. Это были задворки, один из второстепенных подъездов, через который доставляли преступников.
Жандарм пропустил вперед Сераковского с саквояжем и вынул из сумки пакет.
- Прошу вас следовать за мной!
Они прошли через вымощенный булыжником двор к двери и поднялись по крутой, плохо освещенной лестнице. Их встретил высокий жандармский офицер в чине майора, с бледным узким лицом и зачесанными назад редкими волосами. Молча, не удостоив Сераковского и словом, он пошел впереди по широкому коридору с бесконечным рядом дверей с застекленными окошками, задернутыми занавесками. Навстречу шагал пожилой солдат-часовой. Майор назвал ему какую-то цифру, солдат побежал в конец коридора и распахнул дверь в одну из комнат.
- Вот ваше жилище, господин Сераковский, - сказал офицер. - Скоро к вам придет смотритель.
Сераковский услышал, как щелкнул в замке повернутый снаружи ключ.
В комнате стояли узкая железная кровать, покрытая одеялом из грубого солдатского сукна, столик, два стула и параша в углу. В дверное стекло, отодвинув занавеску, заглянул уже знакомый Сераковскому солдат: ему надо было знать, что делает арестант, не занимается ли он чем-нибудь недозволенным.
Вскоре пришел сутулый, остроносый человек лет шестидесяти. В руках он нес сверток с бельем, больничного вида халат и стоптанные башмаки, а под мышкой - толстую книгу.
- Здравствуйте, молодой человек, - сказал он. - Меня зовут Михаил Яковлевич. Я, так сказать, смотритель сего богоугодного заведения. - Он тихонько и довольно рассмеялся. - Извольте раздеться и надеть на себя вот этот костюм от самого дорогого портного... А в платочке, простите, что у вас?
- Земля с родины. Я бы хотел оставить это при себе.
- Оставляйте, молодой человек... родная землица, - мечтательно протянул смотритель. - Многие из вашей братии просили прислать с воли хоть щепотку... перед дальней дорогой, значит. А вы вот хоть и молоды, а догадались загодя запастись.
Сераковский скинул с себя свое студенческое одеяние и надел казенное - все белое, включая штаны и носки.
- Вот еще извольте шлафрок. - Смотритель подал длинный, не по росту, халат. - А теперь попрошу ваше имя, звание, происхождение...
- Боже мой! Меня спрашивают об этом по крайней мере в десятый раз! воскликнул Сераковский.
- Это еще не самое страшное, молодой человек. - Смотритель раскрыл шнуровую книгу, вынул из кармана чернильницу, отвинтил крышку и обмакнул в чернила гусиное перо... - Семейное положение?
- Холост.
- Чин?
- Пока первый, четырнадцатого класса.
- Воспитание?.. Адрес местожительства?..
Смотритель задал еще несколько вопросов, после чего аккуратно закрыл книгу.
- Ужин прикажете сейчас подать или погодя? - спросил он.
Сераковский невесело усмехнулся:
- Разве я могу здесь приказывать?
- Насчет ужина? Почему же? Насчет ужина - можно, молодой человек...
Ужин принес солдат. Он молча постелил на столике салфетку, положил ложку, трехкопеечную булку и поставил три судка с едой.
- А нож и вилка? - спросил Сераковский.
- Никак не положено, ваше благородие. Как бы не поранились.
Солдат унес опорожненные наполовину судки. Громко, словно выстрел, щелкнул ключ в замке двери. Сераковский вздрогнул. Только сейчас он с беспощадной ясностью ощутил, что же с ним случилось. Напряжение, в котором он держал себя всю дорогу от Кременца до Петербурга, стараясь не показать ни сопровождавшему его жандарму, ни смотрителям на станциях свое душевное состояние, было слишком велико. Наступила реакция.
Он бросился на жесткую кровать, уткнулся лицом в подушку, не замечая, что острые перья больно колют щеки. Что будет теперь? - спрашивал он себя. Неужели его вина так велика, что заслужила внимание самого Третьего отделения, которое (о, он это хорошо знал!) занимается только важными государственными преступниками?
За дверью, шаркая сапогами, ходил солдат. Время от времени он заглядывал в комнату, а когда стемнело, принес ночник - глиняную плошку с растопленным салом и куском фитиля. Ночник отчаянно коптил, черный столбик, колеблемый воздухом, поднимался кверху, наполняя камеру смрадом.
Сераковский погасил ночник, но тотчас вошел солдат и снова зажег фитиль.
- Светло ведь... белые ночи, - сказал Сераковский, закашлявшись от копоти. - Зачем этот огонь?
- Так положено, ваше благородие. Не могу знать...
Сераковский подошел к раскрытому окну. Со двора тянуло сыростью и холодом, горьким запахом осины от сложенных у стены дров. Едва слышные в ночной тишине проиграли крепостные куранты.
Устало опустившись на табуретку, Сераковский вынул из кармана платок с землей и вспомнил, как недавно в Петербурге, держа в руке горсть так похожей на эту литовской земли, он приносил присягу. В комнате тускло горели свечи, едва освещая лица его товарищей по "Союзу литовской молодежи", вернее, по одному из тайных студенческих кружков, входящих в этот союз, созданный виленскими учителями Францишеком и Александром Далевскими. В тишине отчетливо и торжественно звучали слова:
"Перед лицом бога и всего человечества, перед лицом моей совести, во имя святой польской народности, во имя любви, которая соединяет меня с несчастливою моею отчизною, во имя великих страданий, которые она испытывает, во имя тех мук, которые терпят мои братья поляки, во имя слез, проливаемых матерями по своим сынам, погибшим или теперь погибающим в рудниках Сибири, не то в казематах крепостей, во имя крови мучеников, которая пролита и еще проливается на алтарь самоотвержения за отчизну; во имя ужасной и вечнопамятной польской резни: я, Зыгмунт Сераковский, зная, что в силу божеских и человеческих законов все люди равны, свободны и друг другу братья - равны в правах и обязанностях, свободны в употреблении своих способностей ко всеобщему благу, веря, что идти в бой против насилия и неравенства прав, в отчизне моей существующих, есть долг и доблесть, убежденный, что согласие составляет силу и что союз, заключенный между собою нашими притеснителями, может быть ниспровергнут единственно совокупными силами народов; проникнутый верою в грядущее Польши, единой, целой, независимой, воссозданной на основаниях вседержавства народа, вступаю с полной уверенностью в свободный союз угнетенных поляков против угнетателей и их сообщников, для того чтобы призвать к новой жизни мою отчизну..."
Собирались на квартире у Сераковского. Так получилось, что в тайном кружке он стал главным, а его слово - решающим в споре. Споров было много, преимущественно о том, как достичь основной цели - освобождения Польши. Будущая Польша мыслилась великой, какой была до раздела - с Литвой и Юго-Западной Русью. Для достижения этой цели каждый готов был пожертвовать жизнью. Впрочем, до этого было еще далеко, многие в кружке стояли за неторопливый путь реформ, рассчитанный на несколько поколений, когда народ под влиянием пропаганды образованных людей осознает свои силы...
Наутро Сераковского разбудил солдат, он поставил на пол таз и кувшин с водой. Затем пришел знакомый майор с узким лицом и смотритель Михаил Яковлевич; смотритель принес одежду, которую вчера забрал у Сераковского.
- Как спали? Здоровы ли? Довольны ли помещением? - спросил майор заученной скороговоркой.
- Все великолепно: помещение, сон, ночник, - ответил Сераковский насмешливо.
- Я распоряжусь, чтобы вместо сала туда налили деревянного масла.
- Попрошу переодеться, господин Сераковский, - сказал смотритель, раскладывая на кровати одежду.
Пока Сераковский натягивал на себя платье, офицер сидел и курил, а смотритель стоял, наклонив набок голову и наблюдая за арестантом.
- Извините, тут немного того... мелом-с, - сказал он и потер ладонью запачканное место на студенческом мундире.
Майор шел сзади, приказывая, куда идти.
- Пожалуйста, прямо... Теперь направо по коридору... Налево... Через двор вон к тому подъезду...
Дежуривший у подъезда часовой дернул за проволоку звонка. Звонок звякнул где-то далеко, возвещая, что ведут преступника, которого надо встретить. И снова были лестницы и коридоры, чем дальше, тем более чистые и светлые, устланные коврами. Жандармский офицер с обезображенным оспой лицом молча козырнул майору и раскрыл дверь, к которой была прикреплена табличка: "Леонтий Васильевич Дубельт, управляющий III Отделения собственной Е. И. В. канцелярии".
Сераковский, конечно, слышал о Дубельте, об этом шпионе номер один, или, как его еще называли, "шпионе аншеф", то есть главном, и даже об этом кабинете, в преддверии которого он сейчас стоял и куда стекались политические доносы со всей России. Сюда ежедневно приходили доносчики-любители и те, кто сделал из этого преступного ремесла себе профессию, агенты-подстрекатели, провокаторы разных мастей и рангов, от совсем дешевых "мальчиков на побегушках" до очень дорогих "мастеров своего дела", срывавших за услуги немалый куш. Дубельт исправно платил каждому доносчику, соразмерно проявленному усердию, десятками и сотнями рублей, но всегда так, чтобы цифра вознаграждения делилась на три - в память об иудиных тридцати сребрениках. Он любил хвастаться в узком кругу, что органически не переносит предателей, в руках которых донос может стать орудием личной мести самому честному и благородному человеку.
- Пожалуйте сюда, - сказал жандармский офицер Сераковскому, показывая на дверь.
Сераковский вошел в большой кабинет с окнами на Фонтанку, со шкафами из красного дерева, диваном и мягкими зелеными креслами. За огромным письменным столом, стоявшим перед камином, сидел пожилой человек с прокуренными усами, одетый в синий генеральский мундир, на котором холодно сияла большая восьмилучевая звезда. Острые, пронзительные глаза его смотрели пристально. Несколько мгновений, показавшихся Сераковскому невероятно долгими, морщинистое худое лицо Дубельта оставалось неподвижным, но постепенно морщины на лбу расправились, и раздался тихий голос:
- Я бы предпочел с вами встретиться в другой обстановке, мой юный друг, и по другому поводу.
Сераковский растерялся. Он не ожидал подобного приема, обращения "мой юный друг"... Что это - насмешка? Злая шутка? Или, может быть, всесильный жандармский генерал хочет проявить по отношению к нему справедливость, тщательно разобраться во всем?
- В этой комнате вы можете чувствовать себя как дома, мой юный друг... Садитесь.
На бесстрастном лице Дубельта появилось подобие улыбки, и он даже чуть привстал со своего с высокой спинкой кресла, чтобы еще раз, тем же слабым, однако ж заметным движением руки показать на кресло напротив.
Сераковский молча поклонился и сел.
- Вы свободны... - Дубельт сделал знак офицеру, и тот неслышно удалился из кабинета; шаги скрадывал толстый, застилавший весь пол ковер.
- Я не буду задавать официальных вопросов, которыми вам, очевидно, неоднократно докучали, - сказал Дубельт все тем же любезным голосом. - Я пригласил вас к себе, мой юный друг, чтобы по-отечески побеседовать с вами и выяснить размер ошибки, которую вы, я полагаю, невольно допустили.
Сераковский еще не проронил ни слова, не зная, как себя вести с этим странным человеком.
- Как здоровье вашей матушки? Надеюсь, она уже поправилась?
- К сожалению, я не имею от нее никаких сведений, господин генерал. Мне не разрешили написать ей даже двух слов.
- Что вы говорите! - Дубельт сделал удивленное лицо. - Мы исправим эту ошибку. Вы можете сегодня же написать вашей матушке подробнейшее письмо, и я обещаю, что оно уйдет немедленно.
- Спасибо, господин генерал...
- Итак, - Дубельт оперся локтями о стол и вытянул голову вперед. Итак, мой юный друг, вы изменили свой маршрут в Херсонскую губернию исключительно для того, чтобы повидаться с больной матушкой. О, я высоко ценю ваши сыновние чувства!..
- Вы совершенно правы, господин генерал. Я сделал это только ради матушки.
- И перейти границу решили лишь из простого, естественного в вашем возрасте любопытства... Не тай ли, мой юный друг?
- Я не собирался переходить границу, - ответил Сераковский по возможности твердо.
- И следовательно, этот... - Дубельт заглянул в какую-то лежавшую на столе бумажку, - этот Крыштан просто выдумал про вас небылицу.
- Наверное. Он очень беден, а за донос неплохо платят...
- Я понимаю вас, мой юный друг. - Дубельт поморщился. - Донос - это так нечистоплотно, нечестно... Будто попал в сточную канаву. - С каждым новым словом лицо жандармского генерала принимало все более брезгливое выражение, и можно было подумать, что он действительно попал в сточную канаву и никак не может оттуда выбраться. - А ваш батюшка, надеюсь, он в добром здравии? - спросил Дубельт, не меняя выражения лица. - К сожалению, нам ничего не известно о нем... Его зовут, кажется, Игнатий?
- Он скончался, господин генерал.
- Давно ли? При каких обстоятельствах?
- Мне шел четвертый год, и я не помню подробностей...
- Четвертый год... Вы родились, мой юный друг... - Дубельт снова заглянул в бумажку на стопе, - ...в тысяча восемьсот двадцать шестом году, и, таким образом, ваш батюшка скончался... если я правильно произвел в уме арифметическое действие, в тысяча восемьсот тридцатом. - Дубельт тяжело вздохнул. - Страшный год, когда несчастная Польша ввергла себя в пучину кровавого восстания... Надеюсь, ваш батюшка не находился в рядах инсургентов?
Сераковский молчал. Не мог же он сказать этому главному жандарму России, что помнит ту ночь, когда его отец навсегда покидал дом, чтобы уйти к повстанцам. Что-то разбудило Зыгмунта (сдержанный ли шепот матери, тихие, осторожные шаги, бряцанье отцовской сабли...), он спросонья приоткрыл глаза и увидел склоненное над ним бородатое, нежное и суровое лицо отца. Отец трижды перекрестил его и тихонько поцеловал в лоб. В четыре года трудно понять, что происходило в родительском доме, но последние слова отца запомнились: "Спи спокойно... Собственной грудью прикрою тебя".
- ...Например, о своем отце я знаю все, - снова услышал Сераковский журчащий голос генерала. - Даже любопытную подробность о его женитьбе. Дубельт улыбнулся. - В свою бытность в Испании мой батюшка похитил там принцессу царствовавшего королевского дома и обвенчался с нею. Не правда ли, пикантно, мой юный друг?.. Кстати, если вы желаете, мы поможем вам узнать подробности кончины вашего батюшки... - Он снова заглянул в бумагу, - Игнатия-Антона Сераковского.
- Не стоит беспокоиться по пустякам, господин генерал.
- О, это совсем не такие пустяки, как вам кажется! В жизни довольно часто случается, что сын идет по стопам отца.
...Да, в чем, в чем, а в этом жандармский генерал прав. Что может быть святее памяти о солдате, погибшем за свободу отчизны, о его мужестве, о его героической смерти в бою с карателями! В ту памятную ночь отец ушел в отряд, организованный им под Уманью. С тех пор в доме как бы поселился дух протеста против существующего режима, против тех, кто поработил Польшу. О свободолюбивых настроениях тихого дома в Лычшах свидетельствовали портреты Костюшко на стенах, повстанческая конфедератка с металлическим гербом - рельефной Адамовой головой над двумя скрещенными костями, стихи Адама Мицкевича, которые по вечерам читала вслух бабушка Мария Моравская. Ее муж погиб, сражаясь в одном из повстанческих отрядов. Два брата матери - пани Фортунат - тоже с оружием в руках защищали свободу Польши в 1831 году. Один из них был ранен в руку, и маленький Сераковский не уставал слушать его рассказы о том сражении...
Легкий шум у двери вернул Сераковского к действительности. В кабинет вошел адъютант Дубельта.
- Ваше превосходительство, прибыл Булгарин. Сказать, чтобы обождал?
- Нет, зачем же? Проси!.. Надеюсь, мой юный друг не будет в претензии, если придется прервать наш разговор. Впрочем... - по лицу Дубельта пробежала легкая усмешка.
Так вот он какой, редактор "Северной пчелы", едва ли не самой популярной и самой цареугодной газеты в России. Сераковский с любопытством рассматривал вошедшего в кабинет широкоплечего, тучного, толстоногого человека с оттопыренной нижней губой и хитрыми большими глазами, которые виновато и в то же время подобострастно глядели на Дубельта.
- Здравствуйте, Леонтий Васильевич! Явился, как вы изволили приказать. Не ведаю только зачем, - сказал Булгарин заискивающе.
Дубельт не ответил на приветствие. Он медленно поднялся с кресла и, опершись обеими руками о край стола, хмуро уставился в сникшего сразу под его взглядом Булгарина.
- Ты... Ты у меня! - вдруг закричал Дубельт. - Вольнодумствовать вздумал?! О чем ты написал в своей поганой статейке? Климат царской резиденции бранишь? А известно ли тебе, что государь император изволил высказать мне свое неудовольствие? - Дубельт замолчал и, выдержав длинную паузу, сказал: - Становись в угол.
- К-как, в-ваше превосходительство... в угол? - Редактор "Северной пчелы" ошалело глядел на Дубельта.
- Очень просто. Носом к стенке...
Сераковский с удивлением следил за нелепой сценой. Странное дело, несмотря на крик, Дубельт не выглядел по-настоящему сердитым: так кричит учитель на своего любимого ученика - для острастки, для того, чтобы провинившийся впредь не допустил новой шалости.
Булгарин повиновался.
Дубельт действительно быстро остыл, успокоился, и Сераковский снова услышал его ровный голос.
- Надеюсь, вам известно, мой юный друг, что господин Булгарин поляк, как и вы. И этот поляк, несмотря на некоторые ошибки, за которые мы его строго наказываем, верой и правдой служит своему государству. - Дубельт вышел из-за стола и сел на кресло ближе к Сераковскому, как бы показывая свое расположение к нему. - И все же поляки бунтуют. Каким большим несчастьем явились недавние волнения в Галипии! Сколько в этом безрассудном предприятии было невинных жертв! Крестьяне, которых их владельцы сами же подготовили к восстанию, начали резать помещиков, и много семейств в ужасе бежали из Галипии под нашу защиту и покровительство. Сердце обливается кровью, когда подумаешь о них.
- Я полагаю, господин генерал, что в Галиции поляки бунтовали не ради собственного удовольствия. Их заставляла бунтовать сама жизнь, - сказал Сераковский.
- Вы так думаете?
- Всякий народ будет бунтовать, если он угнетен.
- О, вы высказываете, однако, довольно смелые мысли, мой юный друг. Дубельт помолчал. - Мысли, за которые недолго отправиться и в крепость... - Он выразительно посмотрел в окно, на Инженерный замок, в котором был задушен Павел. - Но забудем об этом.
В кабинет заходили чиновники и офицеры, Дубельт вызывал их, звеня в серебряный колокольчик, они равнодушно смотрели на стоявшего в углу Булгарина, разговаривали и уходили. Сераковский подумал, что, наверное, в этом кабинете ничему не принято удивляться.
Он так и не дождался, когда Дубельт позволит редактору "Северной пчелы" покинуть угол. Посмотрев на часы, главный жандарм вызвал адъютанта и приказал ему проводить Сераковского.
- До скорой встречи, мой юный друг, - сказал на прощание Дубельт. Мне было очень приятно иметь вас своим гостем. Я вас попрошу к себе, как только соскучусь по умному и интересному собеседнику.
В камере Сераковский долго думал над событиями дня. Он по-прежнему боялся Дубельта, и в то же время этот человек чем-то привлекал его ласковыми речами, ровным голосом, может быть, даже тем, что поставил в угол редактора "Северной пчелы". На секунду мелькнула мысль: а что, если внять совету Дубельта, рассказать, что он действительно хотел присоединиться к формируемой в Галиции генералом Бемом национальной гвардии. Но благоразумие взяло верх над порывом, и он решил, что делать этого ни в коем случае нельзя.
Между тем тяжелая и опасная машина Третьего отделения уже завертелась. После разговора с Дубельтом шеф жандармов граф Орлов срочно запросил характеристику на своекоштного студента Сигизмунда Сераковского в самом университете и у попечителя Санкт-Петербургского учебного округа Мусина-Пушкина. Секретные запросы полетели в Житомирскую гимназию, которую закончил Сераковский и где сейчас учился его брат Игнатий. Архивной части Третьего отделения был дан приказ немедленно проверить, не возбуждались ли в прошлом дела против родственников арестованного.
В ожидании, пока придут ответы, Сераковского несколько дней не тревожили. Он написал длинное письмо матери и отдал его смотрителю. Сераковский не знал, что по приказанию Дубельта письмо задержали и внимательно прочли - не высказал ли арестованный что-либо новое, что могло бы его изобличить.
- ...Я весьма рад видеть вас снова, мой юный друг. Спешу обрадовать: мы только что получили отличную характеристику от вашего университетского начальства... Садитесь и слушайте.
И на этот раз все было точно так же, как в прошлый. В камеру явился Михаил Яковлевич и принес партикулярное платье, Сераковский переоделся, с удовольствием скинув с себя казенный шлафрок, и снова в сопровождении того же жандармского офицера проделал долгий путь от каземата Третьего отделения до роскошного кабинета генерала Дубельта.
- ...Садитесь и слушайте, мой юный друг. - Дубельт далеко отставил от глаз бумагу с двуглавым орлом в верхнем левом углу. - "Находясь в продолжение полутора лет на казенном содержании, постоянно отличался скромным характером, в разговорах не замечено было образа мыслей предосудительного, напротив, он был более тих и неразговорчив. Против начальства оказывал всегда должное почтение. Взысканиям вовсе не подвергался. Когда же в 1847 году был перечислен в своекоштные студенты, то при посещении Сераковского на квартире..." Кстати, вы где жили?
- На Пятой линии Васильевского острова, в доме Иконникова.
- И ваш... назовем его пока условно - ли-те-ра-турный кружок собирался в этой квартире?
- Помилуйте, господин генерал, какой кружок? Просто ко мне заходили товарищи по университету, мы ужинали вскладчину (каждый приносил какую-либо снедь), читали, танцевали, пели песни...
- Польские? Очевидно, "Боже, кто Польшу..."?
- ...русские, малороссийские... - Сераковский как бы продолжил начатую Дубельтом фразу. - Декламировали...
- "Вперед! без страха и сомненья на подвиг доблестный, друзья!"?
- Что вы, господин генерал! - Сераковский снова не ответил на вопрос прямо, хотя, конечно, не раз читал друзьям это стихотворение Плещеева, ставшее в те годы гимном молодого поколения.
- Но мы несколько отвлеклись в сторону, - сказал Дубельт. - На чем это я остановился? Ах да... "...то при посещении Сераковского на квартире инспектор ничего не замечал такого, что бы могло возбудить подозрение"... Как видите, все в порядке, мой юный друг.
Дубельт отложил бумагу и стал раскуривать трубку.
- И я скоро буду свободен, господин генерал?
- К сожалению, сейчас это уже не зависит ни от меня, ни от графа Орлова. О вашем деле доложено государю-императору, который соизволил проявить к нему интерес.
- Боже мой, какая честь! - не очень почтительно пробормотал Сераковский.
- Да, честь велика, - без тени улыбки сказал Дубельт. Он помолчал. Разрешите полюбопытствовать, не известны ли вам эти ваши соплеменники? Он раскрыл лежавшую перед ним синюю папку. - Чеховской, Завадский, Эльснен?
Сераковский задумался. Сказать правду? Умолчать? Пожалуй, лучше ни то и ни другое, нужно что-то среднее между тем и другим.
- Только по фамилиям, господин генерал. С этими мальчиками я учился в гимназии, правда, я был на три класса старше их...
- А известно ли вам, что эти "мальчики", - Дубельт едва заметно повысил голос, - перешли австрийскую границу, чтобы участвовать в галицийских беспорядках, в польском мятеже?
- Не имею понятия, господин генерал.
- Странно... Вам ничего не говорил об этом ваш брат Игнатий, когда вы виделись с ним в Житомире?
- Нет, господин генерал.
- Преступников задержали австрийские власти и передали нам. Государь, как всегда, проявил милосердие, и эти инсургенты отделались тем, что направлены рядовыми в Кавказский корпус... А между тем их следовало бы повесить, не правда ли?
- За что? - невольно вырвалось у Сераковского. - За то лишь, что они хотели свободы своему многострадальному народу? Своей отчизне?
- Ну знаете ли!
Услышав гневный возглас, Сераковский спохватился: сказал не то, что можно было здесь говорить, и с опаской посмотрел на Дубельта. Лицо жандармского генерала было сурово, глубокие темные складки на лбу обозначились резче. Он долго молчал, и Сераковскому показалось, что Дубельт придумывает ему кару.
- Я прошу вас забыть о том, что вы только что сказали, - прозвучал наконец голос Дубельта, - равно как забуду об этом и я. Я это сделаю, мой юный друг, только потому, что вижу в вашем лице человека честного и неиспорченного, юношу, которому по самому возрасту своему свойственно заблуждаться. На сегодня я вас больше не задерживаю. Будьте здоровы, сказал он по-французски и протянул руку к колокольчику, чтобы пригласить конвоира.
И снова два дня Сераковского никуда не вызывали. Постепенно он стал привыкать к подневольному положению, к солдату, который по утрам поливал ему на руки из кувшина, к невкусным обедам без ножа и вилки, к решетке на окне и к неторопливым шагам часового у двери, которые то замирали вдали, то приближались.
Чтобы хоть немного отвлечься от мрачных мыслей, он раскрывал окно и смотрел на мощенный булыжником двор и железные ворота, жалобно скрипевшие, когда их открывал дежуривший около входа жандарм. Из окна можно было наблюдать, как вели под конвоем арестованных на допросы - от каземата в главное здание Третьего отделения. Движение во дворе не затихало ни днем, ни ночью - в любое время суток в этом страшном учреждении готовы были принять новых "гостей" с воли.
Сегодня утром, глядя из окна, Сераковский обратил внимание на молодого человека в потрепанном студенческом сюртуке, с черными закинутыми назад волосами, которых давно не касались ножницы парикмахера. Он шел легко, стремительно, и казалось, что, не будь рядом жандарма, давно бы перебежал через этот угрюмый двор. Молодой человек чем-то понравился Сераковскому, и он стал с нетерпением ожидать его возвращения в камеру.
Ждать пришлось долго. Лишь в обед Сераковский вновь увидел в окно студента. Но что с ним произошло? Студент шел, шатаясь, прикладывая ладонь ко лбу.
Теперь Сераковский смог получше рассмотреть его лицо, окаймленное бородкой, невероятно бледное, с открытым высоким лбом и большими глазами. Забыв об осторожности, он просунул руку за решетку, стараясь привлечь внимание студента, и тот заметил, ответил легким движением головы.
- Не положено, ваше благородие, - услышал Сераковский голос часового. - Отойдите от греха подальше.
- Кто этот студент?
- Не можем знать, ваше благородие.
- Его били?
Солдат молча вздохнул в ответ.
Вяло отхлебывая жидкие щи, Сераковский прислушивался к тому, что делалось за дверью. Сначала все было как обычно: раздавались мерные шаги часового, но вскоре к привычным звукам прибавились другие, и Сераковский догадался: ведут избитого студента. Непомерно толстые стены хранили тайну того, что делалось в камерах, в здании почти всегда стояла гнетущая тишина, и, может быть, поэтому шаги в коридоре раздавались особенно отчетливо и гулко. Они затихли совсем рядом, и Сераковский услышал, как захлопнулась дверь. Было похоже, что студента привели в соседнюю камеру.
Постепенно в деле Сераковского накапливалось все больше бумаг протоколов допросов, выписок из архивов Третьего отделения, ответов на запросы, посланные в разные концы империи.
Пришла пора войти к государю с всеподданническим докладом, и Дубельт, забрав бумаги, направился в кабинет шефа жандармов.
Граф Алексей Федорович Орлов, с виду похожий на придворного екатерининских времен, встретил своего помощника благосклонным кивком гордо поднятой головы.
- Добрый день, ваше сиятельство, - почтительно сказал Дубельт.
- Добрый день, мон шер. У вашего превосходительства что-нибудь новое? Экстренное? Невозможно исполнить без меня?
- Да, ваше сиятельство. Дело Сераковского подошло к тому состоянию, когда необходимо сделать выводы.
- Слушаю. - Граф Орлов устало откинулся на спинку стула и прикрыл склеротическими веками глаза.
- В наших делах, ваше сиятельство, уже упоминается Сигизмунд Сераковский, за которым мы вели наблюдение в связи с его письмами к брату Игнатию. В письмах содержались заинтересовавшие цензуру иносказательные выражения, которые, однако, упомянутый Игнатий объяснил столь удовлетворительно, что волынский губернатор решил не давать ход делу.
- Дальше, - сказал Орлов, не открывая глаз.
- Получен ответ от попечителя Санкт-Петербургского учебного округа Мусина-Пушкина.
- Слушаю.
- Он сообщает вашему сиятельству, что, по отзыву инспектора студентов, Сераковский постоянно отличался скромным характером, в разговорах не замечено было образа мыслей предосудительного, напротив, он был более тих и неразговорчив; против начальства оказывал всегда должное почтение, взысканиям не подвергался, и благодаря этому отпуск студенту Сераковскому был дан... Однако он не полагает ни безвредным, ни даже приличным оставлять Сераковского в Санкт-Петербургском университете, потому что взятие его под стражу в Почаеве, где ему вовсе не следовало быть, - Дубельт выделил эти слова голосом, - возбуждает подозрение в действительном намерении его скрыться за границею.
- Полностью согласен с Михаилом Николаевичем, - заметил Орлов, не меняя позы.
- Прямых улик против Сераковского, ваше сиятельство, нет. Возможно даже, что он не совершил противуправительственных действий, но мысли, которые он высказывал во время наших с ним бесед, довольно опасны. Уверен, что, если не принять по отношению к нему должных мер, из него получится бунтовщик.
Вскоре Дубельт снова вызвал Сераковского.
- Поздравляю, мой юный друг, ваши дела идут как нельзя лучше. Не позднее чем послезавтра граф войдет к государю с предложением по вашему делу. Доклад поручено подготовить мне, и я пригласил вас, чтобы посоветоваться относительно испытания - о, поверьте, совершенно легкого! которое вам будет назначено.
Сераковский недоверчиво улыбнулся.
- В вашем учреждении всегда советуются с преступниками, прежде чем вынести им приговор? - спросил он.
- Нет, мой юный друг, далеко не всегда. И не со всеми. Но я, поверьте, питаю к вам отеческие чувства...
- Благодарю вас, генерал, - пробормотал Сераковский.
- Итак, есть три варианта испытания. Первый вариант - перевести вас в Казанский университет, второй - определить на гражданскую службу и третий - определить на службу военную. Выбирайте любой.
- Все это так странно, - сказал Сераковский. - Ну уж ежели вы предлагаете мне сделать выбор, то я бы предпочел университет...
- Прекрасно. Я об этом доложу графу. Я совершенно уверен, что их сиятельство согласится, но все же мы должны предусмотреть и отказ, не правда ли?.. Что же в таком случае? Что вы предпочитаете - быть чиновником или офицером?
- Боже мой, какое это имеет значение!
Десятого мая всеподданнический доклад был закончен. Он начинался с доноса извозчика Крыштана и продолжался подробным изложением допросов, которые снимали с Сераковского.
Одиннадцатого мая граф Орлов подписал доклад и отправил его во дворец на усмотрение Николая I.
Двенадцатого мая российский самодержец, просматривая бумаги, присланные ему из Третьего отделения, обратил внимание на доклад и бегло прочитал его.
"Я лично видел Сераковского, - писалось в докладе, - и он, повторив предо мною прежние показания... При этом я заметил, что Сераковский довольно откровенный молодой человек, но науки не столько принесли ему пользы, сколько запутали его ум".
Царь недовольно поморщился и, пропустив несколько страниц, перешел сразу к заключительной части доклада.
"...полагал бы определить его, на правах по происхождению, в один из армейских полков отдельного Кавказского корпуса, о тем чтобы генерал-адъютант князь Воронцов поручил ближайшему начальству обратить на Сераковского особенное внимание".
Лицо государя оставалось непроницаемым. Он щелкнул в воздухе пальцами, давая тем самым знак, чтобы подали карандаш.
"В Оренбургский корпус", - написал царь своим размашистым красивым почерком.
Когда курьер привез из дворца возвращенный царем доклад, граф Орлов, как обычно, покрыл прозрачным лаком резолюцию Николая Павловича, чтобы она не стерлась и осталась навсегда - для потомков.
- Объявите этому поляку государеву волю, - сказал Дубельту шеф жандармов.
Последние дни отношение тюремных начальников к Сераковскому заметно изменилось. Ему разрешили написать письма, причем не только родным, но и вообще, кому он сочтет нужным, и вместе с бумагой, чернилами и несколькими хорошо заостренными перьями принесли в камеру три свежих номера "Северной пчелы".
- Ежели желаете, можете совершить прогулку по двору на полчаса. Имеется разрешение его превосходительства, - сказал смотритель.
Эта новость тоже была приятной и, главное, как бы предрекающей, что его дело будет решено благоприятно и скоро. Нет, жизнь далеко еще не кончена и нечего вешать нос на квинту! Все обернулось не так уж плохо, как ему казалось вначале. Казанский университет - это не Петропавловская крепость, черт побери! Армейская служба тоже не сибирская каторга! Он, конечно, попросится на Кавказ, где сможет отличиться в первой же стычке с горцами, будет представлен к награде, а затем и вовсе прощен.
Насвистывая что-то веселое, он натянул на себя свое гражданское платье, которое принес смотритель. В коридоре присоединился конвоир солдат с ружьем, тот самый, который обычно приносил обед, но и это напоминание о неволе не омрачило приподнятого настроения Сераковского. По знакомым лестницам, он вышел все на тот же двор, обдавший свежестью недавнего ливня.
Раньше он ходил этим двором под надзором офицера, теперь офицера не было, и Сераковский остановился, чтобы взглянуть на окно, которое было рядом с его камерой. Он ни разу больше не видел своего соседа-студента и сейчас ожидал, не покажется ли знакомая фигура.
Должно быть, студент тоже заметил его - подошел к окну и приветливо кивнул. Сераковский ответил. Но студент вдруг сделал мало понятный знак рукой и отпрянул. "Наверное, к нему кто-то зашел", - подумал Сераковский.
Он стал ходить по двору, пересекая его то по диагонали, то зигзагом, радуясь, что имеет возможность хотя бы в таком пустяке проявить самостоятельность. Солдат молча следовал за ним.
И вдруг из двери вышел студент с конвойным офицером. Сераковский обрадовался. Будь что будет, но он перекинется несколькими словами со своим соседом по камере.
Сближаясь, они напряженно смотрели друг на друга.
- Из Петербургского университета - Сераковский.
- Погорелов - из Московского.
- За что?
- Ни за что!
Вопросы и ответы следовали один за другим почти мгновенно.
- Разговаривать не разрешается, господа! - выкрикнул конвойный.
Итак, молодой человек с приветливым лицом и голубыми дерзкими глазами - некто Погорелов из Московского университета. Сераковскому стало грустно, когда он подумал, что студенту, наверное, предстоит еще долго томиться здесь и что им никогда больше не свидеться...
- Я за вами, господии Сераковский. - К Зыгмунту подошел офицер, который всегда отводил его на допрос к Дубельту. - Попрошу срочно к господину генералу!
Дубельт встретил своим обычным слащавым приветствием: "Рад видеть вас, мой юный друг!" - и ленивым движением руки показал на кресло. Сейчас он почему-то говорил по-французски.
- Я только что был у графа, и он попросил меня объявить вам монаршую волю.
Дубельт поднялся с кресла: он не счел возможным сидя зачитывать распоряжение государя. Встал и Сераковский.
- Государь император соизволил наложить революцию на наш доклад. - Он перешел на русский: - "В Оренбургский корпус... рядовым на правах по происхождению..." Надеюсь, вы довольны столь милостивым решением государя?
- Да, да, конечно... - пробормотал Сераковский. - "На правах по происхождению", - повторил он озадаченно.
- Это очень хорошо для вас, мой юный друг. Через два, самое большое, через четыре года вы получите офицерский чин...
Сераковский вздохнул.
- Может быть, вы желаете до отъезда справить мундир? Я бы порекомендовал вам хорошего портного.
- Нет, нет, господин генерал! Я хочу приехать в Оренбург вот в этой студенческой куртке.
- Мне кажется, вы чем-то обеспокоены, мой юный друг... - Голос Дубельта звучал приторно-участливо.
- Да, генерал... Понимаете ли... мое дворянское происхождение еще не утверждено в Департаменте герольдии...
- Вот как? - Дубельт удивленно поднял брови. - Это несколько усложняет дело, но вы не беспокойтесь. Я настолько принял в вас участие, что постараюсь помочь вашей беде.
- Наш род уходит корнями в глубь веков. - Сераковскому вдруг захотелось по-мальчишески похвастаться перед этим человеком. - Он ведет свое название от местечка Старый Сераков, откуда вышли наши предки. Уже в первом поколении они приобрели право на родовой герб "Доленго" от польского слова "смелость", потом получили графский титул.
- Вы граф? Почему же вы об этом раньше не сказали?
- Только потомок графа. Сын беспоместного дворянина, который средства к жизни добывал в поте лица своего.
- Так вот, оказывается, почему вы пошли в гимназию, а не в кадетский корпус, - сказал Дубельт.
Сераковский промолчал, хотя сразу же вспомнил летний погожий день, отчий дом, ярко освещенный солнцем, и толстого исправника, стучавшего саблей, когда он поднимался по крыльцу. Зыгмунту тогда исполнилось шесть лет. Это был возраст, когда детей польских дворян, участвовавших в восстании, насильно забирали в кадетские корпуса, чтобы воспитать в верноподданническом духе. Всю неделю, пока ждали из города исправника, маленький Сераковский щеголял в девчоночьем платье. Он, и верно, в том возрасте был похож на девочку - хрупкий, маленький, с золотистыми вьющимися волосами, спадающими на плечи, и появившийся в доме исправник, извинившись за ошибку, стал вносить изменение в список.
- Значит, у вас дочь, пани Сераковская... Так и запишем, - сказал он.
Дело испортил сам Зыгмунт. Он вышел из-за спины матери и не без гордости заявил: "Я не дочь! Я сын, Сигизмунд Сераковский".
В кадетский корпус мальчика, правда, не взяли, но пани Фортуната в тот день рассталась со своим фамильным серебром...
Отправка в Оренбургский корпус задерживалась. Неторопливая почта перевозила Нужные бумаги из Третьего отделения в Инспекторский департамент Военного министерства, куда граф Орлов сообщил высочайшую волю об определении студента Сераковского в солдаты. Из Инспекторского департамента запросили разъяснение, можно ли отправить Сераковского в Оренбург обычным порядком или же следует выделить жандарма для сопровождения. Третье отделение ответило, что прецеденты уже имелись и Сераковского следует отправить только с жандармом и что такового Третье отделение назначит само. Ответ вполне удовлетворил инспекторский департамент, и там заготовили и переслали в Третье отделение очередную бумагу - отношение командиру Отдельного оренбургского корпуса генералу Обручеву: "По распоряжению его императорского величества к вам направляется..."
В эти дни Сераковский написал несколько писем матери, друзьям и попытался получить свои книги, оставшиеся у товарищей. Будущее не казалось ему мрачным, он решил, что служба в полку не помешает держать экзамен на ученую степень в одном из университетов. Степень магистра или бакалавра давала в отношении военной службы те же льготы, что и дворянское звание, довольно быстрое получение первого офицерского чина.
Сераковский находился в том свойственном молодости состоянии, когда будущее, несмотря ни на что, кажется заманчивым и влечет к себе. Впереди туман, непогодь, солдатская жизнь и в то же самое время - другая страна, новые люди, далекие невиданные места.
Отъезд был назначен на двадцатое мая. Смотритель принес снова толстую шнуровую книгу, и Сераковский расписался в получении своего студенческого одеяния, саквояжа и восемнадцати полуимпериалов в потертом кожаном портмоне.
Все это он делал будто во сне, еще не остыв от недавнего разговора с Дубельтом, с "отцом-генералом", который пообещал каждый месяц требовать отзыв о поведении его "нового сына", и если отзыв окажется благоприятным, то испытание Сераковского не продолжится и более двух лет. "Я сам буду просить за вас милосердного государя, мой юный друг".
Казенная жандармская бричка, такая же, как все жандармские брички Российской империи, стояла во дворе. Два коня нетерпеливо били копытами. Равнодушно взирал на все сидевший на козлах ямщик.
- О прошлом годе, молодой человек, вот об эту примерно пору, добродушно сказал смотритель, - отъезжал от нас один человек в том самом направлении, что и вы: малороссийский сочинитель Шевченко Тарас Григорьевич, может, слыхали? Веселый такой... А чего было смеяться да балагурить? - Смотритель пожал плечами. - Не на бал ехал - в солдатчину!
Из двери, что вела в главное здание Третьего отделения, выбежал молодой офицер с черными усиками. В руках у него был портфель, в котором лежало запечатанное сургучом отношение Военного министерства к генералу Обручеву и приказ Третьего отделения сопровождать Сераковского на пути от Петербурга до Оренбурга. "Содержать Сераковского прилично его происхождению... Обходиться снисходительно, имея, однако же, за ним наблюдение; не дозволять ему никуда отлучаться и не входить ни в какие посторонние рассуждения..."
- Можете отправляться, молодой человек, - сказал смотритель. Спокойным вы были постояльцем... никаких забот с вами. Ну, прощайте! Не поминайте лихом.
- Прощайте, Михаил Яковлевич. Хотел бы еще встретиться с вами, но только не здесь... Кстати, в мою комнату, наверное, уже есть жилец?
- Свято место пусто не бывает.
Конвоир проводил Сераковского до брички, у которой его поджидал офицер.
Сераковский последний раз взглянул на угловое окно, надеясь увидеть московского студента Погорелова, но его не было. "Что ж, значит, не судьба".
Противно заскрипели тяжелые железные ворота, но этот скрип показался Сераковскому музыкой: зловещее Третье отделение оставалось позади.
- Трогай, с богом, - сказал офицер.
Ямщик дернул за вожжи:
- Но, но, родимые! Понеслись!
Глава вторая
Силуэт Оренбурга показался на горизонте в последний день мая.
Жара к вечеру спала, клубилась рыжая пыль, поднимаемая лошадьми. На все четыре стороны, далеко-далеко расстилалась полынная дикая степь. Весна в этом году запоздала, и степь была еще свежа, отливала сизым и на ветру, когда вымахавшие по пояс человеку травы то наклонялись, то выпрямлялись, напоминала море. Тут и там краснели маки, их тоненькие лепестки, освещенные низким солнцем, светились, как огоньки.
Сераковский жадно вглядывался в степь. Он привык к Волыни, к Литве, где проводил каникулы у знакомых, к голубым озерам в сосновых борах, к холмам и перелескам. Здесь все было по-другому, было чужим, но по-своему красивым.
Шамонин, несмотря на жандармский мундир, оказался неплохим малым и собеседником. Он не кричал на смотрителей и не совал им под нос подорожную, требуя для арестанта лошадей без очереди, да в этом и не было нужды: Третье отделение на дорогах, по которым перевозили ссыльных, держало свой ямщицкий извоз.
Сто девяносто верст в сутки - не так уж много ("Когда везли Шевченко, - вспоминал Шамонин, - по триста делали!"), чтобы выбиться из сил и не замечать того, что лежит по сторонам почтового тракта.
В Симбирске они встретили длинный обоз гробов - это везли куда-то за город умерших от холеры. По бокам ехали конные городовые, отгонявшие от процессии родных. Вот уже год, как свирепствовала здесь холера. Она пришла с турецкой стороны, переплыла Каспий и Черное море и начала продвигаться на север вдоль рек и почтовых трактов. На пропахших карболкой заставах жандармскую бричку задерживали, и усталый лекарь осматривал всех троих, спрашивал, что болит, заставлял показывать язык.
Из Бузулука - последней ночевки перед Оренбургом - они выехали ни свет ни заря, спасаясь от дневной духоты; кони попались добрые, ямщик бедовый, и вот теперь, к исходу дня, подъезжали к городу.
Косые лучи закатного солнца освещали колокольни и минареты Оренбурга. Блестело, слепило глаза многочисленными окнами здание Караван-сарая с тонким изящным минаретом. Его соседство с церквами, поднявшими в небо золотые луковки куполов, говорило о том, что здесь сплелись два мира христианский и мусульманский, запад и восток, Европа и Азия.
Бричка с Сераковеким въехала в город через Сакмарские ворота, где часовой, привыкший к такого рода приезжим, не стал проверять документы, а, отдав честь офицеру, поднял шлагбаум.
Позади остался глубокий, чуть не в сажень, ров и опоясавший город земляной вал. Побежали навстречу разбросанные в беспорядке деревянные лачуги и желтые глиняные мазанки. По неметенным пыльным улицам бродили коровы и свиньи; громко гогоча и расправив крылья, пересекали дорогу табунки гусей.
Чем ближе к центру, тем оживленнее становилось на улицах. Чаще попадались каменные постройки, выкрашенные охрой, - казенные здания. Спокойно и важно двигался, звеня колокольчиками, караван верблюдов, на которых восседали проводники в белых чалмах и полосатых шелковых халатах. Сераковский наблюдал за ними с нескрываемым любопытством.
Был час намаза, и с ближнего минарета прозвучал пронзительный, похожий на женский голос муэдзина, приглашавшего правоверных к молитве. Караван мгновенно остановился; проводники, сойдя с верблюдов, опустились на колени, предварительно разостлав перед собой маленькие молельные коврики. То же самое проделали проходившие мимо бухарцы.
Бричке пришлось остановиться: молящиеся падали на колени и посередине дороги - там, где их застал голос муэдзина...
- К ордонанс-гаузу, - распорядился Шамонин.
- Известное дело, ваше благородие. Не впервой...
Иностранного слова ямщик не понимал, однако хорошо знал, что вот таких, как Сераковский, всегда доставляли к дому, в котором помещался штаб Отдельного оренбургского корпуса.
Шамонину уже не раз приходилось привозить сюда людей, осужденных "по высочайшей конфирмации". Он разыскал разомлевшего от духоты дежурного и отдал ему пакет, адресованный генералу-от-инфантерии Обручеву.
- Что ж, господин Сераковский, на этом приятная миссия иметь вас в числе своих попутчиков окончена. Я рад был познакомиться с вами. - Шамонин протянул руку. - Прощайте!
Старый писарь, устало позевывая, измерил аршином, сколько в Сераковском росту, и, не сводя с него глаз, стал записывать в книгу особые приметы прибывшего: лицо чистое, волосы на голове и на бровях светлые, с рыжеватым оттенком, глаза голубые, нос прямой, лоб высокий, от роду двадцать два года, грамоте читать и писать горазд, а имен имеет, окромя Сигизмунда, еще Эразм, Гаспар и Иосиф... По высочайшему повелению, за политические преступления в службу поступил рядовым сего 31 мая 1848 года.
- Тут, господин хороший, скучать не будете, вашим братом - поляками в Оренбурге хоть пруд пруди, - сказал писарь. - Да вот один легок на помине. - Он высунулся в открытое окно и крикнул: - Пан Венгжиновский!
- Венгжиновский! - Сераковский тоже глянул в окно и замер от удивления и радости. По улице мелкими шажками быстро шел небольшого роста человек с округлым румяным лицом.
- Аркадий! - крикнул Сераковский.
- Езус-Мария! Зыгмунт! - откликнулся тот, подбегая к окну. - Какими судьбами?
- По высочайшему повелению. В корпус.
- Ай-я-яй!.. Обожди немного, я сейчас договорюсь с дежурным.
Аркадия Венгжиновского, служившего в Оренбургской пограничной комиссии надзирателем "школы для киргизских детей", знали почти все офицеры в городе. Он приехал сюда с Волыни шесть лет назад и как-то сразу прижился в чужом краю, перезнакомился с военными и чиновниками; многие полюбили этого добродушного поляка с невинными голубыми глазами и неизменным румянцем на тугих щеках.
Венгжиновский вернулся, сияя широкой улыбкой.
- Все улажено, господин Сорокин... Зыгмунт, ты свободен до десяти часов утра. В десять надо представиться господину генералу. Не волнуйся, все будет хорошо!
Выйдя из душного штаба, пан Аркадий остановился и с дружеской бесцеремонностью повернул к себе Сераковского.
- Какой ты стал большой, - сказал он, переходя на польский. - Какой пригожий... За что же тебя?
- Тут длинная история, пан Аркадий...
- Ладно, расскажешь после. А сейчас идем к нам. Я тебя угощу пляцыками, помнишь, которые делали в вашем доме?
На улицах было много народу. В толпе преобладали военные, и Венгжиновскому часто приходилось кланяться. Делал он это легко и грациозно, как барышня.
Идти пришлось на левую сторону мутного Урала, мимо цейхгауза, закрытых соляных и провиантских лавок, солдатских казарм за глухими заборами. "Завтра и я тут поселюсь", - невесело подумал Сераковский.
- Сейчас ты увидишь маленький уголок нашей Польши, - не без гордости объявил пан Аркадий.
Улица, куда они свернули, была застроена необычными для Оренбурга домами - с мансардами под высокими крышами и просторными верандами, выходящими в садики. Над дверями иногда виднелись фамильные гербы, говорящие о знатности и былой славе высланных сюда людей. Правда, рядом с гербами можно было увидеть прозаические изображения сапога, часов, кастрюли, ключа, и это красноречиво свидетельствовало о том, что, несмотря на знатность рода, живущим в этих домах людям приходится самим зарабатывать себе на хлеб.
- Боже мой, совсем как в Луцке! - воскликнул Сераковский.
- Варшавские выселки! - усмехнулся пан Аркадий.
В доме тоже многое напоминало родину - чугунное распятие на стене залы, икона Остробрамской богоматери, засушенные цветы за ней, польские книги на этажерке, литографии, одна из которых была точно такой, как в отчем доме: могила Наполеона на острове Святой Елены со скорбным силуэтом императора между деревьями.
- Пока ты умоешься с дороги, - Венгжиновский притащил на кухню таз с водой, - я сбегаю за друзьями. Это рядом.
Через несколько минут в домике пана Аркадия стало шумно. Первым пришел худенький солдат с удлиненным, суживающимся книзу лицом, очень большими глазами и коротенькими усиками. Он щелкнул каблуками солдатских ботинок и приложил руку к околышу круглой, без козырька, фуражки.
- Рядовой второго линейного батальона, высочайше конфирмованный Бронислав Залеский!
- Зыгмунт Сераковский! Тоже по высочайшему повелению... Тебя за что? - Сераковский с ходу перешел на "ты".
- За связь с молодцами генерала Вема.
- Вот совпадение! И меня тоже. Правда, мне так и не удалось принять участие в деле.
- О, наш Бронислав уже имеет стаж, - поддержал разговор Венгжиновский. - Три года тюрьмы, высылку в Чернигов, а теперь сюда в солдаты. Прямо из Дерптского университета.
- Значит, коллеги! Я из Петербургского. - Сераковский порывисто протянул руку.
Затем в комнату с достоинством, не торопясь, вошел высокий статный военный с погонами штабс-капитана - Карл Иванович Герн, служивший дивизионным квартирмейстером.
- Рад познакомиться еще с одним изгнанником, - сказал он. - Вас уже определили в полк?
- Этот юноша только что с жандармской брички, - ответил за Сераковского пан Аркадий. - Мы надеемся на твою помощь, Кароль.
- Все будет зависеть от того, с какой ноги встанет завтра его высокопревосходительство.
Звонок над дверью в прихожей возвестил о приходе еще одного гостя, в длинной, до пят, сутане, маленького, плотно сбитого, с круглым, словно вычерченным циркулем лицом, которое к тому же светилось широчайшей улыбкой.
- Ба, кого я вижу! - радостно крикул он, направляясь к Сераковскому и раскрывая объятия.
"Боже, откуда он меня знает? - подумал Зыгмунт, тоже с жаром отвечая на приветствие.
- Пан Аркадий, скорей рассказывайте, кто этот юноша, которого я полюбил с первого взгляда.
- Ты бы сперва помолился за изгнанника, - перебил его Венгжиновский.
- О, помолиться я всегда успею. - Ксендз отпустил Сераковокого и перевел взгляд на икону. - Матка бозка Остробрамска, змылуйсе над нами, бедными поляками, а над москалями як себе хцеш...
- Э-э, отец префект, так дело не пойдет! - раздался насмешливый басок нового гостя. - Кто же будет заботиться о москалях?
- О, Федор Матвеевич! Рад вас видеть! - Ксендз оставил Сераковского и бросился навстречу "москалю" Лазаревскому, который шутливо попятился к двери.
- Пан Михал, побойтесь бога, ведь мы уже с вами сегодня дважды лобызались!
- Ну и что же? Бог троицу любит.
Он все же попытался поцеловать Лазаревского в губы, но дотянулся лишь до густой, аккуратно подстриженной бороды.
Когда Венгжиновский уже познакомил Зыгмунта с этими двумя ("Лазаревский Федор Матвеевич, чиновник особых поручений при председателе Оренбургской пограничной комиссии"... "Михал Зеленко, а по-русски Михаил Фадеевич, бывший ссыльный, а теперь капеллан Оренбургского корпуса"...), в комнату ввалился, поблескивая стеклами очков, толстенький человечек, представившийся Сераковскому Михаилом Игнатьевичем Цейзиком, оренбургским провизором. Провизор притащил с собой большой, из красного дерева ящик, оказавшийся фотографическим аппаратом.
- Нет, нет, не отказывайтесь, пан Зыгмунт, я обязательно должен сделать с вас снимок!
- Знаменитый человек. - Венгжиновский похлопал Цейзика по плечу. - Он имеет единственную на весь Оренбург фотографическую камеру!
Постепенно комната наполнилась народом. Это были либо ссыльные, либо уже вольные люди, оставшиеся служить в этом крае. Они крепко пожимали Сераковскому руки, говорили добрые, ободряющие слова, в которых он сегодня особенно и не нуждался, потому что чувствовал себя необычайно приподнято.
За большим дубовым столом пили чай из медного самовара, обсуждали последние местные новости, расспрашивали аптекаря - когда же, по его мнению, окончится эта холера? - но всего более слушали Сераковского, который громко, радуясь, что рядом друзья, рассказывал о своем аресте, Третьем отделении, Петербурге...
Сидели долго, пели польские и русские песни и не заметили, как заглянул в окна розовый, необычайно яркий рассвет, предвещавший зной и ветер. Лишь тогда гости разошлись, но Сераковский так и не прилег. "Последние свободные часы, - подумал он, - а потом казарма и муштра". Чем ближе подходило время к десяти, тем тревожнее становилось на душе. Что-то ждет его у генерал-губернатора, который, говорят, крут и строг, особенно со ссыльными?
Город проснулся рано. О начале дня возвестили резкие крики верблюдов, позвякиванье колокольчиков на их шеях и гортанные голоса погонщиков. Хозяин и гость вышли из дому загодя, чтобы, упаси бог, не опоздать в штаб корпуса.
Солнце еще только грело, а не палило, не жгло, как днем, и горожане запрудили улицы. Кричали торговцы, на ломаном русском языке зазывая покупателей. Прошла рота солдат. Служащие в форменных кителях неторопливо направлялись в присутственные места.
На проезжей части улицы лежал чернобородый человек, должно быть крестьянин-переселенец, и тихо звал на помощь. Прохожие обходили его стороной.
- Сейчас умрет, - сказал кто-то из толпы.
- Почему никто не поможет?! - опросил Сераковский и, прежде чем пан Аркадий ответил, подбежал к умирающему. - Дайте хотя бы воды!
Пока из соседнего дома принесли воду, Сераковский поддерживал руками голову крестьянина.
Подъехал на казенных дрожках военный лекарь и, мельком взглянув на обоих, распорядился:
- Отвезите тело на съезжий двор!
Толпа в ответ загудела.
- Он жив еще! - крикнул кто-то. - Живых хороните!
- Это ты травишь людей! - раздался голос.
- Он, он травит! Бей его!
Кто-то бросился вперед и остановил лошадь, другой схватился за рессору дрожек, третий начал стаскивать с козел кучера... Но тут послышался полицейский свисток, топот коней, свист казачьих нагаек. Толпа сразу отхлынула, рассеялась, и на опустевшей мостовой остались лишь дрожки с седоками, Сераковский, все еще державший голову несчастного, да рядом пан Аркадий.
- Так нетрудно и заразиться, молодой человек, - сказал доктор. Оставьте, он уже мертв...
Генерал-губернатором края и командиром Отдельного оренбургского корпуса был Владимир Афанасьевич Обручев. Верный солдатскому долгу, он безропотно принял назначение в забытый богом край, который надо было освоить, продвигаясь на юго-восток, к Бухарскому ханству, однако же тяготился жизнью в беспорядочном, диком Оренбурге на окраине империи. Высокая должность доставляла генерал-губернатору немало хлопот: надо было уживаться с киргизами, как называли всех туземных жителей, привлекать их на сторону царя, мирить бедняков с баями, а тех и других защищать от набегов кокандцев... Затем эти сосланные поляки, всегда готовые к смуте. Они были не только в солдатских батальонах и ротах, но полонили и присутственные места, занимали офицерские должности в корпусе, а граф Орлов все продолжал посылать их сюда... Не далее как сегодня утром дежурный адъютант опять положил на стол дело какого-то Сераковского, высочайше отданного в солдаты.
- Попросите этого поляка, - сказал Обручев, хмурясь.
Сераковский вошел и встретился с испытующим взглядом человека лет за пятьдесят, моложавого, в темно-зеленом генеральском сюртуке с сияющими эполетами и золотыми орденами.
- Бунтовать изволили? - спросил Обручев, держа в руке бумаги Сераковского. - "На правах по происхождению", - прочел он. - Где же эти права? Где подтверждение вашего дворянского звания?
- Мое дело находится в геральдической комиссии, ваше высокопревосходительство. Сам генерал Дубельт обещал мне поторопить производство...
- Ах, сам генерал Дубельт! - повторил Обручев. - Но мне надлежит решить ваше дело сейчас, не дожидаясь, пока начальник корпуса жандармов займется вашей особой. - Он обмакнул гусиное перо в чернила и написал четким разборчивым почерком: "Рядовым в первый линейный батальон Новопетровского укрепления".
Аудиенция у генерала Обручева продолжалась не более пяти минут.
- Видит бог, я не сумел даже поговорить с генералом, - оправдывался перед паном Аркадием дивизионный квартирмейстер Герн. - Единственное, что я смог сделать для Зыгмунта, - это определить его к вам на квартиру до отправки в батальон.
- Спасибо, Карл Иванович... А это далеко, Новопетровское укрепление? - спросил Сераковский. - Я что-то не слышал о таком.
Венгжиновский и Герн переглянулись.
- Полторы тысячи верст, Зыгмунт.
- Зато южнее Венеции, - Герн попытался подсластить горькую пилюлю.
"Вот когда начинаются настоящие испытания, - подумал Сераковский. - И ничего, ровным счетом ничего нельзя изменить. Разве что..."
Он вспомнил о Дубельте, как бы снова вернулся к событиям почти месячной давности, к встрече с человеком, который был с ним любезен, по крайней мере, не так строг, как Обручев. Он снова услышал его тихий, вкрадчивый голос: "Мой юный друг..."
Сераковский попросил бумаги, перо и сел за письмо. Он писал долго получалось не так, как хотелось, - вымарывал и бросал в корзину испорченные листы. Он не мог требовать справедливости, а только просил о ней, не мог оставаться в письме самим собою, а был лишь тем, кого бы хотел видеть всесильный Дубельт, - покорным, смирившимся, безропотно переносящим удары судьбы.
"...Да будет воля божья, но, Генерал, ведь бог не непосредственно, а через добрых людей печется о уповающих на него; может быть, бог назначил Вас моим попечителем; ежели это так, Отец-Генерал, прикажите как можно скорее выслать мои бумаги, за которыми вы послали в университет, иначе я останусь навсегда рядовым, и сделайте так, чтобы оставили в городе Оренбурге.
Ах, если б еще в этом году я мог, по Вашему назначению, броситься на батарею и отнять пушки у Шамиля; ежели же мне суждено остаться рядовым в Новопетровском укреплении, старайтесь, по крайней мере, узнать, любезный Генерал, о моем поведении и, ежели найдете, что я достойно веду себя, напишите ко мне одно слово: "я доволен тобою"; это слово вознаградит меня за все лишения".
Ночью Сераковский почувствовал себя плохо. Он не хотел будить пана Аркадия, но тот проснулся сам, зажег свечу и увидел осунувшееся, покрытое испариной лицо Зыгмунта.
- Матерь божья, что с тобой?
- Не знаю, Аркадий... - Голос Сераковского изменился и стал хриплым. Каждое слово давалось ему с трудом.
- Полежи... Я сбегаю за Цейзиком.
Михаил Игнатьевич явился тотчас. Не подходя близко к Сераковскому, он несколько минут внимательно смотрел на него.
- Не хочу тебя ни обманывать, ни утешать, Зыгмунт. Это - о н а.
Госпиталь, куда поместили Сераковского, располагался на окраине Оренбурга. Длинные каменные здания были разбросаны по парку, и в одном из них лежали только холерные больные.
Сераковского привезли туда утром, и пожилой солдат-санитар сразу же растер его тело смоченной в одеколоне щеткой, а затем обложил мешочками, наполненными горячим овсом. В палату зашел лекарь, обрусевший француз Альберт Иванович. Он назначил то, что в подобных случаях назначал всем, мятный чай, миндальное масло и капли из бобровой струи, если начнутся судороги.
Сераковский болел трудно. Был день, когда Альберт Иванович долго стоял у его койки и, скрестив по-наполеоновски руки на груди, мрачно смотрел на своего пациента. Уже было испробовано последнее средство кровопускание, но и оно не помогло, и госпитальный лекарь не знал, что еще он может сделать для больного.
- Наверное, у мосье Сераковского есть родные? Жена? Невеста? спросил он у пана Аркадия, который ежедневно приходил в госпиталь, чтобы узнать о состоянии Зыгмунта.
- У него есть мать, Альберт Иванович, есть брат и сестра, которых я хорошо знаю, может быть, есть невеста, но, увы, - они далеко отсюда, очень далеко...
Сераковский все-таки выжил. На двенадцатый день болезни он выпросил у лекаря разрешение встать и сделал несколько неверных шагов, опираясь на плечо санитара.
- Почему вы так торопитесь, господин Сераковский? - спросил лекарь. Неужели вас тянет скорее попасть в казарму?
- Вы угадали, доктор. Чем скорее я начну служить, тем скорее закончу службу. Мне еще надо что-то полезное сделать в жизни.
В госпитале Зыгмунт пролежал почти полтора месяца. Из штаба округа уже торопили лекаря - вскоре должна была отправиться из Гурьева-городка парусная почтовая лодка, и Сераковскому надо было на нее успеть. По Каспийскому морю суда ходили редко и нерегулярно.
Почувствовав себя чуть лучше, Зыгмунт стал ждать ответа на свое письмо к Дубельту. Ответа не было. "Отец-Генерал" не снизошел до переписки с государственным преступником. Правда, он пометил на полученном письме: "Через три месяца спросить, как себя ведет", - и даже зашел к графу Орлову, чтобы поговорить о своем "подопечном". Шеф жандармов согласился подписать отношение к генералу Обручеву, обязывающее того через три месяца уведомить Третье отделение о поведении Сераковского и его усердии к службе.
Дорожные сборы были недолги - что собирать солдату? Все тот же домашний саквояж, две-три книжки, подаренные паном Аркадием, все тот же студенческий мундир - одеть Сераковского в солдатскую форму должны были на месте службы, в Новопетровском. Добрые напутствия новых друзей...
В день отъезда, 17 июля 1848 года, Сераковский написал еще одно письмо Дубельту.
"Отец-Генерал! Вы позволили мне, сироте, лишенному отца, удаленному на несколько тысяч верст от моей несчастной матери, обращаться прямо к Вам, как к отцу родному, изливать, как Вы сказали, перед Вами мою душу бог наградит Вас за это!
Сегодня я отправляюсь к месту моего назначения в Новопетровск, на Каспийское море; до сих пор я лежал в госпитале... Расстроенные беглым огнем лихорадки, мои силы подверглись жестокому картечному огню холеры, но бог милостив, спас меня...
Генерал!.. Вот в чем состоит дело, которым еще в том письме я осмелился Вас беспокоить. Согласно Вашему обещанию, бумаги мои, находившиеся в университете, по первой почте после моего прибытия получены в Оренбург и 22 июня обратно отправлены в С.-Петербург, в инспекторский департамент, чтобы он решил, какие права дают мне они... должен ли я, на основании этих бумаг, остаться рядовым или Соступить в юнкера и сколько времени служить до офицерского чина.
Отец-Генерал! Просите дежурного генерала, чтобы инспекторский департамент решил мое дело в скорейшем времени и зачислил меня юнкером. Теперь, Отец-Генерал, я, как рядовой, отправляюсь в Новопетровск, 800 верст сухим путем, не на курьерских с поручиком Шамониным, но пешком, по этапу.
Я уповаю на бога и надеюсь, что со временем и в Новопетровске и в Оренбурге успею приобрести отцовское внимание и доверие моих начальников; я спокоен; правда, и на меня приходят черные минуты, особенно когда подумаю, что делает моя несчастная мать, моя молодая сестра, мой меньшой брат; с 20 апреля, рокового дня, в который меня арестовали, я не имею никакого от них известия, ни одной строки ответа на письма, написанные в Вашем штабе, в С.-Петербурге. В теплой молитве к всевышнему единственное утешение и подкрепление! Прощайте, Отец-Генерал! Я с христианским смирением отправлюсь в Новопетровск; пустыня меня не пугает, пустыня мне по сердцу..."
Пока пустыни не было, а была лишь выжженная солнцем степь, пойменные леса по берегам Урал-реки и извилистая дорога с разъезженными колеями, по которой изредка проходили обозы и верблюжьи караваны: в Россию с рыбой, солью, икрой, шкурами и к берегам Каспия - с мукой, красным товаром и безделушками для инородцев. Изредка, поднимая клубы пыли, пролетала почтовая тройка, лениво тащили арбу волы, погоняемые малороссом-переселенцем. Направо и налево, докуда видел глаз, лежали казачьи немереные земли.
По этапу из Оренбурга вышло двенадцать солдат, некоторые из них должны были остаться в Уральске, другие - в Гурьеве-городке и лишь одному - Сераковскому - предстояло добираться до Новопетровского укрепления. Солнце палило нещадно, и путники старались держаться тени деревьев, посаженных вдоль тракта.
Конвойный офицер - поручик Вербович - сразу выделил Сераковского и старался идти рядом с ним, разговаривая на равных, или же предлагал садиться с ним в бричку, которая ехала вслед за телегой, нагруженной скудными пожитками арестантов.
Дорога повторяла изгибы Урал-реки, шла через казацкие станицы, мимо озер с густой водой, из которой выпаривали соль, через бывший Яицкий городок, а теперь Уральск с его церквами, молитвенными домами и мечетями. Здесь был первый на всем пути мост через реку, и путники перебрались на правый берег, к тому месту, откуда начинался ведущий к югу оживленный Гурьевский тракт.
Гурьев-городок, как оказалось, стоял довольно далеко от моря верстах в пятнадцати. После солончаков и топей, подступавших последние дни к дороге, было радостно смотреть на саманные домики поселенцев. То тут, то там слышались звонкие удары молотов о наковальни - это работали кузнецы самое многочисленное племя гурьевских ремесленников.
У длинного деревянного причала, на Стрелецкой косе, куда Сераковский приехал вместе с конвойным офицером, стоял колесный пароход, только что воротившийся из Астрахани, да несколько небольших парусных судов, среди которых поручик Вербович сразу же отыскал почтовую лодку "Жаворонок".
- По приказу генерал-губернатора Обручева, следуем до Новопетровска, - сказал он, протягивая капитану запечатанный пакет.
- Устраивайтесь, места хватит, - равнодушно ответил капитан. - Уходим завтра на рассвете.
До устья Урала лодка шла под веслами. В дельте река раздробилась на несколько рукавов, все пространство между которыми густо заросло могучими камышами. В море подул небольшой ветер с суши, и белый треугольник паруса наполнился.
А потом было только море. До этого Сераковский знал лишь Финский залив, его серую холодную гладь, загородные дачи на песчаном берегу с изломанными ветром соснами. Сейчас перед ним было совсем другое море, теплое и ослепительно синее, о горько-соленой водой.
Над суденышком иногда проносились птицы, покрытые розовым, чистейшего цвета оперением, особенно ярким во время полета. Это были фламинго. Ночами в кромешной южной темноте поднималась из черной воды багровая круглая луна, освещая, золотя, неровную поверхность моря.
К Новопетровскому укреплению подошли на пятые сутки. Сераковский увидел обрывистую известковую скалу с возвышающейся над ней маленькой Каменной церковью и несколькими казенными зданиями, а перед этой скалой, ближе к морю, жалкие лавчонки, мазанки и кочевые казахские кибитки. Ни одного деревца, ни одного кустика не заметил глаз на всем обозреваемом пространстве - только выгоревшая трава, только песок да серый известковый камень...
Лодка еще не причалила к берегу, а уже ощущалось огненное дыхание раскаленной земли. Высохший ковыль почти лежал на ней - с такой силой дул сухой и горячий ветер. Трепетал на мачте трехцветный русский флаг. Несколько солдат и офицер спускались к берегу, наверное, встречать лодку. Два-три туземца в барашковых шапках брели тропинкой в сторону пустыни, почта их не интересовала.
У Сераковского сжалось сердце. "Южнее Венеции", - печально повторил он слова Герна и лишь сейчас понял ту горечь, которую вложил в них штабс-капитан.
Матросы спустили шлюпку и бросили в нее тощий парусиновый мешок с почтой.
- Пожалуйте и вы, господа, - сказал капитан лодки, обращаясь к поручику и Сераковскому. И добавил, помолчав: - Грустное здесь житье!
Новопетровское укрепление было возведено в 1846 году на месте форта "Сибирный Новопетровск", с казармами, гауптвахтой и несколькими пушками, обращенными жерлами к пустыне - в сторону Хивинского тракта. Это был единственный русский укрепленный пункт на восточном берегу Каспия.
В укреплении, как полагается, находился гарнизон - двадцать офицеров, врач, священник да две роты солдат. Одним из них предстояло стать Сигизмунду Сераковскому, который сейчас на шлюпке приближался к незнакомому унылому берегу.
- Ну вот мы и прибыли! - объявил поручик Вербович. - Здравия желаю, господин капитан! - Это уже относилось не к Сераковокому, а к длинноногому, с разделанными по-николаевски височками офицеру, встречавшему лодку. - Принимайте новобранца!
- Новобранца поневоле, - пояснил Сераковский с грустной улыбкой.
- Не поневоле, а по высочайшему повелению, - поправил поручик, козыряя капитану.
Капитан неприязненно оглядел прибывшего, его угловатую, ширококостную фигуру в поношенном студенческом мундире; дерзкие серые глава Сераковского смотрели без почтения и страха.
- Бунтовщик? - спросил капитан, плохо, с присвистом выговаривая "щ", и, не ожидая ответа, пошел прочь, высоко и нелепо поднимая длинные ноги.
Барак батальонной канцелярии стоял вблизи от крепостных ворот. Служилый немолодой солдат-малоросс, назвавшийся Андрием, отвел Сераковского к писарю Петрову, разжалованному в солдаты за мошенничество. Писарь был пьян еще с ночи. Он осоловело посмотрел сначала в бумаги, потом на Сераковского, после чего изрек, плохо ворочая языком:
- А, конфирмованный, а проще говоря - государственный преступник... Честь имею внести в списки первого линейного батальона... Гордитесь...
Батальон назывался линейным, потому что стоял на укрепленной линии границы.
- А теперь в цейхгауз пожалуйте, ваше благородие, - сказал Андрий.
- Какой я благородие! Такой же солдат... - Сераковский усмехнулся.
- Такой, да не совсем. Из панычей вы, сразу видать.
В цейхгаузе скучный, с испитым лицом каптенармус в чине унтера достал с полки нехитрое солдатское обмундирование - длинный черный мундир с тугим стоячим воротником, черные штаны, ремень, черную, с красным околышем фуражку без козырька. Он помог и надеть все это, застегнуть ремни от ранца, повесить через плечо манерку - жестяную походную флягу, а пониже рукавицы и патронную сумку с номером роты на ней.
- Ну вот и получился из тебя солдат, - сказал каптенармус.
Сераковский поглядел в обломок тусклого зеркала, висевший на стене. На него смотрело знакомое и в то же время незнакомое лицо, бледное, даже желтоватое от недавней болезни, с высоким крутым лбом и блестящими глазами из-под нависших бровей.
Рядом на плацу занималась рота.
Высокий грузный солдат шел строевым шагом; он с усилием, так, что и без того красное его лицо становилось багровым, оттягивал вперед ногу в тяжелом сапоге и плашмя, всей ступней, ставил ее на растрескавшуюся от жары, твердую как камень землю. Почему-то вспомнилось, что вот таким же твердым и звонким был в родном селе ток, на котором молотили цепами сжатое жито.
- Рр-аз - д-вва!.. Рр-аз - д-вва! - командовал унтер, нажимая на согласные, и в такт команде раздавались солдатские шаги. Лицо унтера было тоже напряжено, глаза выпучены, и казалось, что это не солдат, а он механически, как машина, выкидывает вперед ногу.
Неподалеку второй унтер строил отделение. Сераковский не сразу заметил веревку, натянутую у земли меж двумя колышками. По команде, похожей на рявканье, стоявшие в отдалении солдаты сорвались с места и побежали строиться. Первый ряд должен был стать таким образом, чтобы коснуться веревки кончиками носков.
- Охрименко! Где твои ноги, собака! - Унтер дополнил окрик похабным ругательством. Тяжело приседая, он подбежал к неловкому солдату и, выбросив вверх сжатую в кулак руку, стукнул его в челюсть.
Солдат молча дернулся головой и побледнел.
Побледнел и Сераковский. "Если завтра он вот так ударит меня, я его убью", - подумал он.
- Рр-аз - д-вва!.. Рр-аз - д-вва!.. Рр-аз - д-вва! - висели в накаленном воздухе слова команды.
- Глаза напра-аво!
- Отделение, на пле-чо! Равнение на середину, ша-агом марш!..
- К батальонному командиру зараз пошли, - сказал Андрий, дотрагиваясь до плеча Зыгмунта.
По заведенному порядку конфирмованным полагалось представиться всем начальникам, от самых высших до взводного и младшего унтер-офицера.
- Как зовут того... который ударил? - спросил Сераковский.
- Поташев... Ух такая зверюга, дальше некуда.
В кабинете батальонного командира было душно, почти так же, как и на плацу, несмотря на раскрытые окна и опущенные шторы. В полумраке Сераковский не сразу разглядел человека в форме пехотного майора, который сидел за письменным столом и, насупясь, изучающе смотрел на вошедшего.
- Солдат, когда он входит к начальству, обязан приветствовать его, как положено по уставу, - раздался негромкий голос. - На первый раз я вам прощаю.
- Извините, господин майор, со свету очень плохо видно...
- Раз вас пригласили войти, значит, я здесь... Садитесь, Сераковский. - Майор закашлялся. - Итак, вы прибыли к нам в качестве конфирмованного. Что же привело вас к наказанию, довольно тяжелому для студента столичного университета?
Сераковский уже кое-что знал о майоре со слов конвойного офицера.
Лет пятнадцать назад Михайлин, ныне командир расквартированного в Новопетровском укреплении батальона, окончил Неплюевский кадетский корпус; сначала он служил в Оренбурге, потом в Уральске и, чтобы получить второй просвет на погонах, согласился перебраться в Новопетровск. В молодости Михайлин мечтал о блестящей карьере, о гвардии, о Петербурге, но с годами мечты поблекли, а чувства притупились. Он свыкся со своим положением, смирился с судьбой, забросившей его на Мангышлак, простудил здесь легкие и уже не жил, а лишь отмерял, отсчитывал отпущенные на жизнь дни.
- Вам будет трудно, Сераковский, - сказал батальонный командир. - Но я получил строгое предписание начальника корпуса не делать вам никаких послаблений по строевой службе и правилам казарменной жизни. Больше того, мне вменено в обязанность с особым вниманием следить, чтобы то и другое вы выполняли неукоснительно... Теперь идите ужинать, дядька вас проводит. Надеюсь, что из вас получится хороший солдат.
Когда Сераковский и ожидавший его Андрий вышли от майора, уже наступил вечер, принесший прохладу. Мерцали крупные звезды в аспидно-черном небе, по-прежнему дул сильный ветер, с моря доносился гул прибоя.
Муштра на плацу окончилась, солдаты поужинали и прочитали молитву на ночь.
- Марш в казармы! Марш в казармы! - монотонно кричал фельдфебель, загоняя опоздавших в душный барак. - А ты чего? Тебе особое приглашение требуется?! - набросился он на Сераковского.
В казарме пахло прелью, человеческим потом, водкой. На узких деревянных, покрытых рядном нарах, занимавших всю левую сторону, лежали и сидели солдаты. Ни стульев, ни табуреток не было. На веревках, протянутых от одной стены к другой, сушилось белье. Кто-то чинил рубаху, кто-то чистил сапоги. Несколько человек, усевшись на соломенном тюфяке, азартно играли в карты.
- Вот тут ваше место будет. - Андрий показал рукой на крайние, у двери, нары. - Аккурат рядом со мной.
На новичка никто не обратил внимания, разве что покосились глазами картежники - не поставит ли штоф водки ради знакомства.
И вдруг в дальнем углу казармы с нар поднялся молодой солдат и, пристально глядя на прибывшего, сказал громко:
- Боже мой! Это же Сераковский!
- Погорелов!
Сераковский не верил глазам. К нему шел тот самый студент Московского университета, с которым он виделся во дворе Третьего отделения.
- Какая неожиданная встреча!
- И какая радостная! - добавил Сераковский.
Теперь уже все обернулись к этим двоим. Рука у Сераковского была сильная, пожатие - крепкое, и Погорелов едва удержался, чтобы не вскрикнуть.
- Правда, я предпочел бы встретиться с тобой где-нибудь в Нескучном саду... - Он осторожно, чтобы не обидеть Зыгмунта, высвободил руку.
- Или в Летнем...
- И без этой дурацкой формы... - Погорелов брезгливо дотронулся до стоячего воротника. - Такая духота, а тебе велят застегнуться на все пуговицы!
Они шептались до одиннадцати часов, пока дневальный не погасил огарок сальной свечи.
Несмотря на усталость, Сераковский спал плохо.
В шесть утра казарму поднял грохот барабанной побудки, которая давалась за час до призывного сигнала "К сбору!". Зыгмунт очнулся, с трудом открыл глаза и услышал добродушный голос Андрия, напевавшего в такт барабану: "Це тоби не дома, це тоби не дома, пидиймайсь, пидиймайсь..."
В Лычше крестьяне тоже говорили по-украински; Сераковскому на какое-то время представилось, что он дома, но грозный окрик унтера вернул его к действительности. Он быстро спрыгнул с жестких нар, решив про себя, что должен обязательно одеться первым.
Да, да, он теперь все должен делать лучше всех. Шагать! Равняться! Колоть! Стрелять! Только став образцовым "фрунтовиком", он добьется производства в офицеры, после чего можно будет либо уйти в отставку, либо поступить в Академию Генерального штаба, если он решит посвятить себя ратному ремеслу. Впервые о военном образовании он подумал, когда собрался перейти границу. В самом деле, чем он мог помочь галицийским повстанцам, поднявшимся против австрийского гнета? Тем, что очертя голову, первым бросился бы в атаку? Жизнью, которую он готов отдать за свободу Польши? Но ведь он даже не умеет держать в руках ружье! Разве не больше пользы он принесет родине, если будет не только сражаться сам, но и поведет за собой других?
- Па-а-тарапливайсь! - покрикивал расхаживавший по казарме унтер. Усем привести себя в хворменный вид як можно скорей и построиться в ранжирном порядку!
Для обитателей укрепления начался самый обыкновенный, ординарный день, точно такой, как месяц и год назад, и точно такой, какой будет через месяц и через год, - для Сераковского же все было внове. За час - с шести до семи - он должен успеть убрать постель, помыться солоноватой водой, начистить до блеска сапоги, сбрить щетину на бороде и нафабрить усы какой-то пахучей мазью, после чего "облачиться в бронь", иначе - надеть на себя и так пригнать по фигуре одежду, чтобы ни один начальник ни к чему не придрался. Большого умения тут не требовалось, и Сераковский все сделал довольно быстро, ощущая на себе испытующий взгляд того самого унтера Поташева, который вчера ударил солдата.
Каждому солдату полагалось сдать экзамен по ружейным приемам, которые, как велел заучить унтер, "имеют своей целью создать однообразие в действии огнестрельным оружием".
"Чего-чего, а однообразия тут хватает", - думал Сераковский, глядя, как Поташев показывает ему эти приемы.
- Де-елай рраз! - скомандовал сам себе унтер и быстрым движением рук поднял ружье кверху.
Сераковский повторил прием.
- Де-елай рраз!.. Де-елай рраз! - снова и снова командовал унтер, и Сераковский механически, как заведенный, выбрасывал кверху становившееся все тяжелее и тяжелее ружье. От однообразных изнурительных движений одеревенели мускулы, начало громко стучать в висках, лицо покрылось крупными каплями пота, а Поташев твердил в твердил "Де-елай рраз!" без малейшего отдыха, без паузы. Глаза унтера краснели, он все ожесточеннее выкрикивал свое каркающее "рраз!", немало удивляясь, почему этот молодой, неученый солдат еще не упал от изнеможения на землю и не попросил пощады.
Рядом стреляли, и пороховой дым ел глаза.
- За-аряжай!.. Це-ельсь!.. Пли! - осипшим голосом кричал фельдфебель Кучеренко.
Ружья были тяжелые, около двенадцати фунтов, и заряжались с дула. Сначала туда насыпали порох, потом опускали свинцовую пулю и проталкивали ее внутрь ударами шомпола.
- О-отделение, сми-ирно! Ра-авнение на середину!
- Ро-о-та, сми-и-рно! Равнение на середину! - послышались команды.
Из батальонного барака вышел угрюмый длинноногий капитан Земсков, тот самый, который вчера встретил Сераковского на причале, и, пока он медленно, с наигранной ленцой передвигался по плацу, все, кто был занят муштрой, не спускали глаз с ротного командира. Земсков в свою очередь смотрел на них, сначала как бы на всех сразу, пока его бегающий, бессмысленный после ночной пьянки взгляд не остановился на унтере Поташеве.
- Поташев, как стоишь? Убери брюхо! - рявкнул капитан.
Убрать брюхо унтер Поташев не мог, потому что оно у него было, как говорится, от господа бога. Пытаясь выполнить приказ, унтер даже покраснел от натуги.
- Разъелся, что боров, скотина! Ремня скоро не хватит!
Капитан Земсков вразвалочку подошел к Поташеву и вдруг ударил его кулаком под ложечку. Рука Поташева, отдававшая честь капитану, заметно дрогнула.
- Буду стараться, вашскродие! - выкрикнул унтер.
Но капитан уже перестал интересоваться Поташевым. Продолжая обход, он остановился перед огромным, нескладным Охрименко, с длинными крестьянскими руками, напряженно прижатыми к туловищу.
- Что за выправка, болван! - снова рявкнул ротный командир и равнодушно, будто это было чем-то само собой разумеющимся, хлестнул солдата ладонью по щеке.
"Как все это гнусно! - негодовал Сераковский. - Унтер-офицер ни за что бьет бессловесных солдат, капитан ни за что бьет унтера, который при этом из зверя превращается в овцу..."
День для Сераковского тянулся неимоверно долго. Муштра на плацу продолжалась три часа, потом был час отдыха, показавшийся минутой, обед из казарменного котла и снова шагистика, упражнения в выправке фигуры, ружейные приемы. В суматоху изредка врывались звуки барабана или горна, возвещавшие о том, что надо заканчивать одно и браться за другое, и это были единственные музыкальные инструменты, которые услаждали слух солдат все годы их службы в Новопетровском.
Погорелова Сераковский не видел с утра, тот ушел в караул и вернулся лишь к вечеру.
- Как тебе понравилась наша солдатская жизнь? - спросил Погорелов, стараясь казаться бодрым.
Сераковский невесело покачал головой:
- И ты это называешь жизнью? Впрочем, ты прав. Жизнь всюду, и то, что нас окружает сейчас, как бы ни было мерзко, - тоже жизнь. Надо взять себя в руки. Отныне, Погорелов, я не стану употреблять такие слова, как "может быть", а буду говорить "обязательно". В моем лексиконе не будет слов "обойдется", "стерпится", "мне все равно", потому что с этого дня я никогда не буду равнодушным - ни к горю, ни к радости, ни к своей ни к чужой беде. Ружейные приемы? Что ж, они тоже пригодятся! "Ать-два, левой!" - Он копировал унтера. - Ходьба укрепляет здоровье! Зуботычина, если подумать глубже, тоже приносит пользу: ты учишься ненавидеть... или прощать.
- Извини, Сераковский, но прощать таким подлецам, как наш ротный, я, право, не намерен!
- А мне его жалко. Никакой цели в жизни, никакого стремления к идеалу!..
- А пощечины? А мордобой? А розги, которые он назначает солдатам? Это ли не идеал для таких людей, как капитан Земсков.
- Грустно. - Сераковский задумался. - На Земсковых держится армия такой могучей державы, как Россия. Чем это объяснить? Как понять?
- Но в нашем гарнизоне, кроме Земского, есть еще и Михайлин.
- Тебе нравится майор Михайлин?
- Он все-таки человек.
- Кажется, так, - произнес Сераковский, вспоминая вчерашнюю встречу с батальонным командиром.
Жизнь постепенно входила в колею, и Сераковский медленно свыкался с нею. По-прежнему стояла жара, солнце накаляло воздух, даже порыв ветра из пустыни приносил не прохладу, а жгучую духоту, казалось, он дул из горящей печи. Зато восхитительны были вечера, когда спадал зной, в небе полыхали предзакатные зори, а море становилось неправдоподобно фиолетовым и словно покрытым парчой.
Барабанная дробь уже возвестила о конце занятий, и Сераковский решил наконец хоть на час покинуть каменные стены Новопетровска. Все прошлые дни он уставал до такой степени, что сразу же после сигнала замертво валился на нары, а сегодня сказал сам себе, что хватит, должен же он когда-нибудь побороть усталость! Скрывшись от недремлющего ока унтера, можно было расстегнуть китель и снять тугую фуражку, подставив голову ветру с моря.
Укрепление стояло на высокой скале, и сверху были хорошо видны мазанки и глинобитные хибары маркитантов - владельцев нескольких лавчонок и кабака. У киргизских кибиток, покрытых серым войлоком, горели костры; около них суетились старухи, варившие ужин, да бегали голышом черноголовые ребятишки. Из винной лавки вышли два денщика, они несли своим офицерам "горячие напитки" - штофы и четверти с водкой.
На лавках не было вывесок - зачем они тут? - и Сераковский, спустившись с горы, зашел наугад в первую попавшуюся. Там продавалась всякая всячина. Рядом с мешком муки красовались штиблеты, с московской бязью соседствовали цибик китайского чая, расчески, конические головы сахара в синей бумаге, табак, бутылки...
- Милости просим, - пригласила Сераковского чистенькая старушка в белом чепчике.
- О, у нас появился новый покупатель! - громко сказал хозяин, увидев Зыгмунта. - Чего изволят желать этот новый покупатель? Может быть, они хотят приобрести банку вишневого варенья, или лимон, который мы недавно получили из Персии, или красное вино? Не будем перечислять товар - в магазине Зигмунтовского есть все! - Хозяин вопросительно глянул на Сераковского. - А может быть, наш новый покупатель не имеют денег, тогда им не возбраняется открыть у нас кредит, а по такому поводу выпить вместе с нами чашечку кофе. Зофья, приготовь, пожалуйста, нам кофе.
- Спасибо! - ответил Сераковский, улыбаясь напористому хозяину лавки. - Возможно, пан - поляк? Или же просто похож на поляка? - Последнюю фразу он сказал по-польски.
- Езус-Мария! Из самой Вильны! - воскликнул Зигмунтовский еще более восторженно. - Зофья, разве ты не видишь, что у нас гость! Закрывай магазин! Сейчас мы будем пить не только кофе!
...На вечерние занятия солдаты отделения пошли без оружия, значит, не надо будет выполнять "экзерциции" с ружьем или же колоть штыками набитое опилками чучело. На плацу вместо унтера появился хмурый конопатый фельдфебель Кучеренко, человек лет сорока, который из-за этой своей конопатости так и не сумел жениться. Он велел взводу сесть, и все, кто был, сели прямо на пыльную землю. Несколько минут фельдфебель с угрюмым выражением на лице расхаживал взад-вперед. Наконец он остановился и лениво повел головой, отыскивая кого-то... Крючковатый нос, загорелая до черноты кожа и глаза навыкате делали его похожим на коршуна, высматривающего добычу.
- Галеев! - крикнул фельдфебель. - Скажи, как хвамилия командира нашего корпуса?
Галеев, растрепанный и несобранный солдат, из татар, неуклюже поднялся с земли и уставился на фельдфебеля.
- Не могу знать! - ответил он гортанным голосом.
- У, татарская морда! Сколько раз буду тебе повторять одно и то же. Хвамилия нашего командира корпуса генерал-от-инхвантерии Обручев. Садись, Галеев... - Фельдфебель высматривал очередную жертву. - Что-то давно я тебя не бил, Охрименко... - промолвил Кучеренко, глядя на сидевшего рядом с Сераковским солдата. - Встань, Охрименко, и ответь, как зовут нашу государыню императрицу?
Солдат уныло молчал.
Почему-то так повелось, что Охрименко били все - унтеры, фельдфебель, ротный командир, били с удовольствием и без всякой на то причины, просто так. Сераковский глянул на фельдфебеля - не пьян ли он? Нет, Кучеренко был совершенно трезв, он не спеша подошел к Охрименко и равнодушно, лениво ударил его по щеке ладонью.
- Севастьянов, отвечай ты - что перво-наперво надо знать солдату? Опять не знаешь, дурья твоя башка? Повторяй за мной, скотина! "Солдату надо знать... - он сделал паузу, - немного любить царя..."
- Как это "немного любить царя?" - спросил Сераковский, едва сдерживаясь, чтобы не расхохотаться.
- Молчать! - крикнул фельдфебель. - Кто лучше знает, что написано в "Солдатской книжке", - солдат или же его командир? Отвечай, Бондарчук!
- Командир куда как лучше должен знать, чем солдат.
- Правильно, Бондарчук, садись!.. А тебе, Сераковский, я еще покажу, как встревать! Вот что, скажи, кого мы называем врагами внутренними?
- Всех тех, кто выступает против своей родины, кто хочет ей зла, ответил Сераковский.
- Дурак, а еще в ниверситете учился, - насмешливо сказал фельдфебель. - Саенко, отвечай ты.
- Бунтарей супротив царя, веры и отечества, вроде Стеньки Разина, Пугачева, студентов, жидов и ляхов, - заученно отчеканил Саенко.
- Слышал, Сераковский? - Фельдфебель самодовольно взглянул на Зыгмунта.
- Слышал! Однако вот я, например, лях... поляк. А службу несу государеву. Какой же я враг? Врагам оружие не доверяют, а мне ружье дали, штык...
- Не рассуждать!
Кто сжавшись комочком, кто раскинув руки, кто ничком - спали на нарах солдаты. Некоторые бормотали во сне что-то непонятное, кто-то стонал. Не спал лишь Сераковский. Сегодня его назначили в наряд дневальным, вне очереди, в наказание за то, что "встревал" - возражал фельдфебелю на занятиях "словесностью".
Сераковский в полной форме и со штыком у пояса ходил по притихшей казарме. Ему надо было следить за порядком - чтобы ночью не пили водку, не буянили, не отлучались без надобности и чтобы ничего ни у кого не пропало из сундучка. Деревянные самодельные сундучки, в которых солдаты хранили деньги и личные вещи, стояли у каждого под нарами, и лишь у Сераковского и Погорелова было по небольшому дорожному саквояжу.
Время тянулось медленно. С башенки над батальонной канцелярией часы пробили полночь, потом час. В казарме стало душно, задыхалась без свежего воздуха свеча. Иногда кто-нибудь просыпался, садился, дико оглядывался вокруг и снова валился на бок, погружаясь в тяжелый сон. Иногда кто-либо выходил на минутку. Вышел и Охрименко. Другие солдаты перекидывались с дневальным словечком, а тот прошел молча, словно ничего не видя перед собой, и долго не возвращался. Сераковский забеспокоился - не случилось ли что? - шагнул за порог и услышал глухие судорожные рыдания.
Ночь была темная, только свет крупных южных звезд лился на остывающую землю Да изредка в западной части неба вспыхивали безмолвные зарницы.
Сераковский подошел к Охрименко.
- Что с тобой? - спросил он участливо.
- Бильш не можу так, не можу. Все бьють, каты проклятущи, измываются над людыной, гирш, чим над собакою. Не можу я бильш так... Убегу, вот те крест, убегу...
- Ну куда ты убежишь, Охрименко? - ласково сказал Сераковский. - С одной стороны море, с другой - пустыня.
- В Персию убегу...
- Ты думаешь, там лучше, в Персии? Чужбина ведь!
- А бог его знае...
- Покинуть родину можно только в одном случае - если уверен, что там, на чужбине, будешь бороться за свободу отчизны.
Охрименко вздохнул.
- Откуда родом, не с Волыни, часом? - спросил Сераковский, помолчав.
- Ни. С Чернигивщины. С-пид Козельца. Може, чулы?
- Как не чув, когда меня через этот город в жандармской бричке провезли!
- А за что вас?
- Ни за что в общем... Не понравился царю-батюшке, вот и угодил в солдаты.
- Дневальный! - раздался громкий окрик унтера Поташева.
- У-у, звирюга! - Охрименко потряс в воздухе огромным кулачищем. Вот як дам раз в его погану морду!..
- Здесь дневальный! - откликнулся Сераковский. Скрипнула дверь, и в ее проеме, слабо освещенном изнутри свечой, показалась полуголая, в одних кальсонах, фигура унтера.
- Так вот как ты дневалишь! Разговорчики!.. Охрименко, ко мне!
Охрименко не пошевелился.
Неслышно ступая по земле босыми ногами, Поташев подошел к обоим солдатам. Сераковский невольно отпрянул, но унтер лишь зло сверкнул на него глазами и ударил в скулу Охрименко.
- Один и другой не в очередь в караул пойдете!
- За шо? - горько выкрикнул Охрименко.
- Два раза пойдешь без очереди, хохол проклятый! Я тебя научу разговаривать!
Степь вся была выжжена солнцем, голая и бесприютная. Став спиной к укреплению, Сераковский видел только однообразную, чуть всхолмленную равнину, на которой не на чем задержаться глазу. Еще с половины апреля начали засыхать на корню травы, от чего степь стала желто-серой. Серый цвет придавала ей полынь, росшая островками. Пропитанный ее запахом воздух казался горьким. Ветер пригибал к земле похожий на седые волосы ковыль; ощетинившись во все стороны иголками, раскачивались кустики верблюжьей колючки.
Сераковский ходил вдоль крепостной стены, время от времени поглядывая на восток, в безводную мшистую степь, откуда мог внезапно появиться какой-нибудь лазутчик из кокандцев. Все огромное пустынное пространство между Каспийским и Аральским морями жило своей, вольной жизнью. Кочующие здесь адайцы не признавали русского царя, изредка нападали на казачьи разъезды, вырезали принявших русское подданство казахов и были неуловимы. Сразу же за землей адайцев начиналось неприсоединенное к России Хивинское ханство, и это вносило некоторую тревогу в жизнь укрепления.
Осень здесь наступала довольно рано, и, по мере того как она приближалась, ночи становились холоднее. Сегодня тоже было студено, зябко - Сераковский кутался в шинель, - больно секли лицо острые песчинки, которые нес северный ветер.
Проехал мимо возвращающийся из степи пикет. Казаки были чем-то возбуждены, громко разговаривали, смеялись, у одного из всадников Сераковский заметил притороченные к седлу полосатый халат и легонькие казахские сапожки. "Опять грабеж", - Сераковский болезненно поморщился. Он не мог понять, как все эти унтеры, фельдфебели и ротные командиры, которые били по лицам солдат за неправильно застегнутую пуговицу или недостаточно затянутый ремень, как эти самые люди могли допускать и прощать тем же солдатам ночные похождения. Он представил себе, как казаки, не заезжая в укрепление, повезут свою добычу в лавку внизу, за что получат от неразборчивого маркитанта четверть водки...
Ночь наступила быстро, стала невидимой черная полоса моря, погасли оранжевые, предвещавшие и на завтра ветер краски неба, высыпали звезды, они появлялись будто бы из ничего - на пустом месте вдруг проступала яркая светящаяся точка. Взошла луна.
В укреплении тоже быстро угомонились, не стало слышно громких, рявкающих команд унтеров, солдатских голосов, чьей-то одинокой, грустной песни. Погасли огни, свечи горели лишь в комендантском доме да на квартире у кого-то из офицеров, где, должно быть, снова пили. Ветер дул порывами, и, когда он затихал на несколько секунд, становилось слышно, как за барханами в степи воют волки; их завывания были похожи на стон человека.
Сераковский посмотрел вдаль и прислушался: в степи кто-то громко и протяжно стонал.
"Сегодня караульный начальник - Поташев", - мелькнуло в голове Зыгмунта. С минуты на минуту он может прийти проверять пост, вынырнет из черноты и гаркнет: "Часовой Сераковский, ко мне бегом ма-арш!" Зыгмунт напряг слух - не идет ли кто вдоль стены по тропинке? - ничего не услышал и - была не была! - бегом бросился в степь, в ту сторону, откуда доносились стоны.
Бежать, к счастью, пришлось недолго. Неподалеку в низине лежал ничком полуголый человек. Очевидно, он был избит или ранен, пытался добраться до ближайшей кибитки, но потерял силы и упал. Заметив приближающегося солдата с ружьем, казах попытался приподняться.
- Не бойся, я тебе друг... друг, - промолвил Зыгмунт.
Едва ли человек понял русскую речь, но тон, каким были сказаны эти слова, его успокоил, и он невнятно пробормотал что-то по-своему. "Казаки" было единственным словом, которое разобрал Сераковский.
Раненый дрожал от холода, из рассеченной головы сочилась кровь. Сераковский скинул с себя шинель, китель, рубаху, оторвал от нее широкую полосу снизу и, как мог, перевязал рану.
Башенные часы в укреплении ударили три четверти второго, вот-вот должна была прийти смена.
- Возьми... - Сераковский протянул свею рубаху и китель. - Шинель бы дал, да не могу... А теперь иди к своим, не то погибнешь от волков... или еще на один казачий разъезд наткнешься.
Казах, кажется, понял. Он благодарно дотронулся до руки Зыгмунта, поднялся и с трудом побрел вниз, к морю, где виднелись кибитки кочевников, а Сераковский, натягивая на ходу шинель, отправился на пост.
Послышались приближающиеся голоса - караульный начальник вел на смену новых часовых.
- Послушай, Погорелов, - сказал Сераковский, - я познакомился с человеком, который получает газету, кажется "Северную пчелу".
- Любопытно! И кто этот человек?
- Некто Зигмунтовский...
- А, спиртомер!
- Как, как ты его окрестил? - смеясь, спросил Сераковский.
- Спиртомер. Это прозвище ему дали солдаты. Сам он себя величает поверенным винной конторы и отставным чиновником двенадцатого класса. Забавный старик.
- Он поляк, ты знаешь?
- Знаю. Но что касается меня, то мне в первую очередь важна не национальность, а то, как он настроен - за кого и против кого. Так вот, у этого твоего поляка одна цель - нажива.
- И все равно у него есть газета, которую можно почитать. Больше в укреплении нет ни у кого.
Они смогли пойти туда только под вечер, когда закончилось очередное занятие "словесностью" и оставалось два часа до ужина и вечерней молитвы. Сегодня ефрейтор опять повторял солдатам имена и титулы высочайших особ царствующего дома - от государя императора Николая Павловича до четырехлетнего принца Александра Ольденбургского, в день своего рождения зачисленного прапорщиком в лейб-гвардии Преображенский полк. "Сколько же лет мне надо нести солдатскую лямку, чтоб дослужиться хотя бы до подпрапорщика?" - с горечью подумал Сераковский. Солдаты снова заученно твердили скороговоркой "немного любить царя". В "Солдатской книжке" была ошибка, но начальство не допускало и мысли, что в ней можно что-то исправить.
По дороге в слободку Сераковский вслух вспомнил об этом.
Погорелов рассмеялся:
- Можно подумать, что тебе хочется, чтобы солдаты много любили царя! Пусть любят немного. Чем меньше, тем лучше.
- Тише, нас могут услышать...
Сераковский не видел газет со времени Оренбурга, Погорелов и того дольше, и оба они стали с жадностью просматривать "Северную пчелу".
В мире по-прежнему было неспокойно. Итальянцы продолжали бороться за независимость, на страницах газеты часто мелькало имя бунтовщика Гарибальди. Бурлила Франция. Подняли восстание немцы во Франкфурте. Из Соединенных Штатов писали, "что вопрос, наиболее разделяющий разные штаты, состоит в сохранении невольничества негров. Южные штаты не намерены уступить в этом случае ни на волос, хотя бы от этого расторгся союз".
Сераковского больше всего интересовали "новейшие известия" из Австрии и Венгрии.
- Слушай, Кошут назначен президентом и все комитеты Венгерского сейма подчинены ему.
- Однако против Иеллашича ему не устоять, - заметил хозяин.
- Вы так думаете? Но пока Кошут бьет Иеллашича!
- А завтра Иеллашич поколотит Кошута, поверьте слову старого политика... Впрочем, сказать откровенно, так мне все равно. Это слишком далеко от Новопетровска...
- Кошут требует наступления на Вену! - не унимался Сераковский. - В его армии сражаются поляки! И как! Генерал Бем... - Он вдруг погрустнел и задумался. - Ведь я мог быть там, с ними... Ты понимаешь, Погорелов?
- Ну и слава богу, что вы здесь, а не там, - снова вмешался в разговор Зигмунтовский. - По крайней мере здесь не убивают. И кому только нужны эти войны! Вы не знаете, господа? Лично мне они не нужны!
Самая свежая газета была трехнедельной давности, но и в тех номерах, которые пришли два месяца назад, нашлось так много новостей, что Сераковский и Погорелов едва успевали громко сообщать их друг ДРУГУ.
- Кошут преследует Иеллашича с шестьюдесятью тысячами человек!
- Послушай, а что делается в Вене! Ведь там настоящее восстание! Император бежал в Штейн. "На его лице изображалось страдание", процитировал Сераковский с издевкой в голосе.
"Северная пчела", в которой все мало-мальски значительные статьи считались исходящими от правительства, была, конечно, целиком на стороне Габсбургов и перепечатывала лишь те заграничные известия, которые исходили от австрийской короны. "Вена предоставлена господству черни". "Жители бегут из города". "К Вене приблизились войска из Богемии, Моравии, Силезии, Кракова..." "Венгерский сейм приказал своему войску вступить в Австрию. Кошут командует этою армиею. Она отправилась из Пресбурга к Вене на осьми пароходах..."
Это были самые последние сведения, которые удалось вычитать. На Каспии почти все время бушевали осенние штормы, и почтовая лодка не рисковала выйти из Гурьева-городка.
- Чем же все-таки закончится восстание в Вене?
- Поживем - увидим... Все, Сераковский. Пошли во дворец, пора... Тем более... - Погорелов напоследок еще раз заглянул в газету, - что Нева уже стала, а "Февральская революция довела все парижские театры до самого бедственного состояния".
- Что ты говоришь! - Сераковский принял шутку и тоже заглянул в "Северную пчелу". - Надо успеть в Александринский на бенефис Славина. Или в Большой на "Фаворитку" Доницетти. Заметь, ее показывают на русском, а не на итальянском.
- Ладно, пошли... Большое спасибо вам, господин Зигмунтовский!
Когда они карабкались вверх по скользкой тропинке, пошел сухой, мелкий снег.
- Все. Почта больше не придет до весны, - крикнул, оборотясь к Сераковскому Погорелов. - Придется перечитывать старые газеты.
- И мы не узнаем до весны, чем кончится восстание в Вене.
Глава третья
Весна наступила внезапно и стремительно. Еще вчера казалось, что зиме не будет конца, обжигал мороз и леденил ветер, а сегодня вдруг нахлынул теплый пахучий воздух. Он пахнул водорослями, морем в молодой травой. Покрытые изморозью сухие стебли полыни, светившиеся на солнце, оттаяли и потеряли былую красоту. Торопливо оживала степь. Она зазеленела за два дня.
И сразу же началась жара.
В Новопетровске с нетерпением ждали парусную лодку - первое за полгода напоминание о внешнем мире. Сераковский тоже ждал - писем от матери, от друзей, от Дубельта; он все еще надеялся, что "Отец-Генерал" поможет ему подтвердить дворянство.
С тех пор как ветры взломали лед у берегов, Сераковский каждый вечер ходил к высокому мысу и смотрел на море - не покажется ли парусное суденышко. Но море было пустынно и бурно.
Лодка пришла неожиданно. Прискакал вестовой казак и сказал, что с "маяка" заметили парус. "Маяком" здесь называли вышку на четырех столбах, с мостом наверху и мачтой, обернутой соломой, которую зажигали в случае опасности. Такие "маяки" стояли в степи вдоль всей пограничной линии, но один построили на берегу и оттуда наблюдали за морем.
Все, кто был свободен, высыпали к дощатому причалу, громко именуемому "пристанью". Сераковский задержался, он только что сдал пост у флага и прибежал на берег, когда парусник уже бросил якорь.
- Завидую тем, кто не лишен права переписки, - сказал Погорелов, незаметно вздыхая.
- Еще неизвестно, получу ли я хоть что-нибудь, - ответил Сераковский.
Почту выдавал в ротной канцелярии писарь Петров, и Зыгмунту пришлось сбегать за штофом водки, иначе письма могли бы пролежать в канцелярии неделю, а то и вовсе "затеряться".
- Пану Сераковскому от пани Фортунаты Сераковской из Лупка, - сказал наконец писарь, уже успевший приложиться к штофу. - Позвольте полюбопытствовать - жена, сестра, невеста? Ведь католики могут жениться чуть ли не на собственных сестрах...
- Матушка... Боже мой, дайте же скорее!.. И больше ничего нет? - В голосе Сераковского прозвучало разочарование. - Я жду ответа от генерала Дубельта.
Писарь захохотал:
- Ой, не могу!.. Он ждет ответа от начальника корпуса жандармов... Он надеется...
- Пожалуйста, отдайте мое письмо!
Это было первое письмо, полученное за время неволи. Матушка, конечно, знала, что оно не минует цензуры, и писала очень сдержанно, сообщала, что, слава богу, здорова, живет по-прежнему, что получила известия от его друзей в Петербурге и теперь хлопочет о восстановлении дворянского звания, писала, чтобы он берег себя и верно служил государю.
"Может быть, Дубельт прислал письмо Обручеву или сюда, Михайлину? думал Зыгмунт. - Тогда меня должны вызвать..."
Никто, однако, Сераковского никуда не вызывал.
Среди запечатанных сургучом служебных пакетов и частных писем, которые привезла почтовая лодка, было одно, адресованное коменданту укрепления. Командир корпуса дружески и строго конфиденциально предупреждал, что в ближайшее время в Новопетровск нагрянет генерал из Петербурга для производства внеочередного инспекторского смотра.
Такого еще в укреплении не бывало. Приезжали майор, старенький полковник из штаба корпуса, но чтобы сюда, на самый край российской земли, занесло петербургского генерала!
На следующий день барабанщик поднял батальон, на час раньше обычного. После переклички, когда каждый, вытягиваясь в строю и как бы подрастая от этого, выкрикивал "я!", все громко пропели "Отче наш", оборотясь лицом к церкви и размашисто крестясь в начале и конце молитвы. Затем из флигеля ротной канцелярии вышел майор Михайлин. Раздалась команда: "Смирно! Равнение на середину!" Трусцой бросился навстречу батальонному командиру капитан Земсков, но майор вяло махнул рукой и остановился на крыльце.
- Здорово, первая! - сказал он, не повышая голоса.
- Здравия желаем, ваше высокоблагородие! - дружно ответила первая рота.
- Здорово, вторая!
Вторая тоже выпалила ответное приветствие, от которого остались слышны лишь две протяжные, долгие гласные - а и о.
- Солдаты! - сказал батальонный командир. - Скоро к нам должен прибыть генерал, чтобы проверить, как вы несете службу, как охраняете русскую землю от набегов не покорных России киргизов и готовы ли по первому зову государя грудью стать на защиту отечества вашего. Проверка будет строгая, трудная, и к ней надо хорошо подготовиться. Не посрамите своего начальника, покажите, на что способен русский солдат!
Сераковский слушал майора Михайлина с радостным удивлением. Он впервые видел командира, который обращался к солдатам не как к низшим существам, а как к людям, не рявкал на них, не подкреплял свои слова ругательствами и зуботычинами, а внятно и тихо говорил им, что надо сделать. Только сейчас Сераковский заметил, что майор как-то странно держит голову, если и поворачивает ее, то лишь вместе с корпусом, и вспомнил рассказ Погорелова о том, что их батальонный командир был тяжело ранен во время Хивинского похода генерала Перовского.
Закончив, Михайлин подошел к унтеру Поташеву и, показывая взглядом на Зыгмунта, спросил:
- Как его успехи?
- Обыкновенные, ваше высокоблагородие! - ответил Поташев, пытаясь втянуть перед начальством свой живот.
- Займись с ним, я посмотрю...
- Слушаюсь, вашскблагородье!.. Рядовой Сераковский, выйтить из строя!
Было еще одно место в укреплении, где занимались шагистикой в одиночку - около часового, стоявшего у мачты, на которой висел флаг. Сераковский шел туда, печатая шаг - на счет "два" почти до высоты пояса поднимая ногу с оттянутым вперед носком.
- На ка-а-раул!
- Прямо по батарее па-а-льба одиночно, ать-два!
- Ло-о-жись!
- Встать!
Команды следовали одна за другой с какой-то бестолковой суетливостью; казалось, унтер поставил целью замучить Сераковского. Зыгмунт падал на землю, вскакивал, вытягивался в струнку, прикладывая руку к околышу фуражки, целился в воображаемого противника, колол его штыком... Майор Михайлин молча стоял поодаль.
- Довольно, Поташев, - сказал он наконец. - Если все наши солдаты будут заниматься так же, как Сераковский, нам не будет страшен никакой инспекторский смотр.
- Благодарю за службу! - сказал он Сераковскому.
- Рад стараться, ваше высокоблагородие! - Это была стандартная фраза, которой солдаты отвечали офицерам.
- Я вас попрошу проводить меня... Ты свободен, Поташев, можешь идти, - бросил он через плечо унтеру.
Унтер опешил. Сам батальонный командир обратился к этому невзрачному полячишке на "вы", невесть за что объявил ему благодарность и повел куда-то с собой, как равного.
- У меня к вам просьба, господин Сераковский, - говорил тем временем майор. - Не сможете ли вы уделить внимание моему сыну? Почитать с ним книжки, побеседовать о литературе, истории, задачки порешать, коль сами сильны в сей науке...
- С удовольствием, ваше высокоблагородие, - несколько растерянно пробормотал Сераковский.
- Вне службы вы можете называть меня Степан Иванович.
Когда они подошли к дому, на крылечко выскочил шустрый мальчик лет тринадцати, очень похожий на отца, белоголовый, веснушчатый, и, щурясь от яркого солнца, подбежал к майору.
- А что за солдат с тобой? - спросил мальчик.
- Это, Коля, Сигизмунд... простите, запамятовал, как вас по батюшке... Сигизмунд Игнатьевич. Он будет с тобой заниматься.
- Заниматься... - разочарованно протянул Коля.
- Я постараюсь, чтобы занятия не были скучны, - сказал Сераковский.
- Заходите, заходите... Муж мне говорил о вас, - послышался женский голос, и в двери показалась опрятно одетая женщина с огромными глазами на смуглом красивом лице. - Здравствуйте! Меня зовут Ольга Васильевна. А вас?
Майор жил в отдельном небольшом каменном флигеле из пяти комнат, обставленных довольно просто, если не считать великолепных персидских ковров, украшавших пол и стены. На этажерке стояли книги, и это были первые книги, которые увидел Сераковский на Мангышлаке, если не считать церковного Евангелия да "Памятки солдату". На столе валялось несколько номеров "Библиотеки для чтения" и какие-то газеты.
У мальчика была отдельная комната с жесткой кроватью и мебелью, сделанной, очевидно, кем-то из солдат. На стене висела большая карта Российской империи. Сераковский сразу же отыскал взглядом свою Волынь, Луцкий уезд, а затем полуостров Мангышлак (Новопетровского укрепления на карте не было) и ужаснулся громадности расстояния, которое отделяло его от родных мест.
- Прошу к столу, Сигизмунд Игнатьевич, - пригласила хозяйка.
Да, давненько Зыгмунт не сидел за домашним самоваром, не ел теплых, только что из печи домашних булок и не пил ароматного китайского чая с вареньем. Майор расположился напротив и время от времени спрашивал, не хочет ли Сераковский еще "чего-нибудь откушать".
- У меня совсем нет времени заниматься с ним, - говорил Михайлин, поглаживая сына по стриженой голове, - офицеров просить - неудобно, да и не больно они горазды в науках, а мальчик растет. Будь моя воля, я бы определил его в кадетский корпус, но вот жена не соглашается.
Батальонный начальник освободил Сераковского от вечерней муштры, взамен которой Зыгмунт должен был приходить к нему домой и заниматься с Колей.
- Это я делаю на свой страх и риск, вопреки полученному предписанию, - сказал Михайлин. - Только, пожалуйста, не подведите меня во время смотра.
Сераковский по-прежнему вставал вместе со всеми, по-прежнему вместе со всеми занимался шагистикой, ружейными приемами и "словесностью", но отношение к нему несколько изменилось. Даже Поташев стал говорить ему "вы", и он был единственный солдат, к которому так вежливо обращался грозный унтер.
К четырем часам пополудни Зыгмунт шел теперь в дом майора Михайлина. Мальчик не знал многого из того, что полагалось знать в тринадцать лет, сведения, полученные от матери и отца, были крайне отрывочны, случайны, учебников, за исключением задачника по арифметике, не было, и Сераковский думал - с чего ему начать, чтобы не отпугнуть, а, напротив, заинтересовать своего маленького воспитанника.
- О чем же рассказать тебе, Коля? - спрашивал он, обращаясь скорее к самому себе, и вдруг, повинуясь мелькнувшей мысли, сказал мальчику: Закрой глаза, подойди к карте Европы и дотронься рукой. До чего дотронешься, о том я тебе и расскажу.
Коле затея понравилась. Он зажмурился и, подойдя к карте, ткнул в нее всей ладошкой. Ладошка закрыла восточную часть Австрии.
- А ты знаешь, Коля, что в этом месте идет жестокая война?
Мальчик оживился:
- Русских с турками?
- Нет, - ответил Зыгмунт. - Бедных с богатыми, справедливых с несправедливыми, добра со злом.
Говорить такое сыну батальонного начальника было явно рискованно, но Сераковский не мог удержаться, чтобы не вспомнить, о чем он осенью прочел в лавчонке Зигмунтовского.
- Твой отец, наверное, получает газеты, - сказал Сераковский. - Давай посмотрим их.
- Они в кабинете у батюшки. Пошли туда!
- А нам не попадет?
В доме никого не было, если не считать денщика, рубившего во дворе саксауловые дрова, да кухарки, что-то стряпавшей на кухне к ужину. Коля повел Сераковского в просторную, устланную ковром комнату с письменным столом напротив окна, обитою кожей софою и шкафом, заполненным книгами. За стеклом, на кожаных корешках переплетов поблескивали заголовки, и Сераковский, как зачарованный, долго смотрел на них. "Современник", "Сын отечества", переплетенные "Оренбургские губернские ведомости", сочинения Державина, Жуковского, Пушкина, Вальтера Скотта...
Газеты лежали аккуратной стопкой на маленьком столике, было видно, что их не только читали, но и берегли.
- Все же давай-ка мы с тобой воротимся в детскую, - сказал Сераковский озабоченно. - А то как бы нам не попало от твоего батюшки.
- Не попадет, Сигизмунд Игнатьевич, он добрый...
- Ну коль так, то мы возьмем эти газеты и пойдем к карте. Я тебе покажу, где сейчас идет война.
В пачке лежали газеты за осень и зиму 1848/49 года. Сераковский взял самую давнюю и сразу же разыскал корреспонденцию из Вены. В австрийской столице шел бой. Город горел, и вечером можно было читать при свете пожаров... Зыгмунт схватил следующую газету. "Вена капитулировала". Еще одну. "Казнь главного начальника Венской национальной гвардии... Он сформировал подвижные батальоны и вверил их начальству Бема. Воззвание его обратило народ к оружию"... "...Князь Виндишгрец потребовал выдачи польского генерала Бема"... "Генерал Бем бежал из Вены в Венгрию".
Все время, пока Сераковский лихорадочно читал газеты, Коля стоял рядом, с недоумением наблюдая за своим странным учителем: что интересного он нашел в них? И что его так опечалило?
- Турки побили русских? - спросил маленький Михайлин.
- Нет, Коля, на сей раз турки ведут себя хорошо. В мире, видишь ли, идет особая война. Не страна воюет против страны, а борьба идет внутри, в границах одного и того же государства. Восстает народ...
- Так это бунт! - сказал Коля.
- Нет, не бунт, совсем не бунт!..
И Сераковский, с трудом подбирая понятные мальчику слова, стал рассказывать ему об итальянцах, чехах, поляках, венграх, поднявшихся против Австрии, которая поработила эти народы. Он так увлекся, что не заметил, как в детскую вошел Михайлин. Сына и учителя майор застал лежавшими на ковре, где была расстелена снятая со стены карта.
- Простите, Степан Иванович, - пробормотал Зыгмунт, вставая.
- Ничего, ничего, продолжайте. Я послушаю...
- Мы тут с Колей немного занялись историей...
- Я вижу, современной.
- Не только. Я рассказал Коле об образовании Австрийской империи...
- И о том, как она распадается на наших глазах, не так ли?
Сераковский смутился, не зная, что ответить.
- Сигизмунд Игнатьевич очень интересно говорит обо всем, - выручил Коля.
- Ну что ж, я рад, что тебе пришелся по душе твой учитель.
С этими словами майор вышел из детской, так и не удовлетворив своего желания послушать, чему же учит Сераковский его сына.
Пароход в Новопетровск приходил редко - несколько раз за навигацию, когда надо было доставить товары для гарнизона. На пароходе же трижды в год привозили жалованье офицерам и солдатам, которое так и называлось третное. Другие суда в укрепление не заходили. Правда, изредка можно было увидеть на горизонте бригантину или расшиву, перевозившие грузы между Астраханью и персидским портом Гяз, да иногда показывались лодки рыбопромышленников и тюленщиков. При сильном шторме они прятались в Николаевской гавани.
Никто не знал, каким способом пожалует в Новопетровское укрепление генерал. Ему давно приготовили апартаменты и даже приведи в порядок дорогу к пристани. Несколько раз за последнее время, едва сигнальщик докладывал о появлении в море какого-нибудь судна, майор Михайлин отдавал распоряжение закладывать тарантас и сам ехал в нем на пристань встречать генерала. Но судно проходило мимо Новопетровска.
Генерал прибыл пароходом "Семь архангелов", который зашел в укрепление только для того, чтобы высадить начальство из Петербурга. Это был сухонький старый генерал-лейтенант из числа штабистов, тяготившийся в свои годы необходимостью ехать куда-то на край света, на границу империи, но твердо уверенный в том, что полученный от высокого начальства приказ надо выполнять строго и честно. Звали генерала Иван Иванович Сухомлин.
Он не пожелал отдохнуть с дороги и сразу же, не обращая внимания на уговоры и сервированный у коменданта стол, пошел, семеня по-стариковски ногами, в сторону казармы, но вдруг передумал и приказал майору Михайлину накормить его из солдатского котла. Ночью ему не спалось, и он сам, без сопровождающих, проверил два поста, но ничего никому не сказал и вернулся на квартиру.
Официально назначенный на завтра инспекторский смотр, по сути дела, начался с того момента, когда Сухомлин сошел с парохода.
Долгое ожидание измотало солдат и офицеров. Все три недели, пока ждали генерала, унтеры "чистили морды" рядовым за малейшую неточность ответа, за плохо одернутую рубаху, за нечеткое выполнение команды. Вечером Сухомлин объявил, что смотр будет завтра в девять утра, однако первую и вторую роты подняли в пять часов, с тем чтобы к шести часам они успели пригнать амуницию, нафабриться и причесаться. В течение следующего часа в последний раз репетировали примыкание, повороты, сдваивание рядов, после чего долго, не менее получаса, равнялись. Унтер Поташев от крика почти потерял голос и страшно боялся, что это произведет плохое впечатление на генерала. Мрачно ходил взад-вперед красный от напряжения и водки капитан Земсков, мимоходом раздавая зуботычины и суля розги. Фельдфебель Кучеренко несколько раз бегал на холм, к флагу откуда был виден комендантский дом, не идет ли генерал. Генерал не шел, и фельдфебель срывал зло на Охрименко.
Тут же, на плацу, красиво выстроились казаки во главе с сотником Кагановым. Они сидели на низкорослых, однако ж выносливых и быстрых туркменских лошадях.
Без пяти минут девять из дверей особняка показался Сухомлин, позади него шли майор Михайлин и комендант. Фельдфебель заметил их вовремя, и роты замерли.
- Смирно! Ра-авнение на-лево! - раздалась команда, почти одновременно повторенная всеми командирами.
- Смирно! Сабли вон! Слушай на караул! - скомандовал сотник.
Командовать выстроенным на плацу войском надлежало майору Мяхайлину, но странный генерал спутал все карты, оставив майора при себе, и команду пришлось взять Земскову. Генерал нарушил традицию и в другом: он начал смотр не с проверки хозяйства и отчетности, а сразу обратился к строевой службе.
- Степан Иванович, будьте любезны распорядиться, чтобы занятия шли своим чередом, - сказал он майору.
- Как вам угодно, ваше превосходительство!
Сухомлин стал в сторонке и молча, не делая замечаний, смотрел, как под барабанный бой маршировали на плацу роты, а по сигналу "галоп" пролетела, поднимая облако пыли, казацкая сотня.
Затем он велел перейти к "словесности". Сначала экзаменовалась первая рота.
- Что есть солдат? - неестественным от возбуждения голосом выкрикнул фельдфебель, уставясь совиными глазами в генерала, будто спрашивая это у него. - Отвечай, Забелин!
Рядовой Забелин еще сильнее прижал руки к швам на штанах.
- Солдат есть защитник престола, православной веры и отечества от врагов внутренних и внешних.
- Правильно, молодец Забелин!.. Сераковский, отвечай, что должен уметь солдат.
Генерал Сухомлин повернул голову, отыскивая взглядом "рядового из политических преступников", о котором ему вчера доложили.
- Солдату надо знать: немного любить царя... - начал Сераковский по-солдатски.
- Стойте! - перебил его генерал. - Повторите что вы сказали.
Сераковский повторил все слово в слово. Его одеревенелая, с выпяченной грудью фигура, бесстрастный, лишенный малейшей интонации голос, торчащий кверху подбородок - все говорило о служаке, "фрунтовике", и лишь глаза, умные и насмешливые, показывали, что этот служака великолепно понимает абсурдность того, что говорит.
Генерал увидел эти глаза.
- Зачем вы так отвечаете мне, Сераковский? Ведь вы же образованный человек!
- Нас так учит господин фельдфебель, ваше превосходительство.
- Какой позор! - Генерал брезгливо глянул на Кучеренко. Продолжайте, фельдфебель. И впредь хотя бы изредка прислушивайтесь к тому, что говорят вам образованные люди.
В тот же день, под вечер, в казарму пришел запыхавшийся вестовой от майора и сказал, что Сераковского требует к себе генерал.
- Разнос или "отеческое внушение", - заметил Погорелов.
Генерал сидел за столом вместе с четой Михайлиных и пил чай. Несмотря на жару, которая только начала спадать, все пуговицы и крючки генеральского мундира были застегнуты.
- Господин генерал-лейтенант... - начал рапортовать Сераковский, но Сухомлин остановил его небрежным движением сухой руки.
- Не нужно, Сераковский, мы с вами сейчас не на службе... Хозяин приглашает вас быть сегодня его гостем. А посему присаживайтесь.
- Благодарю вас...
Зыгмунт не знал, как себя держать, известно ли генералу, что он здесь ежедневно бывает, или же майор благоразумно скрыл это.
- Как вы знаете, - сказал Сухомлин, - сегодня я поименно спрашивал у солдат претензии. К вам же не подошел умышленно, потому что хотел задать вам этот вопрос в другой обстановке.
Генерал замолчал и вопросительно посмотрел на Зыгмунта.
- Видите ли, мне трудно ответить. В моем положении... - Сераковский замялся.
- Ваше положение мне известно, господин Сераковский. Посему я и попросил вас сюда. Итак, имеете ли вы жалобы на обращение?
- Ежели не жаловались те, кого ежедневно и ежечасно бьют ни за что и секут розгами за малейшую провинность, то что говорить мне, у кого пока не выбит ни один зуб.
- Ну, батенька, мордобой в русской армии - да что мордобой! наказание батогами, назначаемое без суда, идет еще с допетровских времен. И это не только в России. Небезызвестный вам Фридрих Второй, король Прусский, изволил выразиться, что солдат должен бояться палки капрала больше, чем пули неприятеля.
- Но разве это справедливо? - воскликнул Сераковский. - Разве христианину должно применять силу там, где необходимы убеждение, довод? Его бледные щеки покрылись румянцем.
- Армия - не монастырь, и солдаты не монахи и не послушники.
- Они прежде всего люди, ваше высокопревосходительство. Бить солдата, который даже не смеет отвернуться от удара!.. - Сераковский поморщился, словно от физической боли. - Это ли не грех?
- Действия, узаконенные уставом и утвержденные государем, не могут ложиться на душу бременем греха.
Сераковский хотел было возразить, но спохватился: не след конфирмованному солдату и государственному преступнику иметь свое суждение, идущее вразрез с государевым.
- Шпицрутены, кошки, линьки, палки, кнут, плети, розги... какой поистине страшный букет! - как бы для самого себя сказал Зыгмунт. - Это не считая рукоприкладства - мордобития, зуботычин, пощечин, оплеух, затрещин, "чистки морды"...
- Однако вы горазды в русской словесности. Для поляка это похвально. - Генерал улыбнулся.
- Я окончил русскую гимназию и занимался в Петербургском университете, - ответил Сераковский тоже с улыбкой.
Все время, пока велся разговор, майор Михайлин сидел молча и лишь изредка поглядывал то на одного, то на другого собеседника. Жена его вышла из комнаты, Коля гулял во дворе.
- Мне кажется, Иван Иванович, - сказал наконец Михайлин, - что наш военно-уголовный устав в части телесных наказаний и впрямь нуждается в некоторых изменениях...
- В сторону большей человечности, - досказал Сераковский.
- Это, батенька, не нашего ума дело, - заметил генерал. - Не мы писали устав, не нам его и отменять.
- Но и при существующем уставе каждый воинский начальник может не только карать, но и миловать, быть милосердным. Это право у него никто не отнимал, не так ли? - сказал Сераковский.
- Согласен... - Генерал наклонил седую голову.
- Вот Степан Иванович. - Сераковский показал глазами на Михайлина. Ведь за все время моей службы в Новопетровске я ни разу не видел, чтобы наш батальонный командир рукоприкладствовал. Ни разу!
- Гм-да... - не то одобрительно, не то осуждающе промычал генерал.
- У каждого человека свой характер, свой норов, - сказал Михайлин, потупив глаза.
- Вам в чем-либо помогает господин Сераковский? - спросил генерал у хозяина дома. - Я имею в виду батальон, солдат.
- Я не счел себя вправе, ваше высокопревосходительство, привлечь к делу человека, который... - Майор запнулся, с трудом подбирая слово.
- И напрасно, - перебил генерал. - Люди с образованием в русской армии редки, очень редки, особенно среди рядовых и нижних чинов, и их след использовать... ну, например, для занятий словесностью. Или пускай они по воскресеньям читают солдатам Евангелие.
После разговора с генералом Зыгмунта стали чаще взамен каждодневной муштры посылать на хозяйственные работы - косить сено, плести маты из камыша, который надо было сначала заготовить на болотистом берегу, рубить твердый, как железо, саксауловый кустарник.
Вблизи Новопетровска саксаул уже извели, и с каждым разом его приходилось искать все дальше. Накануне прискакал в укрепление какой-то казах, от него узнали, что верстах в пятнадцати есть хорошая саксауловая роща, и Сераковского послали проверить, не обманул ли инородец. Одному в степь уходить не разрешалось из-за возможной встречи с хивинскими разбойниками, и Зыгмунт попросил себе в компаньоны Погорелова.
Ночью нежданно-негаданно прошел проливной дождь, такой редкий в июне, освеживший чахлые, засыхающие на корню травы, и ехать по степи, опустив поводья, было чрезвычайно приятно.
- Боже, какое счастье хоть на время избавиться от всевидящего ока отца-командира! - сказал Погорелов.
Стояло раннее, нежаркое утро с легким освежающим ветерком. Над глинистыми обрывами, испещренными гнездами, с криком носились стрижи, иногда дорогу переползали змеи, которых в укреплении называли песочными: почуяв опасность, они за несколько секунд зарывались в песок.
Узкая, протоптанная кочевниками тропа шла с одного бугра на другой. Иногда попадались неглубокие пади, блестевшие на солнце подобно замерзшим лужам. Пади поросли солончаковыми травами, единственными растениями, которые выживали на этой пропитанной солью земле.
С гребня высокого холма они заметили вдалеке, почти на горизонте, большой верблюжий караван, это шли из Хивы в Оренбург купцы с товаром - от колодца к колодцу.
- Еще заберут в плен и продадут в невольники, - невесело пошутил Погорелов.
Такие случаи бывали не раз, и в Хиве одно время содержалось до тысячи проданных в рабство русских людей.
- Не заберут! Мы ведь им не хотим и не делаем зла, - сказал Сераковский.
- Ты очень наивный человек и витаешь в облаках. Давай-ка лучше скроемся с глаз да понаблюдаем, как будут вести себя хивинцы.
Караван шел своей дорогой.
Сераковский и Погорелов ехали не торопясь и лишь к полудню добрались до оврага, о котором говорил казах. Там было прохладно, зелено, росла пахучая, с серебристыми листьями джида и тихо журчал ручей, очевидно, он никогда не пересыхал, а после дождя разбух, набрался сил. Тут они оставили лошадей пастись, а сами пошли дальше: по словам казаха, сразу же за оврагом должна быть саксауловая роща.
- Я же говорил, что нечего проверять... Надо верить человеку, сказал Сераковский, увидев причудливо искривленные кустистые деревца с зелеными веточками вместо листьев.
Теперь можно было и отдохнуть - не торопиться же назад в укрепление! Через седло у Сераковского была перекинута переметная сумка с выданной каптенармусом едой, он хотел уже достать ее, но в этот момент из кустов неожиданно вышел казах. Он приложил руку к груди и низко поклонился Сераковскому.
- Не узнала? - спросил он, дружелюбно улыбаясь.
- Постой, постой...
Сераковский сделал несколько шагов навстречу и протянул руку. Ну конечно, это же тот самый кочевник, которого он нашел раненым в степи!
- Идем юрта, кибитка, по-вашему, - промолвил казах. - И тот солдат идем. Чай пить будем, кумыс свежий... Гостем будем. Наша тут стоит. - Он показал рукой куда-то влево.
Сераковский и Погорелов переглянулись.
- Пошли!
Они взяли за повода коней и двинулись вслед за казахом, Сераковский охотно, Погорелов - немного сомневаясь, стоит ли идти к незнакомым кочевникам, тем более вдали от укрепления.
- Мой тебя давно заметил, - сказал казах, оборачиваясь.
- Как тебя зовут? - спросил Сераковский.
- Абай... А тебя?
Вскоре они услышали лошадиное ржанье, блеянье овец, человеческие голоса. Несколько кибиток стояло в степи, из одной из них, крайней, навстречу вышел белобородый старик и поклонился гостям. Очевидно, он ждал их.
- Здравствуйте, - сказал он. - Мой сын Абай рассказал мне, что вы спасли ему жизнь. Теперь он ваш должник. - Старик говорил по-русски не только правильно, но и почти без акцента.
- Добрый день! - Сераковский и Погорелов поклонились.
- Заходите в юрту. О лошадях позаботятся.
Внутри кибитки было прохладно и сумеречно, особенно после слепящего солнца. Посередине горел небольшой костер, и над ним, в дыму, коптилось мясо. На стенах висели несколько луков, стрелы, конская сбруя, сабля, пестрые стеганые халаты, кухонная утварь.
- Садитесь, - сказал старик, показывая на расположенную против входа низенькую кровать, прикрытую ковром.
Кибитка постепенно наполнилась народом. Пришли те, кого, наверное, пригласили. Они молча кланялись, прикладывая руку к сердцу, и усаживались.
По восточному обычаю, первое время сидели молча. Старый хозяин налил в пиалы кумыс и подал сначала русским гостям, затем остальным. Кумыс был кисловатый и ударял в нос острым винным запахом. Пожилая, с морщинистым лицом женщина, должно быть мать Абая, принесла и с поклоном поставила на низенький столик перед гостями огромное блюдо дымящегося плова. Его ели руками, помытыми в общем тазу. У Сераковского и Погорелова с непривычки это не получалось, но хозяева делали вид, что не замечают неловкости гостей.
Все время где-то поблизости пела одинокая струна, которой вторил резкий мужской голос.
- Кто это поет? - спросил Сераковский.
- Шаман. Он врачует болезни. Может, хотите, посмотреть? - спросил отец Абая.
В соседней кибитке сидели на корточках две молодые женщины, ждавшие исцеления от своих недугов. Шаман, маленький худой мужчина лет сорока, с неприятным бабьим лицом, держал в трясущихся руках инструмент - нечто вроде большущего ковша с длинным черенком, на который была натянута единственная струна из конского волоса; по ней шаман водил смычком.
Никто не обратил внимания на вошедших. Женщины не пошевелились, не повели глазами, они тупо смотрели в землю, безучастные ко всему, что происходило вокруг.
Шаман, напротив, находился в непрестанном движении. Он вскакивал, садился, снова вскакивал, махал руками, вертел головой. Вдруг он выхватил из-за пояса кинжал и устрашающе помахал им перед глазами неподвижных, будто неживых женщин, а затем, Подняв с пола топор, стал изо всех сил бить обухом себя в грудь и бил до тех пор, пока не свалился в изнеможении.
Тогда обе женщины встали, а все, кто находился в юрте, стали тихонько шептать молитвы. Сераковский с трудом разбирал слова, что-то вроде "Алла ой боей, хай, хай..."
Но тут раздался дикий вопль, шаман вскочил на ноги, схватил одну из женщин, перекинул ее через плечо и начал вращаться. Женщина распрямилась, вытянула руки и ноги, волосы ее растрепались, и она походила теперь на парящую в воздухе птицу. Через несколько минут шаман бросил ее на землю едва заметным движением плеча, как грузчики сбрасывают мешки с зерном.
- Алла, алла, - шептали хором те, кто был в кибитке.
Вторую женщину постигла та же участь.
- Не каждый из русских может увидеть волшебство шамана, - сказал отец Абая.
- Они поправятся? - спросил Сераковский.
- На то есть воля аллаха. - Старик поднял глаза кверху. - Если он примет нашу молитву...
Абай проводил гостей до полдороги. Он молча ехал рядом с Сераковским на своем быстроногом скакуне.
- Моя теперь домой надо, - сказал он. - Большой тебе спасыпо!
- До свидания, Абай. Тебе спасибо... Может, еще встретимся.
Некоторое время ехали молча.
- Какая все-таки дикость, какое невежество! - прервал молчание Погорелов.
- Да, дикость, - согласился Сераковский. - Но кто виноват в этом? Подумать только. В то самое время, когда студенты в Петербурге слушают лекции просвещенных профессоров, играет итальянская опера, печатается "Современник", здесь, на территории того же самого государства, кривляется и дурачит людей шаман. И ему верят! Ни одного лекаря! Ни одной книги!.. На территории, равной, быть может, целой Франции, живут подданные российского государства, от которых это самое государство только берет, не давая ничего взамен...
- Позволь, позволь! - насмешливо перебил его Погорелов. - А водка, которую продают маркитанты? Инородцы, пообщавшиеся с нашим братом, довольно быстро становятся отменными пьяницами.
- К сожалению, ты прав. - Зыгмунт помолчал. - А ведь хорошие люди. Как дружески встретили они нас. Особенно этот старик.
- Который по-русски говорит?
- Да... А вот я по-казахски знаю всего несколько слов. Обязательно надо выучиться.
- Зачем?
- Как зачем? Ты странный человек, Погорелов. Жить среди казахов и не попытаться овладеть их языком - все равно что высказать им свое пренебрежение. Пять слов в день - и через год мне не нужен будет переводчик.
Когда Сераковский и Погорелов подъезжали к укреплению, из ворот показалось несколько казаков. Заметив возвращающихся солдат, они поскакали к ним и круто осадили коней.
- Никого в степи не видели? - спросил один из казаков.
- Никого... А что случилось?
- Солдат сбежал.
- Какой солдат? - Сердце Сераковского забилось от тревожного предчувствия.
- Охрименко.
Ночью майору Михайлину стало плохо, и денщик сбегал за лекарем. С начальством лекарь был обходителен. Он выслушал больного и сказал, что самое полезное для него лекарство - это сменить климат, но коль сие от него не зависит, то стоит поехать в Оренбург и лечь в госпиталь.
Михайлин и раньше не часто бывал на плацу, где занимались шагистикой, тем более неожиданным было его появление там теперь, после того, как лекарь уложил его в постель.
Первое отделение под командой унтера Поташева занималось маршировкой. Все было как обычно: солдаты выбрасывали вперед одеревенелые ноги, равнялись, строились, сдваивали ряды. "Раз-два!", "Раз-два!" - командовал унтер. Время от времени он подходил к какому-нибудь солдату и "учил" его давал пощечину или же бил кулаком в челюсть.
- Поташев, за что вы сейчас ударили солдата? - раздался вдруг голос майора, который стоял на крыльце канцелярии и наблюдал, как идут занятия.
- Сми-ирна! - гаркнул унтер.
- Отставить!.. За что вы ударили солдата? - повторил майор.
- Эта собака спутала ногу, вашродие! - бойко ответил унтер.
- Перед вами не собака, а человек, солдат русской армии. Вам понятно?
Унтер недоумевающе посмотрел на батальонного командира. За все пятнадцать лет службы никто и никогда не сделал ему замечания по такому поводу. Пока Поташев был солдатом, его били все - от унтера и до ротного командира (до сих пор у него рот со щербой), потом, когда он наконец получил власть, пусть маленькую, но все же власть, он стал бить солдат сам, считая мордобой такой же неотъемлемой частью армии, как муштра, как слова команды, как каптенармус или повар.
И вдруг этот неожиданный, непонятный окрик майора!
- Я запрещаю вам, унтер Поташев, заниматься рукоприкладством. Запомните, и впредь извольте выполнять сие неукоснительно.
- Слушаюсь, вашродие...
Недоумение, полная растерянность, смятение - все разом отразилось на лице унтера.
Солдаты сначала ошеломленно уставились на батальонного командира, затем стали переглядываться, подталкивать друг друга плечами, подобно Поташеву не понимая, что случилось, и в то же время, вопреки Поташеву, угадывая безошибочным солдатским чутьем: что-то надломилось, что-то особенное произошло сейчас в их судьбе... У Погорелова вытянулось лицо. Сераковский не мог сдержать торжествующего взгляда.
- Продолжайте занятия, унтер, - распорядился майор Михайлин.
Весь вечер солдатская казарма гудела, в мельчайших подробностях вспоминая события. После приказа батальонного командира унтер стал сам не свой. Несколько раз, забывшись, он заносил было руку для удара, но вдруг, вспомнив о запрете, резко опускал ее.
- Наряд не в очередь! Нужник пойдешь чистить вместо профоса! вымещал свою злобу Поташев.
Больше всех, пожалуй, радовался Сераковский. А может быть, думал он, в том добром, что произошло сегодня, есть и частица его усилий? Ведь тогда, в разговоре с генералом, майор Михайлин молчал, однако ж явно сочувствовал его словам!
- Тебя ни разу не посмел коснуться кулак унтера, но ты ликуешь, как будто всех сильнее били тебя! - сказал ему Погорелов.
- А ты разве не доволен?
- Доволен! Но что значит отмена пощечин для одного батальона, если бьют всюду, во всем русском войске!
Сераковский помрачнел, но тут же оживился снова.
- Лиха беда начало, Погорелов, - сказал он.
Майор больше не появлялся в ротах. Когда на следующий день Сераковский пришел заниматься с Колей, Михайлин лежал в кабинете на диване. Рядом на столике стояли пузырьки с лекарствами.
- Зайдите ко мне, Сигизмунд Игнатьевич, - услышал Зыгмунт голос батальонного командира.
- Здравствуйте, Степан Иванович! Как ваше здоровье?
- Вашими молитвами... - Михайлин слабо, болезненно улыбнулся.
- Молитвами всех солдат, которых одним магическим словом вы превратили из бессловесных забитых тварей в людей! - ответил Сераковский, заметно волнуясь.
- Ой, как громко!.. Вы, я вижу, весьма восторженный человек.
- Вы правы. Я могу мгновенно приходить в восторг и так же быстро в уныние... Но я не могу оставаться равнодушным.
- Значит, солдаты молятся за меня... - не то в шутку, не то всерьез промолвил майор.
- Конечно!.. И стараются, как не старались никогда. Можно подумать, что их подменили. - Сераковский помолчал. - Вы представляете, Степан Иванович, какой бы могучий сдвиг произошел в армии, если бы то, что вы сделали здесь, было сделано повсеместно!
- Нет, вы определенно фантазер!.. Но ежели говорить серьезно, то сие, Сигизмунд Игнатьевич, к сожалению, не в моих слабых силах. Больше того, я совсем не уверен, что мое распоряжение будет одобрено. Скорее всего, я получу нагоняй и наживу себе врагов.
- Не дай бог!
- Увы, люди белой кости рождаются с плеткой в руках, люди же черной кости - с веревкой на шее.
- Но ведь есть же исключения!
- ...когда с веревкой на шее рождается человек белой кости? - спросил майор, поглядывая на Сераковского.
Они помолчали, пока Михайлин пил свою микстуру.
- Если бы это, - Зыгмунт выделил голосом последнее слово, - произошло на несколько дней раньше, Охрименко бы никуда не убежал.
- Охрименко совершил тяжкое преступление, - сказал Михайлин, мрачнея.
- Но надо же принять во внимание причину преступления, помнить о том, что толкнуло человека в бездну... Его поймают?
- Наверное. Не мы, так кокандпы... Однако я задержал вас. Идите к Коле, а то он небось соскучился, дожидая.
- Очень хороший мальчик, - искренне похвалил Сераковский.
Лицо майора потеплело.
- Хочу, чтобы он вырос человеком.
- Я тоже. И делаю для этого все, что в моих силах.
- Спасибо... А в награду возьмите, коли желаете, вот эту книжку "Современника". В ней есть кое-что любопытное для вас...
Михайлин дал журнал Сераковскому, очевидно, не зря. Там была отчеркнута статья, словно бы продолжавшая начатый разговор о наказаниях. Речь в ней шла о французских преступниках, осужденных на галеры. Статья была внешне бесстрастна, она лишь констатировала факты, но сам подбор этих фактов протестовал против жестокости. Безымянный автор взывал к совести людей: наказывайте, но не истязайте!
- "Доказано, - прочитал вслух Сераковский, - что десятый из осужденных на галеры умирает в первый год. Итак, каждый присяжный, положивший отослать десятерых обвиняемых на каторжную работу, может быть уверен, что один из этих людей приговорен им на смерть верную и почти столь же быструю, как и смерть на эшафоте..." И это в просвещенной Франции! Почти как в России!
- У нас нет галер, - усмехнулся Погорелов.
- Зато есть Сибирь, рудники, где погибали декабристы, Нерчинск, а это - те же галеры! У нас есть кое-что почище галер - шпицрутены!
К вечеру стало прохладнее, и оба друга сидели на берегу моря.
- Слушай дальше... "Чему же приписать такую страшную разницу? Без сомнения, нравственному впечатлению, ужасу, который ощущает осужденный, видя, что общество ввергает его в бездну позора, из которой он уже не выйдет, а если и выйдет, то с неизгладимою печатью вечного отвержения, потому что галеры во многом походят на ад Данта..." Да, автор совершенно прав... Нравственный ужас часто бывает сильнее ужаса физического. Слово крепче палки. Убеждение - действеннее, чем наказание, - развивал свою мысль Сераковский.
- Ты, я вижу, всерьез думаешь над этим.
- Меня никогда не наказывали дома, а вот в гимназии однажды высекли за какую-то невинную шалость. И вообще в гимназии секли здорово. Наш учитель словесности заставил нас даже выучить песенку, которую мы обязаны были всем классом петь перед очередной экзекуцией. Это было ужасно! С наслаждением садиста словесник объяснял нам, какие по правилам должны быть розги... помню до сих пор. - Сераковский поежился.
- У тебя хорошая память на розги!
- Я ничего не забываю - ни зла, ни добра.
...Майор Михайлин уехал в Оренбург с первой почтовой лодкой. А на следующий день, на рассвете, Сераковский проснулся от шума, от непонятной и тревожной возни во дворе.
- Что случилось? - спросил он у дневального.
- Охрименко поймали...
Сераковский оделся и вышел из казармы.
Охрименко, шатаясь, шел между двумя казаками. Руки у него были связаны сзади, одежда висела лохмотьями, лицо - в кровоподтеках и синяках, глаза блуждали. На секунду он встретился взглядом с Сераковским, но, кажется, не узнал его.
Из офицерского флигеля показался заспанный капитан Земсков, оставшийся теперь за батальонного командира.
- А, попалась, сволота! - Виртуозно ругаясь, он подошел вплотную к беглому солдату и сжал кулаки. - За-се-ку! Насмерть засеку негодяя!
Постовой отпер висячий замок на двери карцера, и казаки втолкнули туда Охрименко.
В этом безлесном пустынном краю дорога была каждая щепка, и гроб сколачивали из старых, уже бывших в употреблении досок. Последний раз наказывали шпицрутенами полтора года назад, но солдат остался жив, и гроб не понадобился; потом, во бремя холодной зимы, солдаты тайком сожгли его в печке.
И вот теперь делали новый гроб. Из сарая доносились глухой стук топора и шарканье рубанка. Завтра гроб повезут вслед за Охрименко, как напоминание о том, что ожидает осужденного.
По причине все того же безлесья приходилось пользоваться и старыми шпицрутенами: с них только смывали кровь и мочили в воде, чтобы прутья вновь обрели нужную гибкость. Старый солдат Никифор, уже кончавший свою двадцатипятилетнюю службу, носил их охапками из склада и бросал в канаву с горько-соленой, непригодной для питья водой. Сераковский не мог смотреть на эту канаву с плавающими там длинными голыми хворостинами; сознание того, что завтра ему придется взять в руки одну из них, заставляло его страдать невыносимо.
- Быть палачом, катом, казнить своего же товарища, который ни в чем не виноват, - что может быть ужаснее?
- Ужаснее, если бы тебя самого прогнали сквозь строй, - ответил Погорелов.
- Я в этом не уверен...
По установившейся традиции экзекуцию полагалось производить на рассвете. Двадцать третьего июня рассвет ничем не отличался от других, когда еще чувствуется живительная прохлада уходящей ночи, восток окрашивается разгорающейся пурпурной зарею и начинают петь птицы, встречая первые лучи солнца. Как и всегда в это время года, пустыня пахла полынью, ветер переносил с места на место пыль и песок, равнодушно и мерно накатывались на берег волны. Природе не было дела до того, что вот сейчас будут сечь шпицрутенами рядового Тараса Охрименко.
Обе роты подняли ночью. Многие солдаты спали плохо, тревожно, а Сераковский и вовсе не сомкнул глаз. Больше всего ему хотелось на это утро попасть в караул, уйти на работу, лишь бы ничего не видеть и не слышать, но капитан Земсков отменил все работы и оставил только самые необходимые посты - не хватало людей, чтобы сечь Охрименко.
Как и все солдаты, Сераковский надел караульную форму и вышел из казармы. Во дворе стояло несколько офицеров, между которыми был и капитан. Сегодня, как старшему командиру, ему предстояло распоряжаться экзекуцией.
- Настоящие, так сказать, образцовые шпицрутены, господа, - говорил Земсков, - это те, которые прислал граф Клейнмихель из Петербурга в 1831 году для наказания бунтовавших военных поселян. В диаметре чуть менее вершка и в длину около сажени. К сожалению, имеющиеся у нас шпицрутены не совсем удовлетворяют классическому образцу.
- Как вам не стыдно, говорить об этом, капитан! - заметил кто-то из офицеров.
Сераковский боялся смотреть в сторону карцера и в то же время не мог удержаться, взглянул и увидел гарнизонного священника отца Феоктиста, который вошел туда со святыми дарами в руках: приговоренному к шпицрутенам полагалось исповедаться и причаститься, как перед смертью.
Солдаты уже были построены повзводно, когда распахнулась дверь гауптвахты и показался Охрименко в сопровождении четырех конвоиров. Он шел, словно не видя, не понимая, куда и зачем его ведут. Ноги осужденного заплетались, голова опустилась на грудь, страшная тупая безнадежность была во всей его фигуре.
Два передних конвоира задержались у крыльца ротной канцелярии, где находились офицеры, но Охрименко продолжал переставлять ноги, пока его не остановили. Писарь Петров выступил на шаг вперед и громко прочел приговор, заканчивавшийся словами: "...виновный рядовой Охрименко имеет быть наказан прогнанием сквозь батальон четыре раза". По Своду военных постановлений эта формулировка означала, что Охрименко должен получить две тысячи шпицрутенов.
И сразу же раздались слова команды: батальон выстраивался в "шереножную", "зеленую" улицу. Равнялись ряды, на сей раз не так строго, как на ученьях, после чего первая шеренга повернулась лицом ко второй, а офицеры стали на флангах вместе с барабанщиками. Зевал невыспавшийся, привыкший ко всему лекарь.
- Кто хочет спирту, господа? Могу уделить по глотку наиболее жаждущим, - сказал он. Спирт лекарь принес, чтобы приводить в чувство Охрименко, когда тот потеряет сознание.
Длинные, намокшие в воде прутья высились правильными холмиками, и несколько фурлейтов - обозных солдат - стали раздавать их тем, кто стоял в шеренгах. Сераковский взял в руки шпицрутен и вдруг почувствовал, что не может удержать его, настолько тяжелой и страшной показалась ему эта безобидная на вид, гибкая хворостина.
С левого фланга послышалась зловещая барабанная дробь. Страшные приготовления закончились, и Сераковский, словно во сне, увидел в самом начале длинной, показавшейся ему бесконечной шеренги Поташева и Охрименко. Их разделяло только ружье, которое держали оба - унтер за один конец, солдат за другой. Примкнутый штык упирался Охрименко в живот, и от этого он стоял нелепо согнувшись и выставив обнаженную спину.
- Начинай! С богом! - скомандовал капитан Земсков.
"С богом"? - Сераковский ужаснулся. И в тот же миг услышал тонкий свист шпицрутена, отчетливый звук удара по голому телу и глухой стон. Стон медленно приближался, становился слышнее, отчетливее свист прутьев.
Из-за песчаного холма выкатилось большое багровое солнце. Усилился ветер, подхвативший с земли песок и пыль.
- Крепче, крепче бейте! - кричал капитан, шагая вровень с Охрименко.
Солдаты, казалось, не слышали, что говорил Земсков. Лица их были замкнутыми, отчужденными, смотревшие тупо глаза перестали различать окружающее, и все то страшное, что они делали сейчас, делали бессознательно и машинально: выступали на шаг, наносили удар и становились на место.
- Братцы... пощадите! - чуть слышно стонал Охрименко.
Но щадящих наказывали.
- Как бьешь, собака! - то и дело раздавался грозный окрик капитана. По розгам соскучился?
Несчастный Охрименко приближался к тому месту, где стоял Зыгмунт. Уже медленно проследовал мимо унтер с землисто-серым лицом. Сераковского от Охрименко отделяла только длина ружья со штыком.
- Не вздумайте манкировать, Сераковский! - крикнул капитан Земсков. Я специально посмотрю, как вы исполните свой долг солдата.
- Не солдата, а палача... - ответил Зыгмунт, бледнея.
Силы покинули его, и в этом было его спасение: капитан не расслышал ответа. Сераковский увидел исполосованное багровыми рубцами, окровавленное месиво - то, чем стала спина осужденного, капля крови брызнула ему в лицо, и он, потеряв сознание, упал на землю.
- Оказывается, спирт понадобился не тому, кого секут, а тому, кто сечет, - пробормотал лекарь. Он подошел к Сераковскому, которого уже оттащили в сторону, и поднес ему к носу флакон со спиртом.
...Охрименко умер в госпитале через четыре часа после окончания экзекуции. Получив тысячу ударов, он свалился, тогда его привели в чувство, положили на дровни и возили взад-вперед между солдатскими рядами. Унтер теперь шел впереди лошади. По-прежнему грохотали барабаны. Капитан исступленно кричал, чтобы били больнее.
Гроб, который загодя сколотили плотники, на этот раз пригодился. Похоронили Охрименко за крепостной стеной, на маленьком, кладбище, где не росло ни одного деревца и только жесткая пыльная трава покрывала несколько могилок. Тот же плотник, который делал гроб, сколотил деревянный крест о восьми концах, а отец Феоктист наскоро отслужил панихиду по новопреставленному рабу божию Тарасу.
Уже все покинули кладбище, а Сераковский, обнажив голову, продолжал стоять перед свежим могильным холмиком из комьев желтой сухой глины. Вот жил на свете человек, добрый, безответный, тихий, вся вина его заключалась в том, что он не смог вынести издевательств над собой. За это его казнили мучительной казнью, казнили по закону, действующему повсюду в российской армии. И во имя чего? Во имя страха, который внушит солдатам эта казнь? Нет, не страх, а гнев и отвращение вызвала экзекуция в солдатских сердцах. Острую жалость к так называемому "преступнику", злобу и ненависть к тем, кто заставил их убить своего товарища.
- Пойдем, Зыгмунт... - Сераковский не заметил, как к нему подошел Погорелов. - Смотрю - тебя нигде нету...
- Сначала издевательствами довести человека до побега, а потом за этот побег его казнить. Как это нелепо и гнусно!
- Много в жизни нелепого и гнусного, Сераковский.
- Я никогда, понимаешь, никогда не забуду Охрименко. Ведь надо же что-то делать!
Погорелов пожал плечами.
- Что именно?
- Бороться! Протестовать! Взывать к совести тех, кто это допускает!..
Казнь Охрименко, страшные приготовления к ней потрясли Сераковского, он даже забыл, что с первой лодкой, на обратном пути увезшей майора Михайлина, прибыли газеты, которых он так ждал всю зиму. В воскресенье он все же пошел на квартиру к майору и попросил его жену показать их. Без хозяина газет никто не трогал, они лежали, связанные в пачку.
- Располагайтесь, Сигизмунд Игнатьевич. Я вам мешать не буду, сказала Михайлина. - Коля с денщиком куда-то уехали...
Сераковский развязал объемистый пакет. Там лежали книжки "Современника", стопки "Северной пчелы" и маленького формата, почти квадратные "Оренбургские губернские ведомости". Он взял последнюю тощую тетрадку "Ведомостей", напечатанных на кремоватой хрустящей бумаге, и сразу же наткнулся на "Высочайший манифест". Ни положением на полосе, ни шрифтом он не выделялся среди других статей и заметок, но Сераковский, конечно, понимал, что вот так, ни за что ни про что царские манифесты не появляются. На душе стало тревожно, от тяжелого предчувствия сильнее забилось сердце.
"Объявляем всенародно, - прочел он. - Манифестом от 14 марта 1848 года возвестив верноподданным нашим о бедствиях, постигших Западную Европу, мы с тем вместе изъявили, что готовы встретить врагов наших, где бы они ни предстали, и не щадя себя, будем в неразрывном союзе со святою нашею Русью защищать честь имени русского и неприкосновенность пределов наших. Смуты и мятежи на западе с тех пор не укротились. Преступные обольщения, увлекающие легкомысленную толпу обманчивым призраком такого благоденствия, которое никогда не может быть плодом своеволия и самоуправства, положили себе путь и на восток, в сопредельные нам, подвластные турецкому правительству княжества Молдавское и Валахское. Одно присутствие войск наших совместно с турецкими восстановило и удерживает тут порядок. Но в Венгрии и Трансильвании усилия австрийского правительства, разрозненные другою еще войною - с врагами внешними и внутренними - в Италии, не могли доселе восторжествовать над мятежом; напротив, укрепясь скопищами наших польских изменников 1831 года и других разноплеменных пришельцев, изгнанников, беглых и бродяг, бунт развился там в самых грозных размерах. Среди сих пагубных событий император австрийский обратился к нам с желанием нашего содействия против общих наших врагов. Мы в нем не откажем. Призвав в помощь правому делу всевышнего вождя браней и господа побед, мы повелели разным армиям нашим двинуться на потушение мятежа и уничтожение дерзких злоумышленников, покушающихся потрясти спокойствие и наших областей. Да будет с Нами бог, и никто же на ны! Так мы в том уверены - чувствует, так уповает, так отзовется в богом хранимой державе нашей каждый русский, каждый наш верноподданный, и Россия исполнит святое свое призвание!"
Несколько минут Сераковский сидел молча, уставясь в расплывшиеся строки царского манифеста. "Боже мой! Всюду рука царя, хватающая свободу за горло!" - думал Зыгмунт. Он вспомнил, как вместе с Погореловым смотрел "Северную пчелу". Тогда еще оставалась надежда, что правда восторжествует. Она бы и восторжествовала, если б не "повелели разным армиям нашим двинуться на потушение мятежа". Он с ненавистью, громко повторил эти слова манифеста. "О, Николай не глуп! Он отлично понимает, чем для России может кончиться победа революции в Венгрии..."
- Вижу, что вы что-то невеселое вычитали, - сказала Михайлина, заходя в комнату. - Уж лучше б и не давала вам газет.
- Шила-то в мешке не утаишь.
- А что случилось?
- Война... Правда, не в самой России, но русские солдаты идут в Венгрию, чтобы помочь Францу-Иосифу усмирить восставший народ.
И он опять, который раз за эту зиму, почувствовал себя несчастным от своего бессилия, от того, что ничем не может помочь "скопищам" своих соотечественников, которые сейчас, быть может, умирают за свободу чужой страны.
Глава четвертая
В Уральск Сераковский въехал под вечер в начале сентября 1849 года. На этот раз ему не приставили конвоира, как тогда, когда он впервые проезжал через этот городок, направляясь в Новопетровское укрепление. В кармане лежал подписанный генералом Обручевым приказ о переводе в первый батальон Оренбургского отдельного корпуса, расположенный в Уральске, и рекомендательное письмо майора Михайлина тамошнему батальонному командиру.
Город встретил Сераковского разноголосым церковным благовестом. Еще летом прошлого года Зыгмунта удивило обилие всевозможных храмов в этом небольшом городке.
При патриархе Никоне сюда, на край земли, устремились, спасаясь от религиозных преследований, беглые крепостные крестьяне, с которыми потом был тесно связан Емельян Пугачев. В окрестностях Уральска, в ту пору называвшегося Яицким городком, и началась крестьянская освободительная война, о которой хорошо помнили здесь и теперь, три четверти века спустя.
По сравнению с Новопетровском Уральск выглядел огромным городом. Его прямые, упиравшиеся в Урал и Чаган улицы были необычайно широки и покрыты таким толстым слоем пыли, что стоило проскакать казацкой лошади или пройти казахскому верблюду, как надолго становились невидимыми, погружались в душное непроницаемое облако и одноэтажные домики, и заборы из толстых досок, и сидящие на лавочках жители.
Сераковский приехал сюда в компании двух пожилых солдат, они сразу же пошли в казармы, а он нарочно задержался, чтобы немного побродить одному.
Почти всюду к городу подступали густые нетронутые леса, и лишь со стороны Чагана он был открыт степи. Были и сады, особенно на окраине. Тут стояли белые глинобитные хаты с плоскими крышами, на которых в душные ночи спали хозяева, поставив полога от комаров и тарантулов. В центре города дома были бревенчатые, добротные, и среди них один - на два этажа, с огромными, вровень с крышей, воротами, знаменитый тем, что принадлежал некогда Емельяну Пугачеву.
В конце концов Сераковский устал, проголодался да и запутался в незнакомом городе. Народу на улицах было уже немного. Мужчины - и иноверцы, и русские - одинаково носили легкие полосатые халаты, казачки же были одеты особо - в безрукавные шелковые сарафаны до пят, стянутые у талии широким поясом, в легкие душегрейки из атласа, а на голове у них красовались сороки, убранные дешевыми камешками.
- Скажи, пожалуйста, как мне до казармы дойти? - спросил Сераковский у одной из казачек.
- Ан разве не ведаешь, солдатик? - нараспев ответила та, сверкнув на него огромными карими глазами.
- Если б знал - не спрашивал.
- Ну уж так и быть... На самый край города идти надобно. Во-он туда. Улицы у нас прямые, иди, куда показала, не заблудишься.
Настроение у Сераковского было хорошее, он вообще не мог долго предаваться печальным размышлениям, да теперь к этому как будто не имелось и повода. Больше того, перевод в Уральск, в город, куда почта приходила не от случая к случаю, а регулярно и в городском саду по воскресеньям играла военная музыка, он мог считать за доброе предзнаменование. Ведь само собой это не сделалось, значит, где-то кто-то и перед кем-то замолвил словечко за "высочайше определенного солдатом" Сигизмунда Сераковского.
Думая об этом и не переставая с любопытством поглядывать по сторонам, он дошел до скучного длинного забора, за которым виднелись такие же скучные приземистые постройки, покрашенные охрой. Даже если бы Сераковский не услышал громкие слова команды, все равно по одному виду этих казенных сооружений он смог бы определить, что цель пути достигнута и перед ним батальонные казармы, в которых ему предстоит жить бог знает сколько еще лет и зим.
Возле ворот ходил взад-вперед часовой, к которому Сераковский хотел было уже обратиться, как вдруг услышал знакомый восторженный возглас:
- Езус-Мария! Клянусь всеми святыми, это Зыгмунт!
- Кого я вижу! Пан Аркадий!
Сераковский поразился не меньше, чем Венгжиновский, который уже не шел, а бежал ему навстречу.
- И надо ж случиться такому: первый знакомый, которого я встретил в Оренбурге, был пан Аркадий, и он же - первый знакомый, которого я увидел в Уральске!
- Я сюда приезжаю по делам службы двенадцать раз в году.
- Значит, мы сможем видеться не реже раза в месяц!
- Не знаю, не знаю, Зыгмунт... Может быть, я скоро покину этот благословенный край.
- Дела? Неприятности по службе? Перевод на новое место?
- Нет, бери выше, Зыгмунт, - любовь!
- О, это чудесно! И кто же избранница твоего пылкого сердца? Где она? Как ее зовут?
- Леонка... Живет в Одессе.
У этого общительного доброго человека друзья, кажется, были во всем Оренбургском крае. Сераковский не успел опомниться, как пан Аркадий, заговорщицки подмигнув, куда-то исчез, но минут через десять вернулся, сияя ослепительной улыбкой.
- Зыгмунт, ты свободен до утренней побудки. А посему идем ко мне. Я остановился у одной очень симпатичной казачки. Она тебе несомненно понравится, или я ничего не понимаю в женщинах!
Казачка и верно была хороша собой, статна, пригожа лицом, но Зыгмунту было не до нее, и он всю ночь проговорил с Венгжиновским.
- Оказывается, это ты мой добрый гений! Благодаря твоему заступничеству я смог покинуть забытый богом и людьми Мангышлак.
- Признаться, я уже потерял надежду на ответ и решил, что мое письмо осталось без последствий.
Сераковский вдруг весело рассмеялся.
- Значит, по-твоему, я лишился рассудка? - спросил он.
- Пожалуйста, не обижайся. Мне же надо было придумать какую-нибудь вескую причину, чтобы вытащить тебя из той дыры!
- И ты не побоялся написать самому Дубельту?!
Венгжиновский пожал плечами:
- А что такого? Я же выразился очень деликатно... Как это?.. "Сераковский заболел нравственно; ум его в опасности, а посему всемилостивейше прошу перевести его под мой надзор в город Оренбург".
- Какая жалость, что не получилось с Оренбургом!
- Из одного весьма достоверного источника я узнал, - пан Аркадий победоносно посмотрел на Зыгмунта, - что сам генерал Обручев отозвался о тебе вельми лестно. А именно: "Поведения очень хорошего и службу исполняет усердно".
- Почему же тогда все-таки Уральск, а не Оренбург?
- Не ведаю... Но... - Пан Аркадий продолжал вспоминать обручевский ответ, - "рядовой Сераковский находится в совершенно здравом уме, и надзор в настоящее время чиновника Венгжиновского за ним излишен"... Или что-то в этом роде. Вот так, мой милый. Но если говорить серьезно... - Он наклонился к Сераковскому и перешел на шепот, - в Петербурге просто боятся усиливать польский элемент в Оренбурге. Там слишком много поляков.
- Короче, пан Аркадий, в Оренбурге не хватает только меня, чтобы поднять польский мятеж.
Венгжиновский улыбнулся:
- Кто тебя знает!
- В Уральске есть поляки?
- А где их нет! - Пан Аркадий пожал пленами. - Правда, мало. Тебе будет скучно без соотечественников.
- Конечно... Хотя, как сказать, - задумчиво продолжал Сераковский. Поляк, русский, малоросс, киргиз... Национальность, пан Аркадий, - это одежда, тогда как в человеке важен не внешний вид, а содержание, не мундир, а сердце, которое бьется под мундиром.
- По-моему, Зыгмунт, раньше ты придерживался несколько иного мнения...
- Может быть. Жизнь - самый великий из всех учителей, и она часто вносит серьезные поправки в наши убеждения... В Новопетровском укреплении при мне... и при моем участии... - Сераковский сжал голову руками, забили насмерть малоросса Охрименко. Но я надеюсь, что по крайней мере в Новопетровском такое больше не повторится. Перед моим отъездом батальонный командир клятвенно пообещал мне, что отныне, пока он командует батальоном, там не будет шпицрутенов. Значит, отныне в Новопетровском не будет казнен мучительной смертью ни один человек, и в том числе поляк.
Утром они распрощались. Одному надо было возвращаться в Оренбург, другому - идти в казарму.
Ротный писарь в Уральске был так же навеселе, как и ротный писарь в Новопетровске. Он записал точно те же сведения, задал точно те же вопросы, разница была лишь в номере батальона, в списки которого он внес рядового Сераковского.
"Боже мой, все начинается сначала", - с горечью подумал Зыгмунт, направляясь к начальству, чтобы доложить о своем прибытии.
Записка майора Михайлина сделала свое доброе дело, и батальонный командир Свиридов был довольно приветлив.
- Степан Иванович конфиденциально сообщает мне в письме, что занимается в своем батальоне вольнодумством - отменил телесные наказания... Правда ли это? - спросил Свиридов.
- Так точно, господин майор.
- Любопытно... Ну и что же, дисциплина, конечно, сразу упала...
- Наоборот, господин майор, поднялась.
- Вот как? Впрочем, Степан Иванович мне пишет и об этом... Но я, Сераковский, дорожу своим мундиром, в отличие от Михайлина.
...Зима наступила рано и заявила о себе сильными буранами, когда даже днем ничего нельзя увидеть в двух шагах. Пронзительно выл на разные голоса ветер, стучал в окна казармы колючий снег, и всю ночь мигала на сквозняке оплывшая свеча.
Начался одиннадцатый час ночи, когда распахнулась входная дверь и в казарму вошли, вернее, ввалились двое: военный и штатский. Штатский был высок, худ, оброс густой бородой. На нем были заметенное снегом пальто и меховая шапка, которую он с трудом снял; когда он отодрал закоченевшей рукой иней с бровей, все увидели, что человек этот еще совсем молод, но просто измучен дальней дорогой.
Вместе с ним вошел солдат, должно быть, из тех, кто сопровождал штатского в пути. Он поискал глазами икону и перекрестился.
- Добрались до тепла, слава те господи, - сказал солдат, потирая озябшие руки. - Намаялись мы с ним, не дай господь. Совсем ослабел человек.
Дневальный разбудил уже похрапывавшего фельдфебеля, и тот, недовольно протирая заспанные глаза, босиком и в шинели, накинутой прямо на исподнее, нехотя подошел к прибывшим, которые по-прежнему стояли у двери.
- Кто такие? - спросил фельдфебель, позевывая.
- Да вот новобранца доставил, - ответил солдат. - Из самого Санкт-Петербурга едут в казенных повозках.
- Осужденный? - Фельдфебель равнодушно посмотрел на человека в пальто.
- Да.
- Фамилия?
- Плещеев. Определен рядовым в Оренбургский отдельный корпус.
- Небось из дворян?
- Лишен всех прав состояния.
- В вашем полку прибыло, Сераковский, - насмешливо произнес фельдфебель, поглядывая на Зыгмунта.
- Может быть, "по высочайшему повелению"? - спросил Сераковский, направляясь к прибывшим.
- Вы угадали... - Плещеев грустно улыбнулся.
- В таком случае здравствуйте, коллега!.. Меня зовут Сигизмунд Игнатьевич.
- Алексей Николаевич.
- Нам бы щей похлебать горяченьких да чайком покрепче запить, сказал солдат, привезший Плещеева.
Сераковский засуетился.
- Сейчас что-нибудь придумаем... Братцы! - он обратился ко всем сразу. - У кого что есть, несите, накормим гостей.
- На кухню надо сбегать: может, что осталось.
Минут через пятнадцать Плещеев и солдат, назвавшийся Емельяновым, сидели на нарах Сераковского, возле натопленной печи, и с жадностью ели холодную баранину, запивая ее горячим чаем. На полотенце лежали кусочки сахару, горсточка изюма, ломтик сала - все это вынули из своих сундучков обитатели казармы. Многие легли спать, но несколько человек сидели и стояли рядом.
- А кем вы раньше были, Алексей Николаевич? - поинтересовался Сераковский. - Учились? Служили?
- Да как вам сказать, Сигизмунд Игнатьевич? Не то и не другое. Пописывал немного. В "Отечественных записках", в "Современнике".
- В таком случае я вас должен знать... конечно, заочно. - Сераковский задумался. - Плещеев... Плещеев? - Интонация из задумчивой стала вдруг вопросительной и радостной. - Помилуйте, так вы Плещеев? "Вперед! без страха и сомненья на подвиг доблестный, друзья! Зарю святого искупленья уж в небесах завидел я!"... Так это вы?
- Я... - Плещеев наклонил лохматую голову.
- Братцы! - Тон Сераковского стал торжественным. - Вы видите перед собой большого русского поэта, чудесного певца свободы, людского братства, любви, человека, талант которого от господа бога!
Пока Зыгмунт все это говорил, Плещеев протестующе махал руками.
- И за что же вас, Алексей Николаевич?
- За чтение запрещенного, распространяемого в списках письма Белинского к Гоголю.
- Ничего не знаю! Совсем ничего не знаю!.. Что за письмо, за чтение которого поэтов отдают в солдаты?
- Подвергают смерти через расстреляние, - мрачно поправил Плещеев.
- Опять загадка! - Сераковский нервно пожал плечами.
- Меня и еще двадцать моих товарищей... среди них, между прочим, был литератор Достоевский, может быть, слышали?..
- ..."Двойник"... "Бедные люди"...
- ...сперва приговорили к казни.
- Страсти-то какие, господи! - промолвил кто-то из солдат, крестясь.
- ...вывезли на плац, прочитали при барабанном бое приговор, всем надели смертные саваны, отдали команду "Заряжай!"... "На прицел!" Плещеев говорил отрывисто, с каждым словом повышая голос, но вдруг, словно обессилев, закончил едва слышно: - Но залпа не последовало. На плац прискакал флигель-адъютант с пакетом от государя... И вот я здесь.
Сераковский поежился, словно от холода.
- Когда это случилось?
- Двадцать второго декабря минувшего года, в восьмом часу утра.
- И вся ваша вина состояла в том, что вы читали вслух, друг другу письмо критика Белинского? Я так вас понял?
- Да, частное письмо, наполненное дерзкими выражениями против православной церкви и верховной власти, как сказано в приговоре.
- Прекратить болтовню! - Из глубины казармы послышался окрик фельдфебеля.
- Да, да, пора спать... Пока вас определят, могу поделиться ложем, Зыгмунт показал на свои нары.
- Весьма признателен.
То, что у Сераковского уже осталось позади - первые гнетущие впечатления, первый, пока непроизвольный внутренний протест против бессмысленности и бесчеловечности казарменного строя - муштры, мордобития, унижения, - Плещееву только предстояло испытать. Еще юношей его определили в школу гвардейских прапорщиков в Петербурге, но через полтора года он ее оставил - настолько сильно было у него отвращение к военным занятиям. С возрастом это отвращение отнюдь не уменьшилось, из стихийного оно стало сознательным. "Для чего все это мне, поэту, - шагистика, команды, ружейные приемы?" - спрашивал Плещеев сам себя.
- В жизни все пригодится, - сказал ему как-то Зыгмунт. - И продолжайте писать стихи. Ведь вам не запретили писать, как Шевченко?
- К счастью, нет. Но разве сейчас до поэзии? Меня не выпускают из казармы... Следят за каждым шагом, за каждым письмом. Вчера хотели посадить на гауптвахту только за то, что я позабыл застегнуть на мундире крючок.
- Крючок надо застегивать, Алексей Николаевич, так теплее. Сераковский улыбался одними глазами.
- Вы все шутите, Сигизмунд Игнатьевич! А я никак не могу понять, почему наш ротный командир беспрестанно твердит, что все мы мерзавцы, с которых надо драть шкуры, что в роте все сплошь негодяи... Но эти негодяи, если придется, без слова умрут за Россию... умеют сносить нужду без ропота, с веселым лицом...
- А может быть, Алексей Николаевич, это как раз и плохо, что без ропота? Может быть, лучше, чтоб роптали. Как-никак ропот - одна из форм протеста!
- Нет, нет, с меня хватит! Я больше не в силах ни протестовать, ни писать стихи!.. - Он помолчал. - Поневоле становишься мистиком, начинаешь верить во всякую чертовщину... Знаете, Сигизмунд Игнатьевич, перед объявлением смертного приговора, накануне конфирмации, в тюрьме мне привиделся сон - и довольно странный. Я видел каких-то людей с невероятно злыми, звероподобными лицами. Люди эти исподлобья смотрели на меня, долго о чем-то совещались и, быстрыми шагами подойдя ко мне, скрутили мне руки, нахлобучили мне мою шапку на глаза. Но, как водится в снах, я сквозь нахлобученную шапку видел все. Ясно видел, что меня подвели к крутому, совсем отвесному берегу реки и собирались столкнуть с обрыва. И тут вдруг раздался звон: где-то ударили в колокол. Толкавшие меня в водную бездну люди разбежались. Совсем как наяву я слышал топот их ног. Взмахнул рукой разорвал путы, связывавшие меня. А потом очутился в какой-то широкой безлюдной степи под раскаленным небом. И на мне была одежда странная какая-то, военная, и опирался я на ружье. И представьте себе, - Плещеев, посмотрел в глаза Сераковскому, - когда я подъезжал с конвоиром к Уральску и передо мной открылась степь, я тотчас узнал ее: так поразительно она была похожа на виденную мной во сне...
Они уже многое знали друг о друге, особенно после того, как Плещеев, возвращаясь вдвоем с Сераковским с церковной службы, прочел наизусть куски письма Белинского к Гоголю. "Самые живые, современные национальные вопросы в России теперь: уничтожение крепостного права, отменение телесного наказания. - Плещеев морщил лоб, вспоминая текст. - Это чувствует даже само правительство... что доказывается его робкими и бесплодными полумерами в пользу белых негров и комическим заменением однохвостного кнута трехвостною плетью".
- Как все верно! - воскликнул Сераковский. - И за это казнить! Ведь тут сама правда в каждом слове!
- А вы разве несете свой крест не за правду? Не за свою любовь к отчизне?.. Но вас, наверное, скоро простят, произведут в офицеры... Вы так все умеете делать - эти полуобороты, "На плечо!", "Пли!" А я пускаю пули настолько мимо мишени, что однажды едва не угодил в унтера.
- Боюсь, что из моих стараний ничего не выйдет. Увы, офицерский чин пока остается только мечтой.
- У вас, помнится, вы рассказывали, есть высокий покровитель... Плещеев презрительно скривил губы. - Сам Дубельт!
Сераковский замялся:
- Да, генерал обещал, что мое испытание продлится не более двух дет. Что каждый месяц он будет получать отзывы обо мне и если эти отзывы будут безукоризненными, попросит за меня государя.
- И вы поверили этой старой хитрой лисе?
- Я привык верить людям, - ответил Сераковский смущенно.
Разговор с Плещеевым заставил его снова взяться за перо, правда уже без тени надежды на ответ и последствия.
"Отец-Генерал! Выслушайте меня!.. Два года продолжается испытание; надеюсь, что отзывы обо мне безукоризненны. Дворянин, "определенный на правах по происхождению" - в два года офицером; к несчастию, герольдия до сих пор не решила моего дела, неизвестно когда и как решит, и я два года рядовым...
Нет! Я ни о чем вас не прошу, сделайте сами то, что считаете для меня лучшим..."
Почта в Уральск приходила исправно, хотя и не быстро - письма из Петербурга Сераковский получал на десятый день. Их везли на почтовых тройках - почти две тысячи триста верст.
Сейчас он переписывался с родными и друзьями, и, хотя всю корреспонденцию по-прежнему просматривала цензура, все равно из писем удавалось узнать многое, прочесть между строк.
В исчерченных, со множеством помарок письмах, которые писал Сераковский всегда по вечерам, а по утрам черкал или же переписывал заново, в этих письмах по-прежнему большое место занимали просьбы продвинуть в герольдии его дело о дворянстве. Никогда раньше в гимназии, в университете он не задумывался над тем - граф он или нет, голубая или обычная хлопская кровь течет в его жилах. Теперь эти вопросы приобретали первостепенное, жизненно важное значение: только дворянство давало ему свободу. Он перебирал в памяти своих петербургских друзей, на чью помощь мог бы рассчитывать, и всякий раз останавливался на Владимире Спасовиче, с которым в один год поступал в университет, а потом сдружился, сблизился. Осторожный Спасович хотя и посещал студенческий кружок, но стоял в нем как-то особняком и в вопросе польском не придерживался крайних суждений. Тут, должно быть, сказалось и происхождение Спасовича, отец которого был православным, и та наука - юриспруденция, которую выбрал юноша. Впрочем, юноша, уже, кажется, стал мужем. В прошлом году Спасович блестяще закончил курс и теперь, готовясь к защите магистерской диссертации, продолжал совершенствоваться в юридических науках, во всей казуистике законов Российской империи. Может быть, именно это и побудило Сераковского искать у него поддержки.
Сегодня он получил обнадеживающее письмо Спасовича и немедленно ответил ему:
"Благодарю тебя, дорогой, за старания о моих делах по узаконению; как только бумаги вернутся из Житомира, пишите ежедневно, как идет дело. Пишите ясно, чтобы не было места домыслам, ах, боже!"
Последнее время все чаще Сераковского посещали по ночам какие-то странные мысли, похожие на галлюцинации: он видел себя воскресшим из мертвых. Плоти не было, был один лишь могучий дух. Сераковский вскрикивал во сне, просыпался и потом долго и мучительно думал о том, что ему пригрезилось. С детства его приучили быть религиозным и слепо, без раздумий и сомнений, верить в бога. Но если раньше этот его бог находился где-то в недоступных человеческому пониманию небесах, а встреча с ним откладывалась на загробный период, то сейчас Зыгмунт чуть не каждую ночь видел этот загробный мир во сне, и все настоятельнее, все чаще приходили на ум рассуждения "о высшей мере", о бессмертии души, которая лишь меняет оболочку, переходя от одного человека к другому.
- Жизнь на земле - это только первый день жизни! Жизнь не имеет ни начала, ни конца... Вы верите в бессмертие, Алексей Николаевич?
- Нет, не верю. - Плещеев грустно и чуть снисходительно посмотрел на Сераковского. - И вообще, вы устали, Сигизмунд Игнатьевич... Впрочем, я тоже устал, боже мой, как я устал от всего этого!
- Да, да, вы правы. Мы устали от всего - от жизни, от неизвестности, которая нас ожидает... Я сейчас нахожу утешение в чтении. Только что закончил Тацита. В подлиннике, к сожалению, не достал, только французский перевод... Сколь яркими красками рисует он историю... Целая галерея мудрецов, которые, однако, были слишком пассивны. Он в восторге от героизма людей, подобных Тразею...
- А вы? В этом вопросе вместе с Тацитом или против него?
- Без самоотвержения, без костров и пыток не может быть свободы. То, что вы стояли на эшафоте, приблизило день освобождения России!
- Что вы, что вы! Мой вклад в борьбу ничтожен и совершенно незаметен...
- Его заметят потомки. И оценят... - Сераковский задумался. - Я вам завидую, вы уже совершили подвиг! К тому же вы написали стихи, которые знает и пенит вся свободомыслящая Россия. А что сделал я?
- У вас еще все впереди, Сигизмунд Игнатьевич.
Сераковский вздохнул.
- Где уж там впереди? - сказал он. - Чтобы совершить что-нибудь великое, нужен простор, а я заперт в казарме.
- Я слышал от писаря, что о вас кто-то хлопочет. Эта мерзкая рожа спьяну сболтнула, что в корпусе недавно получено письмо из Петербурга, касающееся вас.
- Чего же вы раньше мне не сказали! Может быть, герольдия уже решила мое дело?
- От души желаю вам этого!
- Или, наконец, ответил Дубельт?
- Так вы ему в самом деле писали? Я бы не стал на вашем месте унижаться.
Сераковский вспыхнул:
- В моих письмах не было ни грана унижения, Алексей Николаевич! А только просьба быть справедливым, сдержать им же данное слово.
- Не сердитесь, Сигизмунд Игнатьевич, я не хотел вас обидеть. А что касается слова господина Дубельта, то, поверьте мне, оно не многого стоит.
Утро двадцать пятого сентября выдалось дождливое, прохладное, вязкая глина размокла и налипала огромными комьями на сапоги, которые от этого делались особенно тяжелыми и неуклюжими. Сераковский ничего не замечал, он бежал через двор казармы в батальонную канцелярию, окрыленный надеждой. В кармане при каждом шаге булькала в бутылке водка, которую Сераковский нес писарю, чтобы тот скорее, без задержки отдал "важное предписание из Оренбурга", как передал через подвернувшегося солдата писарь.
Писарь покосился на оттопыренный карман Сераковского и достал из окованного железом ящика пакет со сломанными уже печатями, а из него твердый глянцевый лист, исписанный до середины каллиграфическим канцелярским почерком.
- Вот, извольте расписаться, что читали, и прошу готовиться к отъезду в Оренбург, - сказал писарь, приняв от Сераковского бутылку. - Может быть, желаете опохмелиться? Угощаю!
- Спасибо, не пью! - Он с жадностью набросился на бумагу.
Генерал Обручев предписывал майору Свиридову направить рядового Сераковского в Оренбург для сдачи экзамена на унтера. Зыгмунт облегченно вздохнул. "Конечно, это не офицерский чин, не признание дворянства, не отставка, но все же..."
- Алексей Николаевич, поздравьте: меня переводят в Оренбург. Сераковский встретил Плещеева по дороге из канцелярии.
- Ну вот вы постепенно выходите на простор, которого так желали. От души поздравляю! - Голос Плещеева звучал грустно. - Мне будет очень скучно без вас.
- Мне тоже, Алексей Николаевич... Впрочем, я надеюсь, что и вас долго не задержат в Уральске.
Сборы были короткими. Писарь выписал прогонные деньги на проезд по почтовой дороге до Оренбурга - по две с половиной копейки за версту и лошадь.
Сераковский простился с Плещеевым, с опостылевшей казармой, с успевшим изрядно надоесть Уральском. Дорога ожидала его трудная, не переставая моросил нудный слепой дождь, и кони едва тащились, несмотря на понукание ямщика.
Сераковский ехал без конвоира. На дорогах земли Уральского казачьего войска действовала "вольная почта", содержавшаяся на прогонные, а не на казенные деньги, ямщики были людьми свободными, небедными и дорожили своей должностью, которая давала право на земельный надел да еще освобождала от всех податей. Работы же на тракте было не так уж много - казаки обычно передвигались на своих конях, проезжающих по казенной надобности можно было сосчитать по пальцам, и часто на перегонах Сераковский оставался один в тряской почтовой карете.
На половине пути лежал заштатный Илецкий городок. Обочина дороги к нему была вся вытоптана скотом, который недавно гнали на ярмарку казахи.
Бревенчатый дом почтовой станции стоял на окраине, особняком. Подъезжая, ямщик затрубил в рожок, навстречу вышел смотритель, чтобы встретить прибывших и записать их в шнуровую книгу. Обычно одновременно с ним выходил и сменный ямщик с лошадьми в хомутах, но сейчас полагалась остановка на час для обеда, и карету встречал только один станционный смотритель.
Во дворе пахло лошадиным потом, навозом, а в сенях - кислыми наваристыми щами из кухни. И Сераковский, изрядно проголодавшись в дороге, не без удовольствия втянул носом этот запах.
За длинным столом, покрытым скатертью, сидело двое - унтер-офицер и солдат, больше в комнате никого не было. Они закусывали и о чем-то разговаривали между собой.
Сераковский козырнул.
- Не помешаю ли вашей беседе, господа? - спросил он.
- Да что вы! Всегда рады свежему человеку, - ответил солдат дружелюбно. Был он уже немолод, высокий выпуклый лоб переходил в лысину, глаза из-под густых бровей смотрели устало, а опущенные книзу усы придавали лицу мягкое доброе выражение.
Полная женщина-казачка, должно быть, жена или родственница смотрителя, принесла и поставила перед Сераковским миску со щами, кувшин квасу и тарелку с ломтями ситного только что из печи хлеба.
- Кушайте, барин, - сказала она певуче.
Сераковский принялся за еду.
- Куда изволите путь держать? - спросил у него солдат тихим, глуховатым голосом.
- В Оренбург... А вы?
Солдат вздохнул:
- Из Оренбурга... Сначала в Уральск, а оттуда на самый край земли - в Новопетровское укрепление... Може, чулы?
- В Новопетровском я служил больше года.
- Вот оно как? - удивился солдат. - У меня там был друг, правда мы не виделись с ним никогда в жизни, но у нас есть общие друзья - ссыльные поляки... Сейчас он тянет солдатскую лямку в Уральске.
Теперь пришла пора удивиться Сераковскому. Смутная догадка мелькнула у него в голове.
- Друг, которого вы знаете по рассказам, кто же он?
- Едва ли вам что-либо скажет его имя, но мне оно дорого, и я назову его, чтобы и вы вместе со мной полюбили этого человека. Его зовут Сераковский...
- Боже милый! Но ведь Сераковский - это я!
- Вы? - Солдат поднялся из-за стола и вытер усы. Лицо его осветила радостная улыбка.
- Тогда вы должны догадаться, что за казак перед вами, - продолжал он уже с некоторым задором.
- Догадываюсь... - ответил Сераковский. Он тоже встал и сделал шаг к солдату. - Я вижу перед собой, простите, я имею честь видеть перед собой Тараса Григорьевича Шевченко! Я не ошибся?
- Правильно, все правильно! - Шевченко порывисто подошел к Зыгмунту и крепко обнял его. - Вот где нам довелось свидеться.
- Мне о вас столько рассказывали и писали! - сказал Сераковский.
- И мне о вас...
- И еще я знал вас по вашим замечательным вольнолюбивым стихам, которые довелось читать в списках в Петербурге.
- За что вам низкий поклон и великое спасибо.
Унтер-офицер, сидевший рядом, с явным любопытством следил за разговором. Он знал, что везет политического преступника, осужденного самим царем, вольнодумца и стихотворца, как говорили, сочинившего на государя пасквиль, но что стихи Шевченко "замечательные" и "вольнолюбивые" - это было для него неожиданностью.
- За что же вы в Новопетровское? - спросил Сераковский.
- Нарушил высочайшую волю - не писать и не рисовать. Рисовал и писал открыто, так сказать, с дозволения начальства, самого генерал-губернатора. Ну, а какая-то тварюга донесла в Петербург. Обыск... тюрьма, - Шевченко устало махнул рукой. - А ну его к бису, тяжко рассказывать.
- Но стихи-то после обыска уцелели?
- Я их заранее припрятал. - Шевченко похлопал себя ладонью по высокому лбу. - Вот сюда.
- Надежное место... Прочтите что-нибудь, Тарас Григорьевич... Или это неудобно? - Зыгмунт скосил глаза в сторону унтер-офицера.
- Нет, ничего, Петр Иванович хлопец покладистый, мы с ним подружились. От самого Орска вместе едем. - Шевченко задумался. - Что вам почитать, мий любый друже? Мабуть, ось це?..
Ще як були ми козаками,
А унiї не чуть було,
Отам-то весело жилось!
Братались з вольними ляхами,
Пишались вольними стенами,
В садах кохалися, нвiли,
Неначе лiлiї, дiвчата.
Пишалася синами мати,
Синами вольними... Росли,
Росли сини i веселили
Старiї скорбнiї лiта...
Аж поки iменем Христа
Прийшли ксьондзи i запалили
Наш тихий рай. I розлили
Широко море сльоз i кровi,
А сирот iменем Христовим
Замордували, розп'яли...
Сераковский слушал, низко наклонив голову. Шевченко начал спокойно, но последние строчки произнес громко и гневно. Тихо скрипнула дверь, это хозяйка внесла самовар, поставила его на стол, но сама не ушла, а стала, прислонясь к стене.
Отак-то, ляше, друже-брате!
Неситiї ксьондзи, магнати
Нас порiзнили, розвели,
А ми б i досi так жили.
Подай же руку козаковi
I серпе чистее подай!
I знову iменем Христовим
Возобновим наш тихий рай.
Сераковский долго не мог сказать ни слова. Стихи Шевченко его поразили - и не столько своей напевностью, мастерством исполнения, а именно мыслью, которая была созвучна его мысли, Зыгмунта Сераковского! Последнее время он все чаще задумывался над трагической судьбой Польши и ее былыми кровопролитными войнами с Запорожской Сечью, войнами, которые в детстве и юности казались справедливыми и окутанными романтикой подвига. Но теперь, вдали от родины, они виделись ему иначе, так, как видел их Шевченко. Может быть, кто-либо из его польского студенческого кружка назвал бы эти мысли крамольными и недостойными поляка, может быть. Но сейчас, когда в одной с ним роте, на одной с ним каторге были и поляк, и украинец, и русский, когда в строю он чувствовал плечо то одного, то другого, то третьего, разве мог он думать, как прежде?!
- Надеюсь, я не оскорбил этим стихом ваши патриотические чувства? спросил Шевченко, глядя в глаза Зыгмунту.
- Что вы... Я согласен с вами, я совершенно согласен с вами!
- Рад, вдвойне рад - за себя и за вас... Вот помню, с милого детства помню я кобзаря... Сидит он слепой с хлопчиком зрячим под тыном в тенечку и поет думу, как бились с ляхом казаки. Хорошо поет, а слушать больно. Зачем бились? И скажешь сам себе: слава богу, что то печальное время миновало, слава богу, что живут в мире одной матери дети - славяне... А кобзарь поет, поет. Ну что же, пускай поет, подумаешь ты. Надо, чтобы сыны и внуки знали, что заблуждались их отцы, пускай братаются снова со своими былыми ворогами.
Несколько раз станционный смотритель порывался сказать, что лошади поданы, однако не решался, видя, как хорошо разговаривают между собой два солдата. Наконец он не выдержал и вошел в комнату.
- Все Давно готово, господа, - сказал он. - И на Уральск, и на Оренбург.
- Уже? - печально воскликнул Сераковский. - В Уральске, между прочим, Плещеев.
- Страдалец... - Шевченко вздохнул. - Очень хочу повидать его.
- В Уральске, Тарас Григорьевич, денек, а то и два пробудем, впервые за все это время подал голос унтер-офицер. - Повидаете своего соизгнанника. И что у вас у всех за притяжение такое друг к дружке? И в глаза не видели и знать не знаете, а тянет вас как магнитом. Позавидуешь, ей-богу!
- Настоящих друзей, Петр Иванович, в беде находишь чаще, чем в радости и веселий.
- Все сроки нарушены, господа хорошие... Прошу! - напомнил смотритель.
Шевченко и Сераковский обнялись.
- Доведется ли свидеться? - спросил Шевченко.
- Доведется, Тарас Григорьевич! В Оренбурге, а то и в самой столице! И скоро!
Шевченко грустно улыбнулся.
К Оренбургу Сераковский подъезжал уж под вечер, на пятые сутки пути. В нескольких верстах от города надо было переправляться на пароме через вздувшуюся от дождей речку, но паром стоял на той, противоположной стороне, и унылый возница, придержав усталых лошадей, не торопился продолжал с равнодушным видом сидеть на облучке. Сераковский, напротив, нервничал, ему не хотелось задерживаться так близко от цели - уже видны были колокольни Оренбурга.
- Эй, там, на берегу! - крикнул он паромщику.
Тем временем подъехал еще один экипаж - почтовая таратайка, запряженная парой кляч, - и из него вышел зябко кутающийся в намокшую шинель маленького роста худенький старичок-офицер, которому Сераковский, не глядя, отдал честь.
Паромщик наконец подал признаки жизни и даже отчалил, как вдруг с той стороны дороги, к берегу, гремя колокольчиками и бубенцами, подлетела тройка лихих коней, запряженных в нарядный экипаж. Из него выскочил молодцеватый человек в штатском, в дворянской, с красным околышем фуражке и стал громко, размахивая руками, требовать паром к себе. Растерявшийся паромщик смотрел то на один берег, то на другой, пока не увидел, как офицер в шинели вяло махнул рукой в сторону штатского, мол, ладно, подавайте сначала ему.
Когда паром наконец причалил, старичок-офицер вынул табакерку, со смаком нюхнул два раза и подошел к нетерпеливому ездоку.
- Позвольте вас спросить, - поинтересовался он, - приподнимая фуражку, - кого я имею честь видеть перед собой?
- Я коллежский регистратор Рязанов, - ответил тот и смерил покровительственным взглядом неказистую фигуру офицера. - А вы?
- Гм... Я командир Отдельного оренбургского корпуса генерал-лейтенант Обручев.
Рязанов опешил.
- Простите великодушно, ваше высокопревосходительство, - пробормотал он, заикаясь. - Не признал...
- Ишь ты, чинов нахватался и воображает! - продолжал Обручев, не повышая голоса. - Попрошу совершить обратный вояж в сторону Оренбурга. На гауптвахту, милейший, на гауптвахту!
"Так вот почему мне показался знакомым этот человек", - сказал сам себе Сераковский, с интересом наблюдая сцену.
- А вы, ежели не ошибаюсь, Сераковский? - неожиданно спросил Обручев, останавливаясь возле Зыгмунта.
- Так точно, ваше высокопревосходительство! У вас отличная память.
- Пока не имею причин жаловаться, - буркнул Обручев. - Коль я уже вас встретил, то приглашаю сразу же зайти ко мне в штаб.
Съехав с парома, все три экипажа держались вместе. Первым уехала почтовая таратайка с генерал-губернатором, уткнувшимся носом в воротник шинели, за ней - карета Сераковского, и последней уже не летела, а плелась сдерживаемая кучером тройка, которая везла на гауптвахту незадачливого коллежского регистратора.
В штабе Обручев не заставил себя ждать, а немедля пригласил Сераковского в кабинет, уже памятный Зыгмунту и не вызвавший в нем особо приятных воспоминании.
- Я хочу в виде исключения, - Обручев подчеркнул это своим резким скрипучим голосом, - познакомить вас с документами, полученными мною из Третьего отделения. Насколько мне стало известно, вы писали Леонтию Васильевичу и просили его определить вас на Кавказ или же дать возможность держать экзамен на ученую степень в Казанский университет. Его сиятельство граф Орлов по просьбе Леонтия Васильевича направил мне отношение... Обручев подошел к шкафу, достал какую-то бумагу и поднес ее к близоруким глазам, - в котором, пересказав все ваши просьбы, поставил передо мной вопрос - что я могу сделать в вашу пользу? Я ответил его сиятельству, что Сигизмунд Сераковский... - Обручев достал еще одну бумагу, - "ведет себя в поведении и на службе отлично хорошо и что в уважение к этому можно предоставить ему право держать в Казанский университет с переводом из настоящего места службы в Казанский внутренний гарнизонный батальон..." Как видите, Сераковский, я хотел сделать для вас доброе дело.
- Благодарю вас, ваше высокопревосходительство, - пробормотал Сераковский, уже догадываясь, что ничего хорошего из "доброго дела" не получилось.
- Но есть люди, - продолжал Обручев, - которые стоят выше меня, гораздо выше! Граф Орлов недавно уведомил... Впрочем, вы можете познакомиться с этой бумагой сами.
- "Находя невозможным ходатайствовать о дозволении Сераковскому держать в университет экзамен на ученую степень, - прочел Зыгмунт, - и полагая, что он должен продолжать военную службу, в которую он определен по воле государя императора до удостоения его производства в офицерский чин, я до того времени ничего не могу сделать в пользу Сераковского".
- Вот и все, что я имел вам сообщить, - сказал Обручев, принимая от Сераковского бумагу. - А засим честь имею кланяться. Отправляйтесь в роту и доложите майору о своем прибытии... Да, и скажите ему, что я вам определил три дня отпуска.
Сераковского несколько обескуражил этот прием, такой непохожий на первый, когда Обручев направил Зыгмунта в самый глухой и дальний угол своих владений. А теперь? Может быть, начальника края привел в хорошее настроение случай на пароме?
Глава пятая
Стоял отличный майский вечер, и была суббота, когда можно отпроситься у ротного командира и покинуть казарму на две ночи и целый воскресный день. С некоторых пор это Сераковскому удавалось, он вообще чувствовал себя гораздо свободнее, чем прежде, особенно после того, как генерал Обручев мимоходом заметил ротному командиру, что Сераковский отдан в войско как юнкер, а не как рядовой, на правах по происхождению. И хотя эти права все еще не были подтверждены, относились к Сераковскому в роте не так, как к обычному рядовому.
Дорога была знакома, вот блеснул сталью Урал, уже вошедший в берега после весеннего разлива, еще один поворот направо, и можно заходить почти в любой дом - в каждом живут поляки.
Сегодня Сераковский шел в "поместье Венгжиновского", которое по привычке продолжал так называть, хотя пан Аркадий уже переехал в Одессу, но дом свой пока не продал, оставил землячеству; здесь останавливались прибывавшие в Оренбург гости, здесь же и встречались по субботам. Сераковский спешил как раз на такую встречу, весело насвистывая что-то: опаздывать он не мог, так как сам, по своему почину ввел эти субботние встречи.
В доме жила худенькая старушка-полька, которая топила зимой печи и убирала в комнатах. Звали ее пани Тереза.
Окна были открыты настежь, и в помещении стоял сладковатый запах сирени, наполнявшей палисадник, и чебреца; пучок этой сухой травки пани Тереза засунула за образ Остробрамской богоматери, перед которым горела толстая свеча. Слева от иконы висел большой портрет Тадеуша Костюшко в генеральской форме и с американским орденом Цинцинната, полученным за участие в войне североамериканских колоний за независимость. Посреди комнаты стоял длинный стол, и на нем несколько больших глиняных кружек по числу ожидаемых гостей.
- Что-то панство запаздывает, - сказала пани Тереза, перетирая полотенцем кружки.
- Многие из них подневольные люди.
- Да, да, я понимаю... - Она вздохнула.
Явились почти все сразу. Это была примерно та же компания, которая собралась в доме Венгжиновского в первый день приезда Зыгмунта в Оренбург. Пришел, попыхивая сигарой, бородатый Федор Матвеевич Лазаревский. Быстрым, торопливым шагом поднялся на крылечко ксендз Михал Зеленко, молодцеватой походкой вошел Карл Иванович Герн в ладно пригнанной форме штабс-капитана. Едва протиснулся в дверь сильно располневший за два года провизор Цейзик и со словами "Неужели я опоздал?" стал целовать руки пани Терезе. Затем на пороге показались еще трое, все в солдатских мундирах, - Бронислав Залеский со своим неизменным другом Людвиком Турно и Ян Станевич, прибывший в Оренбург менее года назад.
- Добрый вечер, господа! Здравствуйте, пани Тереза! - раздались приветственные возгласы.
Станевич сердечно пожал всем руки, глядя каждому в глаза и улыбаясь от того, что снова видит друзей. Был он молод, светел лицом, приветлив и, как все, носил короткие, аккуратно подстриженные усики. В Оренбург его перевели из Дворянского полка - за вольнодумство - и зачислили во второй линейный батальон, где "примерным поведением и усердием" он должен был заслужить офицерский чин, однако же не прежде 1855 года.
Каждый из пришедших что-либо прихватил с собой, и не только продукты, которые тут же уносила на кухню пани Тереза, но и нечто другое, например новую книгу, или письмо "оттуда", с родины, привезенное с оказией, а значит, минуя цензуру, или свежую газету, которую удалось выпросить у писаря на вечер.
- Господа, имею новость номер один, - нетерпеливо произнес ксендз Зеленко.
- А именно, пан Михал? - спросил Сераковский.
- Генералу Обручеву дают отставку. Его дни в Оренбурге сочтены. Но пока... пока это большой секрет, господа!
- Интересно, откуда святой отец узнает политические новости раньше всех? - поинтересовался Герн. - Можно подумать, что он работает в Генеральном штабе или в Сенате.
- Ничего... - Зеленко скромно потупил глаза. - Иногда и простой капеллан корпуса может узнать кое-что интересное раньше работника Генерального штаба.
- Коли так, то кто же, по-вашему, намечается вместо Обручева?
- Опять же по секрету, господа... Генерал Перовский.
Герн рассмеялся.
- Самое забавное, - сказал он, - что пан Михал сообщил нам сущую правду. Есть достоверные сведения: Обручева сменяет Василий Алексеевич Перовский.
- Перовский - это хорошо или плохо? - спросил Сераковский.
- Судя по рассказам знавших его людей, крут до жестокости, однако ж справедлив и прям.
- Жили при одном губернаторе, поживем при другом, - меланхолически заметил Станевич. - Не в этом дело.
- А в чем же?
- В том, что Бронислав получил письмо от Эдварда... Бронислав, покажи, пожалуйста, конверт.
- Из Вильно?
- Увы, из Петрозаводска, - ответил Залеский, вынимая письмо из кармана. - Из Петрозаводска, куда его выслали под надзор. Оказывается, он имел неосторожность издать в Вильно одно свое сочинение - "Иордан", в котором была обнаружена "неблагонадежность" автора - поэта Антония Совы. После чего последовало "высочайшее повеление".
- Боже мой! Как раз эту книгу у меня отобрали при обыске на границе, - воскликнул Сераковский.
- Между прочим, Эдвард пишет, что хотел бы поменять место ссылки на Оренбург и уже подал прошение на имя министра иностранных дел.
- Прекрасно! Нам как раз не хватает хорошего поэта, - сказал Зыгмунт. - Шевченко угнали на край земли...
- И еще не хватает молока, - добавил провизор, глядя на пустые кружки.
- Да, мы, кажется, заговорились. - Сераковский встал. - Пани Тереза, у вас готово?
- Готово, готово, - послышалось из кухни, а вскоре появилась сама старушка с подносом, на котором стоял запотевший, холодный, только что вынесенный из ледника кувшин топленого молока и лежали закуски - те, что принесли сами гости.
- Великомолочный пир начинается, - сказал ксендз Зеленко, привычно и рассеянно крестя стол. - Можно приступать, господа!
- Лично я выпил бы чего-нибудь покрепче, - пробасил Лазаревский. - Но уж так и быть...
Сераковский не поленился, встал и каждому наполнил кружку до краев.
- Между прочим, друзья, - сказал он, - Адам Мицкевич, когда учился в Виленском университете, устраивал со своими друзьями-филоматами точно такие же молочные попойки. Мы просто следуем примеру великого поэта.
- Ну-с, и за что мы выпьем?
- За Польшу! - раздалось сразу несколько голосов.
- Что касается меня, то я, пожалуй, подниму чарку за Украину, предложил Лазаревский.
- Тогда позвольте мне провозгласить тост за Литву, где я родился и вырос, - сказал Станевич.
- Как вижу, мнения разошлись, но есть нечто общее, что может объединить эти мнения и за что мы все можем выпить. - Сераковский нарочно помедлил. - За Россию, друзья!
Несколько пар глаз недоуменно смотрели на Зыгмунта.
- За в о л ь н у ю Россию в братском союзе с в о л ь н о й Польшей, - продолжал Сераковский, каждый раз подчеркивая голосом слово "вольный". - За страну, которая, если у нее будут не такие правители, как сейчас, сможет объединить в братском союзе все земли, названные нами.
- Надо бы закрыть окна, - посоветовал Цейзик.
- Пани Тереза, закройте, пожалуйста, окна!
- Однако наш Зыгмунт несколько изменил свои взгляды за последние два года!
- Да, изменил, пан Михал! И это произошло после сорок восьмого года. Изменились, и основательно, многие мои понятия о многих вещах. Могу признаться, что в университете я был против отношений с нашими восточными братьями, теперь я считаю, я убежден, что нам надо соединиться с ними. В этом, только в этом я вижу сейчас спасенье Польши...
- Согласен! - сказал Герн.
- Что ж, может быть, ты и прав, - промолвил Станевич, подумав.
Остальные молчали.
Слухи о скорой смене власти в губернии и округе подтвердились. Генерал-от-кавалерии Василий Алексеевич Перовский прибыл в Оренбург 29 мая 1851 года.
В Оренбурге к встрече нового генерал-губернатора готовились загодя, однако точной даты приезда не знали, и потому все официальные лица были начеку, нервничали, особенно корпусное начальство и гражданский губернатор Ханыков, уже два года занимавший эту должность. Предполагалось, что Перовского встретят звоном колоколов и медным громом военного оркестра.
В томительном ожидании никто не заметил, как на взмыленном коне через Сакмарские ворота проскакал всадник в запыленном казачьем мундире и, не разбирая дороги, помчался прямо к дому генерал-губернатора. Лишь минут через десять показался изрядно отставший казак-вестовой. Его подопечный к тому времени уже сидел в кресле, которое уступил ему генерал Обручев. Чтобы сдать дела, потребовалось не больше часа, и в тот же день Перовский вступил в должность оренбургского и одновременно самарского генерал-губернатора и командира Отдельного оренбургского корпуса.
Город был хорошо знаком Перовскому, который с 1833 по 1848 год уже управлял краем и сложил с себя эту обязанность не по своей воле, а после неудачного Хивинского похода.
Побочный сын графа Алексея Разумовского, он получил блестящее образование и в восемнадцать лет принял боевое крещение в Бородинском бою. Во время отступления французов из Москвы попал в плен, прошел пешком при обозе маршала Даву до Орлеана и был освобожден русскими войсками, вступившими во Францию. Затем участвовал в русско-турецкой войне, был ранен под Варной, после чего произведен в генерал-майоры и назначен оренбургским генерал-губернатором. Здесь он прежде всего взялся за укрепление пограничной полосы от набегов кочевников. На карте России появились новые военные укрепления на Каспийском побережье.
Перовский слыл человеком грубым, своевольным, не позволял подчиненным иметь свое суждение, однако вне службы часто обходился с ними дружелюбно, не кичась занимаемым высоким положением.
Перовский был к тому же честолюбив, и внезапное, как снег на голову, появление его в Оренбурге вовсе не означало, что вступление в должность так и останется неотмеченным. Новому генерал-губернатору хотелось показать себя эффектно. Для этого можно было объявить городской бал или устроить официальный прием, но он предпочел военный парад и назначил его на середину июня.
Бремени для подготовки оставалось очень мало, и в ротах началась суматоха, столь знакомая Сераковскому еще по Новопетровскому укреплению.
Ротный командир иногда использовал Зыгмунта как вестового, в обязанности которого входило срочно доставить пакеты в штаб округа или в другой батальон. Так было и сегодня. Но ехать пришлось в дом генерал-губернатора, стоявший на берегу Урала, - большое здание с крытой вышкой. В хорошую погоду Перовский часто поднимался туда с подзорной трубой и в одиночестве предавался удовольствию - глядел, как меркли закатные краски в бескрайной степи.
Сераковский на полном скаку осадил коня перед подъездом, спросил дежурившего у входа солдата, есть ли адъютант, и услышав в ответ, что "они уехали", отдал пакет часовому.
Из дому тем временем вышли несколько офицеров, и Зыгмунт легко и изящно, как это умеют делать поляки, отдал честь. Он уже собрался вскочить на коня, когда один из офицеров, только что распрощавшийся со своими товарищами, в накинутом на плечи белом ментике на случай собиравшейся грозы, обратился к Сераковскому:
- Вы неплохо ездите!
Зыгмунт молча наклонил голову.
- У кого служите?
Сераковский ответил.
- Куда же он запропастился, черт побери! - продолжал офицер явно недовольным тоном. - Придется наказать!
- Разрешите быть свободным? - спросил Сераковский.
- Нет... Вы будете сопровождать меня вместо моего вестового... Вот негодяй!
- Разрешите доложить: мне надо возвращаться в казарму.
- Ничего... - Офицер продолжал смотреть вдаль, откуда должен был появиться вестовой. - Доложите своему командиру, что вас задержал Перовский.
- Слушаюсь, ваше высокопревосходительство!
Все еще стоя смирно, Зыгмунт незаметно рассматривал Перовского. Перед ним был дородный надменный красавец с надушенными "кавалерийскими" усами, закрученные кончики которых нервно подергивались, с выбритым до синевы породистым подбородком, каштановыми вьющимися волосами, непокорно выбивавшимися из-под форменной казачьей фуражки, прямым крупным носом и большими острыми глазами из тех, по которым можно безошибочно судить о настроении человека.
В тот момент глаза Перовского смотрели зло, в них были нетерпение и гнев, который он должен был сорвать на ком-то, и Зыгмунту показалось, что, промолви он сейчас хоть слово, плетка генерал-губернатора обрушится на него. Но Сераковский молчал, а Перовский ударил плеткой по сапогу, чтобы привлечь внимание часового.
- Коня!
Сераковский заметил на указательном пальце генерала длинный серебряный наперсток. Позднее он узнал, что Перовский носил его с тех пор, как в Бородинском сражении лишился кончика пальца.
- Придется высечь, - задумчиво, обращаясь к самому себе, сказал командир корпуса. Он легко, будто ничего не весил, почти не касаясь стремени, бросил в седло свое стройное тело, тут же дал шпоры и, не оборачиваясь, ничего не сказав Зыгмунту, поскакал в степь.
Сераковский последовал за ним, не зная, как себя вести - то ли попытаться догнать Перовского, что было делом довольно трудным, то ли держаться на определенной дистанции. Последнее показалось ему безопаснее и вернее.
В воздухе было душно, на юге клубились и росли черные, отороченные ослепительно белыми шнурами облака, уже неторопливо погрохатывал где-то гром. Но солнце еще светило, встречный ветер, усиленный скачкой, со свистом бил в разгоряченное лицо, и Сераковскому было хорошо, свободно в стремительном движении, без дороги по звонкой, уже истосковавшейся по дождю степи.
Лишь через полчаса Перовский впервые оглянулся и, увидев, что Сераковский скачет за ним, пустил своего коня еще быстрее, но ненадолго и лишь для того, чтобы проверить - не отстанет ли от него новый вестовой. Сераковский сохранил дистанцию, и тогда Перовский придержал коня, переводя его на переступ, а вскоре поехал шагом. Сераковский проделал то же самое, ни разу не приблизившись к командиру корпуса, и это понравилось Перовскому.
Назад возвращались уже при первых звездах. Гроза только попугала, вместо долгожданного дождя на землю упало несколько крупных теплых капель, а гром затих вдалеке.
У дома генерал-губернатора Перовский замешкался, и в это время к нему подъехал Зыгмунт.
- Могу еще раз повторить, что вы изрядно ездите, - сказал командир корпуса, передавая коня подбежавшему солдату.
- Польщен мнением такого отличного кавалериста, как ваше высокопревосходительство.
- Ваша фамилия.
- Сераковский.
- Из конфирмованных поляков?
- Так точно!
- Мне о вас говорили.
И, козырнув на прощание, Перовский вошел в дверь, которую распахнул перед ним солдат.
Во дворе генерал-губернатора еще стояла предутренняя сонная тишина, а расквартированные в Оренбурге войска корпуса, почти не спавшие и возбужденные предстоящим делом, строились для парада. Командовать парадом Перовский приказал наказному атаману Оренбургского войска Падурову, который сегодня тоже почти не спал, обеспокоенный тем, как бы не ударить в грязь лицом перед грозным Перовским.
В течение последней недели в Оренбурге гремели медью военные оркестры - это отрабатывали прохождение пехотные части. Печатали шаг юные воспитанники кадетского корпуса. Раздавались сигналы трубачей, игравших тот или иной аллюр, после чего конница срывалась с места и неслась намеченным маршрутом мимо воображаемого Перовского, принимающего парад. Выкрикиваемые приветствия сливались в громкий нечленораздельный гул.
Но все это уже осталось позади, и сегодня, в день парада, атамана Падурова больше беспокоила страшная жара, которая стояла последние дни и, судя по всему, не намеревалась спадать и сегодня. За своих казаков и за привыкших к жаре башкир Падуров не боялся, опасения внушала пехота, этот беспримерный сброд людей со всех концов России. Готовясь к параду и поневоле знакомясь с пехотой, он поразился ее "разномастности". Наряду с былинными богатырями в ней встречались такие заморыши, которых, будь на то его, Падурова, воля, он и близко не подпустил бы к строю.
В шесть утра еще было свежо, но уже чувствовалось приближение жары. Солдаты в парадной форме, начищенные и нафабренные, молча шли через весь город к месту сбора, поднимая тяжелую пыль, которая тянулась за ними серым шлейфом. Несколько обозных солдат поливали плац водой из бочек, но вода тут же высыхала. До начала парада оставалось около четырех часов, и все это время солдаты должны были простоять под палящими лучами солнца. Правда, пехотинцы составили ружья в козлы, кавалеристы спешились, но все равно ожидание казалось мучительным. Части вывели в полном составе, то есть и с нестроевыми ротами, полки пришли со своими музыкантами, барабанщиками и горнистами, плац был заполнен.
Парад начался с ударом слышного на весь Оренбург колокола военной церкви. В строю Сераковский видел перед собой только потные, напряженные спины солдат, но по установившейся вдруг мертвой тишине понял, что на плацу показался Перовский. Он выехал на прекрасном гнедом скакуне, раздувавшем от нетерпения ноздри, храпевшем и игравшем под знатным наездником, который небрежно показывал свое превосходство над ним. Перовский был весьма эффектен в мундире атамана казачьих войск с генерал-адъютантскими вензелями и аксельбантами, в высоком мерлушчатом кивере с длинным султаном и этишкетами при многочисленных звездах и орденах, русских и иностранных, и с множеством разных медалей, одной из которых - за войну 1812 года - он гордился больше всего.
Где-то вдалеке раздалась приглушенная расстоянием и людской массой команда генерал-майора Падурова:
- Смирно, жалонеры и унтер-офицеры, на свои места!
- ...на свои места!.. на свои места! - подобно эху прокатились те же слова команды, повторенные по всем линиям войск.
- Батальоны на плечо!
- Шашки вон!.. Господа офицеры и фейерверкеры, шашки вон!
Сераковский стоял чуть в стороне от выстроенного в линию батальона. Он смотрел на приближающегося к Перовскому сухощавого прямого Падурова в ярком мундире, так выделявшемся на сером фоне плаца.
- Побатальонно, слушай на караул!
В воздухе мелькнула серебром выхваченная из ножен шашка, которую командующий парадом взял сначала "подвысь", но тут же опустил, уже находясь возле Перовского и глядя ему в глаза.
- Ваше высокопревосходительство, в строю находятся...
Он перечислял количество батальонов, эскадронов, батарей, орудий, прибывших на парад, чтобы отметить вступление в должность нового командира корпуса, который слушал рапорт с бесстрастным выражением красивого надменного лица.
Все так же невозмутимо и величаво Перовский начал объезд частей, возглавляя группу офицеров, следовавшую за ним, а точнее, за командующим парадом на некоторой твердо установленной дистанции, строго по старшинству, сопровождаемый находящимися перед фронтом офицерами, которые возвращались на свои места, как только Перовский заканчивал движение вдоль их части. Все это происходило под звуки торжественного полкового марша - у каждого полка своего, - исполняемого музыкантами, почти оглохшими от грома собственных труб.
Приближалась самая ответственная и трудная часть парада. Сераковский с тревогой посмотрел на солдат, изнуренных многочасовым ожиданием, жарой и напряжением, которое испытывали все от необычности обстановки: как пройдут они? И в тот же миг, заглушая тревожные мысли, послышалась команда:
- К церемониальному маршу!.. Поротно, на двухвзводные дистанции... Равнение направо!.. Первый батальон прямо, прочие налево! - Падуров показал шашкой, куда следует идти прочим батальонам. - Шагом марш!
К этому времени музыканты, барабанщики и горнисты правофлангового батальона уже стали впереди. Грянул оркестр, батальон двинулся по линии церемониального марша, обозначенной жалонерами. Солдаты, держа ружья на плече, шли тем страшным, выматывающим силы парадным шагом, которому они учились изо дня в день много лет подряд и который до полного изнеможения повторяли всю последнюю неделю. Политая земля давно высохла, и облако пыли мешало видеть четкие линии живого солдатского прямоугольника. Гром оркестра заглушал, делал неслышным то самое эффектное, чего ждали от церемониального марша - печатания пехотинцами шага, звонкого и слаженного одновременного удара о землю тысяч кожаных подошв.
Батальон Сераковского шел последним. Дойдя до места, где стоял командир корпуса со своей свитой, он разделился на две части, словно река потекла вдруг по двум руслам - вправо и влево. Это был красивый и четкий маневр, проделанный для того, чтобы в образовавшуюся брешь ворвалась стоявшая наготове конница. Вот уже послышались слова команды, сменившиеся гулкими, бешеными ударами копыт о землю, и в этот момент Сераковский с ужасом увидел, что на плацу, где только что прошел батальон, остался лежать маленький тщедушный солдат, упавший в обморок. Кто-то ахнул, кто-то тихо вскрикнул рядом... Сераковский не раздумывал ни секунды: он бросился вперед наперерез стремительно приближающемуся эскадрону казаков. Он ничего не слышал и ничего не видел, кроме распростертого на земле солдата, схватил его и чудом успел отпрянуть в сторону.
Перовский наблюдал это. Стоявшие рядом офицеры побледнели, ожидая неминуемой вспышки: командир корпуса не терпел ни малейшего нарушения порядка. Но произошло непонятное. Перовский потупил глаза и сделал вид, что ничего не заметил.
Когда окончился парад и части расходились по своим казармам, к Зыгмунту подошел офицер из тех, кто был в свите Перовского.
- Генерального штаба капитан Виктор Дисидерьевич Дандевиль. Разрешите пожать вашу мужественную руку.
Сераковский смутился: еще ни разу за три года солдатской службы никто из незнакомых офицеров не обращался к нему так запросто и дружески.
- Сераковский...
- Очень приятно. - Дандевиль приветливо улыбнулся. - Генерал Василий Алексеевич признал в вас понравившегося ему ординарца, и, может быть, поэтому гроза миновала...
Казарменная жизнь шла по раз и навсегда заведенному порядку. Каждый день тянулся невероятно долго, порой мучительно, Сераковский прислушивался к бою башенных часов - скоро ли вечер? - и в то же самое время эта жизнь бежала, мелькали дни, недели, месяцы, будто осенний ветер обрывал листья на клене: с каждым порывом их оставалось все меньше, пока не обнажились сплошь голые ветки - заканчивался очередной год. Казалось, так недавно был Петербург, каземат Третьего отделения, вкрадчивый голос Дубельта, знакомство с Погореловым на прогулке по тюремному двору, а глянь - уже позади три года службы в солдатах...
"Вот я и перешел на четвертый курс университета пустыни, - невесело думал Сераковский. - Теперь я кандидат пустыни. Как горько!" И тут же приходило на ум, что жить можно и здесь, что эти годы не пропали даром накоплен житейский опыт, отточена мысль, яснее обозначилась цель жизни... Да, и в пустыне есть звезды. Можно остаться одиноким в большом городе, можно окружить себя друзьями и в пустыне, чувствовать их поддержку, ощущать тепло их рук... Нет, он не хочет гневать бога жалобами - он не был одинок эти три года. В Новопетровском у него был Погорелов, в Уральске Плещеев, в Оренбурге вообще полно друзей. А сколько их там, далеко, куда ему заказана царем дорога! В Петербурге, в Киеве, в Вильно, в Одессе и это не считая матери, брата, сестры! Нет, право, жизнь не так уж тяжела и мрачна, если замечать в ней не одни лишь тени, но и места, освещенные солнцем.
Сегодня, например, тоже проглянуло солнце: обрадовало письмо от Погорелова, который писал, что, может быть, его переведут в Оренбург. "Шевченко тебе низко кланяется, - прочитал Зыгмунт. - Живется ему тяжко. Я часто вижу его сутулую фигуру на фоне вечернего неба, как он молча, в одиночестве обходит вокруг укрепление или сидит на камне возле первой батареи и пишет. Все-таки он пишет, понимаешь, Сераковский, пишет, несмотря ни на что!.. И еще он решил завести в Новопетровске, в этой пустыне, сад. Когда ехал сюда, в Гурьеве отломал от вербы ветку, довез ее и посадил на пустыре, неподалеку от дома коменданта. И что бы ты думал? Прижилась, пошла в рост! Тарас ухаживает за ней, словно за малым дитем: поливает, окучивает и подолгу сидит около своего заветного деревца, опустив голову на грудь..."
"Ах, батько, батько!.." - с нежностью подумал Сераковский. Оренбургские друзья много рассказывали ему о Тарасе, особенно Брошислав Залеский, которому посчастливилось вместе с Шевченко оформлять "гидрографические виды Аральского моря". Было это в 1849 году, когда Шевченко вернулся в Оренбург из экспедиции капитан-лейтенанта Бутакова.
Недавно Брониславу опять повезло - вместе с Людвиком Турно его назначили в экспедицию, которая отправлялась на Мангышлак и дальше в глубину пустыни искать полезные ископаемые. Экспедиция будет в Новопетровске, и, значит, Залеский снова увидит Шевченко.
Зыгмунт, как всегда, торопясь, писал "батьке" и Погорелову бесцензурные письма, которые передаст Бронислав при встрече. Прощаясь, опять вспоминал о Шевченко, о последней встрече с ним перед своим приездом в Оренбург - как плохо он выглядел тогда! - и еще о том, как батько подарил на прощание Венгжиновскому свой портрет, написанный акварелью.
- Как хорошо, что ты достал ему краски! - сказал Бронислав Сераковскому. - Это его обрадует больше всего.
Раздобыть хорошие краски в Оренбурге было очень трудно, такими пустяками, как живопись, в военном городе не занимались, но Сераковскому помог Михал Зеленко: как раз в это время обновляли иконы в костеле; красок оставалось в обрез, но Зеленко сказал, воздев очи горе, что богоматерь его простит, оставшись без новой одежды, а Шевченко краски нужны как воздух, потому что он не маляр, а настоящий художник.
Сразу после отъезда Бронислава и Людвика произошло еще одно событие: из ханской неволи возвращались русские люди, многие после десяти, пятнадцати, двадцати лет плена. Встречать их собрался чуть ли не весь Оренбург, и Сераковского, в числе других солдат, назначили охранять порядок.
...Казачьи пикеты из десяти-пятнадцати сабель не всегда могли уследить за протянувшейся на многие сотни верст, почти незащищенной границей, и кочевники, выследив одинокого путника, нередко нападали на него. Нападали и на русские рыбацкие шхуны: шхуны тут же топили или поджигали, а рыбаков гнали в Хиву, где открыто продавали на базаре. На невольничьем рынке русские люди ценились дорого.
Так было много лет подряд. Царское правительство мирилось с этим и даже ежегодно выделяло оренбургской пограничной комиссии по три тысячи рублей золотом для того, чтобы выкупать попавших в неволю русских людей. Но за эти деньги удавалось вернуть на родину всего несколько человек.
Перовский повел дело более решительно: он задержал сразу пятьсот купеческих караванов и приказал не отпускать их в Хиву до тех пор, пока хивинский хан не освободит русских пленников. Хану пришлось согласиться (караваны везли товару на полтора миллиона рублей), и вот сейчас пленники подходили к Оренбургу.
Тысячи людей вышли в степь. Пришло духовенство всех оренбургских церквей с хоругвями и крестами, священники были в праздничных ризах, несли Евангелия, иконы, святую воду в серебряных закрытых сосудах.
- Сераковский, поезжайте немного вперед, не видать ли? - распорядился казачий офицер, который привел сюда солдат.
Сераковский пришпорил коня и поскакал к востоку, на видневшийся вдалеке пригорок. Сначала ничего не было заметно, потом на фоне чистого догорающего неба показалось облако у самого горизонта - это поднимали пыль верблюды и люди, шедшие старой караванной дорогой. Через несколько минут стали вырисовываться фигуры верблюдов, всадников и пеших в азиатских халатах. Сераковский попытался определить, где же русские, но за дальностью расстояния не смог и повернул коня.
- Караван в двадцати минутах пути, ваше благородие! - доложил он подъесаулу.
Огромные толпы людей с удивительным терпением ждали встречи, многие пришли сюда еще днем и теперь напряженно вглядывались вдаль, самые нетерпеливые ходили за версту вперед, пока кто-то не прибежал обратно с криком: "Идут! Идут!"
И в это время раздался громкий конский топот где-то сзади.
- Перовский... Перовский приехал, - пронеслось среды толпы.
Подъесаул, придерживая на ходу шашку, чтобы не болталась, бросился было с рапортом, но командир корпуса махнул рукой: сейчас не до рапорта.
Подошедшие хивинцы, увидев толпу с горящими свечами, остановились в недоумении и растерянности, не понимая, что же это значит, и только горсточка изможденных людей в халатах и тюбетейках продолжала движение. Это были русские. Наступила гробовая тишина, но она продолжалась не более минуты. Протоиерей Иоанн начал молебствие.
Пленников было всего двадцать пять, встречало же их пятнадцать тысяч. Казаки и казачки, солдаты, чиновники, простолюдины, нищие, как один, опустились на колени перед ними. Передав ординарцу поводья, стал на колени Перовский, стал на колени Зыгмунт, чувствуя, как пробежал по спине холодок и подступил комок к горлу; сорвав с голов тюбетейки, стали на колени и эти двадцать пять человек, похожие на выходцев с того света.
Когда молебен кончился, толпа повернула к городу, и в самом центре ее, окруженные плотным живым кольцом, сдерживаемым солдатами, шли бывшие пленники.
У многих на исхудалых лицах, на руках виднелись глубокие рубцы. Один старик был без глаза.
- Это кто ж тебя так, родимый? - жалостливо спросила его какая-то сердобольная казачка.
Старик улыбнулся:
- Да хозяину не поспел в срок работу сделать, вот он и рассерчал, плеткою рубанул, глаз рассек, а самого чуть до смерти не довел. - Он вздохнул. - Знать, так на роду было нам написано... согрешили мы перед создателем...
- А там, у хана нечистого, русские еще остались али всех вызволили?
- Остались, голубица, остались, - старик закивал головой. - Знать, на то воля божия...
Сераковский случайно слышал разговор, и его поразила покорность судьбе, какое-то обнаженное непротивление насилию, злу, совершенному над этими несчастными... Что-то похожее говорили и другие. "Отчего так? подумал Сераковский. - Неужели народ столь терпелив? Безропотен? Смирен? Глядя на этих людей, можно подумать, что так. Но ведь нет же! Здесь, именно здесь начиналась пугачевская вольница. А декабристы? А петрашевцы, о которых рассказывал Плещеев? А голодные бунты? И тут же рядом с подвигом, с борьбой - какое-то слепое бессилие, покорность судьбе, как бы тяжела она ни была".
...Караван тоже тронулся вслед, соблюдая дистанцию. Огромной толпе ничего не стоило смять, растоптать кучку бухарцев. Казалось, было за что! Но на них смотрели равнодушно, а порой и сочувственно - как-никак люди, хоть и басурмане, устали, вымотались за столько верст пути через пустыню. "И в этом тоже виден характер народа, умеющего отличить виноватого от невиновного, правого от неправого", - продолжал размышлять Зыгмунт.
Последнее время он все чаще чувствовал себя слитным с людьми, которые его окружали, с народом, среди которого жил. Нет, он не забывал, что он поляк, что у него есть родина - несчастная Польша, просто это чувство уступало место какому-то другому, более широкому, захватывающему душу. Сейчас он не мыслил себя отдельно от других, как это бывало прежде, например в университете, где поляки жили обособленной замкнутой группой.
Здесь, в Оренбурге, обособленность чувствовалась не так сильно, как в северной столице, но все же на "великомолочные вечера" почему-то собирались преимущественно обитатели "варшавских выселок", и это начинало тревожить Сераковского. Он видел стремление своих друзей как-то отмежеваться от остальных, от "неполяков", которые, однако, жили в такой же неволе, находились в том же положении, что и его соплеменники. Сераковский видел в этих других не русских, не малороссов, не татар или башкир, а прежде всего соизгнанников, соузников по казарме, как однажды выразился Шевченко. Они были вместе, вместе тянули солдатскую лямку, и тянуть ее было одинаково мучительно каждому, к какой бы нации он ни принадлежал.
Глава шестая
Сераковский заболел внезапно. Сказывались тяготы солдатской жизни, стремление всегда быть первым по службе - "ведь надо же как-то заработать офицерский чин!" Доктор определил Сераковского в уже знакомый ему госпиталь.
Поправлялся он медленно и, чтобы не очень скучать, начал заниматься английским языком, намереваясь вскоре прочитать в подлиннике Байрона и Шекспира. Лишь через два месяца его выписали, разрешив еще месяц не являться на службу.
Болезнь оставила на Сераковском заметные следы. Он стал неразговорчив, молчалив, что не вязалось с его деятельным, требующим общения характером. Он попросил отца Михала принести ему несколько священных книг. Английский язык забросил, свежих газет не спрашивал, сидел безвыходно дома и писал письма, наполненные туманными мыслями о бренности человеческого существования.
В это время и приехал Погорелов.
Его надежда на перевод в Оренбург не оправдалась, он получил назначение в Орск и теперь направлялся к новому месту службы. Ехал он без офицера и имел возможность на денек-другой задержаться в Оренбурге. Письма в Новопетровское укрепление по-прежнему шли от случая к случаю, и Погорелов узнал о болезни Сераковского только здесь. В тот же вечер он пришел к Зыгмунту.
- Да, да... прошу! - раздался в ответ на стук слабый голос.
Погорелов рывком распахнул дверь.
- Это кто ж тут изволит болеть? - спросил он нарочито грозно. В Новопетровске он отрастил бороду, заметно изменившую его облик.
- Боже правый! Кого я вижу! Неужели это Погорелов! - Сераковский с трудом поднялся с софы и раскрыл объятия. - Пани Тереза, у меня дорогой гость, несите молоко, и побольше!
- Молоко! - Брови Погорелова поползли вверх. - Зачем молоко, если есть доброе старое вино! - Он достал из портфеля бутылку. - Это тебе подарок от Зигмунтовского. Ты его не забыл, надеюсь? Он все такой же...
- А его супруга? - Сераковский несколько оживился.
- Бавкида, как называет ее Шевченко? Чувствует себя превосходно. Так же, как и ее Филемон.
- Тарас Григорьевич здоров?
- Насколько можно быть здоровым в этом адовом месте!
- Слава богу! - Сераковский перекрестился, глядя на распятие в углу.
Только сейчас Погорелов заметил, что в руках у Зыгмунта были четки. Горела лампада, теплилась свеча перед иконой, и на столе лежали Новый завет и молитвенник.
- Уж не собрался ли ты, часом, в монахи? - спросил Погорелов.
- Нет, просто думаю о бессмертии и ищу ответ на этот вопрос в священном писании.
- Странно! - Погорелов хмыкнул. - О каком бессмертии?
- Души, конечно!
- Ты веришь в бессмертие души, в душу? С каких пор это?
- Я верю, Погорелов, в высшую истину, в отца миров, в бога! Верю в бессмертие, в будущую жизнь после смерти на земле, в которой я буду сорняком. Понимаешь, Погорелов, жизнь на земле, - он тщательно подбирал слова, - это только один день мученичества и креста для того, чтобы быть самостоятельным. Бог создал человечество, человечество же должно создать свое счастье - вот цветок, который вырос у меня в душе в пустыне.
- Постой, постой... Что ты говоришь? Ничего не понимаю!
Сераковский устало посмотрел на друга.
- Ты думаешь, я сошел с ума? Нет, еще никогда я не был в столь здравом уме и твердой памяти, как пишут в завещаниях.
- Память твоя, может быть, и тверда, но ум в данное время не совсем здрав. Да, да, не совсем, Сераковский.
- Я хочу победить смерть, - продолжал Зыгмунт, не обращая внимания на слова Погорелова. - Многие это уже сделали, торжественно умерли, но остались жить среди живых. Они сделали смерть превращением в бессмертие, а свою жизнь бесконечной...
- Опять ты об этом бессмертии! Сказать по правде, направляясь сюда, я предполагал увидеть человека, больного телом, а увидел... больного духом.
Некоторое время Сераковский молчал, на чем-то сосредоточа свою мысль, а Погорелов с пристрастием и беспокойством смотрел на его осунувшееся лицо, на бледные худые руки, машинально перебиравшие четки.
- Слушай, Сераковский, давай лучше выпьем! Где стаканы?
Зыгмунт взглядом показал на шкафчик у стены. Сам он не двинулся с места. Глаза его горели, на бледных щеках проступил нездоровый, излишне яркий румянец.
- Минуют века, тысячелетия, канут в Лету теперешние планеты, солнце и звезды, а мы будем жить, - продолжал он говорить, - и память каждой торжественной минуты будет жить и будет залогом торжественного и все более торжественнейшего будущего!..
Погорелов разлил вино по стаканам.
- За твое здоровье! За скорейшее выздоровление твоего духа!
- Или вот Апокалипсис, - Сераковский поставил на стол недопитый стакан.
- К черту Апокалипсис! - рявкнул Погорелов с такой силой, что Сераковский вздрогнул. - Извини меня, это сгоряча... Давай я тебе почитаю стихи Шевченко. Он их держит в голове, а я переписывал в тетрадь и лишь после этого выучил наизусть. Слушай...
Как будто степью чумаки,
По шляху осенью проходят,
Так и мои проходят годы,
А я терплю. Да вот стихи
Придумываю, сочиняю
Опять. Стихами развлекаю
Дурную голову свою,
Да кандалы себе кую.
(Вдруг "добродетели" узнают).
Что ж, пусть узнают, пусть распнут!
Жить без стихов? Побойтесь бога!
Писал два года понемногу
И третий в добрый час начну.
- Шевченко стал писать по-русски? - поинтересовался Сераковский.
- Нет, я перевел, чтобы послать в "Современник".
- Молодец, Погорелов... А еще.
Погорелов читал одно стихотворение за другим, и постепенно лицо Сераковского менялось, становилось живее, энергичнее.
- Как хорошо! - промолвил он растроганно.
- То-то ж... Истинное бессмертие - в высокой поэзии, в картине, в которую художник вложил душу, в песнях народа! В борьбе!
- Да, да, ты прав, Погорелов. Велико только то, что несет в себе зародыш вечности, бессмертия...
- Нет, я бы сказал по-другому: бессмертно то, что несет в себе зародыш великого.
- Может быть, может быть...
- Вот ты считаешь себя солдатом, борцом за свободу, ведь так? продолжал Погорелов. - Но о такими настроениями... - он бросил взгляд на лежавшие на столе священные книги, - ты не сможешь бороться. Предсказываю: ты целиком положишься на волю божию и будешь безучастно ждать, как распорядится судьба тобой, твоими друзьями, твоей родиной, о которой ты так много говоришь.
Сераковского больно кольнули эти слова. Он вдруг вспомнил освобожденных из ханской неволи русских людей, ведь тогда он внутренне, всем сердцем протестовал как раз против их покорности судьбе, их смирения перед злом. А сам? Нет ли чего общего между душевным состоянием тех несчастных и его, Зыгмунта, в эти дни?
Он долго не отвечал.
- Твои речи горьки, но они возвращают меня к действительности, Погорелов. Верно, последнее время со мной творится что-то неладное. Я перехожу от надежды к отчаянию. Я бегу то с жаром в груди, то с мыслью на челе, то снова ползу. Есть минуты, когда я живу и бываю счастлив самопознанием жизни, а другой раз - живу и не хочу жить... И все же, Погорелов, я не отказался от борьбы и надеюсь не только дожить до торжества, когда будет устранена несправедливость в отношении моей родины, но и сам принять участие в борьбе. Верю, что придет мой час дать доказательство этим словам!
- Я тоже верю, Сераковский.
- Знаешь, Погорелов, годы жизни в пустыне все-таки не прошли даром. У меня прибавилось морщин на лбу, но дух мой возвысился и укрепился.
Уже давно было выпито не только вино, но и молоко, принесенное пани Терезой, а они все еще сидели и говорили.
Под вечер пришел Зеленко.
- Познакомьтесь, пожалуйста, - сказал Сераковский. - Капеллан Оренбургского корпуса пан Михал, а по-русски Михаил Фадеевич. А это Погорелов, о котором я вам столько рассказывал. Соузник по Новопетровску.
- Рад познакомиться. - Погорелов крепко пожал протянутую ксендзом руку. - Простите, Михаил Фадеевич, это не вы ли притащили Сераковскому столько священных книжиц?
- Но по его просьбе, господин Погорелов, исключительно по его просьбе и даже вопреки моему желанию.
- Вот как? - Погорелов с лукавой усмешкой посмотрел на Зыгмунта. Может быть, в настоящее время они более нужны в костеле, чем здесь?
Сераковский понял намек.
- Ты хочешь окончательно меня вылечить, - сказал он весело.
- Я, кажется, опять вижу прежнего Зыгмунта! - обрадовался Зеленко.
- Да, отец Михал, я чувствую себя гораздо лучше... Что касается молитвенника и Нового завета, то их можно взять. Спасибо!
С начала 1852 года наконец-то освободилась в роте вакансия и Зыгмунта произвели в унтер-офицеры. Ротный писарь внес изменения в послужной список рядового Сераковского.
Форма унтер-офицера хотя и оставалась, по сути дела, все той же, солдатской, однако ж была более приметна: унтеры в пехоте носили золотые галуны на воротнике и обшлагах. Сераковский получил у каптенармуса вещевого склада полтора аршина этого самого галуна и сразу же зашел в швальню, где пожилой портной из нестроевых солдат пришил ему на мундир новые знаки различия.
"Вот я и унтер", - думал Зыгмунт. Солдаты это слово связывали с мордобоем, насилием. Казалось естественным и неизбежным, что такой же солдат, тысяча раз битый за годы службы, получив власть над несколькими людьми, начинает делать то же, что делал его предшественник, - учить при помощи кулака. Новоиспеченный командир отделения настолько входит в роль, что перенимает походку, ухватки, интонации того самого ненавистного унтера, от которого терпел сам. Он вдруг забывает о перенесенных унижениях, о боли, о страхе. Происходит как бы смена караула, передача эстафеты: унтер умер, да здравствует унтер! А песня про унтера, которую горланят солдаты: "Он за дело хвалит и за дело бьет".
Да, теперь не Сераковского будут учить щагистике и ружейным приемам, а он, Сераковский, будет учить этому солдат. Не ему будут показывать, а он будет показывать, как надо оттягивать носок при ходьбе и со стуком, всей ступней ставить ногу на звонкую от мороза землю.
"К чему все это? - спрашивал сам себя Зыгмунт. - Кому нужен бессмысленный, неестественный, трудный шаг, заставляющий солдат задыхаться от напряжения?" Будь его воля, он заменил бы шагистику вольной гимнастикой, чтобы гармонично развивалось тело и человек становился сильнее и красивее. Однако существовал устав - железный строевой пехотный устав, не пересматривавшийся, кажется, со времени императора Павла. "Не прощать ни малейшей ошибки", - требовал устав.
Но Сераковский не мог не прощать. Уже минул месяц, как его стали называть "господин унтер-офицер", а до сих пор он не забыл того дня, когда только что принял под свою команду незнакомое отделение солдат. После построения началась шагистика, и на первой же минуте левофланговый Сидоренков споткнулся, выполняя команду "Кругом!". Сераковский и сейчас видел перед собой его глаза в тот момент, полные покорного, рабского ожидания возмездия за допущенный промах. Солдат ждал немедленного удара, пощечины, он видел перед собой неизбежный кулак унтера. Но Сераковский лишь приказал повторить прием.
- Ну вот видите, Сидоренков, это не так сложно!
Остальные солдаты недоуменно переглянулись: странный унтер обращался к ним на "вы".
Унтер-офицерам платили хотя и мало, но все же больше, чем солдатам, и в первую же получку Сераковский выписал себе газету. Но главное преимущество было не в деньгах. Унтер-офицерам, прослужившим в солдатах два года, разрешалось жить на частной квартире, и Сераковский не преминул этим воспользоваться. Дом Венгжиновского все еще пустовал, и Зыгмунт снял там маленькую комнатку с единственным окном, выходящим в сад. Он перебрался туда в день, когда деревья были опушены густым инеем, сияло солнце и ослепительно блестел снег, испещренный следами птичьих лапок. Это сразу напомнило ему дом в Лычше, старый сад, за которым уже некому было ухаживать, постепенно засыхающие яблони, посаженные отцом. Что там сейчас?
Недавно он получил письмо из дому. Мать по-прежнему одолевали болезни. Соседи, которых она считала друзьями, отвернулись от нее, как только узнали о судьбе Зыгмунта (раньше она скрывала это от сына). Мать писала, что дом без хозяина приходит в запустение. Не слышно юных голосов когда-то хоть и небольшой, но дружной семьи, все разбрелись по свету. Брат Игнатий уехал в Одессу под заботливое крылышко Венгжиновского, который, кажется, нашел счастье с молодой женой...
О пане Аркадии Зыгмунт вспоминал постоянно, сегодня же почувствовал особую нежность к этому добрейшему человеку и решил излить душу в письме. "Я сам желал бы пойти по твоим стопам. Я хотел бы, чтобы жизнь моя была живой поэмой, чтобы жизнь моя была всегда направлена к одной святой цели".
Он по-прежнему часто думал об этой святой цели, о своем назначении в жизни. Несколько расплывчатую мечту о счастье людей он старался, как мог, осуществить уже сейчас, не откладывая на лучшее будущее. Перед ним была горстка солдат, и он пытался облегчить их участь.
Среди офицеров роты он прослыл чудаком, фантазером, "борцом за правду". Унтеры, которые поначалу просто не понимали Сераковского, стали его побаиваться: уж слишком непривычно, не так, как все, вел себя этот человек. Солдаты же полюбили своего унтера искренне и навсегда.
Постепенно со странным унтер-офицером в роте свыклись, привык к своим новым обязанностям и Сераковский - и не заметил, как окончились морозы, побурели санные дороги, прилетели грачи на старые гнезда и наступила бурная, стремительная весна, четвертая весна, которую он встречал в изгнании.
- Вас солдат из второго батальона просит выйтить, господин унтер-офицер, - сказал Сераковскому дневальный.
- Спасибо, Савельев!
"Кто бы это мог быть?" - подумал Сераковский, направляясь к выходу. У крыльца его ждал Ян Станевич. Обычно спокойный, сосредоточенный, он сейчас выглядел растерянным и возбужденным до крайности.
- Ясь, ради бога, что случилось?
- Беда, Зыгмунт! - Только что привезли одного страдальца, Францишека Добкевича. В карцер... Через день будут судить. За судом последуют казнь или шпицрутены...
- Обожди, не все сразу... По какому поводу его арестовали?
- Ударил полковника Недоброво... Но за дело!
- Ого! Коменданта Орской крепости? За какое дело?
- Этот мерзавец оскорблял поляков.
- Понятно... А кто такой Добкевич? Офицер? Рядовой?
- Боже мой, какая разница кто! Он поляк. Пострадал невинно, и ему грозит смерть. Разве этого мало?
"Поляк", - повторил про себя Сераковский. Ему показалось странным, что Ян подчеркивает это.
- Что же делать, Зыгмунт? Поговорить с прокурором?
- С самим полковником? Ты его хорошо знаешь?
- Нет, конечно... О, ч-черт!
- Спокойно, Ясь, спокойно! Я тебя не узнаю, и мне кажется, что мы поменялись ролями... Итак, что можно сделать для Добкевича? Прежде всего, по-моему, узнать у Шаргина, в каком положении дело.
- Да, да, писарь военного суда должен быть в курсе событий.
- Затем встретиться с Дандевилем... А чем займешься ты?
- Пока есть время, побегу к отцу Михалу. Он пойдет в карцер со святыми дарами...
- И постарается узнать подробности от самого Добкевича... Но что это даст, Ясь?
Станевич нервно пожал плечами:
- Можно попытаться подкупить доктора, чтобы он остановил экзекуцию...
- Ну и что? В лучшем случае несчастного Добкевича отвезут в госпиталь и через день добьют на плацу теми же шпицрутенами. Закон о телесных наказаниях неумолим, Ясь.
Сераковский едва дождался минуты, когда смог оставить казарму, и сразу же пошел на тихую Заречную улицу, где жил писарь Оренбургского Военного суда Николай Иванович Шаргин.
- Как хорошо, что я застал вас! Здравствуйте, Николай Иванович, сказал Сераковский, с удовольствием пожимая руку Шаргина.
- Здравствуйте, Сигизмунд Игнатьевич! Рад вас видеть. Присаживайтесь, сейчас будем ужинать...
- Нет, спасибо... Я по срочному делу, Николай Иванович.
- Все равно сесть надо. В ногах правды нет.
Сераковский рассказал все то немногое, что услышал от Станевича.
- Я только что знакомился с делом Добкевича. Не скрою от вас, Сигизмунд Игнатьевич, положение очень и очень серьезное. Закон в данном случае не знает снисхождений. Рядовой ударил полковника Недоброво. Скажу вам по секрету, этот Недоброво - пресквернейшая личность, но это лишь усугубляет положение. Вас, конечно, интересует, что я могу сделать. Могу поговорить с председателем суда, но Петр Семенович хотя и добрейший семьянин и хороший товарищ, однако в делах службы великий педант и к своим судейским обязанностям относится весьма строго.
- А какую-либо другую статью нельзя подвести, Николай Иванович?
- Для данного дела - нельзя. А та, которая подходит, Сигизмунд Игнатьевич, - вымолвить страшно!.. - предусматривает шесть тысяч палок!
- Шесть тысяч! - Сераковский побледнел.
Дандевиля Сераковский не застал дома и напрасно прождал его более часа, расхаживая взад-вперед по улице. Любовь Захаровна звала зайти в столовую, но Зыгмунт сослался на головную боль и не принял любезного приглашения "красивейшей женщины Оренбурга", как за глаза называли жену Дандевиля. "Виктор у Василия Алексеевича, и боюсь, что пробудет там допоздна. Ведь у нашего доблестного генерала радость, вы не слышали? Сынок, - она кокетливо приложила к губам палец, - незаконнорожденный, как и сам папаша, получил "Георгия" на Кавказе и теперь возвращается под родительский кров. По этому поводу готовится грандиозный бал..."
"Готовится бал, - подумал Сераковский, возвращаясь домой. - А может быть, в это самое время несчастного Добкевича будут насмерть хлестать лозовыми прутьями". Собственное бессилие, невозможность чем-нибудь помочь ближнему угнетали Зыгмунта. Что он значит в злом, несправедливом мире? В мире, где могут безнаказанно убить невинного человека? И сделать это по закону!.. Вот друзья называют его умным, добрым, справедливым, его слово часто является решающим в споре друзей. Но разве можно только с помощью таких качеств устранить зло или сколь-нибудь ослабить его действие!
За невеселыми думами Сераковский не заметил, как добрался до дому. В его комнате горела свеча, а на софе, уронив голову на грудь, дремал Зеленко.
- Где ты пропадал? Я тебя жду более двух часов, - сказал он.
- Сначала у Николая Ивановича, потом у Дандевиля. Дандевиля так и не дождался... Святой отец был в карцере у несчастного?
- Да. Оттуда занес дароносицу в костел и пришел к тебе.
- Рассказывайте же!
- На исповеди он излил мне свою несчастную святую душу. - Пан Михал перекрестился. - Да, он виноват, по не перед господом богом, а только перед властью. Формально, а не по существу. Пан комендант первый ударил его тростью по голове. Добкевич, возможно, сдержался бы, если б при этом пан комендант - чтоб ему попасть в ад на том свете! - не стал кричать на всю улицу: "Презренный лях"... "Ваша вонючая Польша"... "Вас всех сгноить надо!" Добкевич в ответ ударил полковника. Господи, прости им прегрешения, вольные и невольные! - Он помолчал. - И что же будет, Зыгмунт?
Сераковский недобро усмехнулся.
- Полковнику, возможно, будет повышение по службе, все-таки он отличился... Добкевич может получить шесть тысяч шпицрутенов.
Ксендз снова перекрестился.
- Этот мученик мне говорил о том же самом... Он ждет своей участи со смирением, как истинный христианин.
- Вот это-то и худо, черт возьми! - воскликнул Сераковский.
- Зыгмунт, не гневи бога!
- Я не гневлю, но ведь пора же наконец перестать быть покорным судьбе! Надо бороться! Протестовать! Действовать!
Тревожная весть о том, что ожидает Добкевича, распространилась почти мгновенно, и в тот же вечер к Сераковскому пришли Герн и Залеский. Герн внес еще одну подробность в дело. Оказалось, что Добкевич, ни у кого не отпросившись, возвращался в казарму раньше своей роты, которая где-то за городом пилила дрова на зиму. Тут он и попался на глаза полковнику Недоброво.
- Значит, Добкевич ушел с работы до срока, не получив разрешения начальства, - сказал Сераковский хмуро.
- Выходит так, - подтвердил Герн.
- Ну и что в этом? - горячился Залеский. - Подумаешь - ушел до срока! Не получив разрешения!
Сераковский строго посмотрел на него.
- Послушай, Бронислав! Раз нас судьба сделала военными, давайте учиться военному делу, учиться воинской дисциплине, выполнению воинского долга! Уверяю вас, это нам в дальнейшем пригодится... Сколько раз я вам говорил, что, находясь в армии, необходимо придерживаться армейских порядков. Не нарушь их Добкевич, не было бы встречи с Недоброво, не было бы причины для разговора, для стычки.
- Ты... ты типичный служака, Зыгмунт!
- Нет, Бронислав, я солдат.
- Русской армии!
- Да, русской армии, той армии, которая поработила Польшу и которая, - он сделал паузу, - может вернуть ей свободу.
...Военный суд заседал недолго. Дело оказалось настолько ясным, что не потребовалось ни дополнительных документов, ни новых свидетельских показаний - достаточно было показания полковника Недоброво. Рядового трудовой роты Орского гарнизона Францишека Добкевича суд приговорил к прогнанию через строй в шесть тысяч шпицрутенов.
- Это казнь... мучительнейшая, медленная казнь. Я был свидетелем смерти солдата, приговоренного к двум тысячам палок. А здесь шесть тысяч!
Сераковский нервно шагал по комнате из угла в угол. Залеский, Герн и Зеленко сидели за столом, насупившись и опустив глаза.
- Осталось одно - просить Перовского, - сказал Залеский. - И это придется сделать тебе, Зыгмунт.
- Хорошо. Я пойду к нему.
- Может быть, вам удастся сначала повидать Дандевиля, - сказал Герн. - Мне нравится этот подполковник.
Сераковскому повезло: он встретил Дандевиля в вестибюле генерал-губернаторского дома. Виктор Дисидерьевич куда-то торопился, но, заметив расстроенного Зыгмунта, подошел к нему.
- Я могу располагать пятью минутами вашего времени? - спросил Сераковский.
- К вашим услугам, Сигизмунд Игнатьевич... Здесь? В приемной?
- На улице, с вашего позволения.
Они вышли, и Сераковский, стараясь говорить как можно короче, рассказал о своей просьбе.
- Пожалуй, вы пришли как раз вовремя, - ответил Дандевиль. - Василий Алексеевич в прекрасном расположении духа по поводу возвращения сына. О вас он помнит и, уверен, примет. Я сейчас же поговорю с ним.
- Спасибо, Виктор Дисидерьевич... Где мне подождать ответа?
- Идемте во дворец. Думаю, что генерал назначит аудиенцию немедленно.
Дандевиль отсутствовал не более пяти минут.
- Их высокопревосходительство ждут господина Сераковского у себя в кабинете.
В комнате толпился народ, и Дандевиль нарочно произнес эти слова громко, чтобы дать понять о близости конфирмованного унтер-офицера из поляков к генералу.
Сераковский вошел в просторный кабинет, обставленный дорого и со вкусом. Несколько книжных шкафов с золотом корешков за стеклами. Картины в тяжелых рамах. Портрет императора. Письменный стол, на котором аккуратно разложены бумаги.
Перовский в парадной генеральской форме, при орденах, стоял возле шкафа.
- Здравия желаю, ваше высокопревосходительство! Разрешите?
- Заходите, Сераковский. - Генерал показал рукой с серебряным наперстком на кресло, но Зыгмунт продолжал стоять. - Вы по неотложному делу или же чтобы поздравить меня с возвращением сына-героя?
- И по тому и по другому поводу, ваше высокопревосходительство: принести вам свои искренние поздравления и одновременно попросить об этом страдальце.
- Догадываюсь, о ком вы говорите... об этом поляке... запамятовал, как его фамилия. - Перовский щелкнул в воздухе пальцами, не находя нужного слова.
- Добкевич... Францишек Добкевич из трудовой роты Орского гарнизона, - напомнил Сераковский.
- Возможно, возможно... Он получил, кажется, шесть тысяч падок? Это, пожалуй, многовато!
- Это не только многовато, это равносильно смерти, ваше высокопревосходительство!
- Согласен. - Перовский рассеянно кивнул. - Но ведь он кругом виноват, этот ваш Добкевич!
- Разве я отрицаю его вину! Я хочу только сказать, что она не заслуживает такого сурового возмездия, как смертная казнь.
- Приговор суда мне еще не приносили на утверждение.
Сераковский понял, что добился первого успеха.
- Но его ведь принесут!
- Так и быть, я скошу наполовину.
- Но ведь это тоже смерть! - воскликнул Сераковский. - Ваше высокопревосходительство!.. Василий Алексеевич!.. Будьте великодушны в это столь радостное для отцовского чувства время!.. Поставьте... о нет, только в воображении и только на одну минуту... поставьте на место Добкевича очень близкого вам человека, например вашего сына...
Сераковский умолк, боясь собственной дерзости. Перовский молчал, его лицо стало отчужденным, взгляд потускнел, но в нем не было какой-либо неприязни к Сераковскому или раздражения. Командир корпуса думал в это время о своем непутевом сыне, которому тоже когда-то грозили шпицрутены, если бы не заслуги отца, не связи, не благосклонное отношение самого императора к нему, генералу Перовскому... Император знал о сыне давно, еще когда взбалмошная мать решила вдруг отобрать Павлушу у отца и пожаловалась государю... Перовский воспротивился и отказал в просьбе даже самому императору, заявив, что ради сына никогда не женится ни на ком. Он действительно, остался холостяком на всю жизнь, а сын вырос непутевым, опозорил отца и лишь недавно на Кавказе в стычках с горцами смыл кровью свой позор...
- Хорошо, Сераковский, - промолвил командир корпуса после долгой паузы. - Я смягчу наказание для вашего подопечного до... одной тысячи палок. Это больно, но уже не смертельно.
Зыгмунт поклонился, понимая, что на большее он рассчитывать не может.
- Мои соотечественники в Оренбургском корпусе, - сказал он тихо, - а также все те, кто считает позорным для России телесные наказания, никогда не забудут, что вы сделали, Василий Алексеевич!
Дандевиль поджидал Зыгмунта в приемной.
- Ну как? Судя по вашему виду, вы добились успеха, не так ли?
- Да... Наказание уменьшено в шесть раз! - Сераковский пожал Дандевилю руку. - Если бы не вы, я не попал бы сегодня к генералу, а завтра этот бал, общегородская суматоха...
- Да, затевается нечто грандиозное! И все, - он наклонился к уху Зыгмунта, - ради непутевого сына, которому в свое время грозило прогнание сквозь строй...
Только сейчас Сераковский понял, насколько он попал в точку, разговаривая с Перовским.
...Итак, тысяча шпицрутенов. Отец Михал рассказывал, что Добкевич мал ростом, не силен на вид, болезнен от природы и к тому же морально убит всем тем, что произошло с ним, - арестом, карцером, приговором. Он может не выдержать тысячи палок.
Почему-то пришел на ум царский указ, отданный несколько лет назад, по которому полагалось наказанным шпицрутенами нашивать на погоны тонкие черные шнурки, по одному за каждый раз прогнания сквозь строй. "Чтобы все могли видеть, знать... Какая мерзость!" Сераковский попытался вспомнить, многие ли в их батальоне носят эти позорные черные шнурки на погонах. Немногие, но есть. Эти, пожалуй, будут только махать в воздухе прутьями. Ах, если бы так поступили все, ну не все, а хотя бы половина из тысячи!..
Мысль, мелькнувшая в голове, показалась Сераковскому настолько дерзкой и в то же время настолько заманчивой, что он остановился посередине улицы. Поговорить с солдатами по душам! Рассказать им всю правду! Попросить их проявить милосердие! Да, так, и только так!
Он ускорил шаг, уже твердо зная, что надо делать.
Дома его с нетерпением ожидали друзья.
- Тысяча! Одна тысяча палок вместо шести тысяч! - объявил Сераковский еще с порога. - И все равно этого достаточно, чтобы свалить человека в могилу. Но мне кажется, я кое-что придумал, пока шел к вам.
- Ты все-таки фантазер, Зыгмунт, ты витаешь в облаках, - сказал трезвый Станевич, выслушав план Сераковского. - Почему ты думаешь, что русский солдат согласится жертвовать собственной шкурой ради поляка! Ты ведь прекрасно знаешь, что солдат не может не бить в полную силу под страхом наказания. При офицере! При враче!
- Значит, надо поговорить и с тем и с другим!.. Что же касается того, будет ли русский солдат жертвовать собой ради польского солдата, то, по моему глубокому убеждению, он это сделает, если поймет, для чего это надо, во имя какой цели.
- Хорошо, посмотрим. - Ян бросил взгляд на пустой кувшин из-под молока. - Вот если б ты перед экзекуцией угостил их водкой...
- А что, это тоже идея!
- Всю тысячу человек? Ты с ума сошел! Где мы возьмем столько денег? спросил Герн.
- Вот... Все, что у меня есть... - Сераковский вынул из кармана три рубля с какой-то мелочью и положил на стол.
- Не надо, Зыгмунт, - сказал Зеленко. - Завтра я обращусь к прихожанам со святым словом... Сколько, по-твоему, нужно денег?
- Бутылка водки, как известно, стоит десять копеек серебром. Но если покупать бочками, хозяин, конечно, уступит. - Сераковский что-то подсчитывал в уме. - Рублей около ста...
- Это огромная сумма, Зыгмунт, но я попробую.
К удивлению Сераковского, далеко не все прихожане "выселок" оказались щедрыми. Некоторые, узнав, для чего нужны деньги, демонстративно захлопывали перед Зыгмунтом двери. Чиновники, служившие в губернской канцелярии и пограничной комиссии, гувернеры в богатых дворянских семьях отвечали, что, видит бог, именно сейчас они крайне стеснены в средствах. Отзывчивее всех были бедняки ремесленники - сапожники, шорники, кузнецы, сами едва сводившие концы с концами. Солдаты-поляки, как и все солдаты, без слова отдали свои пятаки и алтыны.
Перед отбоем к Зыгмунту прибежал торопившийся в казарму и вконец взбудораженный Залеский: ему также не повезло.
- Что это такое, поляк не хочет помогать поляку... на чужбине! Вдали от родины! - бормотал Залеский. - Пан Змушко заткнул ладонями уши, как только я начал объяснять, для чего нужны деньги.
- Может быть, все же обратиться к Лазаревскому, к Шаргину, к Дандевилю... Они не откажут.
- Нет, нет, Зыгмунт. Поляка должен спасать поляк! Это опасно, к тому же...
- Не понимаю тебя, Бронислав! Ты что, не доверяешь Федору Матвеевичу, человеку, который немало облегчил твою участь?
Залеский смутился:
- Я этого не сказал... Но все-таки он малоросс.
- Шевченко тоже малоросс. Плещеев и Погорелов - русские. Но дай бог, чтоб у каждого поляка было такое отзывчивое сердце, как у них.
Нужно было торопиться. Генерал-губернатор ужо утвердил приговор, смягчив наказание до тысячи палок, и экзекуция была назначена на субботу: командир второго батальона спешил отделаться от неприятной процедуры, чтобы к двенадцати часам дня прибыть во дворец на званый завтрак, которым открывался устраиваемый Перовским пир по поводу возвращения сына.
Сегодня была среда, правда еще только раннее утро. Сераковский любил этот час, когда воздух свеж и прохладен, а улицы заполнены военными, солдатами, разноязыкой толпой инородцев, торопящихся на базар. Он влился в людской поток и пошел, думая о том, что он сделает сегодня для себя и для общего дела. После обеда, когда солдаты соберутся, чтобы слушать Евангелие, он поговорит с ними о Добкевиче. С тех пор как еще майор Михайлин поручил ему читать "нижним чинам" священное писание, это стало обязанностью Сераковского, где бы он ни служил.
- Что же вы, господа пригожие, меня со счетов сбросили! Нехорошо! Не по-дружески, это, Сигизмунд!
Сераковский вздрогнул от неожиданности. Перед ним стоял Лазаревский.
- Доброе утро, Федор Матвеевич! Вы о чем это!
- Сам знаешь... Я к тебе шел, думал в хате застать спозаранку. Лазаревский полез в карман и вытащил оттуда конверт. - Вот, бери на доброе дело. Тут аккурат пять красненьких... от разных лиц.
То, что Перовский устраивал пиршество "на весь Оренбург", было на руку Сераковскому: никто не обратил внимание на бочонки с вином, которые под вечер в пятницу появились на берегу Урала, где обычно купались и отдыхали солдаты. Правда, проходивший мимо капитан из третьей роты поинтересовался:
- Что здесь есть, господа? По какому поводу веселье и шум?
- Командир корпуса празднует, а разве нам нельзя? - ответил Сераковский. - Пьем за здоровье поручика Перовского.
- Молодцы! - похвалил капитан. - При случае я расскажу об этом их высокопревосходительству... Счастливо оставаться!..
Берег Урала опустел лишь перед самым отбоем.
- Так что вы, господин унтер-офицер, не беспокойтесь... Все будет, как договорились.
- Да разве ж можно человека насмерть!.. Ну, был бы убивца какой или изменник против отечества, а то ж безвинный... Хоть и не нашей веры, а все равно христианская душа.
- Не палачи мы, не каты... Уж постараемся...
Сераковский горячо жал протянутые солдатские руки.
- Спасибо, друзья, - говорил он растроганно. - Не знаю, чем и когда отблагодарю вас.
...Экзекуция состоялась на-рассвете. Из карцера вышел отец Михал: он причащал Добкевича и успел шепнуть ему, о чем договорился с солдатами Зыгмунт.
Потом читали приговор военного суда. Добкевич стоял на деревянном помосте и напрасно вглядывался в солдатский строй, пытаясь определить, кто же здесь Сераковский.
Раздалась зловещая барабанная дробь. Засвистели в воздухе шпицрутены. Сераковскому полагалось стоять, но он шел справа от шереножной улицы, вровень с Добкевичем и тихонько говорил солдатам: "Не так сильно, братцы... Помните, что вчера обещали..." Полковой врач дважды останавливал процедуру, чтобы дать отдых несчастному. Фельдфебель, который вел Добкевича за ружейный приклад, двигался чуть быстрее, чем положено. Распоряжавшийся наказанием полковник делал вид, что не замечает этого.
Добкевич был спасен.
Глава седьмая
Зима 1852/53 года прошла в Оренбурге под знаком подготовки к походу на кокандскую крепость Ак-Мечеть. Приготовления к экспедиции держались в строжайшей тайне: государь не хотел афишировать новый поход не столько по стратегическим, сколько по политическим соображениям, чтобы не привлекать внимания Великобритании, которая каждый шаг России к юго-востоку расценивала как посягательство на английские владения в Индии. Тем не менее о намечавшейся экспедиции в Оренбурге знали все.
Летом минувшего года летучий отряд из пятисот человек уже подходил к стенам Ак-Мечети, но не смог взять хорошо укрепленную крепость и отступил. Этот поход тоже держался в тайне, и о нем тоже все знали, причем не только в Оренбурге, но и в Уральске, Орске, Уфе. Еще до возвращения отряда на зимние квартиры в Оренбург приехал, добившись перевода, Плещеев, который и рассказал об этом. Сераковский сразу же ввел его в круг своих друзей.
Вслед за Плещеевым сюда приехала мать Алексея Николаевича, бывшая фрейлина императорского двора, чтобы добиться у Перовского смягчения участи своего сына. Ее очень приветливо приняли у Дандевилей, к которым у нее было рекомендательное письмо, и вскоре, когда Плещеев стал пользоваться некоторыми преимуществами по сравнению с другими высочайше конфирмованными солдатами, он стал бывать в доме Виктора Дисидерьевича.
Однажды туда пригласили и Сераковского, зная о его дружбе с Плещеевым. На этом вечере жена Дандевиля много пела, а затем исполнила на фортепьяно несколько вещей Шопена, растрогавших Сераковского до слез. За столом говорили о донесшихся из Петербурга слухах, будто бы крепостное право доживает последние недели, о приготовлениях Турции к войне, затем разговор перешел на предстоящую экспедицию, в которую хотели попасть почти все офицеры - настолько наскучила им однообразная жизнь в Оренбурге.
- Я тоже буду проситься в поход, - сказал Сераковскому Плещеев. Матушка, правда, удерживает, она боится, что меня убьют. Но по мне лучше смерть, чем прозябание. Виктор Дисидерьевич обещал похлопотать в Петербурге...
- Да, либо погибнуть, либо получить гражданские права! - горячо подхватил Зыгмунт. - Но как попасть в экспедицию?
- Напишите письмо Василию Алексеевичу.
- При той секретности, которой окружены приготовления, письмо может вызвать нежелательные последствия... И все же я обращусь с такой просьбой. Надеюсь на благородство Перовского и думаю, что он не откажет.
Генерал Перовский ответил отказом. В депеше из Петербурга указывалось, что высочайше приговоренным солдатам не следует до поры до времени давать возможность отличиться. Правда, просьбу Плещеева удовлетворили: хлопоты в столице позволили сделать для него исключение.
К двадцатому апреля все было готово, ждали лишь приказа о дне и часе выступления. На пустырях пока еще в кажущемся беспорядке стояли многочисленные военные обозы. В дормез Перовского денщик занес кастрюли: начальник военной экспедиции задумал сам готовить себе обеды.
Рано утром экспедиция выступила из Оренбурга. Сераковский с завистью провожал показавшийся ему бесконечным людской поток. В степь уходили две тысячи пехоты с приданными ей орудиями, казацкая и башкирская конница.
Плещеев, благодаря своему росту, шел правофланговым. Сераковский без труда увидел его, встретился с ним глазами и отдал честь.
В течение долгого времени обыватели Оренбурга находились в неведении, генерал Перовский не баловал реляциями оставшееся в городе начальство, и оно питалось случайными сведениями. До укрепления Карабутак отряды дошли за десять дней, оттуда до укрепления Уральского - за четыре, до Раима - за восемь. Шестого июня были на берегу Аральского моря.
Двадцать третьего июля русские войска пошли на приступ Ак-Мечети. В рядах штурмующих был Плещеев. Он долго и с нетерпением ждал этого дня, рассчитывая отличиться в бою. Увы, кокандцы почти не сопротивлялись, и крепость была взята без потерь с нашей стороны.
Об этом Плещеев рассказал Сераковскому в первый же день возвращения в Оренбург.
- Начнутся поздравления, победные реляции, пушечная пальба, промолвил он устало. - А ведь в крепости, оказывается, было всего триста человек кокандского войска против почти трех тысяч наших.
Торжества действительно состоялись. Двенадцатого сентября во всех ротах и эскадронах читали приказ Перовского по Отдельному оренбургскому корпусу. "...Я удостоился счастья получить следующий высочайший рескрипт: "Василий Алексеевич! Получив донесение ваше о покорении крепости Ак-Мечети, я поспешаю выразить вам душевную мою признательность за блистательный этот подвиг, покрывший новою славою русское оружие... Желая увековечить память вашего подвига, повелеваю, чтобы крепость Ак-Мечеть именовалась отныне фортом Перовским... Пребываю вам навсегда благосклонный. Николай".
И далее. "Уведомил меня господин военный министр, что его императорское величество, во внимание к лишениям и трудам, перенесенным войсками экспедиционного отряда, и к мужеству их, повелеть соизволил: разрешить мне войти с представлением о чинах, заслуживших право на всемилостивейшее внимание..."
- Итак, вы скоро будете офицером! - Сераковский протянул Плещееву руку.
- Не думаю, Сигизмунд Игнатьевич. Ведь в приказе сказано: для тех, кто заслужил всемилостивейшее внимание. Таковое же люди, подобные нам с вами, могли бы заслужить не иначе, как какой-либо верноподданнической подлостью, а не участием в штурме или безупречной службой.
- К сожалению, вы правы... Но очевидно, недалеко то время, когда таким, как мы, снова представится возможность отличиться.
- Вы имеете в виду Турцию?
- Да, судя по новостям, которые привез из Петербурга Виктор Дисидерьевич, лорд Россель произнес в парламенте речь, направленную против России. Если верить газетам, Франция тоже горой стоит за Порту.
Тяжелое предчувствие войны не оставляло Плещеева.
Генерал Перовский еще продолжал праздновать получение монарших милостей за Ак-Мечеть, когда Турция - четвертого октября - объявила войну России. В Оренбург известие об этом пришло с фельдъегерем лишь на восьмые сутки. Начавшаяся война никак не отразилась на корпусе - слишком далеко от него разыгрывались первые столкновения на Дунае и кавказско-турецкой границе. С еще большим опозданием здесь узнали о разгроме турецкого флота при Синопе и о том, что английская и французская эскадры двадцать второго декабря вошли в Черное море, имея приказ блокировать Севастополь. Военные курьеры сперва скакали до Петербурга, а уж потом из столицы депеши направлялись в разные концы государства.
- Значит, Англия вместе с Францией и Портой против России. Признаться, я питаю надежду на начавшуюся войну.
Бронислав Залеский отложил газету.
- Не понимаю тебя, Бронислав.
- Франция всегда покровительствовала Польше, была ее другом...
- Достаточно лицемерным. На словах преимущественно.
- Военные действия могут перекинуться на Балтийское море, - продолжал Залеский, словно не слыша Сераковского. - Я бы хотел быть на французском корабле вместе с братьями и высадиться десантом где-нибудь у Полангена, в трехстах верстах от Вильно...
- Ты надеешься, что поражение России восстановит независимую Польшу? По-моему, это наивно. Нужен другой путь к свободе родины - в содружестве с Россией, а не в противоборстве с нею.
- Теперь я тебя не понимаю, Зыгмунт.
- Если разобраться глубже, русский народ терпит и страдает ненамного меньше, чем народ польский, Понятно, я имею в виду не сановников вроде Орловых или Потоцких.
Война тем временем ширилась, но до Оренбурга доносились лишь глухие и далекие ее отзвуки. Набирали силы воюющие державы. Из разных мест России направлялись в Крым подкрепления. Многие офицеры подали рапорты начальнику корпуса об откомандировании их на театр военных действий. Зыгмунт осмелился прийти к Перовскому с такой же просьбой и был внимательно выслушан.
- Я ценю ваши патриотические чувства, господин Сераковский, дружелюбно сказал начальник корпуса. - Очень возможно, что вскоре часть наших войск вступит в дело. Однако наш корпус тоже стоит на границе империи.
- Тогда дайте мне возможность показать себя здесь! Я хотел штурмовать Ак-Мечеть, мне отказали в этом...
- Не только вам. Но ежели у вас не пропало желание, я могу вас перевести в форт. Там не совсем спокойно. Кокандцы только что пытались отбить цитадель, но, слава богу, наши их разгромили.
Перевод состоялся лишь весной, но, словно в награду за долгое ожидание, в форт одновременно перевели и Плещеева, недавно удостоенного унтер-офицерского звания за штурм Ак-Мечети.
- Вы, кажется, пророчили мне первый офицерский чин?.. Ах, Сигизмунд Игнатьевич, Сигизмунд Игнатьевич! Плоховато вы еще знаете наши российские порядки.
Путь в форт Перовский лежал степью до Аральского моря, а затем Сырдарьинской наступательно-оборонительной линией, построенной сразу же после взятия крепости Ак-Мечеть.
- Новые места! - мечтательно произнес Сераковский, предвкушая далекое путешествие.
- Я бы предпочел старые, например Костромскую губернию, - ответил Плещеев. - Но ничего не поделаешь, надо ехать поближе к делу.
- Может быть, на нас нападут кокандцы еще в дороге и мы сможем отличиться?
- Едва ли. Дорога спокойная... А вы уже мечтаете о "Георгии"?
- Как будто об этом не мечтаете вы!
- Да, крест на груди - это свобода. Поневоле будешь желать хорошей стычки.
Уезжали еще затемно, чтобы до жары успеть пройти как можно больше. С друзьями простились вечером. Сераковский спал в казарме. Видавший виды заветный саквояж стоял под нарами.
Проводить своего унтера вышли все солдаты отделения, они поднялись сами до побудки. Сераковский каждому пожал на прощание руку. Ему было грустно расставаться с людьми, которые его любили.
Сераковский и Плещеев не без труда забрались на верблюда и, свесив ноги, удобно уселись на вьюки, спинами друг к другу.
Возглавлявший колонну поручик подал команду двигаться. Повелительно крикнули что-то на своем языке погонщики. Зазвенели колокольчики на верблюдах. Караван тронулся, намереваясь в первый же день пройти пятьдесят верст.
Лишь в начале июня, почти через месяц после отправки из Оренбурга, караван добрался наконец до Сырдарьи.
- Трудная река, - сказал Плещеев, глядя на нее.
Волны Сырдарьи были мутны, лиловы, берега пологи, огромные отмели желты. Вдоль берега бесконечной полосой тянулись темно-зеленые тростниковые заросли, за которыми тут же начинались солончаки и блестела, сверкала на солнце выступившая из земли соль.
Последний переход был особенно мучителен. Жара началась сразу с восходом солнца. У горизонта мелко дрожал раскаленный воздух. Засмотревшись на него, Сераковский не сразу заметил, как появилась, проглянула сквозь марево зубчатая стена.
- Вот мы и дома, Сигизмунд Игнатьевич, - сказал Плещеев, вздыхая с облегчением.
Солдаты спешились. Сераковский и Плещеев тоже оставили своего двугорбого товарища и пошли за всеми к крепостной стене.
Казармы, как и весь военный поселок, располагались за нею. Там стояли три роты четвертого Оренбургского линейного батальона, две сотни уральских казаков, сотня башкирского кавалерийского полка и артиллеристы с семнадцатью пушками.
...И потянулись дни. Впрочем, в делах, за бесконечными хлопотами они не тянулись, а бежали.
Приближалась зима, хотя и не очень долгая, однако ж студеная. Многие еще жили в палатках, а башкирское войско обитало в кибитках. К зиме надо было построить бараки, конюшни, хотя бы саманные, и гарнизон форта не столько охранял новую границу империи, сколько занимался хозяйственными делами - люди возили на быках дерн, чтобы обкладывать им кое-как сколоченные из досок казармы, косили сено, отряды казаков ездили вверх по Сырдарье за строевым лесом.
Вечерами и по воскресеньям Сераковский вместе с Плещеевым и двумя солдатами строили домик на три крохотные комнатки. Пол в нем был земляной, крыша камышовая, наподобие соломенной в русских деревнях, окошки маленькие, чтобы не так продувало ветром, стены из сырого кирпича. Дом кое-как слепили.
- По-моему, ничего лучшего и желать нельзя, - говорил Сераковский, с удовольствием оглядывая свою каморку.
- Жить можно - и ладно. День да ночь - сутки прочь, - невесело отзывался Плещеев.
- Нет уж, извините, Алексей Николаевич. За день, а вернее, за ночь я собираюсь прочитывать не менее ста страниц беллетристики или же одолевать двадцать страниц лекций.
- Я вам завидую, вы целеустремленный человек, Сигизмунд Игнатьевич. А меня все чаще грызет тоска...
- Вы займитесь чем-нибудь... Хотите, я вас буду учить польскому? Язык великого Мицкевича. Язык Словацкого, Коперника! Шопена!
- Спасибо, Сигизмунд Игнатьевич. С благодарностью приму ваше предложение. Когда же мы начнем?
- Да хоть сейчас!.. Нет, я сначала сбегаю в канцелярию за свежей газетой.
Плещеев посмотрел в окно и прислушался:
- Такая погода, Сигизмунд Игнатьевич. Дождь хлещет. Подождали б до утра с этими газетами.
- А вдруг я умру ночью, и господь бог спросит у меня о новостях в этом грешном мире, что я ему отвечу?
...Прошла морозная зима. Своим чередом наступила весна, своим чередом зацвела степь.
Однажды вечером Сераковский с Плещеевым долго сидели, не зажигая огня, в комнатке, освещенной лишь отблеском раскаленных углей в печке.
- Что же вы собираетесь делать, когда освободитесь, Алексей Николаевич? - спросил Сераковский.
Плещеев пожал плечами:
- Поеду в деревню. Скроюсь от людей. Женюсь... А вы? Впрочем, я знаю, вы мечтаете об академии...
- Да, об академии, о столице, об обществе единомышленников, которых с каждым годом будет все больше и больше, о борьбе за правду...
- Печальный опыт петрашевцев, вижу, вас не напугал.
- Нет, вдохновил!
- Что ж, радостно видеть человека, который так светло смотрит в будущее. Но пока, Сигизмунд Игнатьевич, мы с вами всего-навсего "нижние чины".
...Утром форт был взбудоражен внезапным приездом курьера из Оренбурга. Ни с кем не перекинувшись и словом, курьер вбежал к начальнику укрепленной линии и пожелал остаться с ним с глазу на глаз. Минут через десять бледный и торжественный барон Фитингоф вышел из своего кабинета в приемную, где собрались офицеры в ожидании очередного вызова, и объявил дрожащим от волнения голосом:
- Господа! Только что получено известие из Петербурга. Его императорское величество, государь Николай Павлович скончался.
- Наконец-то! - прошептал Сераковский. Со смертью царя он связывал не только изменения в своей судьбе, но и в судьбе России.
В начале мая в форте получили манифест нового императора Александра II. В опубликованном в газетах добавлении перечислялись милости, на которые мог рассчитывать народ. Одна из них касалась отданных в солдаты: начальству предлагалось представить в прапорщики заслуживающих того унтер-офицеров.
- ...Алексей Николаевич, пляшите! - Сераковский не вошел, а ворвался в комнату Плещеева... - Барон представил вас и меня. Я только что от начальника канцелярии, он конфиденциально, под строжайшим секретом сообщил об этом мне и просил обрадовать вас.
Плещеев встретил новость с грустным безразличием.
- Бумаги бог весть сколько пролежат в штабе, после чего нас с вами возьмут и вычеркнут. Не в Оренбурге, так в столице.
- Что с вами, Алексей Николаевич? Надо радоваться, а вы почему-то спокойны, словно покоряетесь судьбе: не вычеркнут - хорошо, вычеркнут - ну и бог с ним... Может быть, для верности вам стоит снова побеспокоить свою матушку, чтобы она обратилась к кому-либо из двора. Там ведь сейчас такие перемены.
Плещеев протестующе поднял руку:
- Нет, нет, только не это! Вы знаете, я всегда готов просить за других, но за себя и не люблю и считаю унизительным. А что касается покорности судьбе, то уж если, простояв перед публикой в рубашке и колпаке осужденного на расстреляние, я не впал в отчаяние, то какой-то там отказ в производстве не сможет меня сокрушить. Меня чрезвычайно обижают, волнуют разные щелчки по носу, булавочные уколы, но большие удары судьбы я переношу довольно стойко.
В один из февральских дней Зыгмунта вызвали в канцелярию. Начальник укрепленной линии был, как всегда, надменен и сух.
- Я затребовал вас, господин Сераковский, - сказал он, - чтобы сообщить, что по ходатайству генерала Василия Алексеевича государь император оказал вам свою высочайшую милость. Вы произведены в прапорщики и назначены в запасной батальон Брестского пехотного полка.
Сераковский собирался в дорогу. Собирать, собственно, было немного конспекты лекций, несколько книг, свои записки - все это без труда уместилось в кожаном саквояже.
Нахлынувшие радостные чувства переполняли Зыгмунта. Он вспомнил друзей, которые так поддерживали его в трудные дни, - беднягу Плещеева, производство которого в офицеры все еще задерживалось, Бронислава, Яна, Погорелова, Шевченко... "Ах, батько, батько!" - с нежностью подумал он и, повинуясь минуте, достал лист бумаги и написал не письмо, а, как он выразился, "послание" поляка к брату малороссу. Многое он вспомнил, когда писал, - и братоубийственные войны, и общих врагов, и сечь, и Днепр, и мужиков, и шляхту...
Он собирался сразу же отослать "послание" Адресату, но откладывал, потому что считал несовершенным и не раз правил и без того исчерченные фразы. Он привез свой труд и в Оренбург, где задержался на сей раз по причине весьма приятной, которую немедля изложил в письме к Шевченко.
"Батьку! это год радости и счастья - сегодня солнце вознеслось до зенита на небе - и наше счастье, возможное в Оренбурге, самое великое. Бронислав наш получил сегодня полное увольнение, всех прав возвращение. Завтра едет на родину - в землю нашу святую. Я жду его и поеду вместе с ним или поеду его передовым.
Я надеюсь из Москвы в Петербург заехать. И сердце, и ум, и Бронислав, которого слово для меня свято, говорят первое твое дело, батько. Бог благословит мои намерения и укрепит мое слово...
Полк, в который я назначен, стоял зимой на берегах Днепра - около Екатеринославля - на месте "Сичи". При первом известии об этом я написал послание к батьке, ты его в нынешнем году получишь. В нем слог слабый, но мысль великая, святая. Мысль не моя - чувство мое - о слиянии (двух) единоплеменных братии, живущих на обеих Днепра берегах. Прощай! Целую тебя, наш отец вечный! Дай бог целовать тебя на берегах Днепра или в Петербурге. Сигизмунд".
Еще раньше он послал восторженное письмо матери: он свободен! Он скоро увидит и обнимет ее!.. Пани Фортуната ответила быстро, а он все собирался, все улаживал последние формальности и лишь в конце июля уехал из Оренбурга. Генерал Перовский велел выписать подорожную до Петербурга через Житомир и Луцк, чтобы он смог заехать на несколько дней домой.
И вот уже нанятый в Луцке извозчик везет его по пыльному, обсаженному вербами, знакомому до боли большаку. Сначала показалась высокая колокольня, потом купы деревьев. Начались плетни, за которыми в вишневых садах белели крытые соломой хаты. Еще несколько саженей, еще один поворот - и глазам откроется длинная каштановая аллея и в конце ее их старый дом с широким крыльцом и тонкими деревянными колоннами.
На звон колокольчика под дугой кто-то вышел из двери, Зыгмунт почувствовал - мать. Он на ходу соскочил с коляски и бросился навстречу.
Пани Фортуната узнала его, несмотря на офицерский мундир и восемь лет разлуки. Она побледнела, схватилась за сердце, сделала несколько неверных шагов и пошатнулась от объявшей вдруг слабости. Сын подхватил ее, прижал к груди и мокрым от слез лицом уткнулся в ее поседевшие волосы.
Боже мои, как она изменилась за эти годы! И как вообще все изменилось вокруг! Как обветшал дом и какая неприкрытая бедность глядит из каждого угла! "Родовое поместье графов Сераковских", - он горько усмехнулся. Что можно было продать - все продано, что можно было заложить - заложено. Мать говорила об этом совершенно спокойно, она была слишком счастлива, чтобы обращать внимание на такой пустяк, как бедность. Господь наконец-то услышал ее молитвы и вернул ей сына...
- Все хорошо, все хорошо, сынок, - говорила она, гладя его по голове. - Брат Игнатий по-прежнему в Одессе у пана Аркадия, дай бог здоровья этому доброму человеку. Сестра Мария тоже пристроена, живет неплохо... За ней уже послали, но кто знает, успеет ли она приехать до твоего отъезда. Три дня - такой короткий срок.
Они проговорили всю ночь, пока не ударил в окно первый солнечный луч. Зыгмунт обнял мать, отвел ее в спальню, а сам ушел из дому.
Село уже проснулось, мычали коровы - пастух гнал на выпас стадо пана Юзефовича, крепостные пана шли на работу в поле. Каменный палац Юзефовича стоял на другом конце села, окруженный парком с английскими лужайками, каштановыми аллеями и прудом. Сераковский машинально пошел в ту сторону и, поравнявшись с воротами в усадьбу, услышал вдруг громкие, отчаянные крики.
- Кучеренку на конюшне секут, - сказала встречная женщина и перекрестилась.
- Господи! И здесь розги! - прошептал Сераковский.
Он чуть было не бросился туда, чтобы остановить экзекуцию, но сдержался. Что он один против пана Юзефовича, действительного статского советника, к тому же, как говорят, вхожего во дворец?
- Суббота сегодня, а по субботам у нас всегда секут, - пояснила женщина.
Она сказала это по-украински. Крестьяне, которые шли на барщину, говорили на том же языке. Сераковский впервые за многие годы задумался: а Польша ли это? Разве весь край по обеим берегам великого Днепра, где живут такие же люди, как и в его Лычше, разве это Польша? Разве присоединение этих земель к Польше не будет таким же актом несправедливости, как захват Россией земель истинно польских?
Три дня пролетели незаметно. Вчера с утра, по росе, он косил луг, к немалому удивлению проходивших мимо крестьян, которые, узнав молодого барина, низко кланялись ему. Сераковский так же низко кланялся им в ответ, снимая шляпу.
Вечером, возвращаясь с матерью домой, он сам завел разговор с их старым работником и говорил с ним на том языке, на котором писал стихи "батько".
- Зыгмунт, как ты себя ведешь? - пани Фортуната вздохнула. - Что бы подумал твой отец?
- Я думаю, что отец похвалил бы меня. Ведь он сражался бок о бок с такими же крестьянами... Кто знает, может быть, и мне предстоит то же самое.
- Храни тебя бог, мой мальчик, - испуганно сказала пани Фортуната.
ЧАСТЬ ВТОРАЯ
Глава первая
Да, Петербург изменился за эти восемь лет, которые Сераковский провел в изгнании. Почти готов был величественный Исаакиевский собор, который строили вот уже тридцать девятый год. Появился новый памятник - баснописцу Крылову. Снесли морские казармы, и на их месте строился Николаевский дворец. Адмиралтейскую часть и Васильевский остров соединил Благовещенский мост, недавно переименованный в Николаевский. В отличие от других петербургских мостов он был не на понтонах, а стоял на прочных каменных быках. Открылся Эрмитаж, и туда пускали публику бесплатно, однако не всех, а прилично одетых.
Но в общем Петербург остался Петербургом, и Сераковский с удовольствием узнавал старые места - строгие здания университета на берегу Невы, Пассаж с его ставшей знаменитой залой, где проходили многолюдные литературные чтения, ухабы и колеи Большого проспекта, по которому вечерами возвращались с работы ломовики.
Сейчас Сераковский жил на Владимирской улице вместе с Яном Станевичем, тоже готовящимся в Академию Генерального штаба.
После ходатайства генерала Перовского в январе 1857 года последовало наконец высочайшее повеление - считать Сераковскому старшинство в первом офицерском чине с 14 августа 1852 года. Теперь не было никаких препятствий для поступления в академию. Да, он останется военным на всю жизнь. Для достижения той цели, которую наметил Сераковский, пусть не близкой, но все же брезжущей, как огонек в ночи, понадобятся знания, которые он получит в одном из лучших учебных заведений России.
После нескольких быстрых и необременительных переводов по службе он был наконец прикомандирован к штабу гвардии, на сей раз не для прохождения службы, а специально для подготовки к поступлению в Академию Генерального штаба.
Пришлось снова менять форму, в этот раз на драгунскую - со шпорами, каской с султаном из черного конского волоса и шашкой, висящей через плечо на галунной портупее. Что ж, новая форма, пожалуй, шла к нему. Он посмотрел на себя в зеркало и заметил, что в отражении было довольно много желтого - желтый воротник, желтые канты по мундиру и почти такого же цвета усы, брови и выбившиеся из-под каски волосы.
Теперь он мог располагать своим временем, над ним не висел карающий меч грозного начальства. Это было удивительно прекрасное, ни с чем не сравнимое чувство вдруг обретенной свободы. Круг друзей и знакомых Сераковского рос чрезвычайно быстро. Казалось, давно ли он приехал в Петербург, а в его записной книжке уже тесно от адресов, среди которых один - Поварской переулок, дом отставного полковника Тулубьева - был ему особенно дорог. Там жил редактор "Современника" Николай Гаврилович Чернышевский.
Сегодня Зыгмунт снова собрался повидать Николая Гавриловича и решил сделать это не в редакции журнала, где Чернышевского осаждали знакомые и незнакомые посетители, а дома, где собирались друзья и можно было говорить обо всем совершенно открыто.
Еще в первые дни знакомства с Чернышевским Зыгмунт получил от него предложение написать для "Современника" обзорную статью на основе последних иностранных известий. Предложение было неожиданным, но чрезвычайно лестным: Сераковский счел за честь для себя участвовать в журнале, который называли евангелием молодежи.
- Вам придется переварить огромное количество информации на разных языках... Кстати, Зигизмунд Игнатьевич, вас, надеюсь, не затруднит язык Шекспира?
- Я совершенствовался в нем в оренбургских казармах...
- Виктора Гюго?
- Знаю с детства.
- Шиллера и Гете?
- Изучил в Новопетровском укреплении, вместе с языками казахским и татарским.
- Вот как? - Чернышевский с интересом посмотрел на собеседника. - К сожалению, Зигизмунд Игнатьевич, пока ни в России, ни в других странах на этих последних двух языках газет не издают. Но кто знает, может быть, настанет час, когда для нашего обзора понадобятся и они.
Разговаривая, Чернышевский держал в руке газеты, и со стороны казалось, что он не говорит, а читает по написанному. Прошло немало времени, пока Сераковский привык к этой забавной странности редактора "Современника".
С тех пор на страницах журнала уже появилось несколько статей под названием "Заграничные известия", первая - в девятой книжке за прошлый, 1856 год.
- Она составлена пока не очень искусно, - сказал тогда Чернышевский, - но исполнена фактов и в ней чувствуется ваша большая осведомленность в вопросе, эрудиция и тонкость мыслей... Вы обязательно хотите ее подписать вашим именем? Нет? Вот и хорошо. Наш журнал, как вам известно, не пользуется особым доверием государя.
- Именно поэтому, Николай Гаврилович, я и считаю за честь сотрудничать в нем.
Сейчас он нес Чернышевскому новый обзор, написанный с мыслью о многострадальной Польше. Сама Польша там даже не была названа, другие тоже несчастные государства и тоже угнетенные народы интересовали автора обзора, но за ними он зримо и ярко видел свою Польшу. "Нужно создать новый мир", - повторял Сераковский слова из своей статьи. Он боялся, что их вычеркнет цензура.
Чернышевский жил небогато, средства к существованию давал только литературный труд. Он был очень рассеян, часто забывал, что он писал для журнала, целиком полагаясь в этом вопросе на жену Ольгу Сократовну, которая и вела все расчеты с издателем "Современника" Николаем Алексеевичем Некрасовым.
Занимали Чернышевские квартиру из шести комнат. Прихожую загромождала огромная вешалка, на которой по четвергам было тесно от партикулярных и форменных пальто, шинелей, шляп, фуражек. На звонок послышались быстрые деловые шаги - дверь открыл хозяин и, узнав Сераковского, улыбнулся близорукими глазами.
- Весьма рад вашему визиту, - сказал Чернышевский, протягивая Сераковскому правую руку, а левой трогая цепочку от часов. - Нет, нет, это не намек, а всего лишь дурная привычка. Как раз сейчас у меня есть время, и мы всласть поговорим. Проходите, пожалуйста!.. Олечка! Пришел Зигизмунд Игнатьевич, - имя Сераковского он произносил по-своему, через "з". - Ты чем-нибудь нас покормишь?
- При одном условии, мой друг, если наш гость - человек невзыскательный в отношении еды, - откуда-то из глубины квартиры послышался голос Ольги Сократовны.
- Голубочка, это ведь не сию минуту. Мы еще немного должны позаниматься... Вы не возражаете, Зигизмунд Игнатьевич? - Он вдруг перешел на заговорщицкий шепот. - Могу сказать по секрету: на ужин будет телятина и арбуз... Вы любите арбузы? Что касается вашего покорного слуги, то он предпочитает оные всем другим лакомствам.
Быстрым шагом Чернышевский направился в кабинет, пропуская вперед гостя.
- Ну-с, чем вы порадуете читателей очередного нумера? - Чернышевский подвинул Сераковскому стул. - Принесли? Показывайте!
Он углубился в рукопись. Как обычно, она была написана неразборчиво, и Чернышевский не раз обращался за помощью к сидевшему рядом автору статьи.
- "Другие народы подвергались более страшным испытаниям и гонениям судьбы и, однако, исполнены "надежд"", - прочитал Чернышевский. - Надеюсь, что под "другими народами" вы всего ранее подразумеваете свою родину, не так ли?
- Да, я имел в виду Польшу, в будущее которой я верю, несмотря ни на что.
- И как вам рисуется это будущее? Польша одна или в союзе? Ее границы? Политическое устройство?
- Это очень большие и трудные вопросы, над которыми я немало думал и раньше, и особенно сейчас. И надо сказать, Николай Гаврилович, что мои мысли прежних лет значительно отличаются от мыслей нынешних. Моим идеалом была и есть свободная Польша, освобожденная от всех пут, от неравенства, от унизительного положения, в которое она поставлена историей. Я полагал раньше, что добиться этого можно, лишь опираясь на помощь извне. Сейчас я полагаю, нет, я уверен, что добиться этого можно только изнутри и с помощью России.
Сераковский долго не мог сидеть на одном месте, он встал и начал ходить из угла в угол.
- Здраво, весьма здраво! - одобрил Чернышевский. Он отбросил рукой назад длинные русые волосы. - Но вы мне не ответили на мой первый вопрос: как вы мыслите себе будущую свободную Польшу - одну или в союзе с другим государством? А если в союзе, то с кем - с Пруссией? С Австрией? С Россией?
- Боже мой, ну конечно же, с Россией!
- Со свободной Россией, - уточнил Чернышевский, и Сераковский горячо закивал в ответ. - Вы, очевидно, придерживаетесь в сем вопросе одного взгляда с Николаем Ивановичем Костомаровым, который носится со своей идеей о федерации всех славянских племен. Кстати, мне не очень понятна эта идея.
- Но почему? - Сераковский снова сел в кресло и посмотрел на Чернышевского.
- А потому, что внутри каждого народа есть отделы иди группы людей, которые находятся в антагонистических противоречиях, например земледельцы и землевладельцы, крестьяне и феодалы, а Николай Иванович видит в каждом народе некую единую массу, объединенную общностью языка, культуры и так далее, что совершенно неверно. Сословные, классовые, профессиональные различия разных групп внутри каждого народа столь велики, что мы можем с большей уверенностью говорить о федерации поляков и малороссов... Простите, Зигизмунд Игнатьевич, звонят... Прислуга заболела, и я выполняю ее функции. А, Николай Алексеевич, милости просим! - раздалось уже из прихожей.
С Некрасовым Сераковский познакомился раньше, встречался с ним и у Панаевых, и в "Современнике", и здесь, у Чернышевского, на знаменитых четвергах, когда все шесть комнат заполняли гости.
- Вот мы тут с Зигизмундом Игнатьевичем разговорились о будущем его родины - Польши, - сказал Чернышевский.
- Небось благодушествуете... Новые веяния, новые времена... - В голосе Некрасова было нетрудно уловить иронические нотки.
- И утверждаем, - тем же тоном продолжил Чернышевский, - что новое царствование, слава богу, началось не с казней и пыток, подобно предшествовавшему, а с амнистий...
- ...с милостей, - докончил Некрасов. - Вот, например, оказали милость Сигизмунду Игнатьевичу и через восемь лет ссылки в солдаты разрешили уехать за пределы Оренбургской губернии.
- Вот-вот...
- И все равно я смотрю в будущее с надеждой, - горячо сказал Сераковский. - Близятся реформы, преобразования, обновления народной жизни... То, что крепостное право - бельмо на глазу России, начинает понимать даже царь. Пора сделать операцию...
- Операцию по долгу службы придется делать мне, - неожиданно произнес кто-то четвертый, входя в кабинет. Увлекшись разговором, никто не услышал ни звонка, ни голоса Ольги Сократовны, открывшей гостю.
- А, Гавриил Родионович! Прошу, прошу! Здравствуйте, дорогой! Зигизмунд Игнатьевич, вы не знакомы? Это доктор Городков из второго кадетского корпуса... Так это вы собираетесь оперативным вмешательством лечить Россию?
- А почему бы, действительно, не произвести надрез, не вскрыть гноящуюся рану? - спросил Городков.
- Браво, браво! - воскликнул Сераковский. - Если отказываются лечить терапевты, на помощь зовут хирурга. Но хочется верить, что все обойдется без скальпеля, без крови.
Некрасов усмехнулся:
- Дай-то бог, Сигизмунд Игнатьевич, вашими устами да мед пить. А мне все-таки боязно, как бы нынешнее царствование не кончилось тем, чем предшествующее началось...
За обедом гости и Ольга Сократовна, веселая, беззаботная, очень молодая, пили легкое вино. Чернышевский же не брал в рот ничего спиртного и ограничивался обыкновенной водой. Разговор перекинулся на искусство, говорили о последнем концерте в университетской зале, об итальянской опере, почему она вытесняет оперу национальную, русскую, а затем снова о политике, о позорном мире, которым закончилась Крымская война, о необходимости добиваться конституционной формы правления, о том, что в народе, словно в дереве по весне, бродят живительные соки и что надо как можно лучше воспользоваться временем.
В разгар обеда зашел Николай Александрович Добролюбов, но от еды отказался и даже сел поодаль, на диван, и молча долго слушал, о чем говорили за столом.
- Ну и какой прок, - Добролюбов слабо усмехнулся, - от всех этих ваших прекрасных разговоров между прекрасными, все так прекрасно понимающими людьми!
- В самом деле, господа, какой толк? - спросил Некрасов.
- Я всюду слышу одни слова и не вижу дела, - продолжал Добролюбов.
- Простите, Николай Александрович, но разве то, что делаете вы с Чернышевским и Некрасовым, тоже только слова? - сказал Зыгмунт, немало удивляясь и горячась. - Разве правдивое слово, вовремя и метко сказанное, не становится делом, призывом, набатом, поднимающим народ на борьбу?
- У нас, Сигизмунд Игнатьевич, крепко связаны руки. Над легальным журналом довлеет цензура, знакомое вам Третье отделение, сам царь-батюшка. Нужны другие формы борьбы!
Здание Академии Генерального штаба на Английской набережной смотрело своим фасадом на Неву, на Академию художеств на том берегу реки. До академии здесь помещалась Коллегия иностранных дел, к которой были приписаны и принимали присягу чиновники коллегии Пушкин, Грибоедов, Тютчев, Кюхельбекер... Сераковский любил русскую поэзию и с благоговением вошел под своды много повидавшего здания.
Сейчас в нем ничего не напоминало о поэтах. Сновали взад-вперед по коридорам приехавшие попытать счастье офицеры разных родов войск, в парадной форме. Почти все боялись экзаменов, многие были плохо подготовлены, некоторых, особенно тех, кто приехал из глуши, пугали непривычная обстановка, обилие золота и серебра на эполетах высокого начальства. При встрече с ним они истово вытягивались либо переходили на строевой шаг, вспоминая солдатскую муштру.
Академия только начинала ощущать свежий ветерок реформ, в ней еще была жива солдафонская школа ее первого директора генерал-адъютанта Ивана Онуфриевича Сухозанета, с его двумя любимыми изречениями, употребляемыми им к месту и не к месту: "Без науки победить возможно, без дисциплины никогда" и "Наука в военном деле не более как пуговица к мундиру: мундир без пуговиц нельзя надеть, но пуговица еще не составляет всего мундира".
Сменявшие Сухозанета начальники, и в том числе теперешний, генерал-майор Густав Федорович Стефан, в общем-то шли дорогой, проторенной первым директором. По инерции на палочную, казарменную дисциплину в академии обращали гораздо больше внимания, чем на науку. Но сейчас как будто многое должно было измениться к лучшему. В нынешнем, 1857 году, впервые за всю историю академии, был объявлен неограниченный прием офицеров. Это, естественно, повлекло за собой значительное увеличение расходов. Боялись, что государь этого не одобрит, но на докладе главного начальника военно-учебных заведений появилась высочайшая резолюция: "Для такого полезного дела о новых расходах жалеть нечего".
Сераковскому врезался в память день первого посещения академии, когда он явился сюда, чтобы ознакомиться с приказом о допущении к экзаменам. Это происходило в мрачном кабинете штаб-офицера для начальствования над обучающимися офицерами, Генерального штаба подполковника Александра Ивановича Астафьева, угрюмого человека в выцветшем черном сюртуке с потускневшими от времени погонами. Подполковник невнятно пробормотал приказ - его зачем-то выслушивали стоя - и предложил завтра же явиться на прием к начальнику академии.
Прием заключался в том, что всех поступающих выстроили по полкам на маленькой площадке. Последовала команда: "Смирно!" - после чего появился сухонький и старенький Стефан, увешанный множеством русских и заграничных орденов. Он небрежно махнул рукой, разрешив тем самым стоять вольно, и принялся молча оглядывать ряды.
- Что вас побудило подать заявление в Академию Генерального штаба? спросил он поручика в гренадерском мундире с красным воротником.
- Желание служить родине, ваше высокопревосходительство! - бойко ответил тот.
- А разве в полку вы были бы менее полезны России?
- Так точно, ваше высокопревосходительство!
Такой же вопрос начальник академии задал еще нескольким офицерам. Кто-то ответил: "Не могу знать!", - вызвав тонкую насмешливую улыбку генерала.
- А вы, прапорщик? - Стефан остановился против Сераковского.
- Я хочу служить в Генеральном штабе и употребить возможные усилия для того, чтобы в армии были отменены телесные наказания. В полку добиться этого труднее, чем в Генеральном штабе.
- Смело, но в отличие от других совершенно конкретно. Как ваша фамилия, прапорщик?
Чтобы поступить в академию, требовалось набрать средний балл не менее восьми. Восемь было нижним пределом хорошей оценки. Отличный ответ оценивался двенадцатью баллами.
- Двенадцать баллов, по-моему, никто не получит, - сказал, подойдя к Зыгмунту, незнакомый поручик, с изящно подстриженными усиками и бакенбардами на смуглом лице. - По крайней мере я - пас! А ты?
- Буду стараться, - ответил Сераковский осторожно.
- И совершенно зря! Ты знаешь, что означает отличная оценка?.. Иди за мной! - Он бесцеремонно потащил Сераковского в какую-то комнату, в которой на черной доске висело литографированное "Положение для поступающих офицеров, или оценки успехов в науках". - Слушай! - продолжал веселый поручик. - "Пятая степень. Успехи отличные, - прочитал он вслух. - Только необыкновенный ум, при помощи хорошей памяти, в соединении с пламенной любовью к наукам, а следовательно, и с неутомимым прилежанием, может подняться на такую высоту в области знания". Слышал? - Поручик вздохнул. О нет, пятая степень - это определенно не по мне. Увы! - Он развел руками.
- А какая же по тебе? - спросил Сераковский. - Неужели первая?
- Достоинство первой степени в том, что ее может осилить каждый, даже наш дворник Харитон. Хотя и первая, оказывается, имеет целых четыре балла - от благородного нуля и до трех. - Он снова прочел с потешной серьезностью в голосе: - "Успехи слабые. Ученик едва прикоснулся к науке, по действительному ли недостатку природных способностей, требуемых для успеха в оной, или потому, что совершенно не радел при наклонности к чему-нибудь иному"... Смотри, как дипломатично: тебе не говорят, что ты круглый идиот, а, напротив, оставляют надежду на то, что ты гений, правда в какой-то другой области знаний... Нет, я постараюсь ехать на третьей и четвертой степенях - от семи до одиннадцати баллов. Вот так! Ты боишься?
- Боюсь, - признался Сераковский.
- А я - смотря чего. Артиллерии и строевых уставов не боюсь нисколечко. Фортификации - тоже, разве что полевой. А вот за всеобщую географию опасаюсь. А ты?
- За арифметику. Я ведь целый курс сидел на математическом факультете - не получилось... Нет, серьезно, иной раз попадается такая задачка, что без алгебры не решишь, а алгебре в арифметику вход строго воспрещен.
- Законоведение! Политическая история! Кому это надо?.. Языки, конечно, знаешь. А то тут, говорят, немец очень строгий, Лемсон, что ли. А вот француз Кун - душка... Да, как тебя зовут? Полчаса болтаем, а еще не знакомы!
- Сигизмунд Сераковский.
- Поручик Николай Дементьевич Новицкий Второй, как значусь в списках испытуемых, - отчеканил молодой человек, щелкая каблуками и козыряя. - У тебя тут дружок есть?
Сераковский кивнул.
- Жаль. А то я хотел бы тебе предложить дружбу.
- Разве число друзей у человека ограничено? По-моему, чем больше, тем лучше.
- Правильно! Тогда давай руку! Вот так. - Новицкий попытался крепко стиснуть Зыгмунту руку, но вместе этого сам вскрикнул от боли. - Однако ты силен!.. А где твой друг?
- Если не ошибаюсь, - Сераковский посмотрел в окно, - ходит по дорожке и, наверное, ждет меня.
- Так что же мы тут стоим битый чае! Пошли - познакомишь.
Они вышли.
- Ясь, мы здесь! - крикнул Сераковский. - Знакомься - это Николай Дементьевич Новицкий... А это Онуфрий Фердинандович Станевич.
- Ясь... Онуфрий? Не понимаю! - воскликнул Новицкий.
- Особенность и преимущество римско-католической веры. Несколько имен на выбор, - пояснил Станевич, улыбаясь.
- Кто из вас в какой очереди? - спросил Новицкий.
- Оба в третьей.
- И я в третьей. Вот совпадение!
Двенадцать офицеров, из которых состояла третья очередь, сегодня держали экзамен по политической: истории - древней, новой и русской. На ответ отводилось не менее получаса, при двенадцати экзаменующихся это составляло не менее шести часов, а с двумя перерывами - и все восемь. В классные комнаты, где заседали комиссии, дежурный офицер вызывал по списку: тех, кто уже сдал, он просил не задерживаться.
- Черт возьми, даже расспросить не у кого! - возмущался Новицкий.
...Несмотря на офицерские чины, все поступающие вели себя, как самые захудалые гимназисты - толпились у дверей аудитории, где шли экзамены, старались подслушать ответы. Дежурный офицер лениво стыдил их: "Все там побываете, господа! Куда торопитесь?"
Тут распахнулась дверь - из аудитории вылетел красный как рак, вытиравший пот с высокого лба преображенец, перед ним все быстро расступились с молчаливым и тревожным сочувствием.
- Прапорщик Сераковский! Извольте пройти на экзамен, - послышалось из-за двери.
Зыгмунт через силу улыбнулся Станевичу, тот незаметно пожал ему руку.
В большой и пустой комнате за длинным столом сидели трое: генерал, полковник и капитан Генерального штаба. Сераковский поклонился всем сразу, подошел к столу и взял три билета. Последний, по русской истории, показался Сераковскому трудным и, главное, идущим вразрез с его убеждениями: "Докажите происшествиями ту истину, в которой убеждаемся мы здравым смыслом и которую каждый россиянин должен считать догматом веры, то есть что единодержавие есть совершеннейший и лучший образ правления для всякого народа и особенно для могущественного государства".
По этому вопросу экзаменовал генерал.
- Попрошу отвечать, - сказал он, подняв на Сераковского усталые глаза.
Сераковский мог бы без труда доказать, что лучшей формой правления является отнюдь не единодержавие, но это означало бы полный провал, а может быть, и новый арест... Он остановился на Италии, которая из-за раздробленности пока не смогла стать государством, достойным своего народа, давшего миру великих писателей, скульпторов и художников.
Генерал ухмыльнулся.
- Подобно математику, - сказал он, - вы доказываете теорему от противного... Что ж, это довольно оригинально, прапорщик.
С вопросом, интересовавшим полковника, - о войнах Франции в семнадцатом веке - Сераковский справился довольно легко, но чуть было не осекся на дополнительном вопросе: "Станьте спиной к карте и назовите все мосты, через которые прошла армия Бонапарте, отступая от Москвы до пределов России".
Капитан Генерального штаба экзаменовал по древней истории и после того, как Сераковский обстоятельно рассказал о завоеваниях Александра Македонского, не задал больше ни одного вопроса и поставил высший балл. Он сделал это так, что Зыгмунт видел отметку.
О результатах экзамена Сераковский узнал в конце дня, когда из аудитории вышел курсовой начальник и среди других назвал фамилию Сераковского. "По древней истории - 12, по новой - 10, по русской - 11, средний балл - 11".
Остальные Зыгмунт сдал так же успешно и тридцатого октября прочел приказ о своем зачислении в академию. Из 152 офицеров, явившихся к экзаменам, были приняты 106, в том числе Станевич и Новицкий.
- Поздравляю! - торжествовал Новицкий. - Итак, мы снова школяры. Но ничего, здешний лекарь берет трешку за визит и свидетельствует о твоем расстроенном здоровье при любом его состоянии. Имейте это в виду.
Первый день занятий запомнился надолго. Сераковский пришел чуть ли не раньше всех. В дежурной комнате на столе лежал журнал, в котором надо было расписаться. Дежурный офицер, высокий и нескладный, осмотрел его с головы до ног - нет ли какого непорядка в форме? Непорядка не оказалось, и Сераковский вошел в гардеробную, где отставной солдат Федор принял у него пальто, каску и шашку.
Ровно в девять в аудиторию быстрым шагом вошел молодой человек в мундире полковника Генерального штаба - профессор и начальник кафедры военной статистики Николай Николаевич Обручев. Несмотря на свои двадцать восемь лет, он уже был достаточно известен как автор военно-исторических трудов, напечатанных отдельными книжками и в "Отечественных записках".
- Господа офицеры, - начал Обручев, - наука, которую я имею честь вам преподавать, занимается изучением стран и государств в военном отношении.
Это была смелая и блестящая по форме лекция о военном потенциале Российской империи, прозвучавшая как обвинение правительству, приведшему страну к поражению в Крымской войне. Два часа показались Сераковскому минутой. Забыв о необходимости соблюдать субординацию, он подошел к Обручеву, когда тот уходил из академии.
- Как редко в наши дни можно услышать столь смелые мысли ...я не нахожу слов, чтобы выразить вам свое восхищение, профессор...
Обручев улыбнулся, и его простоватое лицо с широким носом и излишне крутым лбом сделалось удивительно симпатичным.
- Благодарю вас, я рад, что вам понравилось... Простите, ваша фамилия? Сераковский?.. Очень, очень приятно. Я слышал о вас от Николая Гавриловича...
С Чернышевским Сераковский не виделся давно - время отнимали экзамены, продолжавшиеся месяц, - и теперь он решил, что сегодня же обязательно съездит к нему.
- О, Зигизмунд Игнатьевич! - Чернышевский с чувством пожал Сераковскому руку. - Как ваши успехи? Впрочем, не надо отвечать: судя по вашему сияющему виду, вы приняты и ваши дела идут отлично. Поздравляю, поздравляю...
- Спасибо, Николай Гаврилович. Да, я зачислен, уже был на занятиях и слушал великолепную лекцию профессора Обручева.
- Николая Николаевича? Это подающий большие надежды молодой человек. И главное, свободомыслящий! Я бы хотел, чтобы вы поближе сошлись с ним, это полезно вам обоим.
- С моей стороны препятствий к сему не будет.
- Думаю, что и с его тоже.
Выдался тот редкий вечер, когда у Чернышевского никого не было. Они сидели в кабинете, и Николай Гаврилович расспрашивал Сераковского об академии, о принятых в нее офицерах - каких они полков, как настроены и есть ли среди них мыслящие люди.
- Простите, Зигизмунд Игнатьевич, запамятовал что-то, сколько, вы сказали, принято в теоретический класс?
- Более ста человек.
- Прошлые годы принимали куда меньше... Это те люди, которые в большинстве, завершив образование, снова уйдут в роты, батальоны, полки. Вы понимаете, Зигизмунд Игнатьевич, как было бы заманчиво иметь там людей, близких нам по духу, мыслящих, свободолюбивых, готовых бороться за счастье народа... Как вы думаете, Зигизмунд Игнатьевич, такие люди среди ваших товарищей по академии есть?
- Конечно! - мгновенно откликнулся Сераковский. - Но ручаться головой я могу пока человек за трех, за четырех.
- Немного, но для начала хорошо и это... Молодые люди, Зигизмунд Игнатьевич, - благороднейший сырой материал, глина, из которой можно вылепить то, что захочет рука скульптора.
- Да, но кто же займется этой лепкой?
- Вы!
Сераковский протестующе замахал руками:
- Что вы, что вы! Какой из меня скульптор!
- Зигизмунд Игнатьевич, поверьте моему опыту. У вас есть все для того, чтобы быть впереди, вести за собой других, - страсть, я бы даже сказал, одержимость идеей, целеустремленность, искренность, водя. Вы горячи, возможно, даже опрометчивы в своих действиях, но этот недостаток всегда может быть ослаблен при помощи более опытного и уравновешенного друга. Уверяю вас, что эти качества вашего характера привлекут к вам множество людей, и вам надлежит превратить их в своих единомышленников. И надо приступать немедля, два года занятий в академии - срок слишком мизерный для того, чтобы долго раздумывать, пора действовать!
Все это время Зыгмунт смотрел на Чернышевского - на его ставшее вдруг почти юным лицо, на утомленные добрые глаза и движения руки, как бы подтверждающие высказанную мысль.
- Начните с кружка, - продолжал Николай Гаврилович, - с безобидного на первый взгляд, ну хотя бы литературного...
- Я думал об этом...
- Тем лучше! Единомышленникам необходимо встречаться, чтобы выработать план совместной борьбы. Вот вы однажды познакомили меня с некоторыми вашими друзьями. Это прекрасные люди, но они разобщены. Все вместе вы мне напоминаете руку с растопыренными пальцами, тогда как нужен кулак!
- Хорошо, я постараюсь, - ответил Сераковский после некоторого раздумья. - Боюсь, однако, что мне придется изрядно надоедать вам: я буду приходить за советом, за помощью и за добрым словом...
- Рад буду помочь вам.
Итак, снова кружок - литературный, исторический, дело не в названии, а в существе, в том, что любая организация, любое объединение людей не может остаться вне политики, не высказать своего отношения к текущим событиям, к вопросам, которые волнуют все общество.
Сераковский часто возвращался в своих воспоминаниях к университетским годам, к тому первому студенческому кружку, который нарочно, подчеркнуто ограничивал себя чисто польскими вопросами и не допускал в свои ряды никого, кроме поляков. Нет, новый кружок будет не таким, он станет шире, просторнее, и не только по идеям, которые в нем будут утверждаться, но и по составу. Никакой кастовости, ни малейшего проявления национализма! Недавно он получил письмо от Шевченко: "батько" надеется скоро обнять его, встретиться "в добром кругу друзей-соизгнанников", так неужели и перед ним надо захлопнуть дверь кружка лишь по той причине, что Шевченко не поляк? Или Николай Николаевич Обручев? Разве не интересно будет послушать его статьи "Изнанка Крымской войны", статьи, которые, возможно, так и не увидят света из-за содержащихся в них смелых идей?
Сераковский мысленно как бы продолжал недавний спор с одним из своих старых знакомых по университету - Якубом Гейштором, из ковенских помещиков, который говорил, что у него не поднимется язык говорить правду, если в их кружке будет хоть один русский. Сераковский резко ответил, что кружок очень мало потеряет, если там не окажется такого поляка, как Гейштор. Зыгмунта поддержал Эдвард Желиговский. Недавно он закончил вторую часть своей драмы в стихах "Иордан" и хотел прочитать ее друзьям. Что ж, боевая поэзия Совы - тоже повод для занятия кружка.
Кого же пригласить еще? Последние дни Сераковский присматривался к товарищам по академии особенно пристально. У него был своеобразный подход к людям: он заведомо принимал на веру, что любой человек - хороший, и, наоборот, требовал всякий раз доказательств, если ему говорили, что тот или иной человек дурной.
Для приглашения он решил воспользоваться общим торжественным вечером, посвященным двадцатипятилетию академии. Оно отмечалось двадцать шестого ноября, в день учреждения ордена святого Георгия Победоносца, патрона Генерального штаба. Собрание членов Совета академии, на которое пригласили всех бывших и настоящих воспитанников ее, состоялось на следующий день. После молебна с обязательным провозглашением многолетия императору и христолюбивому победоносному русскому воинству к собравшимся обратился заслуженный профессор Богданович.
- Каждый из офицеров, получивший военное образование в академии, заплатит ей долг развитием дарований своих и скромностью, украшающею самые дарования! - провозглашал Богданович. - Да радуют нас они отличиями по службе, приобретенными ценою подвигов прямой доблести! Да явятся из среды их новые Суворовы на гибель врагам России!
Тут грянули аплодисменты, и все перешли в верхние залы, где были накрыты праздничные столы. Сераковский сидел вместе со своими товарищами по классу. Звенели бокалы, произносились речи, с каждым разом все более смелые - за новые веяния, за новые времена, за новые свободы. Сераковский вглядывался в лица говорящих.
Веселье тянулось до утра. Постепенно из зал перебрались в аудитории, образовав компании: каждый выбирал товарищей по вкусу.
- В следующую субботу, к пяти часам пополудни. Нет, ничего особенного, просто соберемся, поговорим. Если у тебя есть верный друг, приведи и его.
И Сераковский, широко улыбаясь, подходил к другому офицеру.
Вечером в субботу все четыре комнаты на Офицерской, составлявшие одну холостяцкую студенческую квартиру, заполнили молодые люди. Преобладали военные. Было немало и сюртуков - это пришли "гражданские чины" из числа знакомых Сераковского. Почти все штатские носили длинные модные бороды, среди которых выделялась красиво расчесанная надвое борода худого высокого мужчины лет тридцати пяти на вид, в отлично сшитом сюртуке, с бронзовой медалью на андреевской ленте - столоначальника департамента горных и соляных дел Иосафата Петровича Огрызко. Он говорил что-то юнцу в студенческой потрепанной куртке.
Пожалуй, лишь один человек держался пока обособленно, он стоял возле окна, скрестив на груди руки, и наблюдал за тем, что происходит в комнатах. Был он среднего роста, крепко сложен, во всей его фигуре, и не только в ней, но и во взгляде, в чертах мужественного лица чувствовалась физическая и духовная сила. На крутой высокий лоб спадали непослушные русые волосы. Это был Константин Калиновский, студент университета.
- Кастусь, не изображай из себя памятник, - сказал, подойдя, Сераковский. - Все равно тебе его не поставят даже после смерти.
- Как знать, Зыгмунт... - Мрачное до этого лицо Калиновского сделалось добродушным.
Почти все уже перезнакомились друг с другом, многие обменялись визитными карточками и разбрелись по комнатам. То здесь, то там раздавался смех: это какой-то остряк рассказывал пикантные истории.
- Боже мой, на столько мужчин - ни одной дамы! - воскликнул бравый офицер в гвардейском кавалерийском мундире.
- Но тогда бы ты не услышал этого анекдота!
На длинном непокрытом столе лежали журналы и газеты, среди которых были иностранные, недавно полученные из Лондона и Парижа. В соседней комнате стоял другой стол - с закусками, принесенными самими же гостями, и шипел огромный медный самовар.
- Не хватает только кувшинов с молоком, - сказал Сераковскому Станевич. - И еще пани Терезы!
- Ты, кажется, с удовольствием вспоминаешь те дни! - Зыгмунт вздохнул. - Впрочем, я тоже.
Он волновался, хлопотал, стараясь поспеть всюду.
- Настоящая красота в том, чтобы избавить людей от голода! - говорил молодой человек в форме студента военного лесного института.
- И ты знаешь рецепт, как это сделать? - на ходу поинтересовался Зыгмунт. - Рад видеть тебя, Врублевский!
Поодаль, собрав нескольких слушателей, длинноволосый юноша в мундире с инженерным кантом декламировал запрещенные стихи:
В судах черна неправдой черной
И игом рабства клеймена;
Безбожной лести, лжи тлетворной,
И лени мертвой и позорной
И всякой мерзости полна...
- О ком это? - спросил Сераковский.
- О матушке-России, - ответил офицер. - И нам, представителям новой силы и нового духа, надлежит обновить ее! О-бе-лить!
- Может быть, не Россия черна, - сказал Зыгмунт, - а черны порядки в ней? Вот с ними-то и надо бороться, а не с Россией...
Собравшиеся чувствовали себя непринужденно, подходили к столу со снедью, наливали чай, брали бутерброды и несли все это в другие комнаты, устраиваясь кто на диване, кто на подоконнике. Газет и журналов тоже не осталось на месте - все пошли по рукам.
- Может быть, устроителю сегодняшней встречи пора сказать слово? крикнул кто-то.
- Зыгмунт, просим!
- Пожалуйте все в столовую, господа!
Сераковский обождал, пока установилась тишина.
- Среди нас есть люди, принадлежащие к разным нациям. Но принадлежность к той или иной из них не может разъединить людей, которые одинаково мыслят, стремятся к одной и той же цели. Пусть не все мы родные по крови, но мы родные по духу, а это более важно, это выше и святее, чем родство по крови!
Сераковский говорил недолго, а затем попросил Антония Сову прочитать свою новую драму.
- Нет, господа. - Желиговский встал. - Я хочу с вашего разрешения прочесть вам не свои стихи, а чужие - одного виленского поэта. Только что я получил их с оказией, ибо по почте посылать было рискованно... несмотря на новые веяния, - добавил он с ухмылкой. - Стихи посвящены поэту Некрасову и заслуживают того, чтобы о них узнали все, кому дорога родина.
Стихотворение было довольно длинное, но Желиговский прочел его на одном дыхании, вдохновенно и, когда смолкли аплодисменты, обращенные не только к поэту, но и к чтецу, тут же перевел их на русский язык.
"Пой, молодой поэт, пой! Ты счастлив, у тебя миллионы почитателей. Твой народ любит своих поэтов, ждет с ними встречи и плетет им венки. У нас - все труднее и все иначе. Народ, прошлое которого велико и могущественно, тяжело болен от горя, от тоски, от унижения - что можно спеть этим людям? Пой, молодой поэт, пой, чем полно твое сердце. Пусть и стар и млад наслаждаются песней твоею, пусть упивается ею вся русская земля. Но если тебе когда-либо станет грустно, вспомни меня, как вспоминают брата, сделай это для меня, прошу тебя. Но только не проклинай нас в своих песнях. Довольно ненависти между братьями! Довольно крови и слез, довольно могильных холмов, оставшихся на поле сражений. Пусть песнь мира пронесется над той землею, которая орошена кровавым дождем. Пой, молодой поэт, пой! Я тебе желаю славы, венков лавровых, признания, овации! Нам же остаются одни молитвы, вздохи и слезы, нам остается смерть без славы! Пой, молодой поэт, пой!.."
Желиговский умолк, устало опустился на стул, по еще долго стояли не двигаясь все, кто до тесноты заполнил комнату. И по тому, как долго они молчали, по тому, как кто-то приложил к глазам платок, как у него самого навернулись непрошенные слезы, Сераковский понял, что встреча не пройдет впустую, да что не пройдет - уже не прошла!
...После нищенского, подневольного существования в Оренбургском корпусе, после казармы с нарами и глинобитной каморки в форте Перовском теперешнее петербургское жилье Сераковского выглядело просто великолепно в большом четырехэтажном доме с фонарями у подъезда и широкой парадной лестницей, которой он, правда, не пользовался, так как к нему в квартиру вел черный ход со двора. Но боже мой! Какое это имело значение, если в нескольких минутах ходьбы шумел Невский, а в смежной комнате жил не кто иной, как дорогой соизгнанник Ян Станевич, мудрый и спокойный Ясь.
Жалованье, которое получали воспитанники академии, помогло покончить с нищетой. Впрочем, денег все равно не хватало: Сераковский тратил их широко, давал взаймы, заведомо зная, что долг не вернут, покупал много книг, выписывал газеты. Комната, которую он занимал, походила на бивак: казалось, ее хозяин вот-вот должен отправиться в далекое путешествие. Сдававший квартиру домовладелец поскупился на мебель, и книги лежали на подоконнике, на софе и просто на полу. На видном месте красовался потертый кожаный саквояж, с которым Зыгмунт никак не хотел расставаться, и он тоже усиливал впечатление, что его обладатель вот-вот покинет свое жилье.
Обычно Сераковский занимался много и допоздна, но из-за вчерашней затянувшейся встречи сегодня проспал, благо было воскресенье и можно было поваляться в постели. Он уже собирался встать, когда зазвонил звонок над входной дверью. Зыгмунт подумал, что это пришла молочница-чухонка, но молоко, оказывается, уже стояло на столе. Он накинул халат, привезенный из Азии, и открыл дверь. Перед ним стоял Чернышевский.
- Николай Гаврилович! - Сераковский обрадовался.
- Здравствуйте, Зигизмунд Игнатьевич... - Чернышевский вошел в переднюю. - Я, кажется, помешал вам?
- Что вы! Что вы! Прошу, проходите, пожалуйста! Извините, что у меня не прибрано... Вы уже завтракали? Ах, какая жалость. А то я мог бы вас угостить кофе по рецепту одной великолепной старушки, которая жила в Новопетровском укреплении, - пани Зигмунтовской... Ясь! Я-ась! - крикнул он. - Посмотри, кто к нам пришел! - Никто не отозвался. - Оказывается, его нет дома... Сейчас я уберу с дивана книги, и вы сможете сесть.
Чернышевский улыбнулся.
- Не беспокойтесь, Зигизмунд Игнатьевич, я не надолго. Зашел отдать визит и поинтересоваться, как идут ваши дела.
- Великолепно! Вчера было первое собрание кружка. Пришло человек тридцать.
По обыкновению горячась, он стал рассказывать о вчерашнем вечере.
- Читали прекрасные стихи...
Чернышевский мягко улыбнулся:
- Если прекрасные, хорошо. Но, видите ли, Зигизмунд Игнатьевич, мне бы хотелось увидеть ваш кружок другим. Вы еще не знакомы с издателем и книгопродавцом Дмитрием Ефимовичем Кожанчиковым? У него на Невском можно приобрести весьма ценную литературу. Например, вот такую. - Чернышевский вынул из бокового кармана сюртука небольшого формата газету, сложенную вчетверо. - Это "Колокол". Первый нумер. Вольная русская газета, издаваемая в Лондоне Искандером.
- Великим изгнанником? - спросил Сераковский взволнованно. Покажите!
Он взял газету и стал нетерпеливо проглядывать ее, сначала быстро, одни заголовки, потом все медленнее, внимательнее.
- Вы уже читали? Нет, вы только послушайте, что он пишет! "Неужели пройдет даром гигантский подвиг в Тавриде? Севастопольский солдат, израненный и твердый, как гранит, испытавший свою силу, так же подставит спину палке, как и прежде?" Боже мой! Ведь это то самое, о чем я думаю много лет, с того дня, когда нам дали в руки шпицрутены и заставили стать убийцами солдата Охрименко! - Он поднял глаза на Чернышевского. - Николай Гаврилович, вы можете мне оставить эту газету?
- Я для того и принес ее вам, Зигизмунд Игнатьевич... Но читать запрещенного Герцена одному, в одиночку, - слишком большая роскошь.
- Я вас понял, Николай Гаврилович. На следующем заседании кружка я познакомлю с "Колоколом" всех.
- Только, пожалуйста, будьте осторожны. Не забывайте, что Петропавловская крепость в получасе ходьбы.
- Третье отделение и того ближе.
- Вот-вот... обратите внимание, как остро ставится в "Колоколе" проблема освобождения крестьян. К ней примыкает другая проблема наделение землей тех, кто ее поливает своим потом. А это, конечно, потребует жертв, ибо, на мой взгляд, мирное, тихое развитие вообще невозможно. Без конвульсий нельзя сделать ни одного шага в истории. Чернышевский замолчал и прислушался. - Кажется, звонят... На всякий случай, спрячьте газету.
- Не беспокойтесь, Николай Гаврилович, полиции пока еще не известен адрес этой квартиры.
- Как знать... Но пойдите же откройте, звонят!
- Это, наверное, Ясь.
Пришел, однако, не Станевич, а живший по соседству Новицкий.
- Ты выбрал очень удачное время для визита! - сказал Сераковский, приглашая гостя в комнату. - Знакомься, пожалуйста. Это... - он показал на Чернышевского.
- ...Николай Гаврилович, - закончил Новицкий. - С которым мы уже встречались несколько лет назад. Не помните? Николай Дементьевич Новицкий, - представился он.
- Сказать по правде, нет, - добродушно ответил Чернышевский.
- Тогда мы пытались разыскать вашу студенческую квартиру...
- И слава богу, не разыскали. - Он рассмеялся. - Я поныне не могу решить, что в ту пору было для меня более затруднительно - указать свою квартиру или принять кого в ней... Но если вы пожелаете навестить меня сейчас, то милости просим. Я живу... Впрочем, вот моя визитная карточка. Он стал шарить по многочисленным карманам своего костюма, но безрезультатно. - Ничего не поделаешь, - сказал он, - придется вам записать адрес... А я-то собирался сегодня же отдать два-три визита! Вот растяпа!
- Николай Гаврилович, не беспокойтесь, все поправимо! - Сераковский пришел ему на помощь. - У меня есть готовые карточки, на которых остается только написать имя.
Не дожидаясь согласия Чернышевского, он уселся за письменный стол, вынул из ящика пачку карточек и начал быстро писать на них "Николай Гаврилович Чернышевский". Он очень торопился, и чернила брызгали, оставляя многочисленные пятна. Уже давно были готовы три первые карточки, а Сераковский все писал новые.
- Да, постойте, постойте, Зигизмунд Игнатьевич, на что мне столько! Чернышевский, добродушно смеясь, тщетно попытался удержать Сераковского.
- Ничего, пригодятся на случай, если вдруг опять потеряете!
Сераковский взбежал на четвертый этаж и, распахнув дверь, крикнул с порога:
- Ясь, слушай! Какая новость! На той неделе приезжает Шевченко... Ты не знаешь, когда приходит поезд из Москвы?
- Ты что, собираешься всю неделю ходить на вокзал? Поезд приходит часа в два, что ли.
- Черт возьми! В самый разгар лекций!
Манкировать занятиями было накладно: за пятнадцать минут опоздания объявляли выговор, за полчаса - полагался суточный арест.
- Что касается приезда Тараса, то я рад не меньше тебя, - сказал Станевич.
Еще в прошлом году Сераковский написал Шевченко письмо, вернее, приписал несколько строк к письму Залеского, в которых как бы предугадывал близкую встречу. В тот памятный день, третьего июля, он навсегда покидал Оренбург.
"Батьку! - Так Сераковский всегда называл в письмах Шевченко. - До свидания в Петербурге или в Киеве. Алла-Екбер! Бог великий - увидимся! Еду с полной надеждой, что судьба всех нас облегчится!.. Великие люди великие переносили страдания. Одно из величайших - степь безвыходная, дикая пустыня. На пустыне жид певец Апокалипсиса. На пустыне ты теперь живешь, наш лебедю!.. Прощай! Целую тебя, до свидания. Твои Сигизмунд".
И вот скоро они наконец встретятся.
Сераковский только что был у Анастасии Ивановны - она и ее муж вице-президент Академии художеств Федор Петрович Толстой хлопотали за Шевченко и в конце концов добились "высочайшего повеления" о его освобождении - и узнал там, что Тарас Григорьевич вот-вот появится в столице. С начала марта Шевченко уже гостил в Москве, у Щепкина, чуть не каждый день собирался выехать в Петербург, но болезнь и друзья задерживали его.
Зыгмунт очень хотел, чтобы "батько" остановился у него - места хватит! - но того же самого хотели и другие его "сотоварищи" по оренбургским казармам, да и по казематам Третьего отделения. Уже почти все они отбыли назначенный срок, отсидели, отслужили на казенных царевых харчах, и лишь один Шевченко по той же царской милости дольше всех тянул горькую солдатскую лямку.
Оказалось, что поезд из Москвы приходил не в два часа дня, а в восемь вечера, и Сераковский три вечера подряд ходил на вокзал встречать Шевченко. На дебаркадере было очень шумно, тесно, носильщики выхватывали у пассажиров чемоданы, бесчисленные агенты всевозможных отелей и меблированных комнат, стараясь перекричать друг друга, наперебой предлагали свои услуги. У выхода толпились извозчики, зазывавшие седоков и заламывавшие с неопытных провинциалов тройную цену.
Сераковский бегал вдоль вагонов, вглядывался в лица приезжих, но напрасно - Шевченко не было.
Он приехал как раз в тот день, когда Зыгмунт не пошел к поезду. Тараса Григорьевича никто не встречал, но у него в кармане лежало любезное приглашение от Лазаревского и адрес - угол Большой Морской и набережной Мойки, дом графа Уварова, во дворе.
- Где же мои соизгнанники оренбургские, Михайло Матвеевич? - спросил Шевченко, когда улеглась первая радость встречи.
- Тут, тут твои друзи-поляки... Небось по ним скучаешь, - ответил Лазаревский, наливая гостю новую чарку. - Завтра, коли захочешь, всех побачишь.
- А может, сегодня?
- Нет, сегодня я тебя никуда не отпущу, сегодня ты весь мой.
Лазаревский был уже навеселе, и его круглое, опушенное бородкой безусое лицо с пухлыми щечками и пухлыми губами выражало решимость ни с кем не делиться своим знаменитым гостем.
- Адрес-то дай мне хотя бы.
- Сигизмунда своего у Василия Белозерского найдешь, там и Сова квартирует, у Василия.
- А Станевич?
- Все, все там бывают вечерами... Василь журнал украинскою мовою издавать надумал. Вот ты там свои стихи и напечатаешь.
- Дай-то бог!
Михаил Матвеевич Лазаревский, брат Федора Матвеевича, тоже в свое время служивший в Оренбургской пограничной комиссии, уже давно оставил степь и переселился в столицу, где работал теперь старшим советником Петербургского губернского управления.
Засиделись поздно. Хозяин расспрашивал об Оренбурге, оба вспоминали свою первую встречу, тогдашнее житье-бытье.
Утром Шевченко поднялся ни свет ни заря и осторожно, чтобы не разбудить хозяина, вышел из квартиры. Валил мокрый густой снег, под нога и хлюпало, дул пронизывающий ветер с залива.
Целый день Шевченко бродил по Петербургу, узнавая и не узнавая его, побывал у Академии художеств, однако же внутрь не зашел - слишком много воспоминаний было связано с этим зданием... Изрядно намотавшись, пообедал в трактире у Балабина на Садовой и лишь к вечеру добрался до квартиры Василия Михайловича Белозерского, в прошлом члена Кирилло-Мефодиевского братства и своего соседа по каземату в 1847 году.
- Батюшки! Батюшки, кого я вижу! - раздался восторженный, громкий голос хозяина. - Надия! Иди сюда скорее! Все, все идите - Сигизмунд, Ян, Антоний!
Белозерский бросился обнимать Шевченко, и, пока он это делал с неуклюжей мужской искренностью, пока Тарас Григорьевич вытирал выступившие на глазах слезы, в прихожую прибежали все, кто был в квартире.
- Батько! Бать-ко! - тихонько вскрикнул Сераковский.
- Брат Тарас!..
- Он самый, други мои дорогие, он самый!
Шевченко переходил из одних объятий в другие, плача и не стыдясь своих слез. Кто-то стягивал с него мокрое пальто, кто-то расшнуровывал промокшие штиблеты.
- Ну-ка, поворотись, - сказал Белозерский. - Дай на тебя поглядеть хорошенько.
Перед ним стоял лысый, бородатый, очень усталый старик с веселыми от возбуждения и заплаканными глазами.
- Где ж твои каштановые кудри, Тарас? - тихо спросил Белозерский.
- В Урал-реке да в море Каспийском, Василь.
- А годы твои где? Силы где?
- Друзья, к чему грустные вопросы? - Сераковский не выдержал. - Батыю с нами! Он свободен! Разве этого мало?
Жена Белозерского Надежда Александровна, красивая, с русой косой, повитой вокруг головы, быстро собрала на стол и принялась угощать украинскими блюдами. А друзья сидели, вспоминали прошлое, смеялись, плакали, чокались чарками, произносили сердечные речи и пели родные песни.
- Слышал я, что ты собираешься издавать украинскую газету или журнал, правда ли? - спросил Шевченко у Белозерского.
Тот кивнул.
- Надо воспользоваться некоторым ослаблением цензуры. Думаю, разрешат. Свое содействие и поддержку обещали Чернышевский, Тургенев, Катенин. Да еще Костомаров, недавно ему предложили занять кафедру русской истории в университете. В Петербург из Саратова переезжает.
- Далеко пошел Николай Иванович. - Шевченко горько усмехнулся. - А ведь сидели в одной темнице...
- Разных людей государь-император по-разному одаривает своими монаршими милостями, - заметил Сераковский.
- Да ну его, этого царя, чтоб о нем вспоминать в такой доброй компании. - Шевченко махнул рукой. - Давай лучше о журнале продолжим. Ты там, Василь, Антония обязательно напечатай. Я переведу.
- Спасибо... Мы тоже, брат Тарас, задумали свой журнал, польский, сказал Желиговский. - Уже в в Петербургский цензурный комитет прошение подали. Думаем назвать наше детище "Слово".
- И приглашаем всех добрых друзей Польши участвовать в нем, - добавил Станевич. - Правда, Зыгмунт?
- Конечно, Ясь! - Он повернулся к Шевченко. - Это будет легальное издание, в котором мы постараемся высказать нелегальные мысли. Во главе всего дела стоит Огрызко. Он занимает большой пост в одном из департаментов и совершенно вне подозрений. Думаю, что нам удастся усыпить бдительность цензурного комитета.
- Ну что ж, друзи, коли так, выпьемо ж еще по чарке за обои наши журналы! - предложил Тарас Григорьевич.
- Да, еще одна добрая новость! - Сераковский удивился, как это он мог забыть о ней. - С мая начинает выходить "Военный сборник". И ты знаешь, батько, кого назначили главным редактором? Николая Гавриловича Чернышевского.
Вскоре Сераковский получил записку от Чернышевского, который просил зайти к нему домой в любое время, начиная с четырех часов пополудни. Он выбрался дня через два и застал Николая Гавриловича в кабинете, за столом, заваленным ворохом исписанных разными почерками листов.
- Очень, очень кстати, Зигизмунд Игнатьевич. Все это - рукописи для нового журнала, и, если вы мне не поможете разобраться, я в них просто утону. Кстати, здесь есть одна корреспонденция, которая вас наверняка заинтересует. - Он подал Сераковскому несколько листов тетрадочного формата.
Зыгмунт взглянул на заголовок - "Голос из армии" - и углубился в чтение. Спокойно читать он, однако, не смог. Статья явно взволновала его, он то садился в кресло, то поднимался порывисто, продолжая читать на ходу, подчеркивал что-то карандашом и бросал одобрительные реплики.
- Все до последнего слова правда! - сказал Зыгмунт, закончив чтение. - И как смело написано! Вот хотя бы это: "Кому из нас не обила ушей ходящая, всеразрешающая... но глубоко безнравственная и бессмысленная фраза: "Для русского солдата необходима палка: он хороших слов не понимает"... Повторяющим аксиому о необходимости палки и в голову не приходит, какой страшный укор они возводят сами на себя, какое высказывают непонимание русского человека вообще и русского солдата в особенности... Этот солдат не колеблется перед жерлами неприятельских пушек, не выдает в трудную минуту своих... Горячее наше сочувствие должно быть обращено к этому сильному, простому человеку, идущему безропотно против многих невзгод и лишений... Солдат - это человек, и потому отношение офицера к солдату должно стать на ряду самых капитальных вопросов нашего "быта""... Что касается меня, то я обеими руками подписываюсь под каждым словом этой статьи.
- Я знал, она вам понравится, Зигизмунд Игнатьевич. Но что скажет военный цензор?
Глава вторая
Наконец-то он едет в Вильно! Почти два месяца он будет свободным. Отныне не обязательно подниматься в Семь утра, чтобы не опоздать на занятия, не надо оставаться в академии по вечерам и при свете принесенной с собой свечи портить глаза, разбирая мелкие топографические карты.
Он страшно устал, переутомился за год, особенно трудными были последние два месяца, когда пришлось изрядно помучиться на практических занятиях по геодезии. Но сейчас все осталось позади, как и Петербург с его Академией Генерального штаба. Нет, он не ропщет, он чертовски доволен своей жизнью, своими друзьями, занятиями, профессорами, офицерским кружком, в котором уже обозначилось крепкое ядро. Многие из тех, кто бывали на первых собраниях, разочаровались и перестали приходить. Что ж, и это к лучшему - семечки очистились от шелухи.
Но прочь, прочь мысли об академии, о Петербурге, о кружке - в Литве он будет только отдыхать! В конце концов он может себе позволить такую роскошь - первый раз за девять с лишним лет...
Поезд не торопился, останавливался на каждой станции, и все, решительно все было для Сераковского ново - он впервые ехал не на перекладных, а на громыхающем, свистящем поезде. Утром прибыли в Динабург. Железной дороги в Вильно еще не было, и пришлось идти на почтовую станцию и пересаживаться в карету. Местность стала холмистое, справа и слева от дороги, в сосновом бору, поблескивали то зеленым, то черным глубокие провальные озера.
В Вильно Сераковский был и раньше, приезжал еще гимназистом, но это было давно, и сейчас он рассматривал город как бы впервые. На площади, застроенной неказистыми каменными домами, сновали в толпе факторы, предлагая свои услуги приезжим. Комиссионеры с бляхами на шапках наперебой расхваливали свои отели - "самые лучшие, самые дешевые и самые удобные". Сераковский никому не написал, что приедет, его никто не встречал, и он решил остановиться в каких-нибудь дешевых меблированных комнатах.
Помахивая саквояжем, он пошел через город, намереваясь добраться до шумной Замковой улицы, где было много пристанищ для приезжих. Был субботний теплый ясный вечер, и масса праздношатающегося люда заполнила узкие средневековые улочки. После Петербурга с его широкими нарядными проспектами Вильно показался Сераковскому провинциальным и грязным. Он шел почти наугад, путаясь в кривых переулках с глухими, без дверей и окон стенами домов.
Навстречу попадались разодетые по случаю субботы евреи в кафтанах с длинной талией, цилиндром на голове и с аккуратно подстриженными бородами. Их жены шли чуть позади в кринолиновых юбках и цветных шляпках-пирожках. Многие знали друг друга и раскланивались при встрече. Офицеры вели под руку нарядных дам, судя по внешнему виду - русских. Хорошенькие панночки, возвращавшиеся из костелов, стреляли в Сераковского глазами и с притворным испугом отводили взгляд, когда Зыгмунт невольно и не без удовольствия им улыбался. На перекрестках стояли дородные усатые полицейские, равнодушно, без всякого интереса наблюдавшие за оживленной толпой.
Он вдруг вспомнил 1846 год и вот эти улицы, по которым в летний жаркий день длинной вереницей шли бедно одетые, возбужденные люди. Шли трубочисты и угольщики с черными худыми руками, узкогрудые портные, кузнецы, шорники, разорившиеся мелкие лавочники, хорошенькие горничные, которые, преодолев страх, присоединились к разношерстной толпе мужчин. При виде процессии Зыгмунт не мог остаться в стороне, как это делали тысячи обывателей, высыпавшие на тротуары или глядевшие из окон. Он присоединился к ремесленникам, которые решили бороться за свои права. И не только присоединился, но и произнес речь, когда народ, выйдя из кварталов старого города, остановился на Кафедральной площади, возле собора святого Станислава... К счастью, он успел вовремя уехать сначала к себе на родину, а потом в Петербург, а многих из тех, кто слушал его выступление, вскоре обвинили в заговоре, "составленном для освобождения Литовских губерний от России...".
- Ай, как нехорошо, когда друзья проходят мимо с гордым видом! услышал вдруг Сераковский.
Задумавшись, он не заметил, как путь ему преградил подпоручик в мундире с малиновым кантиком, какой носили лесничие. Сераковский поднял глаза и обрадовался: перед ним стоял Врублевский.
- Валерий! Вот не ожидал! Я полагал, что ты сидишь в своих гродненских пущах.
- Занятия начнутся через два месяца... Я ведь назначен инспектором в училище лесоводства.
- О, поздравляю!
- Спасибо... Ты куда путь держишь?
- Искать пристанища. Я только что приехал.
- Чудак! У дяди Евстахия есть свободная комната.
- Очень может быть, но я не хочу никого стеснять!
- Чепуха, пошли!
Евстахий Врублевский, в прошлом член Кирилло-Мефодиевского братства, был сослан в 1847 году на восемь лет и по окончании срока возвратился на родину, в Вильно. У него была большая, правда довольно мрачная, квартира в старинном доме со стенами полуторааршинной толщины и узкими стрельчатыми окнами, выходящими на замощенный булыжником двор. Сам дядя оказался очень милым, уже немолодым человеком с грустным выражением лица и лихо закрученными в колечки седыми воинственными усами.
- Какой может быть разговор, Зыгмунт? - сказал он. - Комната пустует, и она в полном твоем распоряжении.
- Устраивайся поскорее, а то придут Кастусь и Титус, - сказал Валерий.
- Неужели Калиновский?
Валерий кивнул.
- А кто такой Титус? - спросил Зыгмунт.
- Далевский... У него сестры. - Младший Врублевский выразительно поднес к губам пальцы и причмокнул. - Прелесть!
- Это очень благородная, святая семья, Зыгмунт, и очень пострадавшая за правду, - сказал пан Евстахий.
- Я знал братьев Францишека и Александра и их сестру Теклю, - заметил Сераковский.
- Францишек недавно вернулся с каторги... "Союз литовской молодежи" помнишь, надеюсь. Александр и Титус на подозрении у полиции, как и все шесть сестер.
- Хорошо бы познакомиться с ними! - воскликнул Сераковский. - Тогда они совсем девчонками были.
- Попроси Титуса. Правда, как брат, он их оберегает от всякого мужского глаза.
Сераковский едва успел умыться с дороги, как заскрипела лестница под чьими-то шагами и в дверь вошли Кастусь Калиновский и с ним еще двое незнакомых Зыгмунду молодых людей. Один из них был в студенческой форме, круглолицый, с пышной шапкой густых волос и внимательными глазами, которые изучающе остановились на Сераковском. Второй носил сутану, однако так щеголевато и ловко, что невольно думалось: вместо сутаны ему гораздо более подошел бы гвардейский мундир.
- А у нас гость! - объявил им Врублевский. - Из Петербурга.
- Подумаешь, удивил! - Человек в сутане пожал плечами. - Вот гость из Подберезья - это другое дело.
- Антось Мацкевич как раз викарий из этого местечка, - пояснил Врублевский, представляя Сераковскому бойкого ксендза. - Мы с ним иногда деремся на шпагах, и он меня всегда заставляет просить пощады.
- Зато Валерий может попасть из пистолета в муху, сидящую на кресте костела святой Анны, - ответил Мацкевич. - А я только в ворону.
- Ладно тебе, святой отец... Зыгмунт, перед тобой Титус Далевский, строгий блюститель нравственности всех своих сестер.
- Рад познакомиться, - ответил Зыгмунт. Рука, которую он осторожно пожал, была спокойной и сильной.
- Кастусю, надеюсь, тебя не надо представлять?
- Он мне достаточно надоел в Петербурге. - Вопреки этому утверждению, Зыгмунт порывисто обнял Калиновского. - Сам не знаю почему, но я по тебе очень соскучился... Ты что-то не заходил ко мне?
- Наверное, по той же причине, по какой и ты ко мне. Чтобы остаться казеннокоштным студентом, надо заниматься.
- Кавалеры! Разве мы должны сидеть в душных покоях, когда так хорошо на улице? Пошли гулять! - предложил ксендз.
- Пить кофе к пани Юзефе, после чего отправимся на Большую Погулянку, - уточнил Врублевский. - Именно там, - он посмотрел на Зыгмунта, - мы можем встретить очаровательных сестер Титуса.
- Всех шестерых? - спросил Сераковский.
- Боже, какой он жадный! - Врублевский картинно всплеснул руками. Титус, береги сестер от этого опасного драгуна!
Заведение пани Юзефы находилось недалеко от бывшего университета, в красном кирпичном доме. Несколько крутых ступенек вело вниз, в подвальчик. Там было темно, потрескивали оплывшие свечи, освещая сводчатый потолок и нескольких человек, сидевших за столиком в углу.
- О, какая прелестная компания! - приветствовала вошедших старая хозяйка. - Что угодно панству? Кофе? Чай? Или что покрепче?
Было уже поздно, когда они покинули кофейню. Несколько тусклых уличных фонарей почти не давали света: бледная вечерняя заря еще освещала западную часть неба. Как и обещал, Валерий повел друзей на Погулянку - она оказалась недалеко, у Белых столбов, за которыми уже кончался город и начинался сосновый лес. По широкой улице, редко застроенной деревянными домиками, прохаживались, заполняя проезжую часть, молодые люди. Слышались тихий смех, говор...
Навстречу друзьям шли несколько девушек, очень похожие друг на друга; Сераковский заметил это при свете фонаря, к которому они приблизились.
- Ну вот мы и встретились! - Врублевский преградил девушкам дорогу и взял под козырек так лихо, словно увидел перед собой по меньшей мере генерала. - Разрешите представить вам будущего полководца, а пока прапорщика Арзамасского драгунского полка, слушателя Академии Генерального штаба Зыгмунта Сераковского... Зыгмунт, сделай шаг вперед.
- Валерий, побойся бога! - Сераковский, улыбаясь, отвесил общий поклон всем шести сестрам.
Он не помнил, как получилось, что через несколько минут оказался рядом с одной из них, в то время как другие сестры и остальные из его компании шли почему-то впереди. Он уже знал, что его спутницу зовут Аполония, что она самая младшая в семье и посещает тайные женские курсы, где занятия ведутся на польском языке, а музыку преподает органист костела святой Терезы Станислав Монюшко. Зыгмунт незаметно разглядывал ее. Она показалась ему совсем девочкой. "Сколько ей? - думал он. - Семнадцать? А может быть, нет и шестнадцати?" У нее были удивительно правильные, приятные черты лица и большие любопытные глаза, которые она время от времени поднимала на Зыгмунта.
Говорила она мало, но зато сосредоточенно, жадно слушала, а он, поощренный ее вниманием, рассказывал о сырдарьинской степи, какой она бывает, когда весной зацветают тюльпаны.
- Мы завтра встретимся, надеюсь? - спросил он, перед тем как расстаться.
- Очевидно, нет. Я уезжаю.
- Можно, я поеду с вами?
- В Кейданы?
- Хоть на край света!
Она рассмеялась:
- Какой вы быстрый... прапорщик Сераковский!
Ночью он долго не мог заснуть, лежал, смотрел в сводчатый потолок и думал... Ему уже тридцать два года, вся молодость его прошла в пустыне, без женского общества, которое так благотворно действует на мужчин, смягчая нравы и побуждая к благородству, к подвигу. Как говорили в полках, "сердце его было свободно от постоя", он никогда и никого всерьез не любил, разве что Гелю. Это было еще в университетскую пору, когда он зарабатывал себе на жизнь тем, что переписывал сочинения графа Ржевуского. Боже мой! При его почерке переписывать для набора целый роман! Но он отвлекся... У графа была служанка, Геля, чудесная деревенская девушка, сама чистота, сама невинность. Она ему нравилась; кажется, нравился и он ей, но, на беду, она нравилась и графу. И как только он случайно заметил, что переписчик и служанка незаметно переглядываются, на следующей же неделе Геля куда-то исчезла. "Я ее отправил в фольварк, чтобы она не мешала вам работать, пан Сераковский", - объяснил граф... Больше он ее не встречал. А потом арест, казарма, подневольное положение солдата. И никого вокруг, кроме скучных офицерских жен... И вот теперь Аполония. "Аполония!" - он вслух повторил это имя. Но, боже милый, ведь она чуть не вдвое моложе его! Что будет, если они полюбят друг друга? Впрочем, праздный вопрос! Она завтра уезжает в свои Кейданы, к родственникам, он едет к матери, в Лычше, оттуда - в Петербург. Наверное, они не увидятся больше. А ежели так, то пора и спать, прапорщик Сераковский, скоро утро. Восток белеет в окне.
...Весь июль и половину августа Сераковский провел у матери и, как и в первый свой приезд, косил сено, метал стога и убирал озимую рожь, к удивлению соседних крестьян. Впервые он стал так пристально присматриваться к жизни крепостных, запросто заходил к ним в хаты и читал стихи Шевченко. Крестьяне почтительно слушали странного молодого барина.
А потом был снова Петербург, встретивший Сераковского прохладной погодой, туманом и листопадом. Туман как раз поднимался, выглянуло солнце. Оно еще было теплое, даже жаркое в полдень, но стоило отойти в тень - и сразу чувствовалась осень. Как обычно, в начале осени, листья падали сухие и громко шуршали под ногами, когда Сераковский шел через двор к своему подъезду. Во дворе стоял старый высокий клен, и он тоже облетел.
Квартира оказалась запертой на висячий замок - значит, Ян еще не приехал, и Сераковский зашел к домовладельцу, чтобы взять ключи.
- К вам тут один господин приходил, - сказал ему хозяин. - И письмишко оставил, просил передать в собственные руки.
Письмо было от Погорелова. Сераковский давно не имел от него известий и очень обрадовался, узнав, что его соизгнанник по Новопетровскому укреплению наконец-то получил первый офицерский чин, приехал в Петербург и поступил в Медико-хирургическую академию. "Чертовски хочу тебя видеть, писал Погорелов. - Адрес твой узнал у Шевченко, который тоже ждет не дождется твоего возвращения. Приходи в любой день, но только после шести вечера. Я живу в доме Акушкина, угол Слоновой и 3-й Рождественской".
Они увиделись в тот же вечер. Погорелов мало изменился. Все так же насмешливо и остро смотрели его глаза, движения были так же угловаты, резки, а в голосе звучали знакомые покровительственные нотки. Мундир сидел на нем мешковато, буднично, он носил его без подчеркнутого щегольства, присущего офицерам-полякам, и в том числе Сераковскому.
- Вид у тебя бравый, хоть куда, - сказал Погорелов, с удовольствием оглядывая друга. - Загорел, возмужал... Забыл думать о болезнях...
- Увы, горло по-прежнему беспокоит. Ты, как будущий медик...
- Будущий фармацевт, вернее химик, - уточнил Погорелов. - Но я не о том! - Он выразительно дотронулся рукой до головы. - Насчет бессмертия и прочих таких завихрений, помнишь?
Сераковский рассмеялся:
- Вылечился с твоей помощью.
- Ну и ладно... Мне Шевченко говорил, что ты тут в каком-то кружке верховодишь. "Полярная звезда", "Колокол" и прочее. - Глаза Погорелова смотрели с притворной суровостью. - Вот упекут тебя еще раз в блаженной памяти Оренбургский корпус, а то и на рудники сошлют, будешь знать, как государя императора тревожить... А ежели серьезно, то что это за кружок? Так, баловство, благонамеренные речи, хоть Дубельта приглашай?
- Ты же сам сказал - "Полярная звезда", "Колокол" и прочее.
- А прочее что?
- Тебе, оказывается, мало "Полярной звезды" и "Колокола"? - удивился Зыгмунт.
- Не мало, но все-таки?
- Приходи - узнаешь! Мы собираемся по средам, в семь часов, на Офицерской, у товарища по академии. Лучше всего бери извозчика и заезжай за мной, ты ведь в столице человек повыл.
И все же он не выдержал и рассказал Погорелову, что в Петербурге есть немало радикально настроенных офицеров, не солдафонов, как на Мангышлаке, а настоящих людей, умных, решительных, и что офицерские кружки работают и в других местах.
- Цель в том, Погорелов, чтобы все эти разрозненные пока кружки постепенно слить воедино - в тайное общество. Общероссийское.
- Ого, куда хватил! Молодцом!
- Это не моя идея, Погорелов. Я лишь повторяю мудрые слова одного человека...
- Его имя для меня тайна?
- Для тебя - нет. Чернышевский.
- Почему-то я так и думал.
- Ты понимаешь, коль скоро будет восстание, а я в это свято верю, то начинать его, наверное, придется войску. Больше некому. И тайное общество, за которое ратует Чернышевский, должно принять начальство над поднявшимся войском. Эти же люди потом станут во главе восставшего народа.
- Я вижу, что влияние Чернышевского пошло тебе явно на пользу, сказал Погорелов.
- С кем поведешься... - шутливо ответил Зыгмунт.
Однажды вечером, воротясь из академии, Сераковский нашел у себя дома записку от Огрызко. Пан Иосафат извещал, что вчера вернулся из поездки и приглашал "на чашечку кофе" к восьми часам "по важному деду". Сераковский устал - сегодня как раз был день строевых занятий и чуть не треть суток пришлось провести на манеже, под дождем и снегом. "Важным делом", конечно же, было предполагаемое издание польского "Слова", на которое Сераковский возлагал большие надежды.
Ехать надо было на Канонирскую. Он нанял извозчика и, пока ехал, думал о том, удалась ли Иосафату его благородная миссия по вербовке корреспондентов будущей газеты. Сераковский верил в организаторские способности Огрызко, подкрепленные к тому же связями в Петербурге и положением в обществе. За усердную службу Огрызко добился чина коллежского секретаря, затем титулярного советника, потом коллежского асессора. Каждое такое повышение, естественно, влекло за собой и повышение оклада, который достиг трех тысяч рублей годовых, что вместе с доходами от имения в Минской губернии позволило пану Иосафату жить на широкую ногу одному (в свои тридцать пять лет он не был женат), занимать огромную квартиру в доме Петрашевского, принимать многочисленных гостей и вложить часть своих средств в устройство типографии, в которой должны были печатать "Слово".
Сераковский знал Огрызко еще со времен петербургского студенческого кружка, но долгие годы разлуки отделили их друг от друга. Зыгмунт даже перешел на "вы" в разговоре, что, впрочем, Огрызко принял как нечто само собой разумеющееся.
Дверь открыла молоденькая служанка-полька. Она была приветлива, мила и напомнила Зыгмунту недавние встречи под Вильно - вот таких же румяных панночек, их опущенные долу лукавые глаза... Служанка проводила его до высокой дубовой двери в кабинет, откуда, услышав шаги, уже спешил навстречу сам Огрызко. Немного выдающиеся скулы, довольно крупный прямой нос и смуглая кожа делали его похожим скорее на кавказского горца, чем на поляка.
- О, Зыгмунт, здравствуйте, здравствуйте! Рад вас видеть. - Он протянул обе руки. - Садитесь, сейчас подойдут остальные, они, к сожалению, не столь точны, как вы. Впрочем, это национальная особенность поляков. В отличие от немцев они опаздывают всегда и всюду.
Просторный кабинет был заставлен книжными шкафами, а письменный стол завален журналами, корректурами, деловыми казенными бумагами. Две свечи под зеленым абажуром освещали лишь письменный стол, вся остальная комната была погружена в полумрак.
- Как съездили, Иосафат, удачно ли? - спросил Сераковский, усаживаясь в кресло напротив Огрызко.
- Да, все в порядке, Зыгмунт. Я побывал в Варшаве, Кракове, Бреслау, Познани, Берлине, Брюсселе, Кельне, Дрездене и всюду нашел людей, которые горячо сочувствуют нашему святому делу. Они готовы снабжать газету сообщениями и статьями.
- А из России - из Москвы, Киева, Оренбурга, Тифлиса? Оттуда будут корреспонденты?
Огрызко задумался.
- А надо ли это, Зыгмунт?
- Обязательно! Ведь одна из главнейших целей издания, как я мыслю, это сближение народа польского с народом русским.
- Да, да, конечно. Но, по-моему, это сближение должно проводиться в той мере, в какой оно полезно польскому делу.
- Простите, Иосафат, я не согласен с вами.
- Будущее покажет, кто из нас прав, Зыгмунт.
- Хорошо, не будем спорить, - примирительно сказал Сераковский, - тем более что газеты пока нет.
- Но уже есть разрешение его превосходительства попечителя Петербургского учебного округа и председателя цензурного комитета.
- Вот как! Значит, наше польское "Слово" будет произнесено!
Лишь около девяти раздался звонок и пришли сразу трое: Эдвард Желиговский, Владимир Спасович и Павел Круневич.
- С приездом, пан Иосафат! С благополучным возвращением в родные края!.. О, Зыгмунт уже здесь?
Со Спасовичем Сераковский виделся не часто. Не то чтобы он охладел к другу студенческих лет, который так много хлопотал о нем в герольдии, просто оба они были очень заняты - один в академии, другой - в университете.
Соизгнанника Шевченко врача Павла Адамовича Круневича Сераковский почти не знал, хотя несколько лет провел с ним в Оренбургском корпусе.
- Итак, господа, разрешение на издание газеты "Слово" получено, объявил Огрызко. - За это мы должны благодарить человека близкого к императорскому двору... Средства на издание текут довольно обильно. Одна весьма великодушная знатная дама, моя хорошая знакомая, сегодня известила меня, что ее вклад составит сорок тысяч рублей! Есть и другие поступления, правда не такие внушительные.
Огрызко позвонил в лежавший на столе серебряный колокольчик, и тотчас в кабинет вошла служанка.
- Прошу кофе, - сказал Огрызко. - Но, - продолжал он, - газета, господа, не самое важное в нашем деле. Важнее другое, а именно: получив разрешение издавать газету, мы тем самым добились права открыть собственную типографию. В ней мы сможем печатать...
- Те вещи, которые совсем не следует показывать цензору! - докончил за него Сераковский. - Все то, что поможет Польше скорее стать свободной! Статьи из "Колокола", книги "Вольной русской типографии". Прокламации! Воинский устав... да, да, именно воинский устав, который в случае восстания понадобится прежде всего!
Огрызко слушал Сераковского, низко наклоня голову, и ответил не сразу.
- Нет, Зыгмунт. Все, что ты говоришь, очень заманчиво, однако ж и опасно. Опасно для нашего общего дела. Мы не можем рисковать тем, чего добились...
В редакцию "Слова" вошли двенадцать человек, и в их числе Огрызко и Сераковский.
В декабре на двери, которая вела в подъезд дома, где жил пан Иосафат, появилась сияющая медная дощечка: "Типография И. Огрызко". Типография помещалась на первом этаже. Наборные кассы и печатный станок выписали из Германии, наборщиков пригласили из Варшавы, печатников и метранпажа нашли в Петербурге. Корректоров не нанимали: за грамотностью следили сами редакторы.
Настроение у всех было приподнятое - еще бы, первая польская газета в Петербурге! Сераковский задумал напечатать большую статью о взаимоотношениях двух братских народов - польского и русского. Статья поглотила его целиком, он думал о ней даже на лекциях профессора Обручева...
Перо быстро скользило по бумаге, мысли обгоняли непослушную руку, которая писала так неразборчиво, что через час он уже сам с трудом мог разобрать написанное.
"Для того чтобы земли бывшего Королевства Польского могли быть прочно соединены с Россией, одно условие необходимо: союз этот... должен быть "к а к р а в н ы е с р а в н ы м и, к а к в о л ь н ы е с в о л ь н ы м и..." Надо, чтобы при решении важных государственных дел люди забыли, что они поляки, малороссы, великороссы..."
Он схватил только что исписанные листы и поехал на Канонирскую. Ему не терпелось, он должен был сейчас, сию минуту поделиться своими мыслями с издателем "Слова".
Огрызко сидел у себя в кабинете и правил гранки, еще влажные они лежали перед ним на столе.
- Что-нибудь случилось, Зыгмунт? - спросил он. - У вас такой возбужденный вид. Впрочем, вы всегда излишне возбуждены, вам не хватает сдержанности, поучитесь этому у финнов.
- Иосафат, я только что написал то, что мне кажется очень важным, как я мыслю будущее устройство отчизны, - сказал Сераковский, протягивая рукопись. - Правда, это еще только набросок, не более.
Огрызко читал внимательно и долго. Много лет он имел дело с самыми разными бумагами, написанными самыми разными людьми, и без особого труда разобрал почерк Сераковского.
Наконец Огрызко окончил чтение. Лицо его оставалось бесстрастным, но в голосе чувствовалось легкое неудовольствие.
- Видите ли, Зыгмунт, вы знаете мою точку зрения на вопрос польский. Этакую статью можно свободно напечатать в "Санкт-Петербургских ведомостях" или в "Северной пчеле". Мне кажется, что настало время писать смелее, острее ставить вопросы...
Сераковский удивился:
- Но вы же недавно говорили совсем другое!
- Да, Зыгмунт. Но тогда речь шла о подпольных изданиях, а сейчас - о легальной, разрешенной правительством польской газете... Между прочим, у меня сложились очень хорошие отношения с будущим цензором. Я уже давал на просмотр ряд довольно рискованных материалов, и он, пока, конечно, неофициально, разрешил их... А теперь, - Огрызко добродушно посмотрел на Зыгмунта, - теперь я хочу сообщить вам весьма приятную новость. Только что получено письмо от Лелевеля!
- Друга Мицкевича, его учителя и наставника?! - Сераковский действительно обрадовался.
- Правда, творчество Лелевеля в России под запретом...
- А сам он в изгнании.
- И все же, Зыгмунт, мы напечатаем его письмо!
- Искренне хвалю за смелость, Иосафат!
Первый номер "Слова" вышел в канун 1859 года. Тридцать первого декабря в академии не было занятий, и весь день Сераковский и Станевич провели в типографии. Они стояли у печатного станка и смотрели, как колдовал над ним старый мастер. Тут же были Спасович, доктор Круневич, рабочие. В половине двенадцатого ночи весь тираж был готов и в типографию спустился издатель.
- Поздравляю вас, господа, - сказал Огрызко, - и прошу всех ко мне наверх встречать Новый год.
- Вы, кажется, собирались пригласить Шевченко, Иосафат, где он? спросил Сераковский.
- У Тараса, Зыгмунт, своя компания, и я не захотел лишать его малороссийского общества.
- Очень жаль.
С первым ударом часов полетели в потолок пробки от бутылок с шампанским.
- За наше пламенное польское "Слово", друзья! - провозгласил тост Сераковский. - За свободу отчизны!
Беда нагрянула неожиданно, как и большинство бед на свете. Двадцать пятого февраля в газете напечатали письмо Лелевеля. Оно не содержало никаких противоправительственных выпадов, но сам факт его появления был сочтен столь предосудительным и дерзким, что последовало распоряжение цензурного комитета, и газету закрыли.
Спасович срочно приехал в академию и вызвал Зыгмунта.
- Слава богу, ты цел и невредим! - были его первые слова.
Сераковский испугался.
- Что случилось?
- Закрыли "Слово". В типографии обыск. Иосафат арестован и заключен в крепость.
Спасович видел, как Огрызко выходил из дому - совершенно спокойно, в богатой бобровой шубе и такой же шапке. Сопровождавшие его жандармы были сдержанно-вежливы.
- Завтра об этом будет знать весь Петербург, - сказал Спасович.
Он не ошибся. В столице заговорили о несправедливом аресте человека, вся вина которого заключалась в том, что он опубликовал письмо польского изгнанника. Кто-то сокрушался об умирающей с горя подруге сердца пана Иосафата. Кто-то многозначительно говорил:
- Вы слышали, этот несчастный сидит в том самом каземате, в котором сидел Костюшко. Странное совпадение!
Из уст в уста передавали сочиненное Некрасовым двустишие:
Плохо, братцы. Беда близко,
Арестован пан Огрызко!
На следующий день Сераковский зашел к редактору "Современника", у которого в то время сидел Тургенев.
- Сочувствую, Зигизмунд Игнатьевич, и возмущаюсь до глубины души! Чернышевский пожал Сераковскому руку.
- Я не слишком хорошо знаю господина Огрызко, - сказал Тургенев, однако считаю своим долгом направить государю вот это письмо. - Он протянул Сераковскому исписанный лист бумаги. - Может быть, вас заинтересует содержание.
- Конечно, Иван Сергеевич.
"Заключение лица невинного, - прочел Зыгмунт, - если не перед буквой, то перед сущностью закона, запрещение журнала, имевшего целью самостоятельное, то есть единственно разумное соединение и примирение двух народностей, - эти меры, и другие с ними однородные, опечалили всех искренно преданных Вашему величеству людей, устрашили возникавшее доверие, потрясли чувство законности, столь еще, к сожалению, слабое в народном нашем сознании, отсрочили эпоху окончательного слияния государственных и частных интересов, того слияния, в котором власть находит самую надежную для себя опору. Никогда еще, государь, в течение последних четырех лет, общественное мнение так единодушно не выражалось против правительственной меры. Не позволяя себе судить, насколько следует дальновидному правительству принимать во внимание подобные выражения, считаю своею обязанностью повергнуть этот факт на обсуждение Вашего величества".
- Это копия. Подлинник я уже направил во дворец, - сказал Тургенев.
- Вы смелый, честный и справедливый человек, Иван Сергеевич! Сераковский пожал Тургеневу руку. - Спасибо вам от всех поляков!
- Ну, полноте, Сигизмунд Игнатьевич, каждый на моем месте поступил бы так же.
- О нет! Извините! Я знаю немало весьма влиятельных поляков, проживающих в Петербурге, которые даже боятся рта раскрыть в защиту своей газеты и ее издателя.
- Что касается Иосафата Петровича, то он, говорят, не испытывает особых неудобств в крепости, - сказал Чернышевский. - В свой каземат он требует лучшие вина и стол от ресторатора Обрена... Надеюсь, все обойдется благополучно.
- Думаете, опять разрешат газету? - спросил Сераковский.
- Нет, Зигизмунд Игнатьевич. Выпустят господина Огрызко.
Чернышевский оказался прав. Менее чем через три недели Огрызко уже был на свободе. Заключение в крепости не отразилось на его служебной карьере. Вскоре начальник департамента горных и соляных дел представил его к производству в следующий чин - надворного советника. А в одной из столичных газет появилось скромное объявление: бывший издатель "Слова" извещал подписчиков, что по не зависящим от него причинам издание газеты прекращается.
Большая пятикомнатная квартира имела два входа - парадный и черный. В этот вечер все заходили со двора, убедившись, что поблизости никого нет. В квартире раздавались три коротких звонка, и Сераковский шел открывать дверь.
- Вечер добрый, Виктор. Ты принес, что обещал?
- Конечно, Зыгмунт!
- Здравствуй, Погорелов! Почему сегодня без товарища?
- Его заставили дежурить в клинике.
- Казимир, раздевайся и проходи в столовую.
Постепенно квартира наполнялась офицерами разного рода оружия. На длинном раздвинутом столе шумел знакомый ведерный самовар, на конфорке стоял расписной чайник с заваркой, а на подносе - разнокалиберные чашки и стаканы.
Сераковский продолжал встречать гостей.
- Здравия желаю, проходите!.. Шинели придется положить на софу. На вешалке мест уже нету.
- Пора бы и новой обзавестись!.. Кому отдать бутерброды? Яблоки мытые.
- Новицкий! Как тебе не стыдно? Живешь рядом, а опаздываешь!
- За мной какой-то подозрительный тип увязался, и мне пришлось покружить по улицам, пока его отвадил.
Прибежал запыхавшийся пехотный поручик, толстый, несмотря на молодые годы, с упитанным румяным лицом, сын помещика из-под Ковно.
Соблюдая правила конспирации, собирались долго и, пока ждали остальных, много курили, обличали редактора "Русского вестника" Каткова, как поборника обскурантизма, толковали о политике.
- Ускорить переход от настоящего положения к лучшему может только революция... - доносился чей-то голос из одного угла.
- В основе моего желания, господа, - слышалось из другого, - лежит достижение равномерного распределения богатств в народе. Кое-кто считает, что для этой цели необходимо полное отчуждение собственности, но я думаю, что подобная мера преждевременна...
- Выборное правление, упразднение сословий, полная свобода совести и слова...
- Неужели, чтобы поднять восстание, мы будем ждать второй Крымской войны? - Молоденький военный поймал проходившего мимо Сераковского и повторил вопрос: - Я хотел бы услышать твое мнение, Зыгмунт.
- Как патриот отчизны, я целиком поддерживаю тебя. Но как офицер, как человек, прослуживший девять лет в войске, увы, не могу с тобой согласиться. Мне кажется, что для успеха дела все-таки нужна война или... - он помедлил, - революция в самой России.
В одной из комнат выбранный казначей собирал взносы - пять процентов от офицерского содержания. Он же принимал пожертвования в пользу польских эмигрантских учреждений. Пожертвований было мало, молодые слушатели академий сами едва сводили концы с концами.
- Господа, собрались все. Прошу к столу, - пригласил Сераковский. Но прежде чем открыть заседание, разрешите представить вам поручика Соболевского из Инженерной академии. За него ручаются Ян Станевич и Николай Новицкий. Отныне Иван Соболевский является членом нашего кружка и предупрежден о необходимости хранить все увиденное и услышанное здесь в строгой тайне.
Пока все усаживались, отодвигая стулья, Сераковский стоял, держа в руках номера "Колокола", принесенные служащим Публичной библиотеки Виктором Калиновским. Библиотека получала многие запрещенные издания, и Калиновскому удавалось иногда уносить их с собой.
- Как обычно, - сказал Сераковский, - мы начнем свое заседание ознакомлением с последними выпусками свободной русской газеты.
Громко и отчетливо он прочел несколько заметок, и среди них одну, принадлежащую перу Искандера. Голос Сераковского слегка дрожал, когда он дошел до места: "...мы не желаем полного расторжения двух народов. Нам кажется, что Польша и Россия могут идти одной дорогой к новой свободной, социальной жизни".
Зыгмунт отложил "Колокол" и продолжал говорить о том, что народ прозревает, что тираны не вечны, и они падут со своих поднебесных тронов. Он напомнил, что Герцен придает огромное значение молодому русскому офицерству, среди которого найдутся люди, способные стать во главе революции.
- Я уверен, что имею честь видеть перед собой именно таких офицеров, - сказал Сераковский. - Наш кружок должен стать второй Академией Генерального штаба, в которой мы будем готовить участников будущего восстания.
Виктор Калиновский, болезненный, худой, с длинной бородой, отращенной для того, чтобы не походить на "чиновалов и чинодралов", говорил о молодом поколении, призванном обновить мир. О силе просвещения, которое надо нести в народ, о необходимости все переформировать...
- На реформах далеко не уедешь, - возразил Новицкий. - Только революция может выбить гнилые подпорки, на которых держится обветшалое здание самодержавия. - Он вспомнил декабристов, Разина, Пугачева, петрашевцев, Костюшко...
Вскоре разговор сделался общим.
Молодой корнет в мундире с кавалерийским кантом, запинаясь от волнения, сказал, что он преклоняется перед русскими революционерами, перед их мужеством и кровью, пролитой за свободу, но в целом русскому народу не по пути с Польшей. У русских и поляков разные задачи. Русские должны делать свою революцию, а поляки - свою.
- Опять старые сказки о двух революциях в одном государстве! поморщился Сераковский.
- Да, Зыгмунт, опять. Но это не сказки, не выдумка, а правда, которую надо открыто сказать нашим русским братьям.
- Неверно! У нас общая задача - уничтожение цепей, в которые закованы и русские, и поляки. Я позволю себе напомнить замечательные слова Огарева, который сказал, что мы можем свободно и без споров разграничиться после, но освободиться друг без друга мы не можем... мы живем в государстве, в котором люди говорят на десятках языков. Любя свое отечество, надо уважать все народности, которые его населяют.
Пехотный поручик вскочил с места.
- Вот русские братья говорят, что они полностью на стороне поляков. В таком случае я попрошу присутствующих здесь русских офицеров высказаться об их отношении к Литве и Юго-Западной Руси. Как они смотрят на будущее этих польских земель?
- Польских? - Погорелов удивленно посмотрел на поручика.
- Да, да, польских, господин Погорелов!
Кто-то попытался сгладить остроту вопроса.
- Я полагаю, что сейчас не место заниматься спорами...
- Нет, нет, пусть выскажутся, - настаивал поручик.
- А зачем? - Погорелов встал. - Не нам надо по этому вопросу высказываться, а тем народам, которые живут в этих областях, - украинцам, литовцам, белорусам. Их, а не наше с вами слово должно быть решающим.
- Согласны! Вам понятно, поручик? - спросил Сераковский. - И вообще, мы собрались не для того, чтобы сеять рознь между двумя братскими народами. У нас есть немало неотложных дел, и одно из них - послать эмиссара в кружок Медико-хирургической академии, чтобы установить с этим кружком тесный контакт. Среди нас присутствует слушатель академии. Думаю, что задание следует поручить ему. Далее. Кружок в Лесном институте. Полагаю, что для связи с ним лучше всего подходит подпоручик Врублевский, студент этого института. Есть ли у кого другие предложения, господа?
В год поступления Сераковского в академию туда вернулся из заграничной командировки профессор Виктор Михайлович Аничков. Во время его отсутствия и до него курс военной администрации читал профессор Лебедев. Эту науку с ее не очень увлекательными разделами - комплектование армии, устройство военного управления, обоз и другими в том же роде - Лебедев читал много лет подряд, лекции выучил наизусть и, ничем не дополняя их, повторял из года в год. Аничков, побывавший в Австрии, Франции, Бельгии, Баварии и Сардинии и изучавший там законодательство этих государств, внес в предмет новую струю. Он стал сравнивать постановку военного дела у нас и за границей. Лекции получались содержательными, их охотно слушали.
У Сераковского к ним был свой, особый интерес. Дело в том, что в курс военной администрации входил раздел о воинской дисциплине, наградах и наказаниях. Сегодня Аничков рассказывал как раз об этом. Он был в ударе, красноречив, остроумен, говорил взволнованно и приводил много примеров вроде того, что, по убеждению одного французского адвоката, плеть может быть отеческим поученяем, предназначенным сдерживать страсть и пыл чувственных желания, и что нет ничего зазорного в публичном телесном наказании молодой женщины... Кое-кто в аудитории заулыбался, засмеялся коротким мужским смешком. Сераковского это покоробило.
- Ничего смешного, господа, здесь нет! То, о чем вы услышали, не смешно, а позорно! - крикнул он, поднимаясь с места.
- Что с вами, Сераковский? - спросил Аничков.
- Простите, господин полковник. Но когда говорят о телесных наказаниях, я не могу оставаться равнодушным. Я не могу оставаться равнодушным к несчастной участи русского солдата, этого каторжника при офицере-палаче...
Так получилось, что Сераковский и Аничков возвращались из академии вместе. Учитель был на четыре года моложе ученика, имел чин полковника и звание профессора, однако держался с Сераковским очень свободно, по-дружески.
- Может быть, вам пришлось испытать на себе что-либо подобное? участливо спросил Аничков.
- К счастью, мне удалось избежать даже зуботычин фельдфебеля. Я восемь лет прослужил в солдатах Оренбургского корпуса по высочайшему повелению и видел все виды позорной казни - шпицрутены, плети.
- Вот как? - Аничков с любопытством и явным участием посмотрел на своего спутника.
- И с тех пор не могу мириться с этим варварством, с этим злом, которое, как и всякое зло, наносит непоправимый вред войску.
- Совершенно верно, вред, а не пользу, как думают многие. На лекции я не могу сказать, что петербургский и московский обер-полицмейстеры возят с собой в карете плети, чтобы немедленно приводить в исполнение свой приговор, а иные полковые командиры, отправляясь с полком на учение, снаряжают целый обоз розог.
- И в результате, - я уверен в этом! - число нарушений дисциплины и преступлений не падает, а растет! - горячился Сераковский.
- Я придерживаюсь того же мнения, но ваш тезис требуется доказать. Может быть, вы возьметесь? Вам все равно придется писать годовое сочинение, изберите себе тему, ну хотя бы "Влияние телесных наказаний на дисциплину в войсках".
- Сочту за долг последовать вашему совету, Виктор Михайлович.
Недавно в академии ввели еще одно новшество - предоставили слушателям один день в неделю для домашних занятий. Все свободное время Сераковский проводил теперь в библиотеке и в архивах.
Он выписывал в тетрадь мнения крупнейших авторитетов.
Монтескье: "В государстве благоустроенном законодатель озабочивается не столько наказанием, сколько предупреждением преступлений".
Достоевский: "Право телесного наказания, данное одному над другим, есть одна из язв общества, есть одно из самых сильных средств для уничтожения в нем всякого зародыша, всякой попытки гражданственности и полное основание к непременному и неотразимому его разложению"...
Чем глубже он копал историю российского государства, тем очевиднее становилась не только жестокость, но и нелепость действующих в России военно-судных законов. Их источником, оказывается, служили военные артикулы царя Петра. Впрочем, Петр вообще не считался ни с какими законами и расправлялся с непокорными собственноручно. Именно при Петре распространились в России шпицрутены, кошки, линьки, розги.
Императрица Елизавета Петровна уничтожила смертную казнь, но сохранила иную, несравненно более жестокую и бесчеловечную - публичную казнь с урезанием языка, кнутом и ссылкой в Сибирь.
Александр I, отменив, правда, лишь в теории, пытки и вырывание ноздрей, оставил в неприкосновенности кнут, несколькими ударами которого палачи засекали человека насмерть.
Николай I, утверждая один из приговоров, написал: "Виновных прогнать сквозь 1000 человек 12 раз. Слава богу, смертной казни у нас не бывало и не мне ее вводить".
Сераковский читал Уложение 1845 года и всюду наталкивался, словно на стену, на одни и те же бесчеловечные, отвратительные слова: розги (при отдаче в исправительно-арестантские роты), плети (при ссылке на каторгу), шпицрутены (для ссыльных, впадающих в новое преступление), клейма на плечи и лицо. Клейма были введены законом в июле 1846 года. Медицинский совет издал инструкцию для их наложения, разослал инструменты, состав для натирания знаков - смесь индиго и туши. Фельдшеры, которым закон приказывал заниматься клеймением, из исцелителей превратились в палачей.
Зыгмунт осмелился утверждать, что русское общество делится на два класса - тех, которые секут, и тех, которых секут, на бьющих и битых. Века существуют в России для военных телесные наказания, и все это время они являются в русском праве центром системы, на которой держится мощь уголовной юстиции, охрана порядками государственного благосостояния.
В аудиторском департаменте он изучил многие сотни отчетов, представленных воинскими частями. Он разлиновывал чистые листы бумаги и заполнял их цифрами, каждую из которых он смог представить так, что она кричала, вопила о вреде телесных наказаний.
Работа, которую он проделывал, была уникальной. Никто в России до него не приводил в строгую систему все то, что связано с наказанием, не переводил эту нравственную категорию на язык цифр. Лучшие умы России возмущались, негодовали, протестовали против кнута и палки. И этот эмоциональный голос совести Сераковский дополнил трезвым голосом рассудка. Для доказательства своей правоты - телесные наказания портят войско, они зло в масштабе всего государства - он привлек статистику, науку, которая все шире охватывала разные области жизни. Он составлял таблицы зависимости дисциплины от телесных наказаний. Получив в аудиторском департаменте нужный отчет, этот вежливый поляк из Академии Генерального штаба вдруг преображался.
- Ага, я так и думал! Нет, нет, господа, идите сюда, идите все сюда! - кричал он, забыв о субординации и той самой воинской дисциплине, исследованием которой занимался. - Смотрите, это же так наглядно! Сравнивайте! Сопоставляйте! Благороднейший, умнейший майор Петров в своем батальоне не сек и очень осторожно пользовался карцером. И что ж, его батальон занял первое место на смотру! Он лучше всех стрелял! Он прошел мимо генерала так четко, что его превосходительство крикнул: "Молодцы!" Майору не с кого было взыскивать, ибо все служили в его батальоне не за страх, а за совесть!
Он читал новый отчет.
- А вот другой пример, противный этому. Рота, в которой порют несчастных солдат со страшной силой. Так и есть! Солдаты грубят офицерам. Часовой заснул на посту... Позор! Позор!.. Стреляли плохо.
- За то и били! - мрачно замечал старый офицер. - Ничего у вас, господин Сераковский, не выйдет. Били и будут бить.
- Не верю!
Работа поглощала его целиком. Иногда он вскакивал ночью, зажигал свечу и торопливо записывал осенившую его мысль.
"Только насилием и грубой силой можно заставить повиноваться грубому и необразованному человеку"... "Телесное наказание, поддерживая наружную дисциплину, убивает в то же время ту истинную дисциплину, которая рождается из сознания своих обязанностей, сознания важности своего призвания и святости долга".
Сераковскому не хватало дня. Профессора академии спрашивали строго. Не все лекции были одинаково интересны, не все в равной мере близки Сераковскому.
Скука на занятиях по тактике, которые проводил знающий, но не обладавший ораторскими данными профессор Мезенцев, возмещалась тем истинным удовольствием, которое получал Сераковский, слушая великолепные по мастерству и смелые по мысли лекции Обручева.
И может быть, потому, что времени не хватало, оно бежало стремительно, вскачь, неумолимо приближаясь к выпускным экзаменам. Им предшествовали практические занятия в окрестностях Ораниенбаума: надо было произвести рекогносцировку местности и представить снятую на глаз и вычерченную карту с письменным объяснением и диспозицией расположения, движения и действия войск. В "войско" назначались выпускники академии, которым и предстояло принять участие в маневрах.
Сераковский запомнил этот августовский, не по-петербургски жаркий день, короткие сборы после почти бессонной ночи, своего горячего коня. Тут же гарцевали приближенные нового начальника академии генерала Александра Карловича Баумгартена, начальствующие штаб-офицеры, обер-офицеры теоретического отделения, профессора и их адъютанты по военным предметам. Утром чуть было не получился конфуз: Сераковский с превеликим трудом удержался от смеха, впервые увидев на лошади комичную фигуру одного из профессоров, очень сутулого, длинноногого и никогда не ездившего на коне, напоминавшего обликом "печального рыцаря".
Выступили рано утром: два полуэскадрона и команда жалонеров, представлявших кадры пехоты и артиллерии. Сераковского назначили начальником авангарда, и он с явным удовольствием, соскучившись по быстрой езде, скакал по почтовой дороге впереди отряда или же мчался с донесением к Баумгартену. Маневры были не трудными и скорее напоминали увеселительную прогулку. Так на них смотрел и генерал, который уже к пяти часам пополудни расположился со своей свитой в селе Гостилец, в барском доме Потемкина. Прежде чем въехать в резные ворота усадьбы, он подозвал к себе Зыгмунта.
- Хочу обрадовать вас, Сераковский, - сказал начальник академии. Вашу записку о телесных наказаниях в войсках показали военному министру, она произвела на него впечатление, и он передал ее для прочтения государю.
Сераковский ахнул. "Ведь там же, - подумал он, - есть непочтительные высказывания об отце нынешнего государя, намек на его жестокость! А если к тому же Александр вспомнит, что автор записки находился в числе государственных преступников? Не слишком ли много чести для его скромного труда - быть удостоенным высочайшего внимания? Впрочем, будь что будет!"
...В то время выпускные экзамены обставлялись в академии торжественно. Прибыл сам военный министр генерал-адъютант Николай Онуфриевич Сухозанет, брат первого директора академии. Он выглядел старше своих шестидесяти пяти лет, плохо слышал и имел неприятную привычку задавать на экзаменах дополнительные вопросы. Вместе с ним явились несколько высших чинов Генерального штаба.
- Ну вот мы снова дрожим, будто и не было этих двух лет, - сказал Новицкий, нервно поеживаясь. - Хотя дрожу, кажется, один я!
Еще недавно экзаменуемый офицер обязан был отвечать не своему профессору, а военному министру, в то время как профессор, в парадном мундире и шарфе, стоял сбоку на благородной дистанции, навытяжку и поддерживал или же поправлял дрожавшего от страха офицера. Но вот уже несколько лет как порядки в академии упростились и профессор мог сидеть рядом с военным министром. Вызывали к экзамену тоже более демократично по желанию, и Сераковский пошел одним из первых.
За большим, покрытым зеленым сукном столом, посередине, сидел сухонький Сухозанет, справа от него - начальник академии Баумгартен.
Экзаменационные билеты лежали текстом вниз. Сераковский, закрыв глаза, взял три из них. Он все-таки остался немного фаталистом и никогда не раздумывал долго, прежде чем на что-либо решиться.
- Это Сераковский... - Начальник академии наклонился к уху Сухозанета. - Автор записки...
Военный министр поднял на Зыгмунта поблекшие, старые глаза и чуть заметно сжал губы.
- В таком случае, прапорщик, я вам задам вопрос, - сказал Сухозанет. - Будьте любезны доложить, по каким улицам вы пройдете к Эколь Милитер, прибыв в Париж на Северный вокзал... Уважающий себя офицер русской армии, - пояснил он, - не станет расспрашивать француза, как пройти по Парижу.
Сераковский напряг память.
- По бульвару, недавно переименованному в Севастопольский, до площади Шатле. Затем, пересекши по мосту Сену, я иду по бульвару Сен Мишель - это уже в Латинском квартале - до поворота направо, на бульвар Монпарнас. Выйдя затем на проспект, я увижу слева здание Эколь Милитер.
Благосклонная улыбка военного министра и легкое утвердительное покачивание головой показали, что Сухозанет доволен ответом.
По вопросам, значившимся в билетах, Сераковский доложил четко, а по одному из них - "Инородцы Оренбургской губернии" - еще и подробнейшим образом, приведя множество фактов, не значившихся даже в литографированных лекциях, которыми пользовались офицеры.
- Прапорщик Арзамасского драгунского полка господин Сераковский полный балл, - торжественно зачитал курсовой начальник.
Другие экзамены - последний уже в ноябре - Зыгмунт тоже сдал успешно, с чрезвычайно высокой общей оценкой - одиннадцать и две десятых - по первому разряду и, как положено перворазрядникам, получил в виде награды годовой оклад жалованья.
На прощальный вечер полагалось прийти в новой форме, и Сераковский по традиции заказал ее у Битнера, на "двора его императорского величества фабрике военных вещей в Петербурге".
В новом парадном мундире с черным бархатным воротником, шитым серебром, с серебряными пуговицами, в синих несколько мешковатых - так полагалось - панталонах, с саблей вместо шашки, которую он носил в академии, Зыгмунт выглядел нарядно и пока еще непривычно.
Столь же непривычно выглядели и остальные его сокурсники, когда по заведенному порядку явились в Зимний дворец, чтобы представиться государю. Начальник академии построил всех в Фельдмаршальском зале. Сераковский стоял во второй шеренге, справа. Как и все, он волновался в ожидании выхода царя.
Александр должен был появиться точно в полдень. За несколько секунд до этого в напряженной тишине Зыгмунт явственно услышал, как в соседней комнате кто-то пробежал два-три шага и затем вроде бы заскользил. Тут раздался бой часов, два арапа в чалмах и красных панталонах распахнули боковую дверь, и показался Александр, подтянутый, стройный, в мундире Семеновского полка. Сераковскому стоило немалого труда, чтобы не рассмеяться. Он представил себе, как российский император, словно мальчишка, только что проехался по скользкому паркету...
Глава третья
27 мая 1860 года генерал-квартирмейстер Главного штаба барон Вильгельм Карлович Ливен вручил Сераковскому предписание выехать в командировку за границу. Барон говорил по-русски с сильным акцентом, носил длинные пушистые баки и был изысканно вежлив. К тому же он отличался педантичностью, а посему не ограничился одним лишь вручением предписания и тут же прочел его вслух, дополнив документ своими пространными комментариями.
- Пункт первый и основной. Вы должны принять участие в Лондонском статистическом конгрессе. Далее, вам надлежит ознакомиться с материалами нравственной статистики европейских армий, собрать сведения, полезные для производства военно-статистических работ, приобрести печатные отчеты военных министерств Европы, изучить материалы для сравнительной истории законодательств некоторых стран...
На IV Международный статистический конгресс Сераковский ехал как представитель военного министерства. Командировка предстояла долгая - на год, и это тоже радовало: он увидит Францию, Англию, Пруссию, Австрию, встретится с польскими изгнанниками...
- Вы забыли о главном, Сигизмунд Игнатьевич, - о Герцене!
- Я мечтаю у него побывать прежде всего, Николай Николаевич.
Профессор Обручев тоже направлялся в Англию по делам академии, и они решили ехать вместе, в начале июня. Весь май в Петербурге стояла холодная, сырая погода, но перед самым их отъездом резко потеплело, рассеялись тучи и выглянуло жаркое солнце.
- Доброе предзнаменование, Сигизмунд Игнатьевич. Вы верите в приметы? - шутливо спросил Обручев.
- Верю, Николай Николаевич, - ответил Сераковский без улыбки.
Поезд отходил поздно вечером с Варшавского вокзала. Со вторым звонком кондуктора стали захлопывать вагонные дверцы. Через минуту станционный колокол ударил три раза. Послышался резкий свисток обер-кондуктора, и поезд тронулся.
В Пскове Сераковский и Обручев пересели в почтовую карету до Ковно, откуда ходил пароход в прусский Тильзит. В пограничном Юрбурге пассажиров задержали таможенники. Сераковский и Обручев тем временем сняли форму и надели партикулярное платье, а потом с любопытством осматривали друг друга - пиджачная пара, пышный бант, цилиндр... Русским офицерам не разрешалось носить за границей военную форму.
Ковенский пароходик довез только до Тильзита, а там пришлось дожидаться еще одного парохода - уже прямо на Кенигсберг. Неман в низовьях показался гораздо шире, чем в среднем течении, берега положе и скучнее, с чистенькими немецкими поселениями, одно из которых, под названием Русь (уже у самого устья), Костомаров считал родиной варяжских князей, будто бы призванных править Русью. Отсюда начался мелководный залив. Опасаясь наскочить на мель, капитан заставлял пассажиров перебегать с одного борта на другой, чтобы пароход, раскачиваясь, не завяз в песке. Это потешало Сераковского, и он с удовольствием выполнял команды капитана.
Через одиннадцать часов после отплытия из Тильзита показались черепичные крыши Кенигсберга. Здесь уже начиналась железная дорога, по которой можно было доехать до Парижа, а оттуда - и до Гавра.
Франция была освещена ласковым теплым солнцем. Свежая зелень травы и деревьев, глубокое синее небо без единого облачка, чистейшие бледно-кремовые тона береговых дюн. После недавнего шторма море казалось особенно спокойным, зеленоватым, открытым до самого горизонта.
Сераковский стоял на палубе, подставив лицо ветру. Ветер был тоже не такой, как в Петербурге, даже на Волыни, - мягче, спокойнее и нес в себе запахи водорослей и соли.
Ощущение чего-то значительного, что должно вскоре произойти, не покидало Сераковского. Он давно наметил план действий - где и когда он добывает в Лондоне: Национальная галерея, парламент, Гайд-парк, пантеон Вестминстерского аббатства и, конечно же, легендарный таинственный парк-гауз, в котором жил Герцен. То, что Сераковский не был знаком с Герценом, нисколько не останавливало его, - он умел легко и просто сходиться с людьми, к тому же каждый русский - а за границей Сераковский чувствовал себя русским, - попав в Лондон, считал своим святым долгом нанести визит хлебосольному правдолюбцу и борцу за свободную Россию. От встречи с Герценом мысль перекинулась на конгресс: удастся ли втиснуть в программу свой никем не предусмотренный вопрос, - и он не заметил, как изменилась погода: потемнело, похолодало, на барьере, о который он облокотился, выступила роса, стало труднее дышать...
Пароход подплывал к берегам Англии, почти невидимым в надвинувшемся невесть откуда тумане. Когда вошли в Темзу с ее меловыми, поросшими неправдоподобно зеленой травой берегами, полил дождь. Предусмотрительные, привыкшие к этому пассажиры-англичане немедленно раскрыли большие черные зонтики с круто загнутыми ручками.
- Как вам все это нравится, Николай Николаевич? - спросил Сераковский, спустившись в каюту.
- Лондон, - коротко ответил Обручев.
Пароход остановился у моста святой Екатерины и, хочешь не хочешь, надо было идти под дождь, слишком затяжной и холодный для июня.
- Первое, что я сделаю в столице Великобритании, это куплю зонт, сказал Обручев, когда они, изрядно вымокнув, ехали к пансиону мисс Форстер, где обычно останавливались русские.
Сераковский смотрел по сторонам. Сквозь косую сетку дождя виднелись сплошные ряды домов из кирпича со множеством уродливых труб. Несмотря на отвратительную погоду, на пронизывающий холод, особенно неприятный после солнечной Франции, лондонские улицы были оживлены, заполнены разноцветными экипажами - каретами, кебами, омнибусами - и людьми, которые не торопясь направлялись по своим делам, а то и просто прогуливались, не обращая ни малейшего внимания на дождь и держа на поводках благовоспитанных бульдогов и пуделей.
К пансиону мисс Форстер они подъехали уже при ярком и теплом солнце погода улучшилась так же внезапно, как испортилась полтора часа назад. Город сразу приобрел другой, нарядный вид, заблестели лужи, камни мостовой, газоны, обрадовались солнцу совершенно черные от дыма, закоптелые воробьи. Прохожие дружно закрыли зонтики и продолжали свой променад.
Квартиры в пансионе были на английский манер - на двух этажах: наверху помещалась спальня, внизу - приемная с камином. Сераковский и Обручев заняли одну квартиру на двоих.
Зыгмунту не терпелось поскорее посмотреть город, и он вынул из чемодана план Лондона.
- Никак, Сигизмунд Игнатьевич, вы собираетесь с места в карьер начать знакомство со столицей Великобритании? - спросил Обручев.
- И приглашаю вас к себе в компаньоны... К тому же, Николай Николаевич, вы намеревались приобрести зонтик.
- Что ж, я согласен... Но сначала к Трюбнеру за "Колоколом" и "Полярной звездой", неугомонная вы душа!
Они взяли кеб - двухколесную коляску с дверцами и козлами позади, над головой седоков. Кучер в лаковой шляпе повез их мимо Вестминстерского аббатства. Готическая громада собора не очень поразила Сераковского, зато немало удивило стадо овец, которое мирно паслось на лужайке у паперти.
- Знаменитые вестминстерские суды, - промолвил Сераковский, глядя на здание. - Говорят, что в них весьма деликатно обращаются с подсудимыми и применяют перекрестный допрос свидетелей. Я обязательно побываю здесь. И еще в Ньюгэтской тюрьме, конечно, если разрешат.
- Разрешат. Англия любит пугать иностранцев, показывая им свои зловещие реликвии. Вас поведут к лобному месту, где вешают преступников, и продемонстрируют кожаный корсет, который надевают на несчастного перед казнью.
- Вр-р... - Сераковский поежился. - Действительно, все это страшно казнь, браслет, лобное место...
Книгопродавец немец Трюбнер, который брал на комиссию все издания Герцена, радушно встретил двух иностранцев, и через несколько минут они стали обладателями последних номеров "Колокола" и "Полярной звезды".
- Давайте отложим до утра, - сказал Обручев, заметив, что Зыгмунт тут же принялся за чтение.
- Мистер Герцен, несомненно, будет очень рад видеть у себя соотечественников, - сказал Трюбнер. - Может быть, господам не известен адрес мистера Герцена?
Они отпустили кеб и пошли пешком, купили по зонтику, которые тут же Пригодились, ибо снова полил короткий, но сильный дождь. После какой-то улицы с рядами дорогих магазинов они попали в злачные торговые ряды на окраине, где продавали буквально все, включая полугнилые ягоды и позеленевшее вареное мясо: их отдавали совсем дешево. Кусок такого мяса купил за несколько пенсов какой-то оборванец с трясущимися руками и тут же на улице с жадностью съел его.
- Боже мой, и это в богатой, процветающей Англии! - воскликнул Сераковский.
К Герцену они поехали на следующий день, к вечеру.
- Сказать откровенно, я немного трушу, - признался Обручев.
- Я тоже, - ответил Зыгмунт. - Но согласитесь, что быть в Лондоне и не повидать Герцена - немыслимо!
- Тем более, если он нужен по делу.
Кучер, которому они назвали улицу, где жил Искандер, долго вез их через город на окраину и остановился у громоздкого дома.
- Вот и приехали, - сказал кучер. И тут же пояснил удивленному Зыгмунту: - Русские ездят сюда только к мистеру Герцену... О, премного благодарен, сэр, - воскликнул он, получив монету.
На звонок открыл дверь лакей в коротких штанах и плюшевом красном жилете и, нисколько не удивившись незнакомцам, попросил их пройти в соседнюю комнату. Оттуда вышел, услышав русскую речь, человек лет пятидесяти, с львиной гривой седеющих волос, спадавших на плечи.
- Здравствуйте, здравствуйте! С кем имею честь? - Внимательные темные глаза Герцена смотрели приветливо, будто встреча с неизвестными, невесть зачем явившимися людьми доставляла ему огромное удовольствие.
Сераковский и Обручев назвались.
- О вас обоих я слышал от Николая Гавриловича, который был у меня в июне прошлого года... Рад, сердечно рад.
Они вошли в огромный, как танцевальный зал, кабинет. В углу с книгой в руках сидел мужчина с чисто русским, окаймленным густой бородой лицом.
- Знакомьтесь, пожалуйста, - сказал Герцен. - Это мой друг Николай Платонович Огарев.
Огарев встал и молча поклонился гостям.
Герцен забросал прибывших вопросами - что теперь в России, каково настроение общества, близко ли освобождение крестьян, как Польша и зачем пожаловали уважаемые земляки в Лондон. Узнав, что Зыгмунт приехал на статистический конгресс и должен поставить там вопрос о телесных наказаниях, которого нет в повестке дня, сразу же проникся к Сераковскому сочувствием и взялся помочь.
- Боже мой, ведь об этом же писал Белинский. Очень, очень важный вопрос! Сделать битую Россию небитой - после освобождения крестьян это самое главное.
Еще несколько раз звонил колокольчик и лакей, приоткрыв дверь, докладывал по-французски, кто пришел, но пришедшими, должно быть, занимались домашние Герцена, потому что в кабинет никто не заходил.
- В Польше зреют революционные силы. Поверьте мне, вот-вот она взбурлит... Как же поведут себя расквартированные в ней войска? Что ответите на это вы, господа офицеры? - спросил Герцен.
- Все будет зависеть от пропаганды в армии, - сказал Обручев.
- И кто же займется этой пропагандой? - продолжал Герцен. - Есть такие люди в России?
- Люди есть, Александр Иванович. Двоих из них вы видите перед собой. Россия до сих пор не может простить царю поражения в Крымской войне. Крестьяне тоже возбуждены до крайности. Они ждут реформ.
Поздно вечером пили чай. В столовой собралось много народу - русских, поляков, англичан, был какой-то итальянец, но по установившейся конспиративной привычке Герцен ни с кем не знакомил вновь прибывших. Сераковский, вначале слегка робевший, стеснявшийся и самого Герцена, и незнакомого общества, постепенно освоился, разговор стал непринужденнее...
Засиделись до полуночи. Хозяин оставлял гостей ночевать, но Сераковский и Обручев сочли это неудобным.
- Напрасно, напрасно, - сказал Герцен. - Прошу вас заходить впредь ко мне совершенно запросто. Что касается вашего вопроса, Сигизмунд Игнатьевич, то, пожалуйста, держите меня в курсе дел. И вообще, вам стоит повидаться с лордом Пальмерстоном. Это один из самых главных организаторов конгресса, и он вас, конечно, примет, как представителе России.
Два следующих дня Сераковский посвятил осмотру Лондона. Обручев был занят, и Зыгмунт ходил один; время у него было: до открытия конгресса оставалось около месяца. Свое выступление перед делегатами он подготовил еще в Петербурге и теперь лишь мысленно исправлял его, а однажды даже произнес доклад вслух - в знаменитом Гайд-парке. На странного оратора никто не обратил ни малейшего внимания, как и на многочисленных боксеров, которые на соседней лужайке в кровь разбивали друг другу физиономии. Дородный, с пышными бакенбардами полисмен, в похожем на ливрею синем кафтане с серебряными пуговицами, равнодушно наблюдал происходящее, заложив за спину руки.
На третий день, утром Сераковскому вручили письмо в великолепном конверте. Внутри находился пригласительный билет на раут, назначенный на ближайший четверг - "дома у леди Пальмерстон".
- Итак, Александр Иванович начал свои хлопоты, - сказал Обручев.
Глава английского правительства лорд Пальмерстон считался одним из самых популярных людей в Англии. Это не мешало лондонцам дать ему - и поделом! - обидную кличку "Надувало", а одному бойкому журналисту пустить в обиход фразу: "Гиппопотам, конечно, не красив, но все же приятнее, чем Пальмерстон". Враг России, развития которой он панически боялся, один из главных организаторов Крымской войны, Пальмерстон заигрывал с русскими эмигрантами, полагая, что они объективно помогают ему разрушать основы Российской империи, чем, возможно, и объяснялось его если не дружественное, то по крайней мере нейтральное отношение к Герцену и его вольной типографии.
На раут полагалось являться с десяти часов вечера, и Сераковский пришел одним из первых. Лорд Пальмерстон стоял в передней комнате, у двери, и встречал гостей, протягивая каждому руку и что-то говоря с одинаково вежливой улыбкой. На нем был черный, с иголочки, фрак, застегнутый на все пуговицы, и синяя лента ордена святого Патрика.
- Очень рад, господин Сераковский. После мы поговорим с вами, промолвил Пальмерстон, уже глядя на следующего гостя.
Один за другим входили члены верхней и нижней палат, журналисты, дипломаты... Сераковский услышал фамилию князя Орлова, русского посланника в Бельгии, и решил подойти к нему: было любопытно встретиться с сыном шефа жандармов, по докладу которого Сераковского отправили в Оренбургский корпус. Зыгмунт увидел худого, болезненного на вид человека, единственный глаз которого (на втором, левом, была черная повязка) смотрел остро и доброжелательно.
Сераковский представился, и они разговорились. Николай Алексеевич Орлов оказался внимательным слушателем, что поощрило Зыгмунта, и вскоре он уже с жаром рассказывал о предстоящем конгрессе и своей мечте добиться отмены телесных наказаний.
- Да, да, я знаю, что готовится искоренение этого зла, - сказал Орлов, - и с большим сочувствием отношусь к вашей благородной миссии. Пока я служил в Генеральном штабе, я даже собирался добиться аудиенции у государя по этому вопросу. Но потом меня неожиданно перевели в Бельгию...
- Что же вам мешает обратиться к государю сейчас? - спросил Сераковский.
- Дела, мой дорогой капитан, великое множество работы... Кроме того, чтобы привлечь внимание государя, надо располагать огромным числом неопровержимых данных...
- Они у меня есть! - горячо перебил Сераковский.
- Вот вы и напишите докладную государю.
- Я? - Сераковский удивился. - О нет, моя записка, уверен, останется без последствий. Вот если бы за дело взялись вы! С вашим именем, с вашими связями при дворе. Сделайте доброе дело, возьмитесь, и потомки вас не забудут! А что до материалов, то я вам с удовольствием предоставлю все, что собрал за, три года.
Лорд Пальмерстон простоял у двери до половины двенадцатого и, лишь встретив последнего гостя, подпрыгивающей походкой прошел в гостиную, где его сразу же окружили дамы. Лишь за полночь, когда гости уже начали разъезжаться, премьер Великобритании нашел время подойти к Сераковскому.
- Мне передали о вашей просьбе, - сказал он по-французски. - Она будет исполнена. Я уже говорил; с лордом Стенгоутом, и он обещал включить ваш вопрос в неофициальном, правда, порядке. Кроме того, - Пальмерстон пошарил глазами по гостиной, - ...он как раз еще здесь... я вас сейчас познакомлю с военным министром сэром Сиднеем Гербертом... Между прочим, у него была русская бабка, графиня Воронцова.
Конгресс открылся шестнадцатого июля в большой зале Королевского колледжа. Сераковский пришел туда за полчаса до начала, чтобы посмотреть на представителей, съехавшихся со всех континентов. В прошлом прославленный оратор, дряхлый лорд Брум шел к столу президиума, держась руками за стену. Ему хотели помочь, но он отказался. Из русских, помимо делегатов Вернадского и Бушена, прибыло несколько петербургских юристов.
Ровно в два тридцать прозвенел колокольчик председательствующего, глубокого старца бельгийца Кетле, которого называли "отцом современной статистики". Министр торговли Англии Гибсон сказал несколько слов о значении конгресса. Но тут внезапно грянул оркестр, расположенный у входа, - это мимо шпалер вольных стрелков проследовал в зал супруг королевы Виктории принц Альберт; он принял председательство и произнес часовую речь, после чего конгресс объявили открытым.
Все это было занятно, но Сераковский с нетерпением ждал начала работы секций, и не всех тести, а лишь пятой, занимавшейся военной статистикой. Председатель секции, холодный и надменный лорд Стенгоут, с которым разговаривал о Зыгмунте Пальмерстон, предложил назначить Сераковского одним изз секретарей секции. Предстояло обсудить вопрос о состоянии здоровья в войсках и статистике лошадей. Зыгмунт взял слово одним из первых, он не мог ждать, пока достопочтенные ученые мужи наговорятся о состоянии конского поголовья в армиях разных стран. Он начал, не отклоняясь от программы, о здоровье солдат, но тут же поставил это в прямую зависимость от свирепости телесных наказаний. В России, Австрии, Англии - всюду налицо это зло!
- Простите, мистер Сераковский, - поправил его лорд Стенгоут, - в моем государстве телесные наказания уничтожены еще в прошлом году.
- Неправда! - Сераковский горячился. - Разрешите напомнить уважаемому председателю приказ герцога Кембриджского, где сказано, что второй класс ваших солдат подлежит телесным наказаниям!
Месяц, проведенный в Лондоне, Зыгмунт недаром посвятил знакомству с английским военно-уголовным законодательством.
Лорд Стенгоут смутился.
- О, уважаемый коллега понимает не только дух, но и знает букву наших законов! Очень похвально.
- А разве не позорит просвещенную страну, - продолжал Сераковский, предложенная одним английским юристом машина для механической порки людей?! А это сообщение? - Он достал газету. - "Вчера одна достопочтенная содержательница пансиона в Лондоне за незнание арифметики так долго секла своего ученика, что засекла до смерти".
Дерзкие реплики Сераковского подлили масла в огонь. Увидев, что русский представитель знает немало из того, что хотели бы скрыть, многие делегаты стали откровеннее.
- Да, нам стыдно, что телесные наказания у нас еще существуют, признался английский полковник Сейкс. - Либеральная и гуманная Англия до сих пор не может отделаться от линьков на флоте!
- А наш последний билль, по которому муж, уличенный в нанесении побоев жене, подвергается не только тюремному заключению, но сверх того получает от пятидесяти до полутораста ударов плетью!
- По-моему, это справедливо! Идея талиона - воздаяние равным за равное, - заметил галантный француз Легоа.
- Телесные наказания противны во всех случаях! - возразил Сераковский. - Во всех без исключения случаях они - зло!
Дискуссия продолжалась ровно до часу дня, когда педантичный председатель на полуслове оборвал очередного оратора, объявив, что время заседания истекло.
- Я был бы весьма признателен мистеру Сераковскому, - сказал лорд Стенгоут, - если бы он к утру представил свой проект для утверждения его на общем собрании конгресса.
Остаток дня Сераковский писал записку о необходимости повсеместной отмены телесных наказаний в армии. Вернувшийся поздно вечером Обручев нашел его в состоянии крайнего возбуждения.
- Николай Николаевич, ничего не получается, все пропало! Я не могу связать двух слов.
- Прежде всего успокойтесь, Сигизмунд Игнатьевич. Скажите, что вы пишете и что у вас не получается?
- Да записка же! Документ об отмене шпицрутенов, палок, розог, линьков... Завтра его должны утверждать...
- Хорошо, читайте, что вы написали.
Вокруг, на столе и на полу, лежали исчерканные листы бумаги, и Сераковский с трудом находил нужные.
- Прекрасно... то, что вы мне прочли, звучит весьма убедительно, сказал Обручев.
- Вы думаете? А вдруг я что-то упустил? Надо еще обязательно посоветоваться с Герценом.
- Сейчас? На дворе ночь, и Александр Иванович, наверное, спит.
- Ничего, я все равно поеду и разбужу его. Отмена телесных наказаний - проблема настолько важная, что можно поднять с постели даже самого Герцена!
В доме Герцена было темно, и Сераковскому пришлось долго звонить, пока не вышел со свечой в руке заспанный лакей.
- Но мосье спит!
- Не беспокойтесь, я разбужу его сам. - Зыгмунт поднялся на третий этаж и постучал в дверь спальни. - Прошу прощения, Александр Иванович, но вопрос не терпит ни малейшего отлагательства, и я вынужден побеспокоить вас среди ночи. Завтра, нет, уже сегодня к восьми утра я должен отдать эту записку на строжайший суд конгресса... Нет, нет, вы не поднимайтесь, я сяду возле постели и прочитаю.
Герцен слушал внимательно. Изредка он вставлял замечания, и Сераковский тут же вносил их в текст.
- Но в общем, Сигизмунд Игнатьевич, все в полнейшем порядке. Многое изложено просто отлично. Повторите, пожалуйста, вот это. - Герцен показал карандашом, что бы хотел услышать еще раз.
- "Телесное наказание, поддерживая наружную дисциплину, - снова прочел Зыгмунт, - убивает в то же время ту истинную дисциплину, которая рождается из сознания своих обязанностей, сознания важности своего призвания и святости долга... Теперь, когда каждый солдат, каждый стрелок составляет чуть ли не боевую единицу, а каждая малейшая часть - боевое товарищество, необходимо возвысить личные свойства солдата, его личное мужество, предприимчивость, умение пользоваться минутою, применяться к местности, к обстоятельствам. Телесное наказание сильно противодействует достижению подобной цели".
- Ну что ж, благословляю вас, Сигизмунд Игнатьевич. Думаю, что вам удастся пригвоздить это международное зло к позорному столбу и тем самым пришибить наших российских генералов-дантистов. - Герцен посмотрел в окно. - Однако уже светает.
На общем заседании конгресса присутствовали все делегаты, множество гостей. Секретари секций с места читали свои отчеты. Сераковский читал пятым. В отличие от многих иностранных делегатов он говорил по-английски, и это понравилось англичанам, которые неодобрительно относились к французскому - второму официальному языку конгресса. Когда Сераковский окончил записку, раздались аплодисменты. После навевающих сон, наполненных цифрами и таблицами отчетов предыдущих секретарей эмоциональное, страстное слово русского делегата пришлось всем по душе.
Зыгмунт добился своего: телесные наказания, палочная дисциплина в армии были заклеймены представителями всех участвовавших в конгрессе стран.
В перерыве к Сераковскому подошел Вернадский:
- Поздравляю... Полный триумф! Расшевелить такое скучное и строгое общество - о, на это способен только такой убежденный человек, как вы!
Кто бы мог подумать, что год, целый год пролетит так быстро! Впрочем, что год - вся жизнь мчится, как на курьерских, быстрей, чем казенная бричка, на которой его везли в Оренбург. Кажется, так недавно он сошел на туманный берег Англии, а уже позади остались и Франция, и Пруссия, и Австрия, и Италия, остров Капри, куда он ездил для того, чтобы встретиться с Гарибальди.
Сераковский совсем перестал видеть сны, должно быть, от усталости, но стоило ему закрыть глаза, как немедленно возникали перед ним написанные писарским почерком отчеты, которые он изучал в архивах, судебные заседания, напудренные парики и черные мантии английских судей, тюрьмы. В Лондоне он первой осмотрел полковую военную тюрьму. Был разгар рабочего дня. Арестанты поднимали с земли тяжелые валуны и уносили их за круглое здание в центре тюремного двора. Навстречу шли другие арестанты с камнями. Все делалось строго по команде и в полнейшем молчании.
- Они что-либо строят? - спросил Сераковский у тюремщика.
- Нет, перетаскивают камни с места на место.
- Но зачем этот бессмысленный труд, никому не приносящий пользы? воскликнул Зыгмунт.
Благодаря своему знакомству с военным министром ему удалось побывать в знаменитой Ньюгетской тюрьме, самой старой тюрьме Лондона, расположенной в Сити. Ему показали камеру, откуда уводят осужденных на казнь, и выставленные здесь же отвратительные слепки с голов повешенных. В этой тюрьме заставляли работать по-настоящему, а лодырей наказывали тем, что морили голодом... Потом были другие тюрьмы Лондона... Тюрьмы Франции, Пруссии, Австрии. Сераковского интересовало все об уголовном наказании судоустройство и судопроизводство, быт осужденных, их перевоспитание.
Из каждого города, где он останавливался, Зыгмунт слал в Петербург подробные отчеты обо всем виденном. Их сначала получал Ян Станевич, работавший помощником библиотекаря в академии. Он слегка причесывал взъерошенные и не всегда безопасные высказывания своего друга и лишь после этого отправлял письма в штаб.
Недавно Сераковский отослал последнее письмо из Вены. Теперь уже совсем скоро отъезд. Странное дело, год назад он так мечтал об этой поездке, о новых странах, а теперь все чаще тосковал по родине, по Петербургу. Невольно вспомнился август прошлого года, прощание с Герценом, его слова: "Как я вам завидую, вы увидите Россию. Если бы мне теперь предложили на выбор мою теперешнюю скитальческую жизнь или сибирскую каторгу, то, мне кажется, я бы без колебаний выбрал последнюю".
Время было насыщено событиями, радостными и грустными известиями с родины.
Тринадцатое февраля. "Крамола выведена на улицы Варшавы"... Царские войска расстреляли манифестацию в Краковском предместье... В Варшаве организован тайный Центральный национальный комитет - правительство будущей свободной Польши... Что, если это начало? Начало освобождения Польши? А он здесь, в Париже. Какая несправедливость!
Двадцать шестое февраля. Смерть Шевченко... Зыгмунт бродил по уснувшему Парижу, вспоминая "батьку", последнюю встречу с ним. "Горе мне, горе!" - твердил он, запоздало каясь и коря себя за то, что перед отъездом из Петербурга так и не выбрал времени заскочить в Академию художеств к Шевченко.
Начало марта. Он приехал в Лондон за обещанными отчетами о деятельности военного министерства и немало удивился, увидев иллюминацию на улицах. Был освещен огромный транспарант: "Сегодня 20 миллионов рабов получили свободу". Каким-то чудом угадав, что он из России, его бросились поздравлять совсем незнакомые люди. "Как, неужели вы ничего не знаете? На вашей родине отменено крепостное право!"
На это событие откликнулся Герцен: "Если б было возможно, мы бросили бы все и поскакали бы в Россию. Никогда не чувствовали мы прежде, до какой степени тяжела жертва отсутствия".
И вот, словно внемля этим словам Искандера, он "поскакал" в Россию. В Вене, когда он уезжал оттуда, стояла жара. Только что закончился съезд юристов, где его пылкая речь в защиту прав солдата была встречена восторженно и все последующие ораторы вспоминали о ней, а один из видных генералов, выступая, несколько раз сказал о нем "мой гениальный друг". Это было приятно, лестно, его даже оставляли работать в Австрии, но он, конечно, отказался, как отказался раньше и от предложения лорда Росселя покинуть русскую службу и при его поддержке добиваться свободы Польши.
- Спасибо, - ответил он тогда, - но мне кажется, что за свободу Польши лучше бороться в России.
Глава четвертая
В Петербурге его встретил на дебаркадере Ян Станевич.
- Ну, наконец-то, наконец-то! Ты даже не представляешь, как я по тебе соскучился! - сказал Ян.
Стояла белая ночь, такая светлая, что можно было читать, не зажигая огня. Спать так и не ложились, а просидели до утра за разговорами и бутылкой доброго французского вина.
- Ну, рассказывай, что хорошего в Париже? В Лондоне? В Вене?
- Нет, лучше расскажи сначала ты, что нового?
- За границей, наверное, лучше знают, что происходит в Польше.
- Представь себе, нет. Сведения скупы и часто нелепы.
- Что же тебе сказать? Ты о панихиде в костеле слышал?
- Краем уха.
- В общем, это было сразу же после смерти Тараса. - Станевич глубоко вздохнул и посмотрел на распятие в углу.
- Ты был на похоронах батьки?
- Конечно... На похоронах и объявили, что назавтра состоится реквием в память убитых в Варшаве. Костел святой Екатерины был полон. Пришел Костомаров, многие другие профессора. Вместе со всеми пели гимн. После этого арестовали нескольких наших студентов. Тогда русские студенты послали в Третье отделение письмо или как его назвать...
- Не важно... Что было в том письме?
- Могу процитировать, ибо письмо это лежало в студенческой библиотеке и я его читал: "Мы, нижеподписавшиеся, были первого марта на реквиеме в память убитых в Варшаве, участвовали в пении национального польского гимна и потому просим считать нас равно ответственными вместе со студентами из поляков". И внизу триста русских подписей.
- Ай да молодцы! - воскликнул Сераковский.
- Конечно, молодцы... Арестованных-то выпустили после этого.
- Что еще нового?
- Нет уж, уволь! - Ян протестующе замахал руками. - Теперь твоя очередь рассказывать. Ты видел Мерославского?
- Видел - это не то слово, я много разговаривал с ним. Он, несомненно, очень любит Польшу. Я ценю его отвагу, его участие в революции. И в то же время он так далек от реальности, настолько оторвался от родины за годы эмиграции, что потерял истинное представление о ней. Расскажи ему про русских студентов, подписавших письмо, - не поверит, скажет, что это чепуха, такого не может быть, что с русскими нам не по пути.
- Да, чуть не забыл, - перебил Ян. - Могу тебя если не обрадовать, то ошеломить. Твоими письмами интересовался сам государь император. Это мне Обручев сказал... Все шло по цепочке. Я относил твои писания в штаб, оттуда их препровождали военному министру, а тот, оказывается, давал царю. На каждом твоем рапорте есть собственноручная его пометка: "Дай бог, чтоб и у нас так было". Это, если ему что нравилось из заграничных порядков.
- "Царь как бог всемогущ, как сатана коварен", - повторил Сераковский слова Мицкевича.
Белая ночь незаметно перешла в утро, и Сераковский начал собираться чистить парадный мундир и складывать какие-то бумаги.
- Ты куда это? - удивился Станевич.
- Как куда? На работу, конечно.
- Нет, ты действительно фанатик, - добродушно упрекнул его Ян. Подожди хоть день, отдохни с дороги.
- Милый Ян! Я не могу ждать. Мне надо столько сделать!
Больше, чем когда бы то ни было, Сераковский был полон энергии. Ему не терпелось скорее явиться в свой департамент и докладывать, писать, кричать о том, что телесные наказания - зло, подлежащее уничтожению! На страницах "Современника" и "Морского сборника" недавно появились статьи на эту тему. В публичных выступлениях, дискуссиях, в частных разговорах все решительнее и чаще высказывались против шпицрутенов и розог.
То, что заграничные рапорты Сераковского соизволил читать сам государь, создавало Зыгмунту авторитет в глазах начальства, и теперь в Генеральном штабе твердо знали, на каком деле надо его использовать.
В мае 1861 года Сухозанет был смещен. Правда, горькую пилюлю подсластили, назначив его наместником Царства Польского. (По этому поводу кто-то сложил песенку: "Царь сказал Сухозанету: "Ведь тебя уж хуже нету, поезжай же, на смех свету!"") Военным министром стал Дмитрий Алексеевич Милютин. Об этом Сераковский узнал еще в Париже, в русском посольстве, и обрадовался: он рассчитывал на сочувственное отношение нового Министра к своим идеям - и не ошибся в этом. В числе первых, кого пригласил к себе Милютин по вопросу о реформе военно-уголовного законодательства, был Сераковский.
Зыгмунт впервые встречался с военным министром. Он увидел стройного, молодого, подтянутого генерала с дородным аристократическим лицом, изящно подстриженными бакенбардами и густыми волосами, зачесанными на пробор. Еще в академии Сераковский слышал много хорошего о профессоре Милютине. В Генеральном штабе рассказывали, что он чуть не прямо с поля боя на Кавказе был призван в Петербург на пост товарища военного министра. Всего два месяца потребовалось ему, чтобы представить Александру II подробный доклад о необходимости коренных преобразований по военному делу и общему пересмотру всего военного законодательства.
- После того как с вашей помощью весь мир публично заклеймил телесные наказания, стало гораздо легче бороться за их отмену в России, - сказал Милютин. Он сел рядом с Сераковским на диван, как бы подчеркивая этим свое расположение к молодому офицеру. - Между прочим, не так давно князь Николай Алексеевич Орлов подал государю записку об отмене телесных наказаний. Вы не знакомы с ней?
Зыгмунт вспомнил раут у Пальмерстона, бельгийского посланника с черной повязкой на глазу, их разговор.
- Отчасти да, - ответил Сераковский.
- Вот как? Откуда же?
- Я несколько раз встречался с Николаем Алексеевичем в Лондоне.
Милютин понимающе кивнул в ответ.
- В четверг, - сказал он, - состоится очередное заседание комитета для пересмотра военно-уголовных законов. Я бы хотел, чтобы вы присутствовали при сем.
Комитет собрался в одной из комнат аудиторского департамента военного министерства. Пришел барон Модест Андреевич Корф, начальник Второго отделения и одновременно директор Публичной библиотеки, генерал-аудитор армии Философов, бородатый, о высоким лбом мыслителя Дмитрий Александрович Ровинский - московский губернский прокурор, к тому времени прославившийся как видный историк искусства, сенатор Капгер. Сераковский знал Капгера как автора проекта нового военно-уголовного устава, в котором в неприкосновенности сохранялись телесные наказания. Были еще какие-то незнакомые генералы и высшие чиновники. Один из них с брезгливой миной на лице просматривал последний номер герценовского "Колокола". По особому разрешению Третьего отделения газета регулярно поступада в комитет, "чтобы все знали, что о нас будут писать за границей".
Корф занял председательское место, заседание началось.
- Продолжаем обсуждение записки князя Орлова, - сказал Корф. - В комитет поступило несколько заявлений от разных лиц, разрешите огласить. Корф взял со стола папку. - Мнение митрополита московского Филарета: "По христианскому суждению телесное наказание само по себе не бесчестно, а бесчестно только преступление. Некоторые полагали бы совсем уничтожить телесные наказания и заменить их тюремным заключением. Для сего, при многолюдном городе, потребовалось бы построить и содержать почти город тюремный... Если государство найдет неизбежным в некоторых случаях употребить телесное наказание, христианство не осудит сей кротости, только бы наказание было справедливо и не чрезмерно".
"И это говорит пастырь!" - подумал Сераковский.
- Типичное кнутофильское мнение, - сказал Ровинский. - Плети и розги могут быть уничтожены одним словом высочайшего милосердия без всякой замены их другим наказанием.
- Ну, знаете, это уже слишком! - развел руками сенатор Капгер.
- Преступников надо не бить, а заставлять работать, чтобы они приносили пользу государству и не ели даром хлеб, - сказал Сераковский.
- Ваше мнение, капитан, нам известно. - Капгер свысока посмотрел на Сераковского. - И ваши тайные помыслы - тоже.
- А именно? - спросил Зыгмунт с вызовом.
- Уничтожив телесные наказания, уронить дисциплину в войске, подорвать значение и власть командиров...
- Извините, но это не что иное, как клевета!
- Тише, господа, - вмешался Корф. - Мнение генерал-адмирала великого князя Константина Николаевича. - Корф взял со стола лист. - Их императорское высочество соизволили начертать: "Телесные наказания составляют для государства такое зло, которое оставляет в народе самые вредные последствия, действуя разрушительно на народную нравственность и возбуждая массу населения против установленных властей. Ни жестокость телесных наказаний, ни частое употребление розог не ведут к поддержанию дисциплины, а, напротив, жестокость их и частое употребление их могут ослабить силу военной дисциплины. Иная, более разумная система наказаний способна более благотворно действовать на возвышение в войсках духа нравственности и на развитие чувства сознательного долга..."
Сераковский неожиданно получил высокую поддержку.
- Прошу извинить, господа... - В комнату вошел крупный мужчина с хорошо сохранившейся седой шевелюрой. В выражении надменного бритого лица, в снисходительном, самодовольном взгляде из-за очков, в том, как этот человек держал большой палец в петлице длинного фрака, чувствовалось огромное самомнение и упрямство. Это был министр юстиции граф Панин. Он взял слово, когда речь зашла о наказаниях женщин.
- Чувствительность тела женщины едва ли может быть принята за основание для отмены для них телесных наказаний. Что касается нравственного посрамления женщины при ее обнажении для наказания, то женщины часто совершают преступления, обнаруживающие еще больше разврата, чем мужчины, или позволяют себе действия, явно свидетельствующие об отсутствии всякой стыдливости. Вот почему я не вижу достаточных оснований освободить женщин от розог.
Государственный контролер генерал Анненков, печально прославившийся при подавлении польского восстания 1830 года, во время своего выступления не спускал с Зыгмунта узких злых глаз.
- Всякое изменение системы наказании несвоевременно, всякое заявление намерений по сему предмету опасно и вредно!
Казалось, что Анненков говорил это одному Сераковскому. Он видел в нем не только офицера-бунтовщика, но к тому же еще поляка, возмутителя спокойствия, источник смуты. Зыгмунт выдержал колючий враждебный взгляд.
Теперь он знал, что ему надо делать - как можно скорее заканчивать записку о своей заграничной командировке. Конечно же, в официальном документе, который, возможно, тоже будет показан императору, Сераковский не мог высказываться слишком резко. И все же он не побоялся написать горькую правду. "Становится страшно при сравнении наших острогов или арестантских рот с французскими военными тюрьмами. В этом отношении мы далеко позади... Никто теперь не может спорить о преимуществах штуцеров перед луком и стрелами. Все заводят штуцера, даже турки. Тем более необходимо завести военные тюрьмы, и систему у с т р а ш е н и я заменить системой и с п р а в л е н и я".
Он дипломатично написал в своем докладе, что военно-уголовное законодательство в России во времена Петра Великого были ничем не хуже западноевропейских, а кое в чем и превосходило их. "Но с тех пор прошло полтораста лет, - писал Сераковский. - Все военно-уголовные законодательства совершенствовались; наше со времени Петра Великого осталось почти неподвижно, и поэтому мы страшно отстали".
Теперь этот доклад, переписанный каллиграфическим почерком писаря, находился у военного министра, и Сераковский со дня на день ждал вызова. Ждать пришлось недолго, Милютин пригласил его на понедельник, к десяти часам утра.
- Здравствуйте, Сигизмунд Игнатьевич! - Милютин встал и протянул Сераковскому руку. - Садитесь, пожалуйста... Я с живым интересом прочитал вашу записку и думаю, что ее следует опубликовать в "Военном" или "Морском сборнике". Ваши описания системы наказания в странах, где вы побывали, весьма правдивы и убедительны... по крайней мере для меня, - добавил он, чуть запнувшись. - Я согласен с вами - необходимо радикальное изменение всей нашей военно-уголовной системы, она безнадежно отстала и служит тормозом для развития русской военной мощи. - Он взял со стола записку Сераковского и быстро отыскал в ней нужное место. - Вы пишете: "Совершенно иные результаты представляет радикальное изменение системы наказаний, где высшее наказание - есть изгнание из рядов армии и позорное лишение военного звания, соединенное, разумеется, с заключением и тяжким трудом. Такое преобразование, как доказано историей, везде чрезвычайно возвышало звание военного в глазах служащих и в глазах всего народа". Я полностью согласен с вами - пришла пора нарушить устаревшую и жестокую систему наказаний. Россия не должна отставать, она должна быть впереди и в этом вопросе.
Сераковский слушал Милютина с вниманием. Ему было лестно, что военный министр одобрил все то, что он писал не как холодный наблюдатель и регистратор, а кровью сердца, во имя благородной идеи, которая с некоторых пор полностью захватила его.
- Но, Сигизмунд Игнатьевич, - продолжал Милютин, - у нас с вами есть могущественные противники, сокрушить которых будет нелегко. А посему, Милютин встретился взглядом с Сераковским, - я хочу предложить вам проездиться по нескольким нашим западным губерниям и осмотреть там тюрьмы и арестантские роты инженерного ведомства. Результаты вашей работы, надеюсь, помогут нам в подготовке нового, весьма важного закона, принятие которого одинаково обрадует и меня и вас... Вы согласны?
- Я готов!
- Ну что ж, тогда с богом! Рассчитываю получить от вас добросовестное и беспристрастное исследование печального мира заключенных.
Сераковский собирался недолго. В предписании военного министра значилось, что он направлен в войска Виленского округа для подробного ознакомления с жизнью заключенных. Комендантам крепостей и начальникам арестантских рот вменялось в в обязанность "всевозможно содействовать удовлетворению любознательности Генерального штаба капитана Сераковского по части содержания арестантов, а также снабжать его всякого рода сведениями, которые он найдет нужным иметь для достижения предположенной им цели".
С русскими военными тюрьмами Сераковский знаком не был и перед отъездом зашел в военно-тюремный комитет. Там удивились - что за нужда привела к ним офицера Генерального штаба? - однако сведения дали самые исчерпывающие.
Правительствующий сенат указом от 21 февраля 1834 года распубликовал высочайше утвержденное положение об учреждении в России арестантских рот военно-инженерного ведомства. Начальствовали над ними крепостные коменданты, а управляли - плац-майоры, служившие на правах батальонных командиров. Жалованья за работу в ротах не платили, бессрочных арестантов держали в кандалах, за малейшие проступки секли розгами или тростью палкой в палец толщиной. В свободное от работы время заключенных обучали маршировке.
С ворохом этих невеселых сведений в голове ехал Сераковский по обсаженному старыми березами тракту, ведущему на Брест-Литовск.
Дорога была тихая. Лишь однажды попалась навстречу жандармская бричка. Зыгмунт сразу же вспомнил лето сорок восьмого года и вот такую же бричку, мчавшуюся в Оренбург через всю Россию. "Боже мой, как давно ото было!" - подумал он, радуясь своему теперешнему положению, - он свободен, счастлив, здоров и направляется с благородной высокой целью добиться того, чтобы с заключенными обращались по-человечески.
Уже стемнело, когда он подъехал к почтовой станции. Можно было сразу отправиться в крепость и там остановиться на квартире у коменданта, но Сераковский решил этого не делать, а прежде узнать у местных жителей, что известно им о порядках в крепостной тюрьме.
В чемодане у него лежал штатский простенький костюм, он переоделся и пошел в ближайшую корчму. Стояла темная звездная ночь, город не освещался, и все, кто побогаче, ходили по улицам с фонариками.
Корчма помещалась в деревянном двухэтажном доме, с передней стороны дома была прилеплена деревянная крытая галерейка - за ней жил хозяин с семьей, а сам трактир помещался внизу. Оттуда доносились нетрезвые голоса, песни... Сераковский с трудом нашел свободное место, сел и заказал ужин. Его быстро привес хозяин-еврей с грустными усталыми глазами.
- Скажите, любезный, хорошо ли, плохо ли живут в здешней роте? спросил Сераковский напрямик, но хозяин ответил уклончиво - посоветовал нанять фактора, который все мигом разузнает.
- Не слушайте вы его! Зачем вам фактор, господин хороший? - встрял в разговор аккуратненький старичок, похожий на отставного чиновника. - Вы сами извольте полюбопытствовать, как тамошние унтер-офицеры табачок заключенным продают. Один унтер продаст пачку да тут же другому унтеру скажет, тот и отберет - табачок-то запретный плод у несчастненьких! - а отобрав, тут же продаст еще одному арестанту. И тут же, имейте в виду, известит того, кто вместо него заступает, третьего унтера, значит. Так и идет по кругу пачка, раз десять обернется. Унтеры сами-то ее и выкурят в конце концов.
- А розги, отец, здесь в почете? - спросил Сераковский.
- В почете, господин хороший, в почете... Табачок-то не только отбирают, еще и секут за него, двадцать розог дают. И за водочку секут. Ее-то, родимую, в ружейном стволе проносят.
- Как так? - Сераковский сразу не понял.
- Проще простого, господин хороший. Нальет в ружейный ствол часовой и несет несчастненьким, за мзду, понятно. Без малого полштофа в ствол помещается.
- А еще про что-нибудь, отец, - попросил Сераковский.
- Много рассказывать - как бы в беду не попасть. Но уж так и быть, кое о чем поведаю. Так вот полюбопытствуйте вы у господина генерала, чьи это свиньи в цитадели содержатся. И по какой такой причине лучше, чем арестанты, кушают свиньи-то.
Утром Сераковский нанял извозчика и поехал в крепость. Комендантом ее был лысый высохший старичок Федор Федорович Пандель. Ни на что больше он уже не был годен и доживал свой век в крепости, обремененный огромной семьей и испытывая вечный страх, что вот-вот нагрянет ревизор, найдет неполадки и его, Панделя, заставят уйти в отставку.
По двору ходили заключенные с наполовину бритыми головами, и комендант охотно пояснил "разницу в прическах": осужденным на срок брили полголовы от уха и до уха, а всегдашним - от затылка до лба с левой стороны.
- Всегдашним? - переспросил Сераковский.
- Это кто в роты навсегда приговорен, - растолковал комендант, пожизненно то есть.
Все заключенные были одеты одинаково - в грязно-белые шаровары и куртки с черным позорным тузом на спине. Несколько арестантов, впрягшись в телегу, везли бочку с водой. Зыгмунт остановил их.
- Вы за что попали в роту? - спросил он одного из заключенных.
- За потерю тесака, ваше благородие. На полтора года.
Сераковский посмотрел на коменданта.
- Вы не помните, Федор Федорович, сколько стоит тесак?
- Копеек пятьдесят, наверное. - Пандель пожал плечами.
- А содержание заключенного в крепости в течение полутора лет обойдется казне в триста рублей. Это в среднем по империи.
Вокруг Сераковского уже собралась небольшая толпа. По тому, как почтительно вел себя рядом с ним комендант, заключенные поняли, что, несмотря на меньший чин, главным здесь все же этот капитан Генерального штаба.
- А вы за что осуждены? - спросил Сераковский у молодого красивого арестанта с цепью на ногах.
- Солдатом будучи, офицера ударил. - Арестант усмехнулся. - Должно быть, больно... Он меня "безмозглым полячишкой" обозвал.
- А вы поляк?
- Русский, с вашего позволения.
- Чего же вы ударили офицера? Обиделись, что вас поляком назвали?
- Никак-с нет. За поляков обиделся! - Он помолчал. - Я с поляками рос, друзей-поляков имел много, вот и взяла меня злость, что их так обзывают. Уж вы похлопочите за меня в Петербурге.
- И за меня!.. И за меня!.. - послышалось с разных сторон.
- Молчать! - крикнул, подбегая, плац-майор, но, увидев коменданта и незнакомого офицера Генерального штаба, пробормотал: - Извините, ваше превосходительство!.. Тот опять больным притворился. Пришлось всыпать полсотни горяченьких...
- А вам не пришло в голову, майор, что этот человек действительно болен? Вы его показывали лекарю? - спросил Сераковский.
- А зачем лекарю? Я лучше любого лекаря лодыря определю. На слух. Если кричит благим матом, когда лупят, значит, лодырь. Настоящие больные, те быстро с ног сваливаются.
Сераковский потребовал штрафной журнал, и ему принесли толстую тетрадь, испещренную фамилиями и цифрами. "За картежную игру Иванову 4-му - 50 ударов", - прочитал Зыгмунт. - "За шум в отделении - 20 ударов", "За приобретение пачки табака... - 15". Слово "удары" часто не писалось, цифра говорила сама за себя.
Били за все - за шум в отделении, за воровство рубашки у соседа, за порчу тарелки, за ссору, за намерение пронести в камеру водку, за "непослушание фельдфебелю", за то, что знал и не донес начальству на других арестантов...
Чем больше читал эту страшную книгу Сераковский, тем мрачнее становилось его лицо. "Всюду одно и то же, по всей России, - думал он. Плеть, кулак, кнут, трость, всюду кровь..."
Ни комендант, ни плац-майор так и не отставали больше от Сераковского, покуда тот ходил по крепостной тюрьме. Оба они порядочно перетрусили перед этим странным офицером, присланным самим военным министром, отвечали невпопад и всегда утвердительно: да, в баню арестантов водят каждую неделю... белье чистое... пища хорошая...
Комендант часто посматривал на часы и несколько раз предлагал пойти к нему домой "откушать", но Сераковский отказывался, говорил, что намерен отведать арестантской пищи.
- Помилуйте, Сигизмунд Игнатьевич! - Комендант взмолился. - Супруга, Анна Павловна, дочки - все ждут дорогого гостя... Обед, как на праздник, готовят.
Все-таки они пошли в арестантскую столовую, помещавшуюся в грязном и темном подвале. В углу стоял деревянный ушат, у которого хозяйничал пожилой арестант - дежурный. К нему в очередь подходили другие арестанты с мисками. Дежурный черпал ковшом какую-то серую бурду и наливал в миски.
- Давайте и мы с вами, - предложил Сераковский. - Пища у арестантов, вы говорите, хорошая...
Плац-майор, переглянувшись с комендантом, выбежал за дверь, но Сераковский сказал, что будет есть только из того ушата, который видит перед собой, и попросил налить три миски супа.
- Побойтесь бога, Сигизмунд Игнатьевич, Зачем вы старика перед арестантами позорите? - сказал комендант еле слышно. - Не могу я есть эту гадость. И вы не сможете.
- Хорошо, Федор Федорович, идемте отсюда. Но не к вам, а сначала в хлев. Хочу посмотреть на свиней, которых вы держите.
Комендант покраснел.
- Все-таки донесли стервецы. И когда успели?
Два месяца ездил Сераковский по крепостям, побывал в Гродно, Витебске, Могилеве, Минске, Сувалках и всюду видел одно и то же своеволие, беззаконие, обман. Пьяных невежественных офицеров, превращавших жизнь заключенных в пытку, тюрьмы, которые не исправляли преступников, а ожесточали их.
Особенно страшны были одиночки. Он вспомнил Гродненскую цитадель, стук капель, падающих со сводчатого потолка, крохотное оконце вверху, почти не дающее света, окованные железом двери. Он шел по коридору вместе с комендантом под аккомпанемент бешеного стука. Из камер доносились площадная ругань, стоны, плач.
- За что они присуждены к одиночному заключению? - спросил Сераковский.
- Бежал один преступник из их отделения, вот всех и перевели в одиночки. Двое ума лишились. Около года сидят...
Вильно с его тюремным замком и арестантской ротой Сераковский отложил напоследок. Там у него были особые дела, были друзья, жила Аполопия, о которой он думал все эти годы. Он так и не повидал ее ни разу, хотя часто, очень часто вспоминал, перебирая в памяти события того промелькнувшего вечера, когда они встретились на Погулянке.
В Вильно он приехал поездом по недавно проложенной железной дороге из Динабурга. Город поразил его своей немотой. Нет, здесь, конечно, разговаривали, даже шумели на узких улицах и в маленьких двориках, и однако ж было ощущение чего-то недоговоренного, тайного, того, о чем вслух говорить нельзя. Город носил траур по убитым в Варшаве.
С высоты извозчичьей пролетки, на которой Сераковский ехал в гостиницу, он видел печальных полек в траурных платьях и возбужденных мужчин с траурными повязками на рукавах. Многие носили национальную одежду и пояса с белым польским орлом. Браслеты, брошки, бусы тоже были темными, с белыми полосками, даже обручи, которые катали маленькие девочки, наряженные в темные платьица, несмотря на жаркий июльский день. Из окон магазинов на него смотрели портреты Мицкевича, Костюшко, Гарибальди.
На этот раз Сераковский прибыл в Вильно не на каникулы, а с официальным поручением, и ему надлежало представиться генерал-губернатору Владимиру Ивановичу Назимову.
Местная польская знать считала Назимова своим человеком и относилась к нему доброжелательно, после того как еще в 1840 году он, в ту пору полковник и флигель-адъютант, стал председателем следственной комиссии по делу о тайном революционном обществе, возникшем в Вильно вслед за казнью польского патриота Шимона Конарского. Назимов, разобравшись в деле и не желая восстанавливать против себя поляков, заявил, что заговора, по всей вероятности, не было, и это позволило многим виленским шляхтичам избежать ссылки, а может быть, и смертного приговора. И когда в 1856 году Назимова назначили генерал-губернатором Северо-Западного края, виленская аристократия обрадовалась старому знакомому.
Назимов принял Сераковского сдержанно, но, увидев предписание военного министра, подобрел, хотя и заметил, что офицерам Генерального штаба полезнее было бы заняться составлением диспозиции по подавлению мятежа в Царстве Польском, чем лазить своими ложками в арестантские котлы. Очевидно, комендант Пандель уже успел пожаловаться.
- Я надеюсь, господин Сераковский, что вы, как русский офицер, будете не только добиваться улучшения положения преступников, по и призовете своих соотечественников к благоразумию.
- Само собой разумеется, ваше высокопревосходительство.
- В Петербурге, полагаю, все спокойно? - спросил Назимов. - Сказать откровенно, мне надоело управлять этим неблагодарным краем.
- Я уже давно из столицы, но, судя по письмам друзей, Петербург, как всегда, преуспевает и энергично готовится к празднованию тысячелетия России. Для Новгорода отливается памятник, напоминающий по форме колокол...
- Вечевой или, может быть, лондонский? - спросил Назимов с усмешкой. - Я шучу, конечно. Хотя в этой шутке есть доля горькой истины. В мятеже, охватившем Царство Польское, к глубокому сожалению, замешаны несколько офицеров - как поляков, так и русских.
Когда Сераковский ушел, он велел адъютанту принести полученное вчера анонимное письмо и еще раз перечитал его. А затем написал в Петербург шефу жандармов Долгорукову.
"Милостивый государь, князь Василий Андреевич! Получаемые мною разными путями сведения возбуждают подозрение о существовании в Петербурге многочисленной и влиятельной партии людей злонамеренных, стремящихся к ниспровержению законной власти и существующего государственного порядка. Ныне я вновь получил одно из таких сообщений, которое еще более подтверждает мои предположения, и потому поспешаю препроводить таковое в подлиннике к вашему сиятельству с тем, не угодно ли вам будет представить этот документ на благовоззрение государя императора... Его текст составлен одним из поборников польской справы, ибо в противном случае не отличался бы таким резким суждением принимаемых в настоящее время мер строгости, вызванных крайнею необходимостью и ведущих к восстановлению нарушенного порядка..."
Он уже собрался было запечатать письмо, но помедлил и приписал внизу: "Сегодня мне нанес визит Генерального штаба капитан Сераковский, поляк, и, судя по первому впечатлению (а оно почти всегда бывает справедливым), поборник польской справы. Убедительно прошу проверить, не замешано ли сие лицо в партиях, о которых и имел честь доложить Вам".
Тем временем тот, о ком шла речь в приписке Назимова, шел по знакомому адресу к Врублевским, чтобы увидеть Валерия, которого он заранее известил о своем приезде. Навстречу, как и вчера, попадались молодые люди в сюртуках - чемарках, шапках-конфедератках и высоких сапогах - это напоминало своеобразную форму, и Сераковский подумал, что так могут выглядеть будущие повстанцы. У входа в университетский костел святого Яна висел небольшой переломленный надвое металлический крест в терновом венке в знак того, что римско-католическая вера сломлена царем, попрана и терпит мучения.
В костеле шла служба, и Сераковский зашел внутрь.
Несмотря на будничный день, костел был убран по-праздничному букетиками живых цветов. Пламя высоких восковых свечей едва виднелось из-за солнечного света, косо падавшего сверху из узких и очень высоких окон. По сторонам в нишах стояли раскрашенные то синим, то желтым святые в изломанных неестественных позах, висели склоненные, похожие на хоругви пестрые знамена, напоминавшие о былом величии Польши. Строгие дубовые скамьи сплошь заняты молящимися с маленькими молитвенниками и четками в руках. Спиной к ним, воздев руки горе, стоял ксендз, облаченный в орант коротенькую темную ризу.
Когда Сераковский вошел, служба уже заканчивалась и ксендз повернулся к прихожанам лицом. Это было знаком, что пора петь гимн. Все встали - и те, кто сидел на скамьях, и те, кто бил поклоны перед иконой богородицы покровительницы поляков. Откуда-то с высоты, сзади, раздался тихий голос органа.
Когда ж ты, о господи, услышишь нашу мольбу
И даждь воскресенье из гробы неволи?
Уж мера страданий исполнилась в нашем гробу,
И жертвы, и смерть уж не страшны нам боле.
Мы пойдем на штыки, на ножи палачей
Но только свободу, отдай нам свободу!
Ведь наши отцы в багрянице из крови своей
Твой крест защищали в былую невзгоду...
Сераковский пел вместе со всеми. Это было опасно, но он не мог не петь, глядя на морщинистое лицо ксендза с лихорадочно блестевшими глазами, на слезы, выступившие у многих...
Когда он выходил из костела, то встретился с полицейским, который, хотя и не запрещал петь гимн, однако ж записывал то одного, то другого, кого знал в лицо. Сераковского он видел первый раз, но не преминул взять на заметку, очевидно, прибывшего из Петербурга некоего капитана Генерального штаба.
...Врублевский уже ждал его. Они не виделись два года, хотя и переписывались, правда осторожно, употребляя в целях конспирации условные выражения и слова. Россия называлась "Опекун", Пруссия - "Сосед", оружие "хлеб", повстанцы - "деньги". Засекречены были и географические названия вместо Варшавы писали "Поневеж", вместо Вильно - "Россиены"... Герцена звали "Сердечником". Сам Сераковский подписывался "Доленго".
- Ай, какой ты красивый! - воскликнул Врублевский, пожимая Зыгмунту руку. - Мундир Генерального штаба тебе определенно к лицу.
- Не мундир, как известно, красит человека, - пошутил Сераковский, но тут же добавил серьезно: - На форму я, и верно, не жалуюсь. Она мне помогла так много увидеть за последнее время, завести столько интересных знакомств - и в России, и в других странах.
- А я в своем непрезентабельном лесном мундире прикован к одним лишь пущам.
- Ничего, отличное знание пущи тебе скоро понадобится.
- Ты думаешь? - Валерий понял намек.
- Уверен... Для того я и просил тебя приехать.
Они сидели за чашкой сваренного на спиртовке кофе, и Врублевский рассказал, что в училище лесоводства есть много верных и горячих голов, на которые он может в случае чего положиться, как на самого себя.
- Очень хорошо! - одобрил Сераковский. - Твои люди могут быть не только бойцами, но и проводниками. На Кавказе горцы ускользали от наших отрядов потому, что великолепно знали свою землю.
- Но когда... это знание местности нам пригодится? Когда?
- Не знаю точно, но думаю, что скоро. Видишь ли, к делу готовятся не только здесь, но и в самой России.
Кто-то резко и бесцеремонно застучал во входную дверь, будто бы не было звонка.
- Не беспокойся, это "Топор", - сказал Валерий. - Узнаю по голосу.
- Людвик! - обрадовался Сераковский. - Я горю желанием услышать от него о девятом мая.
Раздались торопливые шаги, бряцанье шпор, и в комнату, распахнув рывком дверь, вошел адъютант Назимова Людвик Жверждовский.
- Я узнал от губернатора, что ты объявился в Вильно, подумал, где тебя искать, и сразу же пошел сюда... Здравствуй, Зыгмунт!
Он небрежно бросил на диван парадную, однако ж излишне теплую для лета каску, точно такую, как и у Сераковского, с которым он был в одном чине.
- Очень рад тебя видеть! - Людвик дружески хлопнул Зыгмунта по плечу. - И вообще рассказывай что и как! Есть ли новости в Петербурге?
- Из Петербурга я давно... Хотелось бы сначала послушать тебя.
- Надеюсь, ты обратил внимание на то, что делается в Вильно. В какой-то мере это наша работа.
- И девятого мая - тоже?
- Конечно! Моя и Францишека Далевского.
- Поздравляю! Впервые множество людей, объединенных одной идеей, одним чувством, пришли к представителю власти требовать устранения несправедливости. Неплохое начало, Людвик!
Девятого мая ко дворцу генерала-губернатора направились женщины. Их было много, и они остановились перед дворцом. С помощью Жверждовского кто-то проник внутрь, требуя, чтобы их выслушал начальник края. Женщины пришли просить Назимова выпустить из тюрьмы нескольких молодых людей, которых власти арестовали как подстрекателей к пению запрещенных революционных песен и гимнов. "Освободите невинных!" - кричали в толпе. Назимов даже не вышел. Он приказал вызвать пожарную команду.
Разговор перекинулся на других друзей Сераковского, вспомнили веселого ксендза Мацкевича ("Он все там же, в своем Подберезье". - "Но мне надо его повидать!" - "Хорошо, съездим к нему"), Кастуся, который вот-вот должен вернуться в Вильно, и сестер Далевских.
- Кстати, вы не знаете, здесь ли Аполония? - спросил Зыгмунт по возможности равнодушным голосом.
Врублевский понимающе усмехнулся:
- Уж коль я тогда был чем-то вроде свата, то продолжу эту роль и теперь. Вечером сходим к Зеленому мосту, где каждую пятницу устраиваются политические демонстрации.
- И там увидим Аполонию?
- Конечно! В самых первых рядах.
Зеленый мост через Вилию соединял дачные местности - Зверинец с Закретом. Река здесь круто изгибалась, и на том, высоком берегу ее рос красивый сосновый лес.
...Аполонию Сераковский увидел сразу, она шла впереди, вместе с какими-то женщинами в черном. За ними в безмолвии медленно двигалась толпа. Аполония узнала Зыгмунта, подняла на него большие затуманенные глаза, но тотчас же потупила взгляд. В такую минуту, когда все думали о жертвах, принесенных Польше, было кощунственно выражать радость.
Сераковский и Врублевский молча присоединились к толпе, которая уже возвращалась в город. Лишь дойдя до пустынной Торговой площади, посредине которой возвышался костел святого Якуба, Аполония сочла возможным" взглянуть на Сераковского и приветливо улыбнуться ему.
- Здравствуйте, пан Зыгмунт, я рада вас видеть, - тихонько сказала она. - Вечер добрый, пан Валерий!..
Сераковский с благодарностью посмотрел на нее. Она похорошела, и ей так шло черное платье из тяжелого шелка, на котором выделялась булавка с белым орлом, приколотая к груди в знак того, что ее сердце принадлежит Польше.
- Можно, я вас провожу до дому? - попросил Сераковский, и Аполония не возразила.
- До завтра, Зыгмунт! - вовремя попрощался Валерий.
- До завтра! Я жду тебя в гостинице, как условились.
Аполония и Зыгмунт остались одни. Улицы быстро пустели. Цокая копытами о мостовую, проехал казацкий патруль.
- Я ведь даже не знаю, где вы живете! - сказал Сераковский.
- Какая разница... Давайте просто походим... хотела сказать "прапорщик", но вижу, что вы совсем в другом чине. - Она вздохнула. - Мне не нравится ваша форма, пан Зыгмунт.
- Почему же? - удивился Сераковский.
- Потому что солдаты, одетые в эту форму, держат в цепях Польшу.
- Но есть люди, которые носят такую же форму и в то же время готовы бороться за свободу отчизны.
- Где они? - грустно спросила Аполония.
- Один из них перед вами.
Она обрадовалась:
- Значит, вы приехали не просто так, а по делу!
- Конечно... И чтобы увидеться с вами. Я так часто и так много думал о вас все это время...
- В трудный час испытания отчизны сердце поляка должно молчать.
- Неверно! Охваченное любовью сердце делает человека сильнее, лучше, справедливее!
Они бродили по темным, освещенным лишь звездами улицам, и Сераковский рассказывал о чужих странах, о встречах с Герценом и Гарибальди, пока Аполония не спохватилась:
- Уже поздно... Мне надо домой.
Она взяла в руку висевшие на груди миниатюрные часики с цепочкой копией каторжных цепей, как наглядным напоминанием об оковах, в которых стонет Польша. Сераковский засветил спичку.
- Уже два часа ночи! - испуганно сказала Аполония и добавила уже с улыбкой: - Мне попадет от мамы, она у нас строгая.
- Не попадет!.. Когда я вас увижу?
- Завтра вечером я буду у Острой брамы.
- А в воскресенье?
Аполония задумалась.
- Наверное, я пойду в костел. Вот в этот. - Она показала рукой на древнюю звонницу, стоявшую рядом с белым храмом.
- А в понедельник?
- Зачем загадывать далеко? - спросила она.
- А затем, что я хочу вас видеть каждый день, каждый час, каждую минуту!
К сожалению, осуществить это Сераковскому не удалось: работа по обследованию тюремного быта отнимала слишком много времени. Но уже одно то, что он жил в Вильно, в городе, в котором жила Аполония, что он хотя бы изредка мог встречаться с нею, делало его счастливее.
А город по-прежнему бурлил. Сераковскому стоило немалого труда оставаться внешне спокойным, проходя по улицам и чувствуя на себе враждебные взгляды прохожих. Люди, надевшие траур по павшим, видели в нем лишь капитана ненавистной им царской армии, быть может, однополчанина тех, кто расстреливал варшавских демонстрантов. Он не мог, не имел права сказать им, что под его мундиром бьется горячее сердце патриота. Тревожило и другое. Однажды он стал свидетелем того, как дюжий поляк с закрученными усами столкнул локтем с тротуара русского старика, пробормотав негромко, но внятно: "Чертов москаль!"
В начале августа распространились слухи, будто из Царства Польского сюда через Ковно направляется многочисленная процессия: Варшава протягивает руку Вильно. Дорога на Ковно вела через Погулянку, и там стал собираться народ. Этой дорогой в феврале 1839 года везли на расстрел Шимона Конарского, и место его казни стало священным. Дойдя до него, люди падали на колени и пели молитвы. С каждым днем толпа росла. Сначала это были сотни людей, потом - тысячи.
Пятого августа в гостиницу к Сераковскому прибежал встревоженный Жверждовский.
- Зыгмунт, если завтра народ пойдет по Погулянке, его встретят войска. Сведения точные, от самого Назимова.
Сераковский задумался.
- Это опасно. Это очень опасно, Людвик.
- В чем ты видишь опасность? В столкновении?
- Да. Будут жертвы - убитые, раненые, покалеченные. Должны ли мы поддерживать эту демонстрацию или же должны отговорить от нее народ? Чего будет больше от завтрашнего выступления - пользы или вреда? Я не навязываю своего мнения. Давай думать...
- По-моему, надо смело идти на жертвы! Это всколыхнет народ, заставит его взяться за оружие.
- А разве оно есть? - спросил Сераковский.
Жверждовский замялся:
- Видишь ли, оружия пока очень мало... Вернее, его почти нет.
- Так за какое же оружие будет браться народ? Я за выступление, за демонстрацию, за борьбу, которую мы, безусловно, начнем, но при одном условии - надо иметь силы, чтобы выступить и победить.
Ночью шестого августа были подняты по тревоге четыре пехотные роты и две сотни казаков. Они заняли позиции у Трокской заставы и блокировали три расходящиеся здесь дороги - на Ковно, откуда ждали варшавян, на Гродно и маленький городок Троки, давший имя заставе.
Было еще темно, восток только занимался, но город уже бодрствовал, вернее, он и не спал вовсе. В покоях генерал-губернатора Назимова свет горел всю ночь. В шесть утра зазвонили колокола всех виленских костелов, призывая на молитву тех, кто собирался идти к месту казни Конарского. Особенно много народу собралось возле Остробрамской иконы. Часовня, в которой она висела, находилась над древними Острыми воротами крепостной стену, некогда окружавшей Вильно. Ночью икона была закрыта от людских взоров шелковой занавеской, которая с первым ударом колокола сдвинулась с места, открывая строгий лик богоматери, украшенный множеством серебряных маленьких сердец и ручек - дарами несчастных, исцеленных ею. Толпа опустилась на колени и запела:
Боже, кто Польшу родимую нашу
Славой лелеял столь долгие веки,
Ты, отвращавший столь горькую чашу
Броней своей всемогущей опеки,
Ныне к тебе мы возносим моленье:
Отдай нам свободу! Пошли избавленье!..
Люди из костелов направлялись к Погулянке. Шли шляхтичи, ремесленники, горничные, гимназисты в форменных фуражках, чиновники. Некоторые вели детей, державших на руках одетых в черное кукол.
У Белых столбов отдельные группы соединились и пошли дальше по тракту на Ковно. Тракт был густо обсажен липами и, петляя, поднимался в гору. Ничего опасного не было видно впереди, но вот дорога пошла прямо, и все увидели на вершине холма казаков на конях и боевые порядки солдат. Перед ними взад-вперед ходил полковник.
Завидев войска, толпа замедлила движение.
Полковник остановился посередине дороги, широко расставив ноги и заложив руки за спину.
- Господа! Прошу разойтись! - крикнул он.
Толпа продолжала молча двигаться.
- Прошу остановиться, иначе я вынужден буду приказать открыть огонь! - еще громче прокричал полковник.
Толпа не остановилась. Никто не дрогнул.
- Первая рота, приготовьсь! Ружья к бою! - скомандовал полковник, оборотясь лицом к солдатам.
Послышался шорох снимаемых с плеч штуцеров.
Только сейчас демонстранты в нерешительности остановились. Матери схватили за руки детей и побежали на обочину дороги. Там лежали небольшие кучки валунов, собранных крестьянами со своих полей.
- Запасайтесь булыжниками! - крикнул кто-то.
- Частокол разбирайте!
Несколько мужчин из первых рядов бросились на солдат, подняв над головой колья.
- Пли! - скомандовал полковник, рубанув воздух рукою.
Раздался залп...
...Двадцать пятого августа генерал-губернатор Назимов объявил в Вильно военное положение.
Все эти дни Сераковский уходил из дому рано утром и возвращался поздно вечером. Ночью ему снились несчастные арестанты - виновные и невинно осужденные, казематы, тупое и жестокое начальство крепостей.
Сегодня он вернулся из Динабурга, где провел три дня. Поездка была очень нужной, и о ней он думал загодя, еще в Петербурге, когда узнал от Чернышевского, а потом от Погорелова о поручике Иванове, служившем в комендатуре этой крепости, в прошлом участнике офицерского кружка в Казани. С ним Зыгмунту надо было повидаться наедине, и удалось это осуществить лишь в последний перед отъездом день. Они долго ходили за городом, по берегу Западной Двины, разговаривая о том, как настроен гарнизон крепости, и особенно несколько человек, которые были отданы сюда в солдаты за политические убеждения. Иванов сказал, что это честные и мужественные люди. Есть и другие. Кое-кто из офицеров читал "Колокол". На квартире у Иванова по воскресеньям собирались единомышленники под видом обычной офицерской пирушки и обсуждали острые вопросы - как дальше жить и что делать. "На них можно положиться?" - спросил Сераковский, и Иванов ответил, что ручается за них головой. "Как вы знаете, в Вильно очень неспокойно, - сказал Зыгмунт. - Недалеко и до бунта. Но чтобы бунтовать, бороться, нужно оружие. Голыми руками ничего не сделать". - "Вы хотите сказать то, что самый близкий к Вильно арсенал находится в Динабурге". Сераковский кивнул: "Именно, поручик, и я попрошу помощи у вас и ваших друзей". "Мы сделаем все, что в наших силах", - ответил Иванов.
Они расстались уже ночью, крепко пожав на прощание друг другу руки.
Сераковский возвращался в Петербург с тяжелым сердцем. В Вильно явно назревали тревожные события, политическая обстановка накалялась с каждым днем, вот-вот наступит время "браться за топоры". А он должен уезжать из Литвы.
И кроме того, в Вильно оставалась Аполония. Она не провожала его на вокзал - запретила мать, которая почему-то настороженно относилась к молодому поляку в форме русского офицера. Они простились накануне у паперти костела святой Анны. Аполония была грустна, задумчива и, как казалось Сераковскому, с неохотой отпускала его от себя. И все же он не добился от нее ни одного откровенного слова, будто она не чувствовала сердцем, не понимала умом, как он ее любит.
В Петербурге уже намечалась осень, дул холодный сырой ветер с Финского залива. В Петропавловской крепости часто палили пушки, предупреждая жителей о том, что вода в Неве поднялась выше ординара.
Еще на вокзальном дебаркадере Сераковский заметил - встречающие были чем-то возбуждены, встревожены, сновали городовые. Он вошел на площадь и увидел, как проскакала кавалерия, направляясь к центру города.
- Что случилось? - спросил Сераковский у извозчика. - Наводнение?
- Студенты балуют, ваше благородие.
- А из-за чего балуют? Не знаете?
- Как не знать, ваше благородие, мы все завсегда знаем. От седоков... Теперича народ-то весь учиться желает, а ему сказали: "Шалишь, браток! Хочешь в университет ходить - подавай пятьдесят целковых". А такие деньги не у всякого найдутся... Вот они и балуют, те, кто победнее... Вас куда везти прикажете, ваше благородие?
- К университету!
У моста через Неву стояли два артиллерийских офицера. Они подняли руки, предлагая извозчику остановиться.
- В чем дело, господа? - спросил Сераковский.
- Разрешите вас на несколько слов, капитан, - сказал один из офицеров, козыряя.
- К вашим услугам.
- В университете сейчас начнется сходка. Вызваны войска... Как бы не произошло чего плохого. Вы не можете выручить студентов?
- Но каким образом?
- Чем больше будет офицеров среди них, тем сдержаннее будут вести себя солдаты.
Сераковский приветливо взглянул на артиллеристов.
- Неплохо придумано, господа! Спасибо за совет.
Он отпустил извозчика.
Знакомый поручик, слушатель Инженерной академии, догнал его на мосту, и они разговорились.
- Вот, может быть, желаете полюбопытствовать? - он протянул Зыгмунту небольшой листок бумаги. - Еще тепленькая. Нашел утром в почтовом ящике.
- Прокламация?.. Интересно! Очень интересно!.. "Правительство бросило нам перчатку, - прочитал Зыгмунт. - Посмотрим, сколько наберется у нас рыцарей, чтобы поднять ее... Теперь нам запрещают решительно все, позволяют нам сидеть скромно на скамьях, вести себя прилично, как следует в классе, и требуют не р а с с у ж д а т ь".
Дальше шли строки, особенно заинтересовавшие Сераковского: "На наших мы менее надеемся, чем на п о л я к о в. В них более благородного самоотвержения. Они умели... без страха идти на пытку, в рудники, страдать за идею, и поэтому наш братский призыв к ним: принять самое деятельное участие в общем деле, поделиться с нами своей энергией". Прокламация заканчивалась словами: "Энергия, энергия, энергия! Вспомним, что мы молоды, а в это время люди бывают благородны и самоотверженны; не пугайтесь ничего, повторяем еще раз, хотя бы пришлось всему университету идти в келью богомольного монастыря".
- Расскажите, бога ради, что происходит? - попросил Сераковский, возвращая прокламацию. - Я только что с поезда...
- Вот оно что! - сказал поручик. - В университете, видите ли, ввели новые драконовские правила. Запретили сходки. Установлена плата за обучение - все равно что с богатого или с бедного. Студенты, естественно, протестуют. Занятия прекращены до дальнейших распоряжений. Многие арестованы...
Все пространство перед университетом было занято толпой молодежи. Многие держали в руках трости. Сюртуки с синими студенческими воротниками перемежались с офицерскими шинелями, польскими чемарками, кавказскими чекменями. В некотором отдалении стояли конные жандармы, городовые, пожарные в медных касках. За ними - шеренги солдат в форме Финляндского полка. Тут же разъезжали верхами несколько генералов и штаб-офицеров.
К одному из университетских зданий была приставлена лестница, и на ней, взобравшись повыше, стоял студент-оратор. За дальностью Сераковский не расслышал, о чем он говорил.
- Господа, прошу разойтись! - раздался дребезжащий крик одного из генералов. "Боже мой, опять та самая фраза, что и в Вильно!" - с ужасом подумал Зыгмунт. - Я вынужден буду отдать приказ применить оружие! продолжал кричать генерал. "Все то же, все то же".
Сераковский попробовал протиснуться через толпу любопытных, запрудивших набережную, чтобы подойти к студентам, но не успел. Толпа дрогнула, пришла в движение, подхватила его и потащила куда-то назад. Со стороны университета послышались отчаянные крики, стоны. Сераковский не видел, как рота солдат со штыками наперевес бросилась на студентов, как врезались в толпу конные жандармы и поднятые на дыбы лошади опустили копыта на людей...
Его чуть не сбили с ног, потом сжали и понесли прочь от страшного места. Лишь за мостом, когда бегущая толпа заметно поредела, Сераковский остановился перевести дух и прислонился плечом к глухой кирпичной стене. И тут совершенно неожиданно он услышал свое имя.
- Зыгмунт! - громко окликнул его знакомый голос.
Сераковский оглянулся и увидел стоящего поодаль Огрызко.
- Ничего, Зыгмунт, ничего, - сказал пан Иосафат. - Я видел. Но скоро, очень скоро все изменится... - он кивнул головой в сторону университета. У меня есть хорошая новость из Польши. В Варшаве настолько назрело... что красные собираются организовать свой комитет. Городской комитет красных. Повстанческим начальником Варшавы будет Ярослав Домбровский.
Глава пятая
Зиму Сераковский провел в Петербурге. Работы в департаменте Генерального штаба было много. Правда те, кто не хотел работать, находили способы отлынивать от дела, но Зыгмунт так поступать не мог, приходил раньше всех, засиживался допоздна, и сослуживцы называли его в шутку "самым занятым человеком во всем Генеральном штабе русской армии".
Немало времени уходило и на то, чтобы прочитать газеты и журналы, которые он выписывал. Февральская книжка "Военного сборника" запоздала, и ее принесли почти одновременно с газетами за двадцать седьмое марта. Сераковский привычным, давно выработанным жестом развернул шелестящие листы "Северной пчелы", сначала просмотрел заголовки - нет ли сообщений о беспорядках в Царстве Польском или в Литве и вдруг наткнулся на большую, занимающую полстраницы, статью, подписанную инициалами "М. Л.". Взгляд случайно остановился на строчках, которые показались ему знакомыми.
- Ого! Это же мои слова! Ясь! - крикнул он Станевичу. - В "Северной пчеле" некто "М. Л." цитирует мои "Извлечения из писем".
- Из "Морского сборника"?
- Да, из январской книжки. То место, где я пишу о телесных наказаниях в России.
- Поздравляю! Тебя уже начинают цитировать влиятельные газеты.
- Интересно, по какому поводу... Ах, вот оно что... - Сераковский наконец прочитал заголовок. - Ответ на какие-то "Кавалерийские очерки" князя Эмилия Витгенштейна, помещенные в февральском номере "Военного сборника".
Он протянул руку и достал с полки свежую книжку журнала, одновременно продолжая читать статью в "Северной пчеле". Да, автор, скрывшийся за инициалами "М. Л.", явно берет сторону его, Сераковского. Смотрите, как он отделал этого князя! "Бедный наш солдат! Недавно еще сомневались в пользе для тебя учиться грамоте, а теперь явилась статья, в которой красноречиво доказывается, что вне розог несть для тебя спасения... Розги так же необходимы для тебя, как соль ко щам, как масло к каше".
Затем он принялся за статью самого Витгенштейна.
- О, какая гадость!.. Да как он смеет!.. Какой позор!
- Чем ты там недоволен, Зыгмунт? - спросил из своей комнаты Станевич.
- "Военным сборником". Тут напечатана переведенная с немецкого гнусная статейка некоего Витгенштейна. Этот кнутофил имеет наглость утверждать, что если телесные наказания назначаются с соблюдением уважения к закону, то они так же мало наносят бесчестия простолюдину, как и удар кулаком или оплеуха, которою он обменяется с человеком, себе равным... Какая скотина!.. Нет, я немедленно должен повидать Чернышевского.
- Уже шестой час, Зыгмунт. В это время Чернышевский отдыхает.
- Герцена я поднимал с постели среди ночи. А сейчас еще только вечер.
Он надел шинель, сбежал по лестнице и стал ловить извозчика.
Через некоторое время он уже был в квартире Чернышевского.
- Николай Гаврилович, простите за вторжение, но я не мог ждать до завтра... Вы читали? - Сераковский бросил на стол журнал. - И это в сборнике, который так великолепно начал под вашим руководством! Стоило сменить редактора...
- Зигизмунд Игнатьевич! Это же было в пятьдесят восьмом году, а сейчас шестьдесят второй. - Чернышевский едва смог вставить фразу в бурную речь Зыгмунта.
- Какая разница, когда это было! Я говорю о том, что журнал без вас из патриотического, нужного обществу стал реакционным, проповедующим вреднейшие мысли. Он стал похож да отставного офицера, у которого нет эполет, но на плечах остались от оных дырочки.
- И вы приехали для того, чтобы сообщить мне это? - спросил Чернышевский.
- Нет, конечно... - Зыгмунт сразу остыл. - Я хотел вас увидеть, чтобы посоветоваться, что отвечать этому кнутофилу?
- Сегодняшнюю "Северную пчелу" вы, надеюсь, читали? И наверное, обнаружили там часть вашей статьи?
Сераковский кивнул.
- Помните, я вам как-то говорил, что ваши "Извлечения из писем" обязательно будут замечены. И вот результат налицо. Я рад за вас.
- Спасибо, Николай Гаврилович.
- Кстати, вы мне обещали прочитать остальные ваши письма - из Франции, Англии, Австрии.
- С вашего разрешения я это сделаю в самые ближайшие дни... Да, Николай Гаврилович, а вы не знаете, кто этот "М. Л."?
- Понятия не имею.
- Жаль, что он не раскрыл свое инкогнито. Было бы интереснее под такой статьей видеть фамилию, а не только инициалы.
Чернышевский оживился.
- Вот именно, Зигизмунд Игнатьевич! И в этой связи у меня еще до вашего прихода возникла мысль: надо бы сделать так, чтобы князю Витгенштейну дала отповедь группа офицеров всех родов оружия. Я полагаю, что нынешний редактор "Северной пчелы" господин Усов рискнет напечатать подобный протест, коль он не побоялся поместить статью "М. Л.". Остановка за тем, чтобы быстро собрать как можно больше подписей.
- Беру на себя... Но под чем? Под каким текстом?
- Об этом следует хорошенько подумать. Но суть ответа, по-моему, совершенно ясна. - Чернышевский встал и, заложив руку за борт сюртука, начал ходить по комнате. - Надо сказать о том, сколь подлы и бесчеловечны те мысли, которые проповедует этот прусский фельдфебель, и между ними гнуснейшая попытка защитить телесные наказания, которые, по словам князя, - Чернышевский взял в руки журнал, - "по своей непродолжительности и удобству исполнения представляют неисчерпаемые выгоды"; их, говорит этот иностранец, "можно назначать на бивуаках, при кратковременной остановке и под самым неприятельским огнем, избегая слишком медленной процедуры и проволочек"! - Чернышевский посмотрел на Зыгмунта. - Какая дичь! Какое возмутительное непонимание потребностей современного русского общества!
- Совершенно согласен с вами, Николай Гаврилович!
- Может быть, стоит в ответе сказать о том, сколь неприятно и возмутительно, что журнал, печатая подобную статью, распространяет в нашем военном сословии невежество и проводит взгляды, противные самому духу русского солдата...
- Очень хорошо, Николай Гаврилович! Так и составим... Надеюсь, что первая подпись под этим письмом будет моя?
- Ни в коем случае, Зигизмунд Игнатьевич!
- Но почему? - Сераковский удивился.
- А потому, Зигизмунд Игнатьевич, что ваше имя в высших военных сферах пользуется известностью. Ни в чем противоправительственном вас, к счастью, не подозревают. Подписав же этот протест, вы сразу навлечете на себя немилость начальства. Не забывайте, что теперешний "Военный сборник" пользуется особой поддержкой государя. Подумайте о нашем тайном офицерском обществе, ведь вы его можете поставить под удар. А надо ли это? И вообще, среди подписавших протест не должно быть офицеров, имеющих отношение к тайному обществу.
- Ну что ж, Николай Гаврилович. Вы меня убедили...
Назавтра Сераковский прежде всего связался о Обручевым.
- Николай Гаврилович, безусловно, прав. Рисковать нельзя. Но мы найдем немало других офицеров, которые не побоятся подписать документ. Только делать это надо осторожно, чтобы слухи не дошли до государя, прежде чем будет опубликован протест.
- Само собой разумеется, Николай Николаевич.
К исходу следующего дня под письмом стояло сто шесть подписей, и его отвезли в редакцию "Северной пчелы". Двадцать девятого марта оно было опубликовано.
В тот же день Сераковского вызвал к себе Милютин. В кабинете никого не было.
- Я только что прочитал в "Северной пчеле" коллективное письмо и среди ста шести подписей не обнаружил вашей.
Сераковский молчал, не зная, что ответить.
- Я увидел там немало фамилий, знакомых по Академии Генерального штаба...
Зыгмунт продолжал молчать. Ему показалось, что военный министр недоволен тем, что документ, направленный против телесных наказаний, не подписал офицер, которому этот документ должен быть всего ближе.
- За неотложными делами я просто не знал, что готовится письмо, ответил наконец Сераковский.
- Ну что ж. Тем лучше, Сигизмунд Игнатьевич... Могу вам сообщить по секрету, что государь выразил свое крайнее неудовольствие по поводу письма.
Сераковский не мог не рассказать Чернышевскому об этом странном разговоре.
- Это, Зигизмунд Игнатьевич, лишь укрепляет меня в моем мнении, что Дмитрий Алексеевич достаточно честный человек. России, пожалуй, на сей раз повезло с военным министром.
Они беседовали долго, Ольга Сократовна звала пить чай, но Чернышевский просил повременить. По обыкновению, он много курил, и кабинет был наполнен дымом и запахом дорогого стамбульского табака.
- И все же, Зигизмунд Игнатьевич, отмена телесных наказаний, несмотря на огромное прогрессивное значение этой меры, еще не революция. У вас есть главная цель - освобождение отечества. А для достижения ее недостаточно даже самых гуманных реформ, нужен бунт!
- И уж если бунтовать, - продолжил мысль Сераковский, - то выходить на улицу не с тросточками, как давеча студенты, а с настоящим оружием.
- Конечно! Революция не может происходить без нарушения уличной тишины. Люди, страшившиеся в сорок восьмом году так называемых народных эксцессов, губили революцию и расчистили дорогу реакции.
Часов в одиннадцать Сераковский спохватился, что уже скоро ночь, а ему еще предстоит написать одно частное письмо, над которым придется изрядно потрудиться.
- И кто же адресат, если не, секрет? - полюбопытствовал Чернышевский.
Сераковский смутился.
- Так, один человек... точнее, одна очень хорошая девушка...
- Которую вы любите? - Чернышевский поднял на Зыгмунта веселые близорукие глаза. - Я угадал?
- Угадали. - Сераковский незаметно вздохнул.
Сераковский никогда раньше не задумывался о формальностях, которые предшествовали вступлению в брак офицера. Он знал одно, что горячо, как никто другой во всем свете, любит Аполонию, что не может жить без нее, но, оказывается, нужны были еще какие-то нелепые официальные бумажки с подписями и печатями, так не вязавшиеся с его возвышенным, святым чувством. Прежде всего требовалось разрешение его непосредственного начальника в Генеральном штабе, который должен был решить вопрос о пристойности брака - невеста офицера обязана быть доброй нравственности и благовоспитанна. В этом вопросе генерал-квартирмейстер барон Ливен поверил Сераковскому на слово. Правда, формы ради он бегло просмотрел метрику невесты и написанное бисерным почерком ее согласие на брак с "Генерального штаба капитаном Сигизмундом Игнатьевичем Сераковским". Со стороны жениха тоже все оказалось благополучно, он уже перешагнул тот возраст - двадцать восемь лет, по достижении которого от военных уже не требовали так называемый реверс - документ о владении недвижимым имуществом, приносящим ежегодный доход не менее трехсот рублей. Без реверса жениться не разрешалось.
- Когда же свадьба, Сигизмунд Игнатьевич? - спросил Ливен. - И где? Надеюсь, в Петербурге?
- Думаю, что в самое ближайшее время. И где-нибудь в Литве... Моя командировка за границу явится одновременно и нашим свадебным путешествием.
Однако уехать из Петербурга Сераковскому пришлось не так скоро. Помешали пожары.
Зыгмунту казалось, что никогда он не видел ничего более страшного, чем море огня, почти мгновенно охватившего Толкучий рынок - беспорядочное нагромождение дощатых лавок, как бы зажатых с четырех сторон Фонтанкой, Большой Садовой, Чернышевым и Апраксиным переулками. Это случилось двадцать восьмого марта, на духов день. Несмотря на ветренную и прохладную погоду, чуть ли не весь Петербург вышел на гулянье. Играли оркестры. По Фонтанке плыли празднично украшенные ялики, направлявшиеся в Петергоф.
И вдруг на колокольнях тревожно и громко ударили в набат. Послышались крики: "Пожар!", "Горим!" Началась суматоха. Стал виден гигантский столб черного дыма, взметнувшегося в небо. Через толпу, громко звоня в колокол, пробирались пожарные на своих огромных повозках.
Пожар начался в шесть часов, но к полуночи пламя все еще подыхало. Ветер раздувал его, подхватывал угли, головешки и швырял их на дома. Сераковский не уходил. Его натура не мирилась с бездеятельностью, и он помогал пожарным качать воду, попытался даже броситься в горящее здание ему показалось, что там кто-то зовет на помощь, - но офицер из конвойных вовремя схватил его за руку: "Вы с ума сошли, капитан!"
Около часу ночи в толпе кто-то крикнул:
- Государь пожаловал!
Зыгмунт увидел, как на Садовой перед воротами Государственного банка остановилось несколько карет, из которых вышли Александр с наследником и многочисленная свита. В зловещем свете пожара было странно и нелепо видеть возбужденное, веселое лицо царя. Никто из адъютантов и генералов даже не попытался отдать какое-либо распоряжение, все просто смотрели, любовались невиданным зрелищем, перебрасывались фразами, смеялись...
Пожары продолжались несколько дней, они вспыхивали в разных концах города, и по Петербургу поползли слухи, что это дало рук поляков или революционеров. В Исаакиевском соборе и в других церквах совершали молебствия об отвращении бедствий, но это не помогало...
Лишь в начале июля Сераковскому удалось наконец получить документы. Командировка предстояла довольно долгая - на шесть месяцев, по 24 декабря 1862 года, и имела целью дальнейшее и более детальное знакомство с порядками в военно-исправительных заведениях.
- Вы столь успешно показали себя при осмотре наших крепостей и тюрем, что мы решили попросить вас закончить дело за пределами России, - сказал Зыгмунту Милютин. - Расскажите нам о дисциплинарных учреждениях без телесных наказаний. Посетите снова Лондон, Париж, съездите в одну из французских колоний...
- Я бы хотел просить вашего разрешения, Дмитрий Алексеевич, - сказал Сераковский, - немного задержаться в Литве... по делам сугубо личным.
- Пожалуйста... Я слышал, вы, кажется, намерены жениться. От души желаю вам счастья.
За командировочным предписанием Сераковский пришел к директору канцелярии военного министерства генералу Константину Петровичу фон Кауфману. Кауфман принимал согласно новой моде - не по старшинству, а в очередь, в том порядке, в каком каждый являлся в приемную. Сегодня Кауфман был в хорошем расположении духа, протянул худую жилистую руку и с насмешливым добродушием поглядел на Сераковского.
- Опять едете доказывать, что у нас все плохо: наша пенитенциарная система не годится, наши военные тюрьмы не соответствуют своему назначению, а телесные наказания уродуют людей!..
- Совершенно верно, ваше высокопревосходительство! - ответил Сераковский.
- Ах, Сигизмунд Игнатьевич, Сигизмунд Игнатьевич!.. - Кауфман тяжело вздохнул. - Этот ваш нигилизм - не что иное, как результат увлечения Чернышевским. У нас крайне гуманное правительство. Человек своим вредоносным влиянием, своими дерзкими сочинениями разлагает общество, и хоть бы что - до сей поры находится на свободе. Впрочем, я уверен, что его скоро сошлют.
- Помилуйте, Константин Петрович! - воскликнул Сераковский. - Как же можно ссылать человека, литератора, если все то, что он печатает, проходит цензуру? Сослать ни с того ни с сего?
- Э-э, батенька! Политическая борьба все равно что война, а на войне, как вам известно, все средства позволительны. Человек вреден - значит его надо убрать. И это будет сделано, поверьте моему опыту!
Сераковский едва дождался конца аудиенции и сразу же поехал к Чернышевскому.
- Васильевский остров, вторая линия. И пожалуйста, побыстрей! сказал он, садясь в пролетку.
- Слушаюсь, ваше благородие! На чаёк не пожалеете - мигом домчу!
- Эигизмунд Игнатьевич, у вас крайне встревоженный вид. Что случилось? - Этими словами встретил Сераковского Чернышевский.
- Мне необходимо срочно поговорить с вами, Николай Гаврилович. По возможности, наедине.
- Тогда прошу... - Чернышевский открыл дверь в кабинет. - Так что же случилось? - повторил он.
- Вас хотят арестовать и сослать. Только что я об этом случайно узнал от генерала Кауфмана.
Николай Гаврилович ласково обнял Зыгмунта за плечи.
- Дорогой мой! - Голос Чернышевского звучал грустно. - Не далее как вчера вечером ко мне нагрянул фельдъегерь графа Суворова с поручением от своего патрона. Петербугский генерал-губернатор велел, конечно, сугубо конфиденциально, передать мне то же самое, что вы сообщили...
- Вот видите! Вам надо уехать за границу! - перебил Сераковский.
- Но это невозможно, Зигизмунд Игнатьевич!
- А почему? Не дают заграничного паспорта? Паспорт можно добыть и без участия полиции! Нет денег - соберем!
- Спасибо! От всей души спасибо, добрый мой человек! Как это ни странно, граф Суворов... - Чернышевский рассмеялся коротким смешком, граф Суворов предложил мне свои услуги и в этом щекотливом деле. Мол, паспорт обеспечим, даже проводим до самой границы, дабы с моей персоной не случилось никаких происшествий... И вы знаете, что я велел передать графу Александру Аркадьевичу? Что я категорически отказываюсь уезжать из России.
- Даже несмотря на грозящий вам арест?
- Да, несмотря на грозящий мне арест. - Чернышевский помолчал. - Ну подумайте, дорогой Зигизмунд Игнатьевич, как я могу бросить родину в то самое время, когда назревают такие большие, такие грандиозные дела! Накануне революции! Нет и еще раз нет! Я не могу жить вне России! Стать эмигрантом, обречь себя на вечное изгнание - выше моих сил. Нет, уж лучше в каземате, да в России... И вообще хватит об этом. - Он зашагал по кабинету. - Расскажите-ка о себе. Получили ли ответ от той милой девушки, которой собирались писать?
- Подучил, Николай Гаврилович. И весьма благоприятный. - Сераковский попытался скрыть радостную улыбку, но не смог. - Завтра еду в Литву, где вскоре надеюсь обвенчаться.
- Я очень, очень рад за вас, Зигизмунд Игнатьевич...
Последнее время Сераковский думал только об Аполонии. Всю зиму она учительствовала в селе близ Ковно, а теперь приехала на каникулы в Кейданы, к сестре. Она часто получала от Зыгмунта книги и восторженные неразборчивые письма. В одном из них он немного высокопарно предложил ей руку и сердце. Она долго, недопустимо долго не отвечала, проверяя его чувства к ней. Сераковский впал в отчаяние, не зная, что думать и что делать, как вдруг получил от нее коротенькую записку, сразу разрешившую все, - "Я согласна".
Зыгмунт хотел бросить дела и сразу же поехать в Литву, но мужественная и трезво оценивающая все Аполония написала, что время терпит, что нужно еще добиться согласия матери, которая не очень рада ее браку и даже (она не говорила об этом, но теперь признается) нарочно отправляла ее к сестре Юлии в Кейданы, чтобы помешать их встречам в Вильно.
Сейчас Аполония снова была в Кейданах. Он послал туда телеграмму может ли приехать? - и получил ответ от другой сестры Аполонии Текли: "Ждем".
И вот он в маленьких провинциальных Кейданах, на берегу Невяжи, с развалинами древнего дворца Радзивиллов, среди покоя и такой устоявшейся ленивой тишины, что звук костельного колокола, призывающего прихожан к молитве, кажется громче орудийного залпа.
В первый же вечер они долго гуляли с Аполонией проселочной дорогой, по сторонам которой стояла рожь. В тишине было слышно, как от ветра сухо шуршат, соприкасаясь друг с другом, спелые колосья.
- Ты мне понравился с первого разу, еще тогда, - говорила Аполония. У тебя удивительное лицо, я бы выделила его из тысяч других... умное, решительное и при этом такое доброе. И эти глаза. Смелые и добрые одновременно... Ты ведь ничего не можешь скрыть от меня, я все читаю в твоих глазах... как по книге.
- Это опасно. - Он счастливо улыбался, слушая ее. - Ведь мне приходится хранить немало тайн, госпожа Полька.
- От меня?
- Нет, от военного министерства.
Он боялся, что докучает ей, рассказывая о петербургских делах, которыми все еще жил, о своих сослуживцах и друзьях, оставшихся в столице.
- Когда мы будем жить в Петербурге, ты их узнаешь и полюбишь.
Аполония слушала его недоверчиво, ей казалось странным, что он так говорит о русских в то самое время, когда в Варшаве и Вильно русские солдаты стреляют в безоружных поляков.
- Ты думаешь, они это делают по собственной воле? - вопросом ответил Зыгмунт на ее вопрос. - Может быть, сейчас у Польши нет более верных друзей, чем Герцен и Чернышевский.
Пока шли приготовления к свадьбе, Зыгмунт съездил в Вильно, чтобы повидаться с Калиновским и пригласить его в Кейданы. Кастуся дома не было, пани, у которой он квартировал, сказала под большим секретом, будто пан Калиновский часто ходит по деревням и говорит, что всю господскую землю надо отдать крестьянам.
- Это же пахнет виселицей! Такой хороший человек - и такие речи! Если вы не боитесь, то можете подождать в его покоях.
Калиновский вернулся под вечер усталый и встревоженный.
- Плохая новость, Зыгмунт. Арестован Чернышевский.
- Что ты говоришь? Какой ужас!
- Я только от Людвика. У адъютанта генерал-губернатора сведения точные. Из столицы...
- Да, конечно... Совсем недавно я предупреждал Николая Гавриловича... Советовал уехать за границу...
- И что же?
- Он наотрез отказался.
Свадьбу справили тридцатого июля, в воскресенье. Приехали ксендз Мацкевич, Калиновский, Станевич, братья невесты. Аполония была на диво хороша в своем свадебном наряде.
Хотя гостей собралось и немного, но достаточно для того, чтобы дом сестры "госпожи Польки" Юлии Беркман показался тесным. Праздничные столы накрыли в саду, под вишнями. На веранду, выходящую в сад, выкатили из зала рояль, и старая пани Далевская, вся в черном, несмотря на свадьбу дочери, села за инструмент, чтобы сыграть революционный гимн. Только после этого началось веселье.
Было несколько старых замшелых бутылок вина, присланных каким-то графом, знакомым Далевских.
- И никакого тебе молока, - сказал Сераковский, поглядывая на Яна.
- Да, молодость не забывается, Зыгмунт, - Станевич мечтательно вздохнул. - Наши духовные пиры...
- Это было в Оренбурге, - пояснил всем Сераковский. - Мы собирались тесным кружком, пили молоко и клялись, что отдадим жизни за свободу отчизны. И вот час близится...
- Не надо так, не надо! - испуганно прошептала Аполония.
- И правда, не надо! - добродушно согласился ксендз Мацкевич. - Мы ж на свадьбе, а не на заседании комитета. И помолились мы уже, и господь бог благословил эту пару. - Он лукаво глянул на молодых. - Теперь пора и чарку поднять за их благополучие.
Налив в рюмку вина, он посмотрел на свет - хороша ли? - причмокнул языком и передал ее сидевшему с ним рядом Станевичу со словами:
- Пие Куба до Якуба...
Станевич подхватил присказку:
- Якуб до Михала...
Рюмку передали Францишеку Далевскому, который, приблизив ее к сердцу и театрально закатив глаза, продолжал:
- Выпил едэн... - Рюмка перешла к Михалу Беркману.
- Выпил други... - Еще дальше, к Калиновскому.
- Компания пала! - закончила Текля Далевская.
- А кто не выпие... - Аполония, у которой сейчас оказалась рюмка, шутливо погрозила пальцем и передала ее Зыгмунту.
- Тэго вэ два кия*, - комично пропел тот.
_______________
* - тот получит две палки (польск.).
И тут все, кто сидел за столом, запели хором:
- Цупу-лупу, лупу-пупу.
Тэго вэ два кия!
Только совершив этот шутливый обряд, выпили наконец за новобрачных, чтобы жили они дружно, душа в душу и чтобы у них было много всякого добра и много детей - продолжателей славного рода Сераковских.
- Тост, господа, еще один тост - за тридцать первое июля! - За столом уже было шумно, и Далевскому пришлось напрягать голос.
Эту дату - 31 июля 1569 года, когда произошло объединение Литвы и Польши, давным-давно забыли и в Польше и в Литве, но тревожные события нынешнего года заставили снова вспомнить о ней. В костеле служили молебен, и тот же самый ксендз, который вчера обвенчал Зыгмунта и Аполонию, прочел прихожанам тайно напечатанное в Варшаве воззвание:
"Братья! что бог соединил, того не разлучит ни человек, ни злой дух. Двести девяносто три года тому назад Польша соединилась с Литвой и Русью... Сия святая свадьба совершилась в Люблине и называется Униею... Приближается снова наш великий народный праздник; враги наши дрожат, вспоминая его..."
Сераковский слушал воззвание с двояким чувством. Казалось бы, все правильно, именно эти мысли и он высказывал не раз. И в то же время сейчас он ощутил в своих рассуждениях какой-то еще неясный самому изъян. А может быть, это был не союз равных с равными, вольных с вольными, а порабощение Польшей и Литвы, и Юго-Западной Руси? То самое порабощение сильным слабого, против которого он борется всю свою сознательную жизнь?
Он вспомнил свои жаркие споры с Чернышевским об этом, явственно услышал непривычно строгий голос своего томящегося сейчас в крепости оппонента:
- Казаки, милостивый государь Зигизмунд Игнатьевич, воевали не против поляков, а против польских магнатов, которые низвели гражданское устройство Малороссии и отняли гражданские права у населения Южной России...
...Сераковский смог пробыть в Кейданах только неделю - его ждали неотложные дела в Вильно: прежде чем ехать за границу, он должен был встретиться с Якубом Гейштором, чтобы попытаться устранить разногласия, мешавшие делу.
В Вильно он приехал с Аполонией и остановился в ее доме. Францишек Далевский воротился еще раньше, сразу после свадьбы, и Сераковского тревожил предстоящий, тоже неприятный разговор с ним.
Зыгмунт понимал, что уезжает за границу в трудное время, и кто знает, что произойдет в России за те полгода, которые он обязан провести вдали от родины. А если начнется восстание, что тогда? Как поведет себя Литовский комитет? Сераковскому откровенно не нравилась позиция Гейштора, который не признавал в польском движении иной силы, кроме шляхты, и печалило, что этого скользкого и недальновидного политика в чем-то поддерживает умный и смелый Францишек.
Ковенский помещик Якуб Гейштор считал, что он один заправляет всеми революционными делами в Литве. Он страдал манией величия, ему обязательно хотелось быть во всем первым, чтобы его почтительно слушались и предупреждали его желания. Сераковский хорошо помнил его еще по университету и кружку "Союза литовской молодежи", к которому принадлежал Гейштор. Тогда это был напыщенный юнец, очень мнящий о себе. Со студенческих лет он пополнел, и лишь знакомая застывшая улыбка да многословие, которым он страдал с молодости, помогали безошибочно определить, что это все тот же Якуб Гейштор.
Он пришел к Сераковскому поздно вечером, опасаясь, как бы полиция не заметила, что он заходил в опальный, быть может, находящийся под наблюдением дом.
Несмотря на то что они были знакомы со студенческих лет, Гейштор первым перешел на официальное "вы", Сераковский, естественно, ответил тем же. Разговор начался с того, как вовлечь в восстание, коль оно начнется, не горстку храбрецов, а весь народ, как повести его за собой.
- Пламенное польское слово об освобождении отчизны - вот наше оружие, пан Сераковский, - выспренно произнес Гейштор.
- А мне кажется, что одни возвышенные слова, не подкрепленные делом, не дойдут до народа. Крестьянам нужна земля.
- Они ее получат... впоследствии, когда мы завоюем свободу.
- Боюсь, что в таком случае мы свободу вообще никогда не добудем. Чтобы завоевать свободу, нужны люди, бойцы, солдаты, то есть те же крестьяне, которые и пойдут за нами не ради наших обещаний, а ради земли. И ее надлежит дать немедленно. Без выкупа.
- Но это же разорительно для землевладельцев, пан Сераковский.
- Я вас понимаю, пан Гейштор. - Голос Зыгмунта звучал насмешливо. Вы слишком дорожите вашими поместьями, вашей землей, чтобы отдать ее крестьянам.
- Вы угадали, пан Сераковский. Если вам нечего отдавать, вы, естественно, предлагаете эту меру. Что касается меня, то я не вижу необходимости пресмыкаться перед хлопами.
Они помолчали.
- Учтите, - продолжал Гейштор, - что я не одинок в своем мнении. В Центральном Национальном комитете есть люди, которые стоят на той же позиции, что и я. - Он произнес это с гордостью и свысока посмотрел на Сераковского.
- Это как раз меня и тревожит, пан Гейштор. В Центральном комитете нет единства. Позицию Домбровского, к сожалению, разделяют не все.
- В числе их я! - охотно добавил Гейштор.
- Еще бы! Домбровский - за бесплатное наделение крестьян землей... Его единомышленники считают восстание неизбежным и необходимым, а вы его попросту пугаетесь, пан Гейштор! Вы надеетесь единственно на дипломатическое вмешательство Франции и Великобритании и страшно боитесь, как бы, упаси бог, не прогневать чем-нибудь королеву Викторию и императрицу Евгению...
- А вы, пан Сераковский, хотите крови? - Гейштор брезгливо поморщился.
- Я ее не хочу, но если это будет нужно, отдам ее всю за свободу отчизны! До последней капли!
Потом разговор зашел о помощи польскому делу русских партий, и снова Сераковский не нашел с Гейштором общего языка.
- Я не верю москалям, - сказал Гейштор. - Правда, между ними иногда встречаются неплохие люди, которые, быть может, даже симпатизируют нашему делу, но эти симпатии недолговечны. Когда начнется восстание, они будут нашими врагами. Ведь русское общество, пан Сераковский, испокон веков воспитывается в принципах, не имеющих ничего общего со свободой...
- Помилуйте, - перебил Зыгмунт. - Я отбывал солдатчину вместе с поэтом Плещеевым, который стоял на эшафоте в ожидании казни. Он пострадал за свободу. Я томился в мангышлакской пустыне вместе с потерпевшим за правду малороссийским поэтом Шевченко!
При упоминании о Шевченко Гейштор поморщился.
- О покойниках, правда, принято говорить только хорошее, но я отступлю от правила. Вы попытались сделать Шевченко другом Польши, но из этого ничего не получилось. Этот хохол до самой смерти люто ненавидел и площадно бранил поляков...
- Какая ересь! - воскликнул Сераковский. - Вы благоденствовали в столице или в своем фольварке, а Шевченко десять лет своей жизни отдал за те же убеждения, что и поляки.
- Тех поляков, о которых вы говорите, испортила жизнь вдали от родины, слишком тесное общение с русскими. Там, вдали, они забыли о Польше.
"И этот человек рвется к власти, возможно, именно ему поручат руководство восстанием в Литве", - думал Сераковский. Примирения не получилось.
На душе было тревожно, и только присутствие рядом Аполонии, мысль о том, что он никогда больше не расстанется с нею, несколько ослабляла его тревогу. Пересекли границу; потом был Бреславль, онемеченный польский Вроцлав, на улицах которого уже не слышалось польской речи, а в гостинице, на немецкий манер, предлагали, несмотря на жару, пуховые одеяльца-перинки.
Затем они переехали в Познань, где Сераковский работал в библиотеке, оттуда - в скучный и какой-то провинциальный Берлин. Город нисколько не изменился с прошлого года: напротив гостиницы, где они остановились, те же фланирующие по Тиргартену праздные пары, те же почтительные взгляды, которые бросают обыватели на статую короля Фридриха-Вильгельма III в сапогах с заплатками.
Аполонии часто приходилось оставаться одной, Зыгмунт то работал в архивах, то уезжал из города, чтобы осмотреть какую-либо превращенную в тюрьму крепость. Вернувшись, он подробно рассказывал обо всем жене.
- Нет, ты только представь себе, - говорил он, по обыкновению горячась, - в нижнем этаже, где живут страдальцы арестантской роты, невероятная, прямо-таки потрясающая сырость, заплесневелые стены, постели всегда сырые, не просыхают, затхлый воздух... А над ними, на втором этаже, эта глухая скотина - начальник тюрьмы устроил цейхгаузы - чтобы не портились казенные вещи!..
Однажды им удалось поехать вместе в маленькую саксонскую деревушку с древним замком, в котором разместился исправительный дом для женщин. Высокая четырехместная карета, запряженная четверкой сильных лошадей, по две в ряд, везла их мимо ухоженных сосновых лесов и тщательно обработанных полей. Кучер в ботфортах и высокой шляпе, с бичом в руке, пронзительно трубил в рог, извещая о приближении своего экипажа.
Мрачная громада красного замка казалась чем-то инородным среди холмов, поросших лесом, и пахучего луга, на котором, позвякивая колокольчиками, мирно паслось стадо коров.
По тюрьме их водил угрюмый, молчаливый пастор. Сераковский привык в русских тюрьмах к ругани, крикам, стуку, и его поразила здесь гнетущая, мертвая тишина. Мимо ходили, словно тени из другого, загробного мира, похожие одна на другую женщины с одинаково серыми лицами и отсутствующими взглядами, в одинаковых платьях из грубой материи.
Заключенные казались немыми, и это было близко к истине - им не разрешали разговаривать. Женщине, нарушившей запрет первый раз, надевали на ноги кандалы и прицепляли к ним деревяшку двадцати фунтов весом. За второе нарушение молчания полагался арест в одиночной камере. Пастор открыл одну из них, совершенно темную, без окна. Слабое пламя зажженной свечи позволило увидеть стул, покрытый сплошь зубцами и составлявший всю обстановку каземата. Такими же зубцами были утыканы стены, дверь, пол. Из дальнего угла послышался тихий стон - там стояла женщина в брюках и куртке с висячими замочками, чтобы наказанная не могла снять и подложить под себя одежду.
- За третье нарушение, - пояснил пастор, - полагается такая же камера, но только шипы в ней более острые. Желают ли русские господа посмотреть эту камеру?
- Нет, нет, святой отец! - испуганно вскрикнула Аполония.
Она вышла из замка, ошеломленная тем, что ей пришлось увидеть.
- Ты поехал за границу, чтобы перенять лучшее в военно-уголовном законодательстве, не так ли? - сказала она Зыгмунту. - Что же ты возьмешь из этой тюрьмы для своих предложений?
- К сожалению, разные страны соперничают друг с другом в том, кто изобретет наказание более бесчеловечное, более утонченное. И никто не думает о том, как исправить человека.
Аполонии очень хотелось скорее попасть во Францию, в Париж, но дела Зыгмунта задержали их в Германии еще на месяц.
К французской границе почтовая карета подъехала около полуночи; со скрипом распахнулись металлические решетчатые ворота и с тем же скрипом закрылись, как только карета въехала в огороженный со всех сторон двор, освещенный подвешенными на металлических столбах фонарями. Во дворе за столиком играли в карты солдаты в наполеоновских плащах. Один из игроков, в наполеоновской шляпе и с булавою в руке, отворил дверцу кареты и прокричал:
- Мадам и мосье, таможня... Прошу выйти!
Во всех крупных европейских городах были отели, в которых по традиции останавливались приезжие из России. В Париже это был пансион на Елисейских полях, куда и направились Сераковские.
- Сейчас ты увидишь одну из достопримечательностей Парижа, - сказал Зыгмунт, пропуская Аполонию в залу.
Там за табльдотом сидел высокий и седой старик с бородой, которой давно не касались ножницы.
- Это генерал Дембинский, повстанец тысяча восемьсот тридцатого года, - тихонько сказал жене Зыгмунт. - Он очень стар и живет на пенсию, которую получает от императора Франции.
- Здравия желаю, пан генерал! - приветствовал старика Зыгмунт. - Вы меня не узнали?
- О, капитан Сераковский, как же, как же... - ответил Дембинский слабым, тоненьким голосом. - Вы снова в Париже?.. А что делается в Польше? Скоро она восстанет? Я боюсь, что умру, а мне еще хочется въехать победителем на коне в Петербург.
- Но, мой генерал, - насмешливо заметил кто-то из присутствующих, вам уже не взобраться на лошадь.
Старик не обиделся.
- Ну так что ж, - сказал он добродушно. - Меня подсадят!
В Париже у Сераковского осталось немало знакомых - писатель, карикатурист, воздухоплаватель и одновременно с этим еще и фотограф Нидар, прекрасно сфотографировавший его в прошлом году, начальник военно-юридической части военного министерства Франции милейший и благороднейший мосье Шенье.
К Шенье он пошел на второй день по приезде, чтобы еще раз поблагодарить за отчеты и поздравить с орденом святого Станислава второй степени с короной, которым русское правительство наградило его "за содействие, оказанное им капитану Сераковскому при изучении военно-судной части". И главное - договориться о своей поездке в Алжир.
Шенье встретил его на редкость дружелюбно и подробно расспросил о том, скоро ли русские примут закон об отмене телесных наказаний.
- Цель, которую вы поставили перед собой, мосье Сераковский, в высшей степени гуманна. Я вижу, она вас поглощает всего. Для этого надо быть человеком возвышенной души и благородства.
- У меня есть еще и другая цель в жизни, едва ли не более высокая, мосье Шенье. Это - сделать мою родину свободной.
- Да, да, несчастная, многострадальная Польша... - Шенье вздохнул: Хочу вас заверить, мосье Сераковский, что симпатии французов на вашей стороне! Репрессии императора Александра непопулярны.
- Я почувствовал это сразу. Меня, естественно, у вас принимают за русского, и однажды один симпатичный рантье брезгливо отвернулся от меня со словами: "От вас пахнет каторгой".
- И что же вы ответили нахалу?
- Я ответил, что от меня пахнет ссылкой на восемь лет в линейные батальоны, казармой, где я провел все это время за то, что в сорок восьмом году хотел быть в одних рядах с французами, взявшимися за оружие.
- О, мосье Сераковский, я не знал об этой подробности вашей биографии... Но не будем о политике. Итак, вы хотите побывать в Алжире вместе с женой...
В последний вечер перед отъездом Зыгмунт и Аполония прощались с Парижем. По улицам французской столицы маршировали солдаты и зуавы. Офицеры внушали им, что они скоро снова пойдут на Россию, чтобы защитить бедных поляков от русских.
Вблизи Версаля Сераковские увидели, как в открытой коляске проезжали златокудрая, прелестная императрица и ее супруг Наполеон III. Напыщенный, с длинным туловищем и короткими ножками, в эспаньолке, он выглядел довольно комично рядом с императрицей, державшейся естественно и свободно.
Поравнявшись с коляской, Сераковский наклонил голову, однако Наполеон проехал мимо, не заметив его.
- Я ведь знаком с императором, - сказал Зыгмунт жене. - В прошлом году он просил меня составить для Франции военно-статистические сведения по моей системе. Удивительное дело, - он усмехнулся, - сэр Герберт вообще предложил мне перейти к ним на службу... Я, конечно, отказался... Меня ценят все, кроме русского царя.
Поехать в Алжир Аполонии не пришлось. Она почувствовала себя плохо, и Зыгмунт решил, что ей лучше остаться в Париже.
- Ты должна мне писать каждый день, ну хорошо, через день, но обязательно, хоть два слова о себе, слышишь, госпожа Полька? - в отчаянии бормотал на прощание Зыгмунт.
Аполония слабо улыбалась в ответ.
- Ты же знаешь, мне трудно заставить себя отвечать на письма. Но я все время, днем и ночью, буду думать о тебе... И ждать твоих писем.
Зыгмунт писал их ежедневно. Каждую свободную минуту он посвящал своей Аполонии, своей "госпоже Польке". Это был дневник, отчет о том, что он сделал полезного за день, где побывал, что увидел, с кем встречался. На почте в Алжире уже знали немного забавного иностранца, который приносил самые толстые письма, всегда адресованные одному и тому же человеку.
- Как счастлива должна быть женщина, которая пользуется таким вниманием со стороны мосье! - кокетливо сказала ему француженка, принимавшая письма.
Он их слал одно за другим. Первым было это.
"Африка. Алжир 22 октября (3 ноября) 1862 г. Моя самая любимая! (Я не злоупотребляю словами.) Вечер чудесный. Голубое море золотится от лунного сияния. Город Алжир лежит, громоздясь полукругом над заливом. Внизу под моим жилищем толпы людей, апельсины, пальма вздымается, газовые фонари, как ясные звезды на небе... Сегодняшний вечер столь необыкновенно прекрасен, что забываешь, что здесь весь народ - рабы, что женщины невольницы, видишь лишь прекрасное небо, светлое, голубое, темно-голубое прелестное море, огни на земле. Говор людей на площади, очарование, разлитое во всей природе..."
Ответные письма - увы! - приходили не часто, зато как радовался Сераковский каждой весточке.
"Алжир 1 ноября. Вечер, перед полуночью. Сегодня я несколько раз читал твое письмо и полученную вчера депешу. Сравнивал в уме, считал дни и часы. Твоя телеграмма была выслана ко мне 30 октября в половине 7-го. Ты знаешь, что было три месяца назад? Мы ехали в храм, чтобы принести обет жить и умереть вместе! Разве не удивительное совпадение? Ни я, ни ты, наверно, высылая телеграмму, не думали об этом!"
Аполония пробыла в Париже недолго. Поправившись, она сразу же уехала домой, и Сераковский писал ей в Вильно.
"3 ноября. Вчера я совершил экскурсию верхом на 3 мили от Алжира... На мое счастье, бедняги, приговоренные к принудительным работам, трудятся теперь в самых красивых местностях... Меня будят перед восходом солнца. Небо спокойное, хотя ветер довольно-таки пронизывающий; с восходом солнца иду к месту, где нанимают верховых лошадей. Господи, прости алжирским конюшням, где путешественники нанимают лошадей! По большей части это старые клячи, лишь с виду очень хорошие. Выезжаю; дорога вьется очень круто в гору, так что, отъехавши почти милю, еще можно видеть город и море под ногами. Зрелище прекрасное...
За версту от монастыря встречаю осужденных на принудительные работы... Более всех вызывает сочувствие молодой парень де Бертэн. Ему всего 19 лет, молоденький, красивый, румяный. Он добровольно вступил в армию год тому назад. Продал рубашку и за это приговорен к целому году каторги. Он толчет и разбивает камни у шоссе. Я утешаю его, предсказывая, что он еще может быть Marechal de France. Бедный парень улыбается, и мы уже друзья. Некий Вэйо, старый солдат, во время июньских дней 1848 г. н е ж е л а л сражаться ни против народа, ни с народом против войска. Три дня он скрывался у родных в Париже. Военный суд оправдал его, но Кавеньяк выслал в Африку. Здесь старый служака, с которым плохо обращались, бросился с оружием на начальника. Приговоренный к смерти, но затем помилованный, он должен пробыть еще год на каторге, а затем 2 года в армии..."
"С 5 на 6 ноября. Ночь. Я познакомился сегодня с г. маршалом Пелисье (генерал-губернатором Алжира). Очень интересный человек... Мы сразу оказались (как у нас говорят) з а п а н и б р а т а, и не только с ним, но и с госпожой маршальшей - очень красивой испанкой, молодой, белой, статной, чернобровой, высокого роста, оживленной и любезной... С г. маршалом я говорил один несколько часов. Это был необыкновенно интересный разговор. Я узнал из него больше, чем из 10 прочитанных книг. Любопытная эта вещь - жизнь и люди.
Я видел сегодня и очень грустные глаза - алжирские тюрьмы в очень плачевном состоянии по сравнению с французскими. Мне кажется, что я смогу отчасти способствовать их улучшению благодаря г. маршалу. Проси же бога, чтобы это произошло, и искренно, от всей души пожелай, чтобы т в о й м у ж сделал бы на свете что-то доброе".
И вот его последнее письмо из Африки "госпоже Польке".
"Алжир с 19 на 20 ноября. Милая моя, дорогая моя, наияснейшая г о с п о ж а м о я! Сегодня мне хорошо. Я чувствую, что Полька меня любит, что не может меня не любить. У меня сегодня ощущение силы, мощи и бесценных сокровищ, которыми я обладаю в тебе. Я долго сегодня думал об этом.
Слушай, Полька! Я был сегодня в многочисленном обществе у маршала и его жены. Рассуждали об истории. Я говорил о необходимости самопожертвования и, говоря об этом, чувствовал, какое счастье быть богатым, быть таким богатым, каким сейчас являюсь я. Какое это счастье иметь тебя, иметь возможность стольким пожертвовать. Чем может пожертвовать тот, которому опротивела жизнь? У меня же есть бесконечное счастье самопожертвования - у меня есть ты. Сознание этого дает силу, дает авторитет, дает достоинство словам и даст достоинство делам. Можешь порадоваться, Полька, я хорошо говорил сегодня, а еще лучше чувствовал себя.
Слушай далее: я говорил тебе, что когда был школьником, то думал лишь о том, чтобы быть п е р в ы м, в университете же я совершенно освободился от этого и хотел быть лишь д о б р ы м. Но затем, увидев в жизни так много злых и глупых людей, которые занимают высшие посты, чувствуя свою мощь и силу, я вновь жаждал возвышения; жаждал его pro publiko bono* (в таком случае это даже достойно похвалы), но также и для самого себя. Ты знаешь, что вверху, в горах, свободнее дышится... Мало того. Я знал из истории, что так называемое величие не приносит радости, - и я жаждал его, не отдавая себе отчета, видимо думая: другим это не дало счастья, ибо ничего, кроме себя, не видели на этой высоте, никого, кроме себя, не любили, значит, мне, может быть, удастся. (Ведь человек всегда мечтает о счастье.)
Т е п е р ь, насколько можно говорить о величии в отношении ко мне самому, оно потеряло для меня всякую привлекательность. Пожалуй, я всегда стремлюсь з а н я т ь т а к о е п о л о ж е н и е, при котором я мог бы принести возможно большую пользу, стремлюсь занять положение только тогда, когда думаю об обязанностях человека и гражданина. Но когда думаю и мечтаю о личном счастье - теперь, к л я к у с ь т е б е - более ничего не желаю, лишь только жить с тобой, смотреть в ясные глаза твои, на прекрасное чело, глядеть на тебя, и думать вместе с тобой, и чувствовать вместе с тобой. И я верю, что с тобой могу доказать и найти много такого, чего один я никогда не узнал бы, не нашел и не добился..."
_______________
* - для общественного блата (лат.).
Воротясь в Париж, он сразу же снова послал письмо своей Аполонии.
"24 ноября. Мое милое, любимое дитя!.. Удивительно, насколько ты стала для меня необходимой за 4 месяца. В течение моего пребывания в Африке целая драма разыгралась в моей душе. 20 декабря надеюсь быть с тобой. Через неделю, 1 декабря, выезжаю из Парижа, 8 декабря буду в Берлине, 13 декабря буду в Варшаве... я там обязательно должен быть, чтобы увидеться с с е м ь е й, уже тебе знакомой, и их друзьями; должен еще быть в Брюсселе, в Гейдельберге. Мне еще многое нужно сделать. Проси бога, чтобы я исполнил все счастливо и хорошо..."
Сераковский задержался на несколько дней в Париже и почти все время посвятил своей рукописи, которую начал давно, еще в Петербурге, рассчитывая напечатать ее в "Слове". Работа затянулась, пора было кончать, подводить черту. Он долго думал над заголовком и в конце концов решил назвать предельно просто: "Вопрос польский". Это были его многолетние, порой мучительные раздумья над судьбой Польши, какой он хотел видеть ее в будущем, исторические экскурсы в далекое прошлое, сравнение существовавших в Царстве Польском порядков с тем, что он видел за границей.
Последнюю точку он поставил в Париже и, прежде чем уехать в Россию, решил прочитать рукопись генералу Мерославскому, который по-прежнему возглавлял здесь польскую эмиграцию.
Собрались на квартире у Мерославского. Пришли три старых генерала, последний раз видевшие Польшу в 1831 году, и несколько молодых воспитанников Генуэзской школы, готовившей офицеров для повстанческой польской армии.
Рукопись была не слишком велика, и Сераковский прочел ее залпом. Волнуясь, он не заметил, как нервно подергивалась щека Мерославского и недовольная мина время от времени появлялась на его лице.
- Весьма и весьма странно, пан Сераковский, - сказал он, выслушав Зыгмунта. - Насколько я вас понял, вы в своем труде недвусмысленно и не раз твердите о союзе поляков с русскими?
- Да, генерал, о союзе, который должен покоиться на основе равенства и доброй воли обоих народов.
- Не ожидал! К сожалению, должен отметить, пан Сераковский, что с каждым разом вы высказываете все более и более неверные мысли. - Он попросил у Зыгмунта тетрадь и начал быстро перелистывать ее, отыскивая нужное место. - Вот хотя бы это: "Киев связан внутренними духовными узами с Москвой". Нет, вы только послушайте - с Москвой! Разве такое может сказать настоящий поляк, требующий восстановления исторических границ нашего отечества - границ тысяча семьсот семьдесят второго года?! Или далее. Вы пишете: "Киев и Вильно могут служить гораздо более прочными связями союза Москвы с Варшавой, чем теперь крепости и цитадели". Вы все время упрямо, простите за вынужденную резкость, упрямо говорите о связях, о союзе Москвы и Варшавы, то есть поработителя и порабощенного...
- Генерал! - Сераковский не смог сдержаться и перебил Мерославского. - Речь в моей работе идет не о союзе раба с господином. Я призываю к образованию дружеского равноправного союза славян всей Восточной Европы.
- Извините, пан Сераковский, такой союз я считаю не только невозможным по самой своей сути, но и вредным. Неужели вы в самом деле верите русским?
- Верю, генерал! Но повторяю еще и еще раз, что прочное соединение двух наших народов, двух славянских государств невозможно по праву сильного.
- Боже мой, он верит русским! - Мерославский картинно поднял руки кверху. - Далее, развивая эту вредную идею, вы говорите о каком-то центральном правительстве, которое бы заправляло только делами, относящимися ко всей империи. Иными словами, вы повторяете свою пагубную мысль о существовании и в дальнейшем польского государства в федерации с государством русским. А это полностью противоречит тем принципам, которых придерживаются истинные патриоты своей отчизны.
Сераковский побледнел.
- Осмелюсь спросить, генерал, вы, кажется, не считаете меня патриотом Польши?
- Вы меня неправильно поняли, пан Сераковский. - Мерославский сразу сбавил тон. - Но верой и правдой служа России, вы иногда забываете, что для поляка интересы Польши превыше всего!
Глава шестая
В Варшаве было холодно, в воздухе пахло дымом, валившим из труб, под ногами хлюпал превратившийся в кашу грязный снег, его никто не убирал, все думали, что он еще растает: зима здесь устанавливалась не раньше рождества.
Польская столица была наводнена войсками. Не хватило казарм, и пришлось разбивать палатки прямо на городских площадях. Круглые сутки по улицам курсировали конные патрули, впереди каждого ехали два казака с пиками наперевес. По-прежнему действовал приказ, запрещавший ночью ходить по улицам без фонаря, и к утру полицейские участки были полны арестованными. Все напоминало о военном положении, введенном после революционных выступлений еще в октябре 1861 года.
Центральный Национальный комитет расширял свое влияние. Не проходило дня, чтобы Сераковский не узнавал о новых манифестациях, направленных против царизма. Брошенные в благодатную почву семена давали всходы. По всей Польше быстро формировались и, к сожалению, иногда столь же быстро распадались небольшие повстанческие отряды.
По-прежнему не сдавались варшавяне. В костелах пели молитву "Святый боже" на мотив гимна "Боже, кто Польшу..."; ксендзы, читая проповеди, призывали крестьян соединиться с помещиками против москалей. Из уст в уста передавалось множество невероятных слухов, вроде того, что сам Гарибальди недавно приезжал в Польшу, но, увидев, что там ничего не готово к восстанию, рассердился и уехал обратно в Италию. Перед приездом Сераковского произошло еще одно событие: на глазах у полицейских через центр Варшавы промчался омнибус, над которым развевалось национальное польское знамя - белое, с польским орлом.
Продолжали служить тайные панихиды по Людвику Ярошинскому, который неудачно стрелял в великого князя Константина Николаевича, назначенного наместником взамен Лидерса. Ярошинского вскоре повесили, что же касается великого князя, то он отделался испугом - пуля всего лишь поцарапала ключицу, - и он смог уже на следующий день после покушения заняться делами по умиротворению неблагодарной Польши, стремясь найти общий язык с польскими помещиками. Одновременно он продолжал интересоваться проектом об отмене телесных наказаний и, когда узнал, что Сераковский остановился в Варшаве, пригласил его к себе во дворец.
Великий князь чем-то нравился Сераковскому. То, что этот человек открыто выступил против линьков и кошек на флоте, делало его в глазах Сераковского достойным уважения. Он считал его своим союзником, и причем союзником могущественным, одно слово которого в официальных кругах значило куда больше, чем целая страстная речь какого-то офицера Генерального штаба. Сераковского подкупала в великом князе и простота, полное пренебрежение к оказываемым ему почестям. Сейчас, получив приглашение, он с надеждой и не без интереса направился во дворец наместника, чтобы рассказать там о своей поездке за границу.
Адъютант, докладывавший о Сераковском, выглядел куда более эффектно, чем сам великий князь. Лицо у великого князя было простоватое, совсем не великокняжеское. Тут же, в кабинете, находились генерал Рамзай командующий войсками в Царстве Польском - и начальник штаба войск Варшавского военного округа генерал Минквиц, которые в точности повторили слова и жесты великого князя, когда тот приветствовал Сераковского.
Возник обычный разговор, великий князь поинтересовался здоровьем Зыгмунта, погодой в Алжире, рассказал, что, слава богу, в Варшаве стало тише. Сераковский отвечал вежливо, наклонял голову в знак согласия и высказывал надежду, что, даст бог, все обойдется без ненужного кровопролития.
Перед ним сидели три человека, в руках которых была судьба Польши, три человека, которые могли в любую минуту отдать войскам приказ открыть огонь, это были враги Польши, а значит, и его, Зыгмунта Сераковского. И в то же время один из этих трех активно поддерживал его детище - армию без шпицрутенов и розог, и это заставляло считать его единомышленником, хотя и казалось нелепым, странным. Сераковский с трудом разбирался в своих чувствах. Но, стараясь забыть обо всем другом, он сейчас совершенно искренне говорил о том, насколько крепче и могущественнее станет Россия, когда в ней вслед за крепостным правом отменят и позорящие человеческое достоинство телесные наказания.
Было как бы два Сераковских. Один - блестящий офицер, близкий к военному министру, запросто принимаемый великим князем, своими действиями укрепляющий мощь Российской империи, ее международный авторитет. И другой - отдающий свои знания и опыт на то, чтобы разрушить, ниспровергнуть Российскую империю, ее тюремный режим для живущих в ней народов, поборник подлинной их свободы. Впрочем, разница была лишь кажущейся. Все, что делал второй Сераковский, уживалось с действиями и поступками Сераковского первого, ибо было направлено не во зло России, а на пользу ей и делалось из уважения к ее народу, из любви к нему, быть может, не такой горячей, как к полякам, но тем не менее искренней и глубокой. Подлинной славы, утверждал второй Сераковский, Россия может достичь, только предоставив свободу угнетенным народам. Герцен прав, утверждая, что "мы хотим независимости Польше, потому что мы хотим свободы России".
Сераковский торопился. Он торопился встретиться с членами Центрального Национального комитета, о котором слышал еще в Париже, торопился увидеть Аполонию, ждавшую его в Вильно, торопился в Петербург: он должен доложить Милютину об итогах своей командировки, и это нельзя откладывать! Восстание может вспыхнуть в любое время, и тогда он уже не будет принадлежать себе - долг и Центральный Национальный комитет прикажут ему уйти в восстание с головой. Значит, надо спешить, если он хочет довести до конца дело, которому посвятил жизнь.
Он немало рисковал, когда вечером пошел на конспиративную квартиру. Из собравшихся там он хорошо знал только поручика конной артиллерии Зыгмунта Падлевского, члена Центрального Национального комитета, с которым встречался и в Варшаве, и в Петербурге на заседаниях офицерского кружка. С Падлевским были еще трое, все примерно одного возраста - под тридцать, не более.
- Знакомы или нужно представить? - спросил Падлевский и, не ожидая согласия, назвал своих товарищей: - Оскар Авейде...
Сераковский слышал о феноменальной памяти этого человека с унылым, поблекшим, несмотря на молодые годы, лицом.
- Мы с вами встречались на литературном вечере в Петербурге четырнадцатого декабря пятьдесят восьмого года, в полвосьмого, - сказал Авейде тихим голосом.
- Очень может быть, - ответил Сераковский.
- Агатон Гиллер, - продолжал Падлевский, - тот самый, который вместе со мной ездил к Герцену. - Он показал глазами на кряжистого мужчину с крупным носом и отвислыми усами.
- Как обидно, что мы не встретились там! - сказал Зыгмунт.
- Бронислав Шварце. В комитете ведает отделом Литвы и Руси...
- Французский подданный, инженер, строит железную дорогу от Петербурга до Варшавы, издатель газеты "Рух", - добавил Авейде.
- У меня очень мало времени, и я буду краток, - сказал Сераковский. Я привез неприятные новости из Франции. Арестованы эмиссары Центрального комитета по закупке оружия, и все захваченные у них бумаги, а также шестьдесят тысяч франков переданы русскому послу.
Падлевский побледнел.
- Боже мой! Из бумаг можно узнать весь состав Центрального Национального комитета. - Он взглянул на Шварце. - Тебе нужно немедленно уехать.
- Бросить все на произвол судьбы?
- А будет лучше, если тебя схватят?.. К сожалению, мы тоже не можем обрадовать тебя приятными новостями, Зыгмунт. Жандармы и полиция не теряют времени даром... Ты, конечно, знаешь об аресте Домбровского. Сейчас охотятся за Брониславом...
- И за мной тоже, - поспешно добавил Авейде.
- Надо начинать дело, пока нас всех не переловят поодиночке. Идти на риск.
- На мой взгляд, - сказал Сераковский, - начинать дело надо тогда, когда все будет готово к восстанию.
- Что ты имеешь в виду?
- Прежде всего полную договоренность о совместных действиях с русскими, с петербургским комитетом "Земли и воли".
- В Варшаве такая договоренность есть, но Петербург еще не готов и просит отсрочки.
- Значит, нам не надо торопиться.
- Согласен! - Шварце кивнул головой. - Без союза с революционной Россией восстание обречено на провал!
- Когда мы были у Герцена, он тоже советовал воздержаться от преждевременного выступления, - сказал Гиллер.
Сераковский согласно кивнул.
- Искандер, как всегда, с нами, и это трудно переоценить! Поддержка Герценом свободолюбивых устремлений поляков - это поддержка Польши всей свободолюбивой Россией. Разве можно забыть его статьи в "Колоколе", его слова о том, что свободная Варшава - смерть для императорского Петербурга? Или его призыв к русским солдатам не подымать оружия против поляков, отстаивающих свою независимость? К его голосу прислушиваются многие русские офицеры. Андрей Потебня...
Падлевский перебил его:
- Этот благороднейший человек сейчас в Варшаве, и я часто вижу его. Он на нелегальном положении, но появляется всюду совершенно открыто - то в штатском платье, то в одеянии монаха или ксендза. Иногда он даже сталкивается нос к носу со своими бывшими сослуживцами по полку, но борода так изменила его...
- Герцен весьма интересуется Комитетом русских офицеров в Польше.
- ...тоже созданным Потебней. Очень важная организация, и ее значение трудно переоценить. Революционные офицерские кружки есть в Ревельском, Шлиссельбургском, Ладожском, Галицком, Смоленском полках, в ряде штабов, в артиллерийских бригадах, саперных батальонах - практически во всех войсковых частях, расквартированных в Варшаве и ее окрестностях. Несколько сот офицеров готовы идти с нами!
- А точнее? - спросил Сераковский.
- Около трехсот.
- Не так и много, но большое дело часто начинается с малого. Русские офицеры в самом сердце Польши готовы бороться вместе с поляками за освобождение обоих народов - что может быть благороднее!.. Господа! Торжествующий взгляд Сераковското остановился по очереди на каждом. - Вы читали напечатанный в "Колоколе" "Адрес русских офицеров" великому князю? - Зыгмунт достал из внутреннего кармана сложенную вчетверо газету и развернул ее. - Слушайте же! "Солдаты и офицеры устали быть палачами. Эта должность сделалась для войска ненавистью. Бить безоружных, преследовать молящихся в церквах, хватать прохожих на улицах, держать в осадном положении поляков за то, что любят Польшу, - с каждым днем больше и больше становится в глазах войска делом бесчеловечным и потому преступным"... И дальше: "Что станет тогда делать войско в настоящем его настроении? Оно не только не остановит поляков, но пристанет к ним, и, может быть, никакая сила не удержит его".
- Между прочим, русские и тот же Герцен против границ Польши до раздела 1772 года, - неприязненно сказал Гиллер, который все время не сводил с Зыгмунта мрачных, недружелюбных глаз.
Сераковский вспылил:
- А вы что, пан Гиллер, хотите из Польши порабощенной сделать Польшу поработительницу? Кто вам дал право присоединять к будущей свободной Польше губернии, населенные украинцами, белорусами, литовцами? Пусть эти народы распоряжаются собою согласно их собственной воле.
- Странно слышать такое от человека, который родился на правом берегу Днепра, - сказал Гиллер.
- На правом берегу Днепра, к вашему сведению, все же живут украинцы, а не поляки... Но не будем сейчас об этом. - Сераковский успокоился и посмотрел на Падлевского. - Ты считаешь, что Польша готова к восстанию?
- Если не вся, то по крайней мере - Варшава, - ответил Падлевский. Варшавское подполье создавал еще Домбровский, и это сейчас большая и организованная сила. Двадцать тысяч человек с заводов, мастерских, железной дороги, городская беднота, которой нечего терять. Люди истомились ожиданием, они рвутся в бой и требуют от Центрального Национального комитета решительных действий. Нельзя упускать момент. Они ждут сигнала!
- Я, конечно, подчинюсь воле большинства, - сказал Сераковский после долгого раздумья. - Но очень прошу членов Центрального комитета не принимать слишком поспешных решений.
- Хорошо, Зыгмунт, - сказал Падлевский миролюбиво. - Тебя вызовут в тот момент, когда ты будешь нужен.
- Через кого я получу вызов?
- Через нашего представителя в Петербурге... На этот пост мы думаем назначить Огрызко. Каково твое мнение?.. У него связи, опыт, и, главное, он вне подозрения!
- Я согласен, - ответил Сераковский.
Декабрь 1862 года выдался вьюжным и холодным. День за днем валил снег, и поезд, который шел из Варшавы в Петербург, запаздывал.
Сераковский впервые вез жену в столицу. Аполония была счастлива, ей нравилось все - отдельное купе, недавно отстроенные станции, смешной денщик Алексей. Сераковский называл его на "вы", каждый раз благодарил за малейшую услугу, жал руку, и это тоже нравилось Аполонии, которая тихонько и радостно посмеивалась над мужем.
Из Алжира он привез ей подарок - маленького божка из черного дерева. Его сделал и подарил Зыгмунту заключенный.
- И это все, что ты мне привез? - лукаво спросила Аполония.
- Я привез тебе еще мою любовь, которая теперь не вмещается ни в какие берега... И еще четыре сундука с книгами, которые следуют за нами в багажном вагоне.
...Утром он был у военного министра. Милютин долго расспрашивал о его поездке.
- Могу обрадовать вас, Сигизмунд Игнатьевич, телесные наказания в армии доживают последние месяцы. Но государь хочет одновременно решить дело военно-пенитенциарных, а проще - исправительных учреждений, и тут нам крайне нужны собранные вами сведения. Генерал-аудитор с нетерпением ждет их... Да вот и он сам, легок на помине! Заходите, Владимир Дмитрич!
Директор аудиторского департамента Философов по-дружески протянул Сераковскому обе руки.
- Наконец-то вы среди нас. А мы чуть было не подумали, что вы покинете Петербург ради легионов.
Сераковский ответил со смехом:
- Еще нет, Владимир Дмитрич.
- О, не шутите! Царская милость и наша дружба задержат вас!
Они вышли от военного министра вместе.
- Коль вы выказываете ко мне свое расположение, - сказал Сераковский, - то, быть может, ознакомитесь с моей новой работой?
- Итогом вашей командировки?
- Нет, скорее, итогом жизни... Это мысли о Польше, о взаимоотношениях двух братских народов - польского и русского.
- Что ж, зная вашу эрудицию и образ мыслей, обнаруженные мною в ваших "Извлечениях из писем", думаю, что и новая работа мне доставит удовольствие... Где же рукопись?
- С вашего разрешения я принесу ее завтра. Она называется "Вопрос польский".
Вслед за первой книжкой "Морского сборника", той самой, откуда некто "М. Л." многое заимствовал для своей статьи в "Северной пчеле", письма Сераковского публиковались в февральской, мартовской и апрельской книжках. И всюду автор повторял одно и то же: телесные наказания - зло! К сожалению, цензор безжалостно вычеркнул целые страницы. "Новый государь выпускает коготки", - сказал тогда Станевич, а Сераковский вспомнил слова Некрасова: "Как бы нынешнее царствование не кончилось тем, чем предшествующее началось".
Судя по всему, Некрасов оказался прав. Вести, приходившие из Польши, радовали и одновременно тревожили Сераковского. Польша продолжала бурлить. Правда, заключенные в ней силы еще не вырвались наружу, но было ясно, что удержать их внутри правительству не удастся. Двадцать тысяч человек, о которых говорил Падлевский, ждали сигнала.
- Да, события в Царстве Польском зреют, но я рассчитываю на вашу преданность государю. - Милютин внимательно посмотрел на Сераковского, и Зыгмунту показалось, что военный министр не счетверит своим словам. - Мне нравится с вами работать, Сигизмунд Игнатьевич, и я доволен вашим усердием и толковым исполнением поручений. Для пользы дела я хотел бы вскоре послать вас в Царство, но считаю это небезопасным...
- Для меня? - Сераковский удивился.
- Нет, для себя, - ответил Милютин. - Мне жаль терять умного и думающего офицера, а в Царстве Польском после рекрутского набора, по всей вероятности, начнутся большие неприятности...
О рекрутском наборе Сераковский слышал не впервые, хотя проект и готовился втайне. Было решено вместо обычного призыва рекрутов по жребию призвать их по заранее подготовленному списку, не полагаться на случай, а изолировать в армейских ротах самых опасных. Оставались неясными лишь сроки, но после слов Милютина Сераковский понял, что рекрутский набор начнется раньше, чем намечалось.
Вечером Сераковский пошел к Огрызко. Последнее время бывший издатель "Слова" проявлял больше смелости. Квартира пана Иосафата не пустовала ни днем, ни ночью. Сейчас там тоже было несколько человек.
- Варшава предлагает мне стать революционным агентом в Петербурге, сказал Зыгмунту Огрызко. - Я хотел бы знать ваше мнение.
- Я его уже высказал Падлевскому, поддержав вашу кандидатуру. Офицерам надо воевать, вы же можете оставаться в Петербурге.
- Спасибо! - Огрызко церемонно поклонился. - Впрочем, теперь не время для обид... Комитет поручил мне сбор средств и оружия. Кроме того, понадобятся документы - паспорта, подорожные свидетельства.
- У меня на примете есть человек, который мог бы этим заняться. Медик, но увлекается химией.
- Его фамилия?
- Погорелов.
...Последние дни Сераковский работал до изнеможения. События в Польше и Литве подгоняли его. Он хотел, он должен был закончить свои служебные дела прежде, чем покинет Петербург. Кто знает, доведется ли ему снова вернуться в этот город? Со дня на день он ждал вызова. Все чаще к нему домой заходили офицеры, чтобы доложить: "Еду в отпуск по семейным делам" или "Ухожу в отставку", - будущие начальники повстанческих отрядов направлялись поближе к полю битвы. А он? Когда же дойдет черед до него?
Сегодня он, как всегда, просматривал свежие газеты, принесенные денщиком, и сразу же на первой странице увидел то, чего страстно ждал и чего втайне опасался. "Вчера, в воскресенье, 13 января, по окончании развода от лейб-гвардии Измайловского полка в Измайловском манеже, государь император, подозвав к себе всех присутствовавших на разводе офицеров, изволил обратиться к ним со следующими словами: "Так как многим из вас, господа, вероятно, неизвестны последние происшествия в Царстве Польском, то я хочу, чтобы вы о них узнали от меня самого. После столь благополучно совершившегося рекрутского набора, с 2 на 3 января, в Варшаве с 6 числа стали появляться мятежнические шайки на обоих берегах Вислы, для рассеивания которых были немедленно посланы отряды. Наконец, в ночь с 10 на 11 число по всему Царству, за исключением Варшавы, было сделано внезапное нападение на войска наши, стоящие по квартирам, причем совершены неслыханные злодействия... По первым сведениям, потери наши заключаются в 30 человек убитыми, в том числе старый наш Измайловский товарищ, командир Муромского пехотного полка, полковник Козлянинов... Подобная же попытка была сделана около Белостока. Но и после сих новых злодейств я не хочу обвинять в том весь народ польский, но вижу во всех этих грустных событиях работу революционной партии, стремящейся повсюду к ниспровержению законного порядка. Мне известно, что партия эта рассчитывает и на изменников в рядах наших; но они не поколеблют веру мою в преданность своему долгу верной и славной моей армии"".
Дальше следовали сообщения из разных мест.
"В 8 верстах от Варшавы, на минской дороге, собралась толпа ослушников"... "Две другие шайки, числом от 400 до 500 человек, собрались в Блони, а также в окрестностях Сероцка и Пултуска"... "Вооруженная толпа из Царства Польского в значительном числе напала на двор 7-й роты Либавского полка в местечке Сураж. Барабанщик и два рядовых убиты; юнкер и рядовой пропали без вести"...
Напрасно Сераковский искал сообщения о беспорядках на берегах Волги, в Смоленской или Орловской губерниях - на остальной части огромной империи было спокойно.
- Не то, не то... - шептал Сераковский. - Рано и в одиночку... Разве так можно?
- Что ты там бормочешь? - спросила из другой комнаты Аполония.
- В Польше началось! - ответил Зыгмунт.
Аполония вскочила с постели.
- Езус-Мария! Наконец-то!.. Но почему ж не слышно радости в твоем голосе?
- Что ты, госпожа Полька, я рад, я очень рад!
Она вдруг помрачнела.
- И ты поедешь туда... Я боюсь... Боюсь потерять тебя.
Может быть, этого и не стоило делать, но он отослал с денщиком в департамент рапорт о болезни, а сам направился к Огрызко.
Пан Иосафат был бледнее и торжественнее обыкновенного.
- Поздравляю, Зыгмунт! - Он раскрыл объятия.
- И вас, Иосафат!
Утром прибыл курьер из Варшавы - чиновник, приехавший якобы за документами в герольдию, и привез Огрызко печать с надписью "Отдел заграничный С.-Петербургский" и двадцать новых адресов, по которым могли обращаться уезжавшие из Петербурга офицеры.
- Нет, вас пока не вызывают, Зыгмунт. Очевидно, Центральный комитет считает вашу работу по искоренению телесных наказаний в русском войске важнее вашего участия в борьбе за свободу отчизны, - съязвил Огрызко, но, увидев, как вспыхнул Сераковский, добавил поспешно: - Однако я шучу, мой дорогой Зыгмунт. Не будем ссориться в такой день.
Из соседней комнаты вышел поручик, знакомый по офицерскому кружку, в штатском платье, без усов и, увидев Зыгмунта, вытянулся перед ним.
- Поздравление и братство! Прибыл в ваше распоряжение. Готов идти на смерть ради Отчизны!
Сераковский протянул поручику руку.
- Рядом находится петербургский представитель национального правительства, - Зыгмунт показал глазами на Огрызко.
- Мы уже виделись, Зыгмунт, и обо всем договорились, - заметил Огрызко. Он вынул из стола клочок оторванной зигзагом бумаги и подал ее поручику. - Вторая половина этого листа у человека, чей адрес в мундштуке вашей папиросы. При встрече он вам предъявит ту половину.
...Порой Сераковскому это казалось странным: вот-вот он может получить вызов, приказ стать в ряды повстанцев, а он сидит в своем аудиторском департаменте, ходит к военному министру, к генерал-аудитору, доказывает, ищет, спорит, как будто ничего другого нет и не будет, как будто вся его жизнь, которая, по сути дела, только что началась, будет протекать, продолжаться здесь, в Петербурге, и он, добившись отмены телесных наказаний, займется каким-либо другим, не менее гуманным и полезным делом. Восстание, отряды, их рождение и гибель, революционное правительство - все это казалось здесь, в столице, каким-то нереальным, далеким, и вместе с тем все это существовало, и по зову, который должен донестись из Варшавы или Вильно, он бросит Аполонию, русских друзей, ставших ему близкими, весь уклад жизни, налаженный такой дорогой ценой. Думать об этом было невесело.
События развивались стремительно. С первых страниц газет не сходили сообщения о новых беспорядках и новых войсках, направленных в места, охваченные мятежом. То в одной, то в другой губерниях вводили военное положение, участились смертные приговоры. "Сегодня подписан приговор о подпоручике Францевиче и прапорщике Грековском Витебского полка, которые за переход к мятежникам, за принятие командования над бунтовщиками будут расстреляны". ("И все равно нас не запугать!") "Флигель-адъютант... телеграфирует, что вверенный ему отряд выбил мятежников из Янова". ("Значит, наши занимают не только села, но и города!") "Из Вержболово доносят, что большое сборище мятежников грозит нападением". ("Вержболово это ведь Литва".)
Устные сведения, проникавшие в Петербург нелегально, были, естественно, шире и правдивее газетных... "Беспорядки" в Лодзи, в Краковском и Домбровском угольных бассейнах, в Белостоке... Бунтовал, поднимался на борьбу народ всей Польши. Это не могло не радовать Сераковского. И в то же время он понимал, что силы повстанцев разбросаны, не собраны в кулак, что восстание пока распространяется только вширь, а не вглубь, мельчает, что драгоценное время уходит, по сути, бесплодно...
Газеты все чаще сообщали о победах карательных отрядов. "Разбитие шайки мятежников двумя эскадронами лейб-гусарского Павлоградского полка у Чистой Буды в Августовской губернии". "Поражение... скопищ мятежников в Семятичах Гродненской губернии"...
Сераковский, конечно, понимал, что русские газеты обязаны кричать о победах, а не признаваться в поражениях. И все же, как человек военный, он реально представлял, что противоборствующие силы не равны, что русский народ, опора революции, молчит и едва ли заговорит в ближайшие дни. А без этого? Что без этого отдельные, пусть и многочисленные, но слабые очаги восстания? Отдельные огоньки, тогда как нужен пожар! Нападения повстанцев на почтовые транспорты и помещичьи мызы, разоружение полиции, сожженные дома волостных управлений - все это хорошо, великолепно, черт возьми! Но ведь это еще не свобода родины, а только ветер, который должен стремительно превращаться в бурю, все сметающую на своем пути. Однажды он назвал себя "украинцем с правого берега Днепра", и этот правый берег, его родина, тоже молчит. Правда, пробуждается Литва...
Некоторые сообщения, полученные нелегальным путем, приводили его в ярость. Некий Жухальский, шляхтич, стоявший во главе повстанческого отряда, отдал приказ уничтожить деревню Кресты только за то, что крестьяне этой деревни убили ненавистного им помещика. "Какая подлость! Какой непоправимый урон святому делу!" В нем все клокотало от лютой ненависти к этому Жухальскому, от боли за судьбу родины, которая так и останется в оковах, если восстанием будут руководить шляхтичи, напуганные призраком "мужицского топора". Все чаще доносились сведения о разброде в варшавском правительстве, в котором захватывали власть правые, реакционные силы. Чего стоит хотя бы земельный декрет, по которому земля оставалась у помещиков! То, к чему стремился Гейштор и его единомышленники, осуществилось, приняло силу закона. Что может быть опаснее для судьбы восстания!
Карту Северо-Западного края и Царства Польского Сераковский держал у себя дома совершенно легально. Как офицер Генерального штаба, он не только мог, но и обязан был следить за успехами борющихся с мятежом правительственных войск. Не было теперь дня, чтобы вместе со своими единомышленниками он не рассматривал эти карты и не обсуждал действия повстанцев. Квартира Сераковского стала чем-то вроде штаба, куда стекались сведения, полученные не только из официальных источников, и не только те, которые передавались из уст в уста в военном министерстве, но и другие, которые там были неизвестны и доставлялись тайными агентами непосредственно с мест, охваченных восстанием.
Сегодня тоже был гость, на этот раз из Вильно. Он приехал рано утром и долго стучал, пока не разбудил денщика, а тот - Сераковского.
Вошедший представился инженерным офицером Якубом Козеллом и сказал, что у него есть большой и серьезный разговор.
- Тогда попрошу в кабинет, - пригласил его Сераковский. - ...Алексей, приготовьте, пожалуйста, кофе. - Это уже относилось к денщику.
- Привез вам большой привет от Калиновского и в придачу вот это. Козелл достал из кармана небольшую газету.
- О, подпольная "Мужицкая правда"! - Сераковский обрадовался. - Я много слышал об этой белорусской газете, но читал только первый номер... В свою очередь... - Он достал из ящика стола листок с текстом, отпечатанным очень мелким шрифтом, подписанный "Земля и воля". - Вчера, надевая в департаменте шинель, я нашел это в кармане... "Льется польская кровь, льется русская кровь..."
- Да, льется и та и другая.
- Я дам вам адрес, по которому получите эти листовки. Постарайтесь их сразу же распространить. Листовка обращена к русскому войску, но послушайте, что тут пишут. - Сераковский поднес листок ближе к глазам. "Офицеры и солдаты русской армии! Не обагряйте рук своих польскою кровью, не покрывайте никогда неизгладимым позором чести и правоты русского народа... Вместо того, чтоб позорить себя преступным избиением поляков, обратите свой меч на общего врага нашего, выйдите из Польши, возвративши ей похищенную свободу, и идите к нам, в свое отечество, освобождать его от виновника всех народных бедствий - и м п е р а т о р с к о г о п р а в и т е л ь с т в а"... Вот какие слова!
- Да, это замечательно! - согласился Козелл. - Но я к вам приехал по другому, более важному делу...
- Еще более важному, чем совместные действия русских и поляков против правительства?
Козелл смутился.
- Вы меня не так поняли... Я прибыл в Петербург сообщить, что организован Литовский провинциальный комитет, который имеет честь предложить вам гетманство в Литве, предложить стать во главе восстания.
- Вы не обмолвились, это действительно предложение? Или приказ? спросил Сераковский.
- Всего точнее - просьба, обращенная к человеку, которому мы доверяем больше всех.
Сераковский наклонил голову.
- Это очень почетно, - сказал он, - и я от всего сердца благодарю вас. - Он помолчал. - Но чтобы восстание не погибло, а закончилось победой, нужно оружие, нужны деньги, нужны люди, которым можно доверять как самому себе!
- Такие люди есть!
- А оружие? Каким оружием располагают повстанцы?
Козелл печально улыбнулся.
- Пока есть вот это. - Он осторожно достал из саквояжа ручную гранату формой и размером апельсина, с четырьмя трубочками, покрытыми стеклянными колпачками. Сорок штук их привезли в Петербург из-за границы.
- Как же в таком случае воевать? Наступать?
- И палки в руках храбрецов - грозное оружие! - воскликнул Козелл.
- Против штуцеров и артиллерии генерала Ганецкого?! Против кадровых, хорошо обученных войск? Мне странно слышать такое от офицера! Рисковать можно самим собой, но нельзя рисковать общим делом!
- Как же нам быть - сидеть сложа руки?
- Напротив, действовать! Отбирать силой и покупать оружие. Собирать деньги. Наводить панику на противника... и ждать часа.
- Опять ждать! Зачем медлить? И до каких пор? - Козелл горячился.
- Мне кажется, что правильнее всего массовое восстание, взрыв назначить на конец апреля, когда оденутся листвой леса и на снегу не будут оставаться следы нашего движения.
- И тогда вы будете с нами?
- Да, конечно.
Леса, однако, не успели одеться.
Двадцать третьего марта Сераковскому принесли записку Огрызко, содержавшую одно слово: "Свершилось" - условный сигнал о том, что получено назначение.
- Наконец-то я вижу перед собой воеводу Литвы и Белоруссии. - Огрызко улыбнулся пришедшему к нему Зыгмунту и протянул руку. - Только что поступило распоряжение из Варшавы. Собирайтесь возможно скорее, Отдел управления делами Литвы - так теперь называется Литовский провинциальный комитет - с нетерпением ждет вас в Вильно. Там все готово.
Это уже была не просьба, не предложение, а приказ, ослушаться которого Сераковский не имел права.
- Я выеду, как только подучу разрешение.
Итак, свершилось...
Ему захотелось, ему обязательно надо было побыть одному, все обдумать, осмыслить. Выйдя от Огрызко, он долго и, казалось, бесцельно бродил по уже уснувшему Петербургу, великолепному и царственному в эту мартовскую ночь со звездным высоким небом, инеем, покрывшим деревья Летнего сада, его решетку. За садом белела застывшая, скованная льдом, молчащая Нева, в лунном свете блестел шпиль Петропавловской крепости, той самой, которая погубила стольких борцов за великое дело.
Студеный ветерок тянул с реки, пощипывал щеки, но Сераковский не замечал этого. Вся его не очень длинная жизнь, как освещенная светом морозной ночи река, как древний белый свиток, на котором незримо было записано то, что он делал, о чем думал, о чем мечтал, разворачивалась перед ним.
Да, прожито почти сорок лет... Но много ли из них счастливых? Восемь прошли в солдатских казармах на краю света, вычеркнуты из жизни... Хотя нет, разве может он думать так, если именно в эти годы он встретил стольких искренних, настоящих друзей - Станевич, Венгжиновский, Шевченко, Плещеев, Погорелов... - он вспоминал все новые имена поляков, русских, украинцев, казахов и думал, что тесное общение с ними, единство взглядов, пусть даже не всегда полное, похожесть судьбы скрашивали его жизнь в те годы и делали ее захватывающей, несмотря ни на что. Именно там, в пустыне, на берегу Каспия он понял сердцем, как важно всегда и во всем чувствовать локоть друга, независимо от того, кто этот друг, к какой нации, к какому племени принадлежит, важно лишь, чтобы это был верный друг.
И сейчас, приняв ответственный пост воеводы, почувствовав на себе почетнейшую, но неимоверно тяжелую ношу, он не мыслил своих дальнейших действий, не мыслил победы иначе, как при совместных усилиях всех народов, населяющих охваченные революционным пожаром земли.
Вот когда будут использованы с отдачей те военные знания, за которые он сполна заплатил на Мангышлаке! Теперь он не мальчишка, как в сорок восьмом, мечтавший без оружия, без опыта бросить свою жизнь на прусские штыки! Сейчас он чувствовал в себе достаточно сил, чтобы оправдать доверие и стать во главе войска, во главе народа, из которого будут пополняться ряды этого войска. В том, что он не будет терпеть недостатка в преданных людях, в воинах своей будущей армии, он не сомневался ни на минуту. Это будет войско, в котором он, их командир, воплотит в жизнь все свои гуманные идеи, выношенные во время солдатчины и службы в Генеральном штабе, войско без палок, мордобоя, унижения человеческого достоинства, самое дисциплинированное и сознательное, самое верное долгу.
Наиболее трудным было снабдить этих людей штуцерами, порохом, саблями. Он мысленно перенесся в Динабургскую крепость, где позапрошлым летом встречался с поручиком Ивановым. Там есть надежные люди, есть русские офицеры, готовые стать на сторону восставших. Они откроют ворота крепости, через них ворвется отряд хорошо вооруженных, готовых на смерть патриотов. За стенами цитадели их встретят единомышленники. Совместными усилиями они захватят арсенал...
Размечтавшись, он видел перед собой победу, видел счастливую родную землю, очищенную от грязи и насилия, видел завоеванное отечество, в котором хорошо будет всем, а не горстке людей и где все будут равны перед законом справедливости и братства.
Но трезвый голос рассудка возвращал его и к действительности, как бы спускал с неба на землю, где все, что он представлял в пылком воображении, надо было еще завоевать ценой огромных жертв. Размышляя трезво, он должен был с ужасом и страхом признаться (только себе одному и никому больше!), что восстание в том виде, в каком оно есть сейчас - без оружия, без тесного единства вожаков, одолеваемых зачастую междоусобицей и распрями, такое восстание едва ли достигнет цели. Без опоры на русские губернии, без того, чтобы революционный пожар с земель чисто польских не перекинулся в глубину России, - боже мой! - разве без этого можно рассчитывать на полный успех!
И все равно он твердо шел на этот самый трудный, самый важный шаг в своей жизни. В глубине души он понимал, что, возможно, идет на смерть, идет на то, чтобы оставить все, что так безмерно любил, - родину, мать, Аполонию, друзей... Но какая революция, какой народный взрыв обходились без жертв?! Пусть восстание обречено, но, свершившись, вспыхнув, подняв народ, оно все равно пробьет еще одну брешь в страшной стене самодержавия. Вслед за декабристами, за пугачевцами, за петрашевцами... Погибнет он, погибнут тысячи других, но их пример, их подвиг не пропадут, не затеряются в истории, и, воодушевленные их примером, на смену им, мертвым, придут новые, живые...
На следующий день он был у военного министра.
- У меня осталось три недели отпуска, и я убедительно прошу вас, Дмитрий Алексеевич, предоставить их мне сейчас... для лечения.
Милютин держался суше, чем обычно. С некоторой подозрительностью он посмотрел на Сераковского, но, встретившись с его открытым взглядом, вздохнул.
- Быть по сему, Сигизмунд Игнатьевич. Я доложу государю.
Теперь осталось попрощаться с друзьями.
"С друзьями..." - повторил он вслух. Где они сейчас?.. Залеский, милый, добрый Бронислав, он вообще покинул Россию. Может быть, он вернется, чтобы стать во главе отряда?.. Венгжиновский по-прежнему в Одессе, так близко, а он, Зыгмунт, ни разу и не повидал его за все эти годы... Одного за другим он вспоминал своих соизгнанников: ксендза Зеленко, штабс-капитана Герна, толстого провизора Цейзика - где они? Плещеева он встретил как-то в Петербурге, затащил к себе домой, и они долго вспоминали Оренбург, Уральск, форт Перовский...
Спасович принял Сераковского в своем богато обставленном кабинете преуспевающего петербургского профессора.
- Ты покидаешь нас, Зыгмунт... - сказал он, вздохнув. - Увы, я не могу последовать за тобой. Кафедра, адвокатура, учебники...
- Да, да, я понимаю. - Сераковский грустно улыбнулся.
- Что касается твоего "Вопроса польского", то я прочел его с большим интересом. Но видишь ли...
- Не надо об этом. Как-нибудь после.
...Погорелов был в лаборатории, и Зыгмунту пришлось долго стучать, пока открылась дверь.
- А, это ты, Сераковский? Заходи, но предварительно заткни нос. Пахнет несколько иначе, чем на цветущем лугу.
Воздух действительно был не из лучших - насыщен запахами каких-то кислот; сизый дым вился над колбой, налитая в ванночку желтая жидкость пузырилась.
- У меня к тебе просьба, Погорелов: срочно нужна печать: "Воевода Литвы и Белоруссии Доленго".
- Сделаю... А кто этот Доленго?
- Он перед тобой.
- Что ж, поздравляю! Если бы я был более сентиментален, я бы обнял тебя, а так - дай лапу!.. Значит, вступаешь в дело?
- Да. Уезжаю, сначала в Вильно, потом...
- Ладно, я тебя все равно разыщу! Надеюсь, ты будешь о себе давать знать кому следует? - Он рассмеялся с грубоватым дружелюбием.
- Постараюсь!.. Сработанные тобой документы еще никого не подводили. И еще просьба: через неделю, нет, лучше через десять дней занеси в военное министерство письмо... У тебя есть конверт?
Сераковский с трудом нашел место на столе и написал несколько строк. "Я не могу оставаться в стороне от борьбы своего народа, а посему прошу считать меня свободным от службы в русской армии. Возможно, что, приняв это трудное, но единственно правильное решение, я огорчу вас. Возможно также, что через несколько дней вы подпишете мой смертный приговор, но и тогда не сможете отказать мне в уважении. Сигизмунд Сераковский".
Он запечатал письмо и надписал на конверте: "Его высокопревосходительству военному министру".
- Небось приносишь извинения, каешься? - Погорелов перевел насмешливый взгляд с письма на Сераковского.
- Я уважаю Милютина, - уклончиво ответил Зыгмунт.
Когда они прощались, Сераковский спросил:
- А ты не боишься вот так, в открытую? - Он показал взглядом на колбы.
- В открытую лучше, никаких подозрений! По заданию профессора Квашнина колдую над новыми лекарствами - и все тут! Поди разберись.
Наконец все было готово к отъезду, осталось лишь еще раз поговорить с теми, которые вскоре тоже покинут Петербург ради восстания, и с теми, которые этого сделать не смогут. Удобнее всего было собраться у Огрызко, и Зыгмунт послал к нему денщика с запиской. Квартира пана Иосафата не привлекала внимания полиции: вице-директор департамента разных податей и сборов оставался вне подозрений, тем более, что недавно получил очередную награду за отличную службу - пятьсот рублей серебром, и не было ничего удивительного в том, что по сему поводу у него собрались гости.
За столом сидели около тридцати человек, военных и штатских. Сераковский знал далеко не каждого, но Огрызко пригласил к себе только проверенных, преданных польскому делу людей, и Зыгмунт мог говорить откровенно.
- Воевода Литвы и Белоруссии завтра покидает нас ради освобождения Польши, - сказал хозяин. - Послушаем, что он скажет нам на прощание.
Сераковский встал. Обычно живое, подвижное его лицо было сурово и сосредоточенно. Все, что предстояло ему сказать этим людям, он глубоко продумал прошлой бессонной ночью.
- Друзья, братья! - начал он. - Телеграф ежедневно приносит известия о развертывании военных действий в Ковенской и Виленской губерниях. Недавно на правобережье Немана, около местечка Средники, произошло самое крупное с начала действий столкновение с карательными отрядами. Положение обостряется с каждым днем, с каждым часом. Народ польский поднимается на борьбу, берется за оружие. Пришла пора и нам, офицерам, кому дорога свобода отчизны, перейти от слов к делу. Мы не одиноки. Народ великорусский, литовский, белорусский так же терпит от царя, так же жаждет свободы. Восстание в Польше и Литве должно стать той искрой, которая зажжет пожар в России. Только в свете этого пожара мы можем увидеть победу нашего дела. Без помощи русского народа мы обречены, у нас просто не хватит сил. Я призываю вас видеть в русском народе не врага, а брата и друга. Я призываю вас приветствовать и принимать каждого русского солдата, каждого русского офицера, который пожелает бороться вместе с нами. Некоторые говорят о сочувствии к нашему делу европейских народов, но согласитесь, что сочувствие русского народа нам гораздо важнее и нужнее, чем сочувствие Европы. Я берегу, как святыню, прокламацию, за распространение которой грозит смерть. Возможно, не все знакомы с ее содержанием, а посему разрешите привести ее здесь:
"Обращаемся еще с несколькими словами к русским войскам, находящимся в Царстве Польском. Вам выпал на долю счастливейший жребий быть передовыми в деле освобождения России; не отталкивайте от себя этого жребия. Мы призываем вас на помощь Польше, этой великой многострадальной мученице; пока угнетена она, Россия не может быть свободной. Народное дело уже созрело в Польше, и скоро народ возьмет свое; власть петербургского правительства держится в ней только вами, и от вас зависит уменьшить число будущих жертв... Если вы откажетесь бить поляков, то и этим сделаете много; но это не все. Вы должны стать за них, и только тогда вы своею кровью можете смыть с себя пятна мученической крови".
Сераковский на минуту замолчал, чтобы посмотреть, какое впечатление произвела на офицеров прокламация. Иные сочувственно кивали головами, иные казались безразличными, на лицах некоторых блуждала ироническая улыбка. Это его встревожило.
- Я вижу, - сказал Зыгмунт, - что не все присутствующие польские офицеры согласны со мною. А между тем многие русские офицеры и солдаты сражались и сражаются в рядах борцов за свободу Польши, и мне горько, мне стыдно за некоторых командиров наших отрядов, которые не пожали протянутую руку, а отвернулись, а то и ударили по ней. Давайте склоним свои головы перед памятью русского офицера подпоручика Андрея Потебни, сражавшегося за нашу свободу в отряде Лянгевича, перед памятью русских офицеров Арнгольдта, Сливицкого и Ростковского, расстрелянных за то, что подняли свой голос в защиту Польши. - Сераковский на мгновение замолчал, как бы запнулся на полуслове. В этот момент он подумал о том, что приказ о казни русских офицеров подписал Милютин, тот самый человек, который не раз поддерживал его в поединке со сторонниками телесных наказаний. И продолжал: - Перед памятью телеграфиста телеграфной станции Александрова, который, приняв по телеграфу приказ царя: "Применить холодное оружие, а если надо - картечь" - против варшавян, намеренно исказил текст: "Не стрелять, действовать мягко, убеждением", за что и попал на каторгу. Борьба, которую мы ведем, не преследует целью отторжение Польши от России.
По комнате пронесся настороженный шумок, некоторые офицеры недоуменно переглядывались, но Сераковский сделал вид, что не замечает этого.
- Я считал и считаю, что мы должны бороться за автономию отчизны путем введения во всем государстве освободительной конституции. Не гегемония одних над другими, а братская взаимопомощь во имя общегосударственных интересов и блага наших народов - вот идеал, к которому мы стремимся. Я надеюсь, что если не наши сыновья, так наши внуки увидят тесный братский союз не только России и Польши, но и всех славянских народов.
Мы должны идти вместе с теми, кто поднял знамя "Земли и воли", ибо у нас и у них одна цель - антицарская революция во всей империи, освобождение крестьян от подданнического звания, безвозмездное наделение их землей, замена императора выборным лицом, самоуправление народов, свобода слова и совести. Эта программа, с которой меня впервые познакомил ныне томящийся в застенке Чернышевский, должна стать и нашей программой. Эта программа близка народу польскому, близка всем народам России, и, если мы будем не на словах, а на деле осуществлять ее, народ пойдет за нами.
План, который я предлагаю, таков. Собрать под свои знамена крупные силы в центре Литвы - это можно сделать, объединив уже действующие там отряды, - а затем, разделив эту силу надвое, направить один удар на Биржи, с тем чтобы перейти в Курляндию и поднять на борьбу латышей. Направление другого удара - через Белоруссию в Смоленскую, Тверскую и Московскую губернии, вплоть до правого берега Волги. На этом великом пути мы не будем одиноки: к нам примкнут белорусские и великорусские крестьяне, ибо, как я неоднократно говорил, интересы всех крестьян империи совпадают...
- Чем мы вооружим столько людей? - спросил сидевший в первом ряду гвардеец.
- Хоть бы полякам хватило штуцеров! - добавил другой офицер.
- Кос и тех не хватает!
Сераковский поднял руку, призывая к спокойствию.
- Сейчас, отвечу, господа... Вы правы, оружия у нас почти нет, и его надо добывать в боях. Каждая победа - это ружья, пистолеты и сабли для повстанцев. Отряд, действующий между Вильно и Динабургом, готов напасть на транспорт со штуцерами. Кроме того, к балтийским берегам отчизны в ближайшее время отправится из Англии пароход с оружием и боеприпасами. Снаряжение экспедиции ведется тайно проживающими в Англии поляками и сочувствующими нашему делу русскими. Непосредственными организаторами экспедиции являются Демонтович и Бакунин.
Здесь многие ждут иноземного вмешательства в защиту Польши. Я не разделяю этих надежд. И вот почему. Известно, что по инициативе лорда Пальмерстона в английском парламенте недавно, пятнадцатого февраля, был поднят вопрос о восстании в Польше. Произносились многочисленные речи "за" и "против" нашего дела. Но чем закончилось заседание парламента? Министр иностранных дел Великобритании лорд Россель по поручению лорда Пальмерстона послал своему представителю при петербургском дворе лорду Непиру депешу о делах в Польше для прочтения этой депеши канцлеру Горчакову. В ней говорилось не о помощи нашей несчастной отчизне, а лишь о том, что правительство ее величества королевы Виктории крайне встревожено восстанием в Царстве Польском, боясь, что оно отразится и на подданных других государств, то есть самой Великой Британии в первую очередь. Не судьба Польши, а собственное благополучие интересует Англию. Ее правительство, равно как и правительства Франции и Австрии, если и направят правительству России протесты, то лишь в виде дипломатических нот, а не войск. А между тем многие наши соотечественники, читая иностранные газеты, так бурно предаются восторгу, будто французская армия уже в Польше, а английский флот входит в Финский залив.
Я напоминаю вам обо всем этом для того, чтобы предостеречь от благодушия. Помните, мы можем рассчитывать и надеяться только на собственные силы. Они есть! К восстанию готовы Литва и Белоруссия, губернии на правом берегу Днепра. Здесь возьмет свое начало антицарская революция во всей России.
Варшава приказывает нам занять свои места в строю. Народ ждет нас руководителей, вожаков, командиров. Я обращаюсь к офицерам! Под любым предлогом берите отпуска в своих частях и покидайте Петербург. Я это сделаю завтра.
Глава седьмая
Михаил Николаевич Муравьев был удивлен и даже встревожен, когда к нему домой на Литейный проспект прискакал фельдъегерь и вручил приглашение немедленно явиться во дворец к государю.
Всю дорогу от министерства государственных имуществ, где он жил, занимая квартиру, пока не отделают собственный дом, всю дорогу от министерства и до дворца Муравьев думал, зачем он понадобился императору, который последнее время к нему явно не благоволил. Несколько месяцев назад государь довольно грубо отстранил его от министерской должности, высказав свое неудовольствие его деятельностью на столь высоком посту. Муравьеву это, естественно, показалось обидным: он искренне считал, что Россия обязана ему многим. В самом деле, как человек, умеющий быстро расправляться с крамолой, он оставил о себе долгую память в Гродненской и Минской губерниях, где занимал должности губернаторов. На таком же посту в Курске он проявил немалое рвение, взымая с крестьян недоимки. С этой же стороны он отличился и как директор департамента податей и сборов.
В 1857 году Муравьев по милости государя стал министром государственных имуществ.
И все-таки государь не благоволил к Муравьеву.
Последний раз они виделись несколько дней назад, семнадцатого апреля, в день тезоименитства императора. Выходя после молебна из церкви, все говорили о нашумевшем динабургском происшествии, всколыхнувшем умы: шайка польского графа Плятера разграбила под Динабургом воинский транспорт с оружием. Правда, Плятера скоро схватили, но все равно случай был беспрецедентный, и его обсуждали не только в военных кругах.
Государь тоже разговаривал об этом деле, и поравнявшись с Муравьевым, спросил его мимоходом:
- А что вы скажете о Динабурге?
- Боюсь, ваше величество, что случай может повториться в любом месте западных губерний, особенно в Ковенской.
Александр поморщился.
- Я послал туда полк и надеюсь, что все будет прекрасно.
- Дай бог. - Муравьев посмотрел на императора. - Более тридцати лет я знаю этот край и хочу напомнить вашему величеству, что те фамилии, которые замешаны в динабургском деле, участвовали и в мятеже в тридцать первом. Польша в бреду, ей нужно пустить кровь!
...Муравьев вошел в кабинет государя строевым шагом, но это, кажется, не понравилось Александру, и в ответ на приветствие "Здравия желаю, ваше императорское величество!" он вяло и, как показалось Муравьеву, брезгливо махнул рукой в сторону кресла.
"Боже мой, какая все-таки образина!" - прошептал император, оглядывая Муравьева.
Михаил Николаевич действительно не отличался красотой. Он был коротконог, сутул, с массивными плечами, на которых прочно сидела лишенная шеи голова с одутловатым, курносым лицом. В Петербурге долгое время ходила такая шутка: закройте мундир на карточке Ермолова - выйдет лев; сделайте то же на карточке Муравьева - получится бульдог. В нем, и верно, было что-то от бульдога, и не только во внешности, но и в той мертвой хватке, которой обладал этот человек. Несмотря на тучность, Муравьев передвигался довольно легко, быстрыми, мелкими шажками.
- Я хотел бы узнать, Муравьев, - спросил царь, - каких поляков вы считаете наименее опасными?
- Тех, которые повешены, ваше императорское величество, - ответил Муравьев, не задумываясь.
Император усмехнулся:
- Что ж, может быть, вы и правы.
И он стал громко, отчетливо выговаривая каждое слово, рассказывать, что после недавних угроз Англии и Франции в адрес России, положение в Царстве Польском и северо-западных губерниях стало особенно опасным. Поляки наглеют с каждым днем, рассчитывая на помощь наших недругов извне, и, что самое неприятное, эта помощь вполне реальна. Генерал Назимов в Вильно, при всем уважении к нему императора, слишком добр и великодушен для смутного времени, которое переживает Россия...
При этих словах императора бывшее до того каменным лицо Муравьева заметно оживилось; кажется, он стал догадываться, зачем его столь спешно вызвали во дворец.
- Исконно русский Северо-Западный край наш при управлении генерала Назимова ополячен, - сказал Муравьев, дождавшись, когда Александр закончит излагать свои мысли. - Все русское, православное в нем подавлено. Священник, встретив на улице ксендза, вынужден первым снимать перед ним шляпу...
Оставшись не у дел, Муравьев сильно тяготился своим вынужденным, затянувшимся бездельем. Недавняя поездка за границу на воды не успокоила, а лишь взвинтила нервы. Смотреть со стороны, как кучка мятежников, поправ стыд, топчет достоинство России, которая молча сносит оскорбления, - что может быть горше для такого человека, как он! Деятельная натура Муравьева требовала не отдыха, а ежедневного, ежечасного напряжения, работы, которой он никогда не чурался, полной отдачи сил. Но идеи, обдуманные на свободе, - как быстро и малой кровью уничтожить крамолу - принуждены были лежать под спудом, вместо того чтобы воплощаться в немедленные действия, приносить плоды, столь нужные России в эти трудные для нее дни.
- Да, Владимир Иванович Назимов огорчил меня, - сказал Александр, - и как это ни прискорбно, нам придется искать ему замену. - Император помедлил и посмотрел в напряженное лицо Муравьева. - А посему я просил бы вас принять на себя управление Северо-Западным краем, включая командование войском, в нем расположенным, с тем чтобы прекратить мятеж и навести надлежащий порядок.
Муравьев низко наклонил голову.
- С моей стороны, - сказал он, - было бы бесчестно отказываться от исполнения возлагаемой на меня вашим императорским величеством обязанности. Всякий русский должен жертвовать собой для пользы отечеству... Единственное, о чем я прошу...
- О чем же, Муравьев? - перебил Александр.
- ...о полном доверии ко мне вашего величества. Я с радостью готов жертвовать собой для пользы и блага России, но вместе с тем нижайше прошу ваше величество, чтобы мае были дани все, - он подчеркнул голосом это короткое слово, - все средства к выполнению возложенной на меня обязанности.
Александр небрежно кивнул головой.
- В средствах, конечно, в пределах разумного, вы можете не стесняться...
- Благодарю вас, ваше величество.
Всю обратную дорогу Муравьев напевал себе под нос бравурный военный марш, запомнившийся еще с кампании двенадцатого года, в которой он принимал участие и даже был ранен на Бородинском поле. Вообще же Муравьев петь не умел и не любил и если уж что-нибудь напевал, то лишь находясь в состоянии крайнего возбуждения.
Так было и сейчас. Куда девалась апатия, на которую он жаловался последнее время? Он выглядел гораздо моложе своих шестидесяти семи лет, был энергичен, полон сил, а в его узеньких глазках светились решимость и самодовольство.
Дело, порученное Муравьеву, требовало тщательной, однако ж быстрой подготовки. Штат, состоявший при нынешнем виленском генерал-губернаторе, Муравьев решил обновить почти полностью, набрав его здесь, в Петербурге, исключительно из знакомых, разделяющих его взгляды людей. Согласие императора на это было получено, и Муравьев вызывал каждого к себе в кабинет, которым он пользовался еще в бытность министром государственных имуществ.
В приемной можно было увидеть отставных и находившихся на службе офицеров разных родов войск - они тоже хотели послужить отечеству под началом такого человека, как генерал-от-инфантерии Михаил Николаевич Муравьев. Обычно офицеры сидели тихо и важно, полные собственного достоинства. Военные помоложе, пониже чинами, а также штатские позволяли себе тихонько перешептываться в ожидании вызова в кабинет.
Сегодня прием начался, как обычно, в восемь часов утра: - у Муравьева было слишком мало времени, чтобы не дорожить каждой минутой. Сначала из боковой двери появился секретарь, молодой человек в штатском, и начал обход собравшихся.
- Ваш чин? Фамилия? С какой просьбой вы обращаетесь к его высокопревосходительству? - спрашивал он у каждого и быстро записывал ответы в тетрадку.
Через полчаса раскрылась большая белая дверь и показался Муравьев. Он внимательно оглядел залу и мелкими шажками приблизился к вставшим при его появлении просителям. Прием начался. Тех людей, которых Муравьев не знал в лицо, ему представлял секретарь: заглянув в тетрадь, он тихонько называл фамилию.
- Ваше прошение удовлетворено. - Муравьев милостиво протянул руку отставному генерал-лейтенанту Энгельгардту. - Вы назначаетесь ковенским губернатором вместо отозванного контр-адмирала Кригера... Мой брат просил за вас, - добавил он по-французски.
- Поздравляю, граф, государь, по моему предложению, утвердил вас в должности губернатора в Гродно.
Круглое строгое лицо флигель-адъютанта полковника Бобринского засияло от довольной улыбки.
- А вы чего пожаловали в Петербург? - Муравьев грубо обратился к представительному розовощекому человеку со Станиславскою лентою через плечо, действительному статскому советнику и камергеру Домейко.
- Осмелюсь просить ваше высокопревосходительство об отпуске за границу по причине опасного расстройства здоровья, - сказал Домейко, подобострастно улыбаясь Муравьеву.
- Вы нездоровы? У вас, очевидно, насморк? Это очень опасная болезнь. - По тихому голосу генерал-губернатора трудно было определить, насколько он взбешен.
- Доктора нашли у меня подагру, - пролепетал Домейко.
- В сей трудный для нашей родины час, - отчеканил Муравьев, губернскому предводителю дворянства надлежит не болеть и не пытаться улизнуть от ответственности, а находиться на месте! Немедленно возвращайтесь в Вильно!
- Слушаюсь, ваше высокопревосходительство, - растерянно пробормотал Домейко.
С двух часов дня новый виленский генерал-губернатор принимал министров. Он не шел к ним, а требовал их к себе, ссылаясь на волю государя и на собственную обремененность неотложными, государственной важности делами. Разговор начинался с того, что Муравьев знакомил министров со своей системой, которую он выработал, правда пока вчерне, для ликвидации мятежа и польской смуты.
С военным министром Милютиным сегодня обсуждался общий план операции и определялись части войск, которые надлежит дополнительно двинуть в северо-западные губернии, охваченные мятежом.
- Дмитрий Алексеевич, - сказал Муравьев как бы между прочим, - вам не кажется странным, что во главе многих мятежных шаек стоят воспитанники академий, несшие службу в Генеральном штабе?
- Это вполне естественно, Михаил Николаевич, - сухо ответил Милютин. - Для того чтобы руководить отрядом, нужны военные знания.
- Кстати, вы не знаете, где сейчас находится капитан Сераковский?
- Он получил высочайшее разрешение на отпуск и, насколько мне известно, уехал за границу.
- А я слыхал, что он в Вильно... Любопытно.
Не все должностные лица, с которыми беседовал Муравьев, оказывали необходимое почтение виленскому генерал-губернатору. Даже министр финансов скупился, когда Муравьев требовал денег, "как можно больше денег". Петербургский военный губернатор Суворов, которого Муравьев пытался изобличить в снисходительном отношении к осужденным уже полякам, позволил себе не согласиться с самой системой подавления мятежа, и дело дошло до скандала.
- Когда мы оба умрем, - граф Суворов резко поднялся с кресла, - и на том свете господь бог сделает распоряжение о помещении нас в одно место рай или ад, то я почту своим долгом просить о помещении меня туда, где не будет вашего высокопревосходительства. Хотя бы в ад, лишь бы не с вами!
- Можно подумать, что я вас приглашаю к себе на работу, - ответил Муравьев, пожимая плечами.
Он вообще почти никогда не выходил из себя, сносил обиды молча, подолгу, порой по нескольку лет ждал случая, когда можно будет отомстить обидчику.
В тот же день государь пригласил к себе Муравьева, чтобы передать ему записку, присланную на высочайшее имя уже бывшим виленским генерал-губернатором Назимовым.
- Владимир Иванович очень милый человек, - сказал Александр, давно знавший Назимова и расположенный к нему. - Я высоко ценю его труды по управлению краем и его стремление посеять семена любви между двумя родственными народами. Я высоко ценю те усилия, которые он употребил, чтобы образумить безумные попытки к восстанию, но, очевидно, настало время, когда одних добрых слов и увещеваний недостаточно. Прочтите эту записку, Муравьев.
Описав хаос в крае, Назимов настоятельно советовал с особым вниманием относиться к местному римско-католическому духовенству, ибо оно оказывает весьма сильное влияние на простолюдинов. "А посему, - писал Назимов, представителей духовенства, а особенно ксендзов, не надо озлоблять и вооружать противу правительства".
Никаких Чувств не появилось на бесстрастном, словно окаменевшем лице Муравьева. Он с минуту молчал, обдумывая прочитанное, после чего поднял на государя бесцветные, выгоревшие от времени глаза.
- Во всяком деле, ваше величество, самое трудное - это начало. Настоящая записка Владимира Ивановича явилась как нельзя более кстати: познакомившись с нею, я наконец понял, что мне, надо делать. - Он снова задумался, и некое подобие улыбки появилось на его лице. - Назимов развязал мне руки. Первое, что я предприму, приехав в Вильно, это расстреляю какого-нибудь ксендза.
Еще только светало, когда Сераковские сошли с поезда. Их никто не встречал. Зыгмунт не хотел давать телеграмму родственникам жены, как знать, не придется ли ему сразу же перейти на нелегальное положение. Вещей почти не было, только чемодан да старенький кожаный саквояж, с которым он так и не смог расстаться.
И снова Вильно показался Сераковскому необычным, по крайней мере не таким, как в прошлый приезд. Город был не столько встревожен, сколько возбужден событиями. Ходили самые невероятные и противоречивые слухи вроде того, что французский маршал Мак-Магон с колонной волонтеров вступил на польскую землю: "Наполеоновский орел летит на помощь белому польскому орлу". Из рук в руки передавали предсказание ясновидящей немки на три года вперед: "От России, охваченной общим кровавым мятежом... отпадают все пограничные области, даже черкесы возвращают свое давнее достояние. Русский и австрийский императоры, прусский король спасаются бегством в Лондон. Польша в старых границах перестраивает карту Европы".
...Сераковскому повезло: в первый же по приезде час он у городского сада встретил Калиновского. На нем были шитая черными шнурками чемарка, барашковая шапка и длинные "повстанческие" сапоги.
- Какое счастье, что я тебя увидел! - воскликнул Кастусь. - У нас тут черт знает что творится! Я под следствием...
- Ты? - В голосе Сераковского прозвучало удивление.
- Я! По милости Гейштора. Сейчас вся власть у него. Приказы провинциального комитета отменены, на место старых начальников воеводств и поветов назначены новые. Делается ставка на помещика, а не на мужика.
- Я знаю об этом, Кастусь, и сегодня же буду у Гейштора.
Гейштор встретил Сераковского с двояким чувством. С одной стороны, перед ним был назначенный Варшавой воевода Литвы и Белоруссии, а с другой - человек, находящийся в подчинении у него, Гейштора, как у начальника Отдела управления делами Литвы. Внешне Гейштор был любезен, давая понять, что прошлые раздоры забыты, и они, Гейштор и Сераковский, могут легко договориться по любому вопросу.
- Вы спрашиваете, что с Калиновским? О, всего лишь небольшое недоразумение, пан Зыгмунт... Я уже подписал приказ о назначении его революционным комиссаром Гродненского воеводства.
Вы спрашиваете, пан Зыгмунт, разработан ли план восстания? Конечно! Но если хотите, мы его обсудим еще раз при вашем участии.
Работников Отдела Сераковский предложил собрать через два дня, как только приедут товарищи из Петербурга. Совещание должно было определить также дату отъезда Зыгмунта в леса, а до этого он мог свободно жить в Вильно: отпускное свидетельство и заграничный паспорт гарантировали ему безопасность.
Вызванные из Петербурга офицеры съезжались в гостиницу, где их ожидал Зыгмунт.
- Уволенный по личной просьбе штабс-капитан Михаил Гейденрейх! отрапортовал один из них.
- Штабс-капитан Юзеф Галензовский, преподаватель военной академии... впрочем, уже бывший, - тем же тоном доложил второй.
- Штабс-капитан Лясковский... тоже бывший.
- Генерального штаба капитан Людвиг Жверждовский, командированный из Москвы в Петербург с важными бумагами.
Сераковский наконец не выдержал и рассмеялся.
- Из Москвы в Петербург через Вильно? - спросил он.
- Так точно, пан воевода!
...Заседание Отдела совместно с прибывшими офицерами началось на полчаса позднее назначенного срока: ждали Сераковского.
- Прошу прощения, господа, - сказал, входя, Зыгмунт, - но я только что от губернатора, с которым обсуждал меры подавления мятежа. Между прочим его превосходительство уверен, что мятеж почти подавлен.
- Тем сильнее будет разочарование моего бывшего начальника, - заметил Жверждовский со смехом.
- Да, да, надо все сделать с максимальным эффектом, - поддержал Гейштор. - Пан воевода поможет зажечь фейерверк, который будет виден в Лондоне и Париже!
- Извините, пан Гейштор, но я собираюсь не зажигать фейерверк, а поднимать народное восстание, - возразил Сераковский.
- К этому все готово, - поспешно согласился Гейштор. - К морскому побережью Литвы подходят корабли с оружием...
- Даже корабли? - Сераковский подавил улыбку. - Насколько мне известно, в пути находится один пароход - "Уорд Джексон".
- Позвольте говорить мне, как начальнику Отдела, пан Зыгмунт, Гейштор обиделся. - Суть не в числе кораблей, а в том, что и без них у нас запасено достаточно вооружения. Отряды в Ковенской губернии сформированы, они ждут только воеводу.
- Отрадно слышать, пан Гейштор.
- Вопрос в том, куда воевода направит свои полки. Полагаю, что их путь должен лежать в Виленскую губернию, к нам.
- Думаю, что вы ошибаетесь, - возразил Сераковский. - Восстание надо как можно скорее перенести за пределы исторической Польши. Надо двигаться в Курляндию, всполошить ее и оттуда идти за Березину!.. Латыши, как известно, крайне не расположены к помещикам.
- Это же плохо, Зыгмунт! - сказал Францишек Далевский, редактор воззваний и хранитель печати Отдела. - Как и пан Гейштор, я считаю, что мы допускаем ошибку, опираясь на крестьян.
Его поддержал член Литовского отдела Александр Оскерко:
- Поймите, воевода, как показала практика, крестьяне не достойны свободы: получив ее, они начинают пьянствовать, бросают работу...
- Как видно, в тебе, Оскерко, крепко сидит этакий закоренелый помещик, - усмехнулся Жверждовский.
- Извини, Людвик, но я утверждаю это не как помещик, а как член губернского комитета по крестьянским делам.
- Того больше...
- Начальник Вильно прав, - поддержал Гейштор, - мы не можем опираться на крестьян, не можем отталкивать от себя помещиков, дворян, являющихся не только силой, но и живительной душой восстания!
- Какая чушь! - гневно воскликнул Сераковский.
Спор разгорался. Присутствовавшие на совещании офицеры поддержали Зыгмунта, но они не имели права голоса, и состоящие в Отделе местные помещики чувствовали себя хозяевами положения. Сераковский оказался в меньшинстве. Было решено, что он немедля выедет в район сбора повстанцев. Офицеры, за исключением Лясковского, останутся в Виленской губернии, где начнут формировать отряды.
Назавтра служивший у Далевских Леон, расторопный мужчина лет тридцати, из крестьян, купил на базаре двух лошадей и погрузил их в ночной поезд, следовавший в Ковно. Этим же поездом выехали и Сераковские с сестрой Аполонии Зузаной.
Они сошли на крохотной станции верстах в пятнадцати от Ковно. Было зябко, сыро, по раскисшему полю стелился туман, и день обещал быть под стать нарождающемуся хмурому утру. Ехавший в товарном вагоне Леон вывел лошадей и направился к одиноко стоявшему неподалеку хутору. Хозяин хутора был предупрежден заранее, он дал бричку, в которую Леон запряг лошадей, а сам сел за кучера. Застоявшиеся кони бежали резво, и через час Сераковские и Зузана подъехали к заезжему дому на окраине Ковно.
- У меня к вам просьба, Леон: сходите, пожалуйста, на рынок и продайте мое военное обмундирование. Мне оно больше не понадобится, сказал Сераковский, к этому времени уже успевший переодеться.
- Слушаюсь, пан воевода!
Офицер русской армии, Генерального штаба капитан Сигизмунд Сераковский перешел на нелегальное положение.
Вечером в заезжий дом пришел внушительного вида человек, лет под сорок, с крупными чертами сурового лица, одетый в свитку из домотканого сукна. До этого Зыгмунт видел его лишь мельком в Вильно, но наружность вошедшего была слишком заметная, чтобы ее забыть.
- Рад вам, комиссар Длусский. Я вас жду весь день.
- Простите, пан воевода, я только что из лесу.
- Проходите, пожалуйста, и знакомьтесь, моя жена...
О Болеславе Длусском Зыгмунт знал немного. Еще гимназистом он был сослан царем в солдаты на Кавказ и там дослужился до капитана. Во время Крымской войны, уже демобилизовавшись, он сформировал на прусской границе отряд, рассчитывая, что в России начнется революция, но революция не началась и отряд пришлось распустить. Потом Длусский закончил Московский университет, работал врачом, а когда вспыхнуло восстание, был назначен комиссаром Ковенского воеводства и начальником отряда.
- Рассказывайте обо всем подробно и откровенно, - попросил Зыгмунт. Они закрылись в комнате. Сераковский достал из чемодана большую подробную карту края и разложил ее на полу. - Слушаю вас, комиссар!
Они говорили всю ночь до рассвета. Аполония трижды носила им кофе и, как ни уговаривал ее Зыгмунт, не легла спать, с тревогой прислушиваясь к доносившимся из-за двери возмущенным и взволнованным возгласам мужа.
На рассвете, проводив Длусского до дверей, Сераковский вошел в комнату жены. Он был бледен.
- Гейштор нагло врал, - сказал он глухо. - Восстание не подготовлено. Никто и ничто не ждет меня здесь, кроме смерти!
Эту невольно вырвавшуюся фразу Аполония восприняла с ужасом. Отшатнувшись, она упала на кровать со словами: "Горе мне, горе мне!" Потом овладела собой, изо всех сил стараясь не показать своей тревоги за него, за то, что ребенок, который скоро у них будет, может так и не увидеть отца. Но когда к дому подкатила бричка, чтобы увезти ее и Зузану в Кейданы, не выдержала, бросилась к мужу на шею и разрыдалась.
- Боже мой, зачем же так, Полька, зачем же так?! - бормотал он и, как маленькую, гладил ее по голове, по мокрым щекам.
Сам Зыгмунт уехал двумя часами позднее с Леоном, врачом Тшасковским и штабс-капитаном Лясковским, которому с сегодняшнего дня предстояло стать начальником штаба. Путь лежал в глухие Паневежские леса.
Муравьев торопился закончить дела - подобрать штат и заготовить распоряжения, которые должны будут вступить в силу сразу по его приезде в Вильно.
Каждое утро генерал-губернатор вызывал к себе начальника канцелярии полковника Лебедева, бывшего профессора Академии Генерального штаба, и толковал ему суть тех распоряжений, которые следовало облечь в надлежащую форму. Речь шла прежде всего о введении военного положения в подведомственных губерниях, надо было учинить различные следственные комиссии, позаботиться об устройстве сельской стражи...
Канцелярия всегда была полна сотрудников, на которых новый генерал-губернатор мог положиться, как на самого себя. Работали и после обеда - с восьми часов вечера до поздней ночи. Несколько раз на день в канцелярию заходил Муравьев, все поспешно вставали, гремя стульями, но он нетерпеливо махал своей короткой толстой рукой, как бы напоминая, что сейчас не до чинопочитаний, что надо торопиться, дабы скорее быть в Вильно и потушить пожар.
Сегодня, как обычно, Муравьев был настроен ровно, ни на кого не кричал, а если и делал замечания, то не повышая голоса, спокойно.
- Никаких поблажек мятежникам, полковник. - Муравьев возвратил Лебедеву недавно принесенную им бумагу. - Тринадцатый пункт инструкции надлежит изложить так.
Он тяжело опустился на стул, заскрипевший под его массивным телом, прикрыл склеротическими веками глаза и продиктовал:
- Тех из обывателей, которые примут какое-либо участие в мятеже, будут распространять мятежные воззвания и вообще содействовать мятежникам или не донесут немедленно ближайшему начальству об образующихся скопищах инсургентов, также о делаемых приготовлениях к мятежу, или окажут мятежникам чем бы то ни было пособие или содействие, уездные военные начальники должны тотчас брать под стражу и представлять для предания военному суду... Примечание... Записали? Или, может быть, я диктую слишком быстро? Успеваете? Очень хорошо. Итак, примечание. Военный суд над виновными кончать без промедления на основании полевого уголовного уложения, приговор конфирмовать и приводить в исполнение без малейшего отлагательства.
Муравьев устало откинулся на спинку стула.
- Подписал: Виленский военный, Гродненский, Ковенский и Минский генерал-губернатор, командующий войсками Виленского военного округа и главнокомандующий Витебской и Могилевской губерниями, генерал-от-инфантерии Муравьев Второй... Вильно... Для даты оставьте место.
Он любил подписываться "Второй", это напоминало ему о государе, который тоже был "Вторым", правда не Муравьевым, а Александром.
День отъезда держался в тайне: боялись, что польские шпионы (а Муравьев уверял, что ими кишит Петербург) донесут об этом мятежникам и те попытаются взорвать поезд. Наконец приготовления были закончены, и Муравьев счел своим долгом съездить в Царское Село, чтобы проститься с государыней Марией Александровной.
Императрица приняла его приветливо. Ей нравились служаки, подобные Муравьеву, и она ценила их преданность.
- Я очень благодарна вам за то усердие, которое вы проявляете, сказала императрица по-немецки. И, помолчав, добавила: - О если бы мы смогли удержать за собой хотя бы Литву!
- Ваше величество настроены слишком пессимистично, - ответил Муравьев, почтительно склоняя голову. - Я обещаю вашему величеству спасти не только Литву, но и все земли, охваченные восстанием.
Мария Александровна вздохнула.
- Это так трудно, - сказала она по-русски.
- Да, не легко... Россия должна следовать за Пруссией, которая уже до того онемечила Позпань, коренную польскую область, что польское начало в ней почти исчезло. Теперь в прусской части Польши разве что паны да ксендзы могут утешать себя тем, что поднимут население.
- Вы полагаете, что так должна поступить и Россия? - Похвала Пруссии была приятна императрице.
- Так и только так! Когда ополяченный ныне Западный край снова станет русским, тогда будет немыслимо никакое восстание в Польше. Исчезнут к тому же и иноземные надежды иметь в поляках постоянную фистулу против России.
- Да, да, вы правы, - сказала императрица, подавая руку.
Глава восьмая
К местечку Пондели, с несколькими каменными лавками, еврейской корчмой на окраине и красным кирпичным костелом, видным издалека, Сераковский подходил уже во главе небольшого отряда. Сам Зыгмунт давно оставил бричку и теперь ехал на коне, который ему подвели в Шатах, что верстах в пятидесяти после Ковно, первом на его пути местечке, до которого донесся слух, что в Литву наконец приехал воевода. От Шат до Понделей было верст полтораста кружного пути по проселочным дорогам, по которым можно было ехать без риска наткнуться на разъезд.
Пондели еще только показались вдали, а оттуда уже скакал навстречу гонец. Узнав от авангарда, что едет Доленго, он немедля повернул коня и с криком "Воевода, воевода к нам!" помчался обратно. Из домов и лавок высыпали люди и при виде показавшихся всадников, отыскивая глазами главного из них, стали бросать вверх шапки. Кто-то крикнул: "Нех жие Доленго!", кто-то пальнул из двухстволки по железной вывеске волостного правления с царским гербом. Из костела вышел старенький ксендз с крестом, и Сераковский слез с коня, чтобы преклонить колено. Старик и старуха поднесли хлеб-соль на вышитых полотенцах.
Толпа росла и вместе с отрядом двигалась в сторону маленькой площади перед костелом. Был базарный день, и в местечко съехались окрестные крестьяне; тут же стояли их телеги, и на одну из них взобрался Доленго. Торговки на базаре попрятали свой товар, лавочники закрыли свои рундуки. Хозяин шинка вышел на крыльцо. Все смолкли в напряженном ожидании.
- Друзья мои, братья и сестры! - начал Сераковский, заметно волнуясь. - От сего дня уже нет больше неволи, ибо уже нет ни пана, ни шляхтича, ни мужика, ни еврея, а все мы - братья и дети равные или одинаковые. От сего радостного и торжественного дня вся земля, которой вы пользовались за повинности, передается вам, свободные крестьяне, без какого бы то ни было выкупа и чинша. Батраки, работники и бобыли, которые вольются в семью повстанцев, получат по пять моргов земли из казенных поместий... Всем, кто вступил в наше войско, даруется вечное дворянство. Помещики от сего дня не могут гнать крестьян на барщину и не могут требовать с них податей. Тех господ помещиков, которые слушают меня здесь, прошу запомнить это приказание и не нарушать его под страхом сурового возмездия.
Ночевали в местечке. Сераковский устал от новых впечатлений, от длительной поездки верхом, от разговоров и ответственности, которая вдруг легла на его плечи. Плечи были широки, надежны, но и ответственность, которую он взвалил на них, была но легка.
Взбудораженные Пондели долго не могли угомониться. На колокольне пробило полночь, а окна многих домов все еще светились, и оттуда доносились голоса. Сераковский вышел на улицу. На площади у костела горел костер, и вокруг него грелись несколько молодых крестьян и какая-то старуха. Расседланные кони были привязаны к пряслу, ружья и косы стояли прислоненные к костельной ограде.
Узнав Зыгмунта, крестьяне поднялись и стянули шапки с голов.
- Здравствуй, пан воевода!
- Здравствуйте... Куда собрались?
- К тебе, пан воевода.
Старуха отделилась от толпы и, взяв за руку молодого парня, подвела его к Сераковскому.
- Сына тебе отдаю, бери его, воевода. И двух бы, и трех отдала, да нету, один у меня остался...
Сераковский почувствовал, как по спине пробежал холодок.
- Спасибо, мать... - Он подошел к ней, обнял за плечи и поцеловал в сухие, холодные губы.
Он вспомнил свою мать, последнее свое расставание с ней около года назад. Мать не оставляло предчувствие надвигающейся беды, и она истово, с силой крестила его, притихшего и готового разрыдаться от острой жалости к ней. Он вскочил в возок, но еще долго чувствовал у себя на лбу ее горячие пальцы...
В ту пору в Литве оставались кое-где глухие, не тронутые человеком леса, и один из них был Трусковской, куда привел свой отряд Доленго. По берегам небольшой речушки росли могучие дубы, еще не скинувшие прошлогодней листвы, а выше, по взгоркам, - прямые, словно выверенные по отвесу, сосны. Все последние дни светило солнце, вскрылась речка, звенели ручьи. Оголилась кругами земля вокруг старых деревьев, вышла из-под снега на буграх брусника со своими мелкими зелеными листочками; на дымящихся, просыхающих опушках пробилась трава, хлопотали в своих гнездах птицы.
"А ведь уже весна", - радостно подумал Сераковский, с шумом вдыхая пахучий воздух.
Он ехал рядом с начальником кавалерии франтоватым Лабановским и молоденьким румяным адъютантом Яном Коссаковским. Позади двигались конники, за ними отряд пехоты, обоз, казна и канцелярия на отдельной бричке, охраняемой особым конвоем.
Место уже было обжито: стояло несколько шалашей, небольшой табунок лошадей мирно щипал траву, около полусотни разномастно одетых крестьян и панычей без оружия построились в две шеренги перед походным алтарем. "Оркестр", состоявший из скрипки и бубна, заиграл марш. Навстречу мелкими шагами в такт музыке шел щеголеватый шляхтич в чемарке и конфедератке.
- Пан воевода! - Он взял под козырек. - Во вверенном мне отряде шесть конных, двадцать один пехотинец с ружьями и двадцать два с косами!.. - По его тону можно было подумать, что он командует по крайней мере полком.
- Здравствуйте, граждане свободной страны! - Сераковский хотел было сказать - Польши, но подумал, что перед ним, наверно, литовцы и это может оскорбить их чувства.
- Здравствуйте, пан воевода!.. - Обе шеренги вразнобой поклонились ему, как кланялись всю жизнь своему помещику или лавочнику, у которого брали что-нибудь в долг.
- Знаете ли вы, что вас ожидает? Что вам придется голодать, спать на земле, ходить чаще босиком, чем обутыми?
- Знаем, - хором ответили крестьяне.
- Понимаете ли вы, что если кто-либо из вас попадет в руки врага, то понесет наказание смертью, а в случае трусости в бою вас застрелит ваш же начальник?
- Понимаем!
- Готовы ли вы бороться за свободу отчизны, зная, что погибнете?
- Готовы, пан воевода!
Стали подходить другие отряды. Сераковский решил обучить их здесь и свести в одну колонну, способную не только обороняться, но и наступать. Привел своих бойцов Болеслав Длусский, за ним брат Аполонии землемер Константин Далевский, за ним Болеслав Колышко. Сераковскому понравилось его умное, волевое лицо с неожиданно грустными большими глазами.
- Отряд, который я имею честь передать воеводе, - Колышко докладывал, отчеканивая каждое слово, - шел три дня и четыре ночи, но усталость не сломила воли людей, их боевого духа. Схватки с врагом раскрыли их мужество, а трудности походов - их стойкость.
- Рад слышать это. Как с вооружением? - спросил Сераковский.
- На двести тринадцать человек - четыре штуцера и столько же карабинов. У большинства старые ружья. Не хватает кос, свинца. На одноствольное ружье имеется по сорок пять патронов, на двухствольное - по шестьдесят.
- Да, не густо...
Сераковский подошел к одному из бойцов и попросил у него ружье. Оно было точной копией того, которым Зыгмунт пользовался в Новопетровском укреплении, - заряжалось со ствола.
- В умелых руках оно стреляет не хуже бельгийского штуцера, - сказал Сераковский крестьянину, стыдившемуся своего старомодного оружия. - Но я хочу оказать вам честь и предлагаю стать косинером. Отдайте ружье тому, у кого его нет. Я верю, что вы проявите храбрость и с косой.
Через день к вечеру прибыл отряд Мацкевича.
Сераковский уже наслышался о своем литовском друге, который сменил сутану ксендза на одежду воина. Это случилось месяц назад. Как всегда, Мацкевич читал проповедь после службы, но на этот раз ока была необычной. Ксендз благословил народ на борьбу с царем, и все полтораста человек, бывших в костеле, повторили вслед за ним присягу на верность революционному правительству. Затем он вошел в костельную каморку, где обычно оставлял верхнее платье, надел серую чемарку, отделанную черным барашком, вышел на улицу и сел на коня. За новым начальником отряда поехали полторы сотни прихожан.
Сейчас Мацкевич был в той же чемарке, с пистолетом за поясом, с саблей и на коне, которого он ловко осадил перед палаткой воеводы. Сераковский принял рапорт, поздоровался с прибывшими повстанцами, затем подошел к Мацкевичу и обнял его.
- Как я рад тебя видеть, Антось!
Вечером они сидели у костра. Никто не хотел мешать их беседе, и они были одни. Пламя освещало высокий, крутой лоб Мацкевича, курчавую бородку, закрученные вверх усы. Энергично поблескивали узкие карие глаза.
- В мечтах я все чаще вижу свободным свой народ, - говорил Мацкевич. - Люблю мою Литву, ей и посвятил, ей отдал свои слабые силы. И без ложной скромности могу сказать, что и мой народ любит меня. - Давно не стриженные волосы падали ему на глаза, и он поминутно откидывал их рукой. - Я никогда не ставил себя выше народа, а лишь вровень с ним. Встречусь с крестьянином, с кем-нибудь из податного сословия, и первая моя забота - расспросить его о житье-бытье. А это самое житье-бытье плохое, горькое. А почему? Кто виноват? Помещик, который обирает крестьянина! А почему помещик так делает? Кто дает ему такую власть над народом? Царь! Так и поднимаю народ против царя.
- Ты хорошо говоришь, Антось!
- Что слова, Зыгмунт? Важны дела.
- Дела твои всем известны. Всюду, где появляется отряд Мацкевича, восстанавливается и торжествует справедливость. Будто всходит солнце.
- Все это так, Зыгмунт. Но уходит отряд, и снова наступает ночь.
Сераковский помрачнел.
- Не скрою от тебя - да ты и сам это хорошо знаешь, - наше положение очень трудное. Гейштор меня подло обманул, заявив, что к восстанию все готово.
- Да, есть только люди, готовые умереть, но нет оружия, денег.
- Я тебе дам три с половиной тысячи. Больше не могу. Наши хваленые патриоты, все эти Потоцкие, Сапеги щедры только на словах, а когда надо от слов перейти к делу, они притворяются, что их ужо ограбили русские!
Еще трубач не протрубил сигнал отбоя, но уже догорали костры и в тишине далеко разносились песни, которые пели повстанцы. Выделялся один молодой голос, выводивший с чувством: "А за тем краем, як бы за раем, ценгле, вздыхам и плачем! Еще раз, еще раз, еще раз зобачим!"
- А повеселее вы ничего не можете спеть? - крикнул Зыгмунт.
- Можем, пан воевода! - донеслось из темноты, и тот же голос вдруг начал задорную. "Ой люли, люли, люли, ай Исусик маленький..."
Зыгмунт окинул взглядом бивак - шатры, телеги с поднятыми кверху оглоблями, тлеющие угли костров, скупо освещавшие силуэты повстанцев, и вдруг подумал о том, как мало за последние годы ему пришлось общаться с народом, с такими вот крестьянами в домотканых свитках, с ремесленниками, которые готовили оружие для общего дела. Петербург, заграница... И лишь сейчас, в эти тревожные и радостные дни, когда он возглавил борьбу, когда из русского офицера Сераковского стал вождем повстанцев Доленго, лишь сейчас он вплотную встал с народом, с незнакомыми ему простыми, обездоленными, жаждавшими лучшей доли людьми, ощутил на себе их взгляды, почувствовал тепло натруженных рук, уловил в глазах их надежду, которую они связывали с ним, воеводой Литвы и Белоруссии - Доленго.
У одного из костров сидело несколько человек, и Сераковский подошел к ним.
- Не спится, братцы? - Обращение "братцы" он произнес по-отечески мягко, хотя многие из повстанцев, к кому они были обращены, выглядели куда старше Зыгмунта.
- А мы народ привычный не спать-то, - ответил за всех пожилой, неестественно сутулый крестьянин с обвислыми усами. - Ежели на барина работать, то спать некогда. - Он с трудом поднялся с земли, попытался выпрямиться, однако спина его так и осталась согнутой.
- Да вы сидите! - сказал Сераковский.
Крестьянин невесело усмехнулся:
- Сидеть, пан воевода, спина не, дает.
- Отчего же?.. Простите, как вас величать?
- Модейка, пан воевода. А болит - по причине увечья. - Помещичий сынок по спине дубинкой прошелся, вот с той поры и мучаюсь.
Сераковский поморщился, словно его, а не Модейку ударили палкой.
- Боже мой, все то же... - пробормотал он. - И как же было, расскажите!
Повстанцы потеснились, подвинули чурбачок, и Сераковский сел на него.
Кто-то подбросил в костер сухую еловую ветку, и вспыхнувшее пламя осветило худую фигуру Модейки, его изможденное морщинистое лицо.
- За что же над вами учинили экзекуцию? - снова спросил Зыгмунт.
- Долгая, пан воевода, история. Началось еще с манифеста царя-батюшки насчет воли. Сперва обрадовались мужики, как-никак свободными вроде бы стали. А благодетельница наша, помещица, цареву милость по-своему поняла: дескать, крепостная зависимость отменяется, а барщина остается. Даже особые книжечки припасла, чтоб в них все мужицкие работы в счет барщины записывать. А мужики возьми да и взбунтуйся. Нет, говорят, такого закона, чтобы опять на помещицу спину гнуть! И не пошли на панское поле, на свое пошли.
Сидевшие около костра повстанцы согласно кивали головами, соглашаясь с тем, что рассказывал их товарищ, а может быть, и сами они пережили то же, что и он.
- "Ну ладно, - обиделась помещица, - не хотите со мной дела иметь, с солдатами поимеете!" А мы ей хором: "Солдат кормить надобно, а нам, ясновельможная пани, самим жрать нечего, постоят солдатики день-другой да и убегут с голодухи". На том и разошлись... А через неделю глядим - и верно, казаки на конях в имение пожаловали, за ними пехота, солдатушки. На какой-то там постой прибыли... слово, как на грех, запамятовал...
- Экзекуционный? - спросил Сераковский.
- Вот, вот... Слово трудное, не выговоришь, хотя, что оно значит, наши мужики скоро узнали. Собрали нас, кто от барщины отказался, на дворе перед панским палацем, на крыльцо все паны вышли, жандарм в полковничьем чине, исправник... Жандарм и спрашивает: "Бунтовать, подлецы, вздумали?" "Никак нет, ваше благородие, - отвечаем, - справедливости только просим, защиты". Тут господин полковник как рассвирепеет, да как гаркнет: "Я вам, хлопы, покажу справедливость! Всех перепорю!" И перепорол. Правда, со мной маленькая осечка вышла. Стали солдаты мужиков хватать, тащить их к конюшне. Кто безропотно шел, а я не даюсь, ругаю, между прочим, помещицу без стеснения, по-мужицки. Гляжу - панский сынок бежит. С дубинкой. Ну и стукнул он меня по спине, дубинкой-то. Я так на руках у солдат и повис...
Модейка вздохнул, вздохнули и остальные. Сераковский продолжал смотреть на рассказчика, в его по-детски выразительные глаза, в которых отражалось все, о чем он говорил.
- Выпороть меня тогда, правда, не выпороли, только с того дня все у меня внутри огнем горит. С месяц в хате провалялся, а когда на ноги встал, велела барыня все-таки высечь меня, чтоб, говорит, за ней должка не числилось...
Уже давно хозяйничала в лесу ночь, не спали лишь часовые, а Сераковский еще переживал услышанное, думал о Модейке, о том, что такие люди не подведут, не убегут с поля боя, что перед ним один из тех повстанцев, которые не на словах, а на деле знают, против кого надо поднимать оружие. Раб перестает быть рабом! Крепостной мужик расправляет плечи, поднимается в рост и хватает за руку войта, занесшего над ним плеть.
Тревожили полученные утром сведения о появившихся в округе карательных отрядах, а обещанное Гейштором оружие так и не прибыло, тревожило и то, что люди, обретшие наконец духовную силу, готовые идти на смерть ради свободы, вынуждены уклоняться от решительного боя...
Оставшись один, Сераковский принялся писать письма: в Петербург Огрызко, в Вильно - Литовскому отделу, в Италию - Гарибальди, в Лондон Герцену для "Колокола". "Оружие! Дайте нам оружие, и мы победим!" - писал он. Где обещанные склады штуцеров, пан Гейштор? Где пароход "Уорд Джексон"? По расчетам, пароход уже должен подходить к литовским берегам.
- Простите, Болеслав, - он разбудил Длусского, - но я не мог ждать до утра. Вам с отрядом надо завтра же уйти в сторону Полангена и там встретить экспедицию Демонтовича.
- Повинуюсь, пан воевода!
- Люди, тысяча винтовок, два орудия, сто тысяч патронов - мы не должны этого лишиться!
Днем часовой доложил о приближении странного обоза. Впереди ехал фаэтон; на мягких подушках, скрестив руки на груди, восседал богато одетый толстяк. На запятках стоял гайдук. Сзади ехали три фуры с поклажей кроватью, огромными узлами, креслом, самоваром... Обоз замыкали четверо всадников - судя по одежде и повадкам, слуги толстяка. Двое из них, беспрерывно кланяясь, помогли ему сойти с фаэтона.
- Мне нужно срочно видеть воеводу, - объявил приезжий по-французски.
- Слушаю вас, - ответил Зыгмунт по-польски, глядя не столько на толстяка, сколько на его багаж.
- О, вельми приятно! Рад познакомиться... Витольд Алекно, помещик из соседнего имения. Я к вам... Готов пополнить отряд...
Сераковский продолжал хмуро смотреть на повозки с багажом.
- Что у вас в этих узлах, сударь? - спросил он тоном, не предвещавшим ничего хорошего.
- Как что? - Помещик удивился. - Постель - перины, подушки, одеяла. На следующей подводе - кухня, ее будет обслуживать мой повар...
Сераковский не выдержал:
- Немедленно поворачивайте обратно, пан Алекно. У нас военный лагерь, а не помещичья усадьба!
- Ах вот как! - Лицо помещика побагровело. - Я вам это п-припомню, п-пан в-воевода!
...Каждое утро горнист трубил сбор, и начинались занятия. Офицеры и отставные солдаты обучали тех, кто впервые держал в руках оружие.
- Заряжай! Целься! Пли!
Чаще всего слышался только металлический сухой щелчок: патроны берегли, их было слишком мало.
- Раз-два - коли!
- Отделение, на плечо!
- За мной! В атаку!
Учились рассыпаться цепью, строиться в порядки, фехтовать, рубить шашкой лозу. Все это воевода показывал сам, вызывая восторг и одобрение повстанцев. Он вспоминал далекое время, унтера Поташева, который мучил его муштрой... "А ведь пригодилось!"
Теперь лагерь выглядел обжитым, хотя и не похожим на обычные военные лагеря. Непохожесть создавала пестрота амуниции, оружия, одежды. Сераковский старался всех повстанцев одеть одинаково - в чемарки из серого сукна, но приходили и в белорусских свитках, и в кафтанах, и в жилетах, застегивавшихся на крючки, и в блузах из простого небеленого холста. Единственное, что носили почти все, - это конфедератки: у стрелков зеленые, у косинеров - черные, у кавалерии - красные. Несколько богатых шляхтичей щеголяли во всем белом - брюках, куртках, шапках с плюмажем. Ковенский помещик Цвирко, хваставшийся тем, что привел отряд из десяти человек, носил форму какого-то кавалерийского полка, хотя сам никогда не был военным.
Пока все было спокойно. Но четырнадцатого апреля на рассвете в лагерь прискакал крестьянин и сказал, что по Вилкомирскому шоссе движется в их сторону отряд солдат, и Сераковский невольно вспомнил толстяка: не он ли донес? Можно было отойти, скрыться, пока не поздно, но воевода приказал готовиться к бою.
- А вы почему не выполняете распоряжения? - Он набросился на ковенского помещика Цвирко, который стал поспешно грузить на подводу свое имущество.
- Партия помещиков, которую я имею честь представлять, - вызывающе ответил Цвирко, - взялась за оружие с целью манифестации, а не для того, чтобы подставлять себя под русские пули. Я увожу свой отряд.
- По законам военного времени вас следует немедленно расстрелять перед строем. - Сераковский побледнел от гнева. - Но вы недостойны даже смерти! Убирайтесь! Изменники и трусы нам не нужны!
Обстрелянные бойцы из отрядов Мацкевича и Колышко держались спокойно, новички крестились и нервничали, вздрагивали при каждом шорохе, повторяя испуганно: "москале, москале!".
- Без приказа не стрелять! Беречь патроны! - раздался приглушенный голос воеводы, обходившего выдвинутые вперед цепи.
Повстанцы сосредоточились по обеим сторонам поляны; палатки, обоз были убраны подальше в лес, валялись лишь поломанные ящики, разбитая телега, остатки продуктов - все было сделано так, чтобы создать впечатление поспешного бегства.
Показался конный разъезд. Один из казаков хотел осмотреть лес, но верхом туда было не проехать, и он махнул рукой. "Небось удрали. Кому умирать охота? Ни нам, ни им", - громко сказал казак.
За разъездом, минут через десять показалась колонна пехоты. Солдаты шли, путая ногу, трудно, устало и были похожи на тех, с которыми Сераковский восемь лет тянул лямку в оренбургских батальонах. Впереди ехал сутулый офицер, и Зыгмунту показалось даже, что это его батальонный командир майор Михайлин; на секунду мелькнула мысль - неужели придется стрелять по этим ни в чем не виноватым людям? Но он быстро подавил в себе слабость и подал знак.
Раздался сигнал атаки, и в тот же миг лес ожил - заговорили штуцеры и ружья. Пальба началась с обеих сторон поляны. Несколько солдат упало, остальные по команде офицера залегли и стали отстреливаться. Засвистели пули, сбивая листья и ветки с деревьев. Рядом с Сераковским вскрикнул и рухнул наземь повстанец.
Заржала и нелепо свалилась на бок раненная повстанцами лошадь.
Перестрелка продолжалась недолго. Каратели не приняли боя и, подобрав раненых, поспешно отошли в сторону шляха.
- Не так страшен черт, как его малюют! - радостно сказал Зыгмунту начальник штаба.
Сераковский, однако, не обольщался успехом. Разъяренные неудачей каратели могли с часу на час появиться снова. Оставаться на месте было опасно, и воевода отдал приказ выступать.
Колонна растянулась чуть ли не на версту. Сераковский вывел свое войско на широкий шлях - пусть все видят, что идет сила, идет справедливость, новая революционная власть. Сначала шла кавалерия, за ней косинеры со своим самодельным, но грозным оружием, с Мацкевичем во главе колонны, потом пехота - стрелки. Зыгмунт залюбовался: с какой гордостью, как достойно держали они свои старые, давно вышедшие из употребления ружья, многие из которых десятилетиями, еще с 1831 года, лежали в чуланах и на чердаках, ждали своего часа!
Впереди несли знамя. Ему полагалось быть в чехле, но воевода распорядился его развернуть - пусть все видят. На пунцовом шелку был вышит крест с парящим над ним белым орлом и двумя надписями: польской - "Боже, змилуйся над нами!" и русской - "За нашу и вашу свободу!"
Крестьянские телеги и помещичьи брички, пешие и конные - все сторонились, давая дорогу войску под знаменем воеводы. Многие пристраивались сзади колонны, тем самым уже считая себя повстанцами. Высланные вперед разведчики оповещали население сел и местечек о том, что к ним движется народная армия Доленго.
По дороге случилось происшествие: к Сераковскому подвели связанного крестьянина с окладистой седой бородой. Православный медный крестик висел у него поверх холщовой рубахи. Несмотря на враждебный вид конвоира, пленник не проявлял видимого беспокойства.
- Шпион москалей, пан воевода, - доложил конвоир. - Надо повесить на первом суку!
Сераковский с недоумением посмотрел на него.
- Почему вы решили, что этот человек шпион? - спросил он.
- Старовер, пан воевода. А все староверы за царя!
- Нет, не все! - раздался голос старика.
- Правда, отец, не все, далеко не все... Развяжите его, - приказал Сераковский.
Старика развязали, он с усилием потер затекшие руки и поднял на Зыгмунта благодарные умные глаза.
- Ты, я вижу, справедливый человек... Доленго, - промолвил старик.
- Да, я Доленго. - Сераковский передал поводья коня ординарцу и теперь пошел рядом со стариком. - Скажите мне, отец, почему живущие здесь русские крестьяне иногда выступают против нас? Разве им нравятся порядки, которые завел здесь царь, или им так уж хорошо живется?
Старик ответил не сразу.
- Как тебе это объяснить, Доленго?.. Жизнь наша такая ж, как и у всех здешних мужиков, - холопская. Хлебушка своего едва до рождества хватает. И порядки нам не по душе: кому нравится под башмаком у пана находиться! Помещику-то все едино, что католик, что православный: сечет одинаково усердно...
- Так в чем же дело, отец?
- А в том, что кровь свою вы льете за то, чтоб край этот Польше отдать... А мы-то, Доленго, русские! И под польскими панами нам жить не больно хочется.
- Понимаю, отец. - Сераковский помолчал. - Никто не неволит здешний народ - ни Литву, ни Беларусь, ни Украйну. Народ сам должен решить, с кем он будет - со свободной Россией или со свободной Польшей. Только выразить свою волю он сможет тогда, когда завоюет свободу. Не раб это будет решать, а хозяин.
Раньше Сераковский бывал в Литве наездами, он останавливался в Вильно или в каком-нибудь поместье у друзей, некоторое время жил там почти безвыездно. Сейчас он видел Литву в движении. Перед его глазами стояли убогие села с курными избами, он видел прибранные под дырявый навес деревянные сохи, перемежавшиеся с болотами пески, на которые помещики сселяли крестьян, видел этих крестьян и слушал их горькие рассказы-исповеди.
Рассказы эти, впрочем, не являлись для него открытием, откровением, о многом он знал еще в Петербурге из уст побывавших в здешних местах друзей, но сейчас обо всем этом говорили непосредственные участники событий, которые все испытали на себе. При первом же удобном случае Сераковский подходил то к повстанцу, который шагал в колонне, то к ремесленнику, мирно занимавшемуся своим делом, то к крестьянину, продававшему на рынке рожь, и забрасывал их вопросами, стараясь узнать как можно больше.
Сегодня он побывал в кузнице, стоявшей одиноко на краю небольшого села. В кузнице было душно, в полумраке жарко пылал горн, раздуваемый подростком-подмастерьем, слышались звонкие удары молота о наковальню.
- Бог в помощь! - промолвил Сераковский, отворяя дверь.
- Спасибо на добром слове, пан, - ответил хозяин. Он был уже немолод, с раскрасневшимся широким лицом и ровными зубами, которые блеснули, когда кузнец улыбнулся. - Что привело сюда пана?
- Желание узнать, как вы живете, а заодно попросить об одном важном дело.
- А вы, простите, кто будете?
- Доленго.
- Матерь пресвятая! Сам Доленго!.. Стась, иди-ка сюда! - крикнул кузнец подростку.
- Пусть продолжает работу, - попросил Зыгмунт. - Дело, ради которого я пришел к вам, как раз касается вашей работы. Догадываетесь, о чем пойдет речь?
- Догадываюсь, пан воевода. О косах, наверное?
- Да, о косах. У нас есть смельчаки, но не хватает оружия, и нужны хотя бы пики и клинки, переделанные из кос.
- А мы этим и занимаемся, пан воевода.
Кузнец зажег от огня лучину, осветил темный угол, и Сераковский увидел десятка полтора кос с перекованными ушками. Рядом стояли косовища.
- Этому я еще от своего деда научился, - сказал кузнец не без гордости. - В прошлое восстание он с такой косой на москалей ходил.
- Вернее, он защищался от солдат, - поправил Зыгмунт.
- Какая разница, пан воевода? Он воевал.
- Разница есть. В прошлое восстание мы вынуждены были обороняться, сейчас - рассчитываем наступать. Тогда наш народ проиграл битву. Теперь мы ее должны выиграть.
- Дай-то бог!..
После одной из стычек в руках отряда оказалась ротная канцелярия. Документы, которые там были, Сераковский велел принести в штабную палатку.
- Ого! А вы хотели их сжечь! - воскликнул он. - Антось, Болеслав, скорее идите сюда и послушайте, что про нас пишет командующий войсками Ковенской губернии генерал Лихачев: "Восстание быстро разрастается и угрожает сделаться поголовным..." Это же замечательно, черт побери! И дальше: "Число войск при современных обстоятельствах слишком недостаточно". Слышите, друзья, у них уже не хватает войска, чтобы бороться с нами!
Сейчас он искренне верил в возможность победы. Сомнения, раздумья, какой выбрать путь, больше не тревожили его: путь был избран, и ничего другого он уже не мог избрать, ничего не мог изменить в жизни. Выигранная битва, восторженные лица повстанцев, торжественные, под колокольный звон встречи в селах и местечках, крестьяне с топорами, следующие за отрядами в ожидании оружия, - все это заслонило от него ту, ставшую вдруг бесконечно далекой, жизнь - аудиторский департамент, квартиру на Владимирской, поездки за границу, встречи с польскими эмигрантами... Впрочем, нет, не всю. На темном бесконечном поле его прошлой жизни светились два ярких огня, которые он и сейчас видел перед собой, - Аполония и борьба за отмену телесных наказаний. И он всегда, сколько себя помнит, был воеводой, вел за собой повстанцев, воевал, раздавал крестьянам землю и объявлял низложенной власть русского царя. Он подумал, что ему везет: восстание ширится, отряды растут, волнения вспыхивают то тут, то там, они уже охватили всю Ковенскую губернию и готовы перекинуться дальше. Значит, не надо медлить, нельзя дать погаснуть огню.
Шестнадцатого апреля в лагере, разбитом под Кнебями, Сераковский собрал военный совет. Стоял довольно теплый вечер, первый за эту затяжную весну, тихо шумел бор, и ветер шевелил штабные карты, повешенные на стволе сосны.
- Надо ковать железо, пока горячо, - Сераковский подошел к карте. Литовский отдел, как вы знаете, определил наше движение в Виленскую губернию. Но правильно ли это будет при создавшемся положении, или же нам лучше двинуться вот сюда, - он показал на карте - в Курляндию? Каково ваше мнение?
- Гейштор хочет загребать жар чужими руками, - сказал начальник штаба Лясковский. - Его не устраивает, если мы пойдем в Курляндию, ибо там уже не его владения.
- У Курляндской границы сейчас отряд Длусского, - заметил Мацкевич. И если мы получим оружие, то только там.
- Хочу добавить, - сказал Сераковский. - По пути к Курляндии нас могут поддержать в Мариенгаузене. Насколько мне известно, там готовят восстание посланцы "Земли и воли". А если Жверждовскому удастся прорваться к Смоленску... Нет, вы только посмотрите, - он снова подошел к карте, какой огромный кусок России будет свободен!
- Простите, пан воевода, но какое нам дело до России? - Начальник кавалерии Лобановский пожал плечами.
- В России нам делать нечего, - поддержал его начальник одного из отрядов - Стучко. Он сидел в сторонке от всех, с угрюмым, недовольным лицом. - Я литвин, понимаете, лит-вин! - Он вдруг распалился. - И хочу бороться только за Литву, а не за Россию, не за Польшу, не за Белоруссию! За свободу Литвы от всех и всяких ее опекунов и покровителей. Вам ясна моя позиция?
Сераковский насмешливо и грустно посмотрел на него.
- Неужели вы не понимаете, пан Стучко, что такой небольшой народ, как литвины, не может обрести самостоятельность сам, вне связи с русским народом, с вольной и дружелюбной Россией. Что вы без ее могучей и протянутой дружеским жестом руки? Ваши усилия, сколь бы героичны и жертвенны они ни были, неизбежно разобьются о такую скалу, как Россия... То же самое и Польша, - добавил он тихо. - В союзе, а не в противоборстве наших народов мы можем стать свободными.
- Надо идти в Курляндию, - решительно заявил Колышко. - А кто не хочет, - он глянул на Стучку, - может вернуться в свое имение. По-моему, так!
- Согласен, - заключил Сераковский.
Свою маленькую армию он разделил на три колонны. Справа шел Мацкевич, слева - Колышко, среднюю колонну Сераковский повел сам. Местом сбора были назначены Биржи, местечко вблизи Курляндской губернии. Все три отряда выступили вместе. Сераковский нарочно остановился, чтобы увидеть их всех от знаменосца до замыкающего взвода конников; он вспомнил свой отъезд из Ковно две недели назад, бричку с кучером Леоном, врачом и начальником штаба - все его тогдашнее войско. И вот теперь целая армия - около трех тысяч бойцов...
Девятнадцатого апреля во втором часу ночи командира лейб-гвардии Финляндского полка генерала Ганецкого разбудил вестовой, доложивший, что из Ширвинт прибыл тысяцкий со срочным донесением от стоявшего в этом местечке Крамера. В донесении говорилось, что вчера из Шешольского леса вышла шайка, насчитывавшая не менее шестисот человек, под предводительством изменника Колышко, в прошлом офицера русской армии. Донесение было слишком важно, и, несмотря на поздний час, Ганецкий решил потревожить генерал-губернатора.
Назимов вышел в халате и ночном колпаке, совсем не похожий на себя в этом непривычном для постороннего глаза наряде.
- Слушаю, Иван Степанович...
- Экстренное сообщение, ваше превосходительство. У Ширвинт обнаружена шайка Колышко, примерно из шестисот человек. Нужно войско.
- Двух рот и взвода казаков вам, надеюсь, хватит, чтобы разделаться с мятежниками?
- Достаточно, Владимир Иванович.
- Тогда с богом!.. И поскорее! - Генерал-губернатор написал на клочке бумаги распоряжение губернскому почтмейстеру о немедленной выдаче Ганецкому курьерской тройки.
В Ширвинты командир Финляндского полка прибыл через три часа и сразу же попросил к себе полковника Крамера. Полковник был возбужден: его молодцы уже успели схватиться с инсургентами, нанесли им заметный урон, однако от дальнейших действий отказались, опасаясь встретиться с новыми силами мятежников.
Вытребованные от Назимова роты пришли к вечеру девятнадцатого апреля. Утром двадцатого они прочесали ближайшие леса, осмотрели мызы и фольварки, но никого не нашли, и Ганецкий решил вернуться в Вильно. Но сделать это не пришлось. Из Вильно на взмыленном коне прискакал ординарец Назимова.
- Срочный пакет от генерал-губернатора! - доложил он Ганецкому.
В пакете было предписание командиру Финляндского полка немедленно идти через Вилкомир на Оникшты, вблизи которых, а также в окрестностях Поневежа и в Александровском уезде якобы обнаружена "двадцатитысячная шайка".
Поздно вечером двадцать первого апреля отряд Ганецкого прибыл в уездный город Вилкомир, где уже стояли наготове две роты Софийского и Нарвского полков, сотня донских армейских казаков и полуэскадроны Курляндского и Петербургского полков. Вилкомирский военно-уездный начальник полковник Барановский был настолько напуган, что спал на гауптвахте, при которой дежурил усиленный караул. Он рассказал Ганецкому, что в народе ходит слух о каком-то воеводе Доленго, который предводительствует шайками, что этот Доленго пробирается в Курляндию для соединения с польскими и русскими эмигрантами, посланными Бакуниным на пароходе.
Двадцать второго апреля отряд Ганецкого, дополненный стоявшими в Вилкомире казаками и пехотой, прибыл в Оникшты, но застал там лишь следы пребывания мятежников - разбитое волостное правление и опустошенные магазины. Допрошенный сотник уверял, что в Оникштах побывала шайка ксендза Мацкевича, которая там усилилась на тысячу человек и ушла в сторону Курляндской границы.
На следующий день, присоединив еще одну роту Капорского полка, войска Ганецкого двинулись по трем направлениям - на Скробишки, Гудишки и Биржи. Теперь уже в каждом местечке полицейские и помещики рассказывали о Доленго. В Шиманцах он прочел народу возмутительное воззвание о поголовном восстании против царя. В Скробишках заставил владельцев имений подписать акт о передаче земли крестьянам. В Субоче арестовал пристава, взломал двери канцелярии и забрал все дела и долговые расписки, которые затем велел сжечь.
Двадцать четвертого апреля колонна войск под командованием майора Мерлина напала вблизи Пондели на след отряда из полутысячи человек. Казаки захватили нескольких отставших мятежников в плен, и те показали, что они из отряда Доленго. Мерлин ударил сбор. В котлах варился ужин, но он приказал вылить варево.
Наступило двадцать пятое апреля.
Двадцать пятого апреля Сераковский проснулся от того, что его осторожно тряс за плечо адъютант Ян Коссаковский.
- Генерал! - Он почему-то называл Сераковского не воеводой, а генералом. - Гонец из отряда Колышко.
Зыгмунт быстро вскочил на ноги:
- Наконец-то!
- Вести не очень хорошие, генерал, - продолжал Коссаковский.
- Лучше знать о плохих вестях, чем находиться в неведении.
К Зыгмунту поспешно подошел крестьянин в белой свитке и треухе, жиденькая бороденка его была всклокочена, выбившиеся из-под шапки волосы прилипли ко лбу.
- У вас не было коня и вы шли пешком? - спросил Сераковский.
- Конь там не пройдет, где я пробрался, - ответил крестьянин, подавая воеводе записку.
Колышко писал, что находится в условленном месте, но не знает, что ему делать дальше, так как на него девятнадцатого апреля напали каратели, которые вот уже шестой день идут по его следу.
Сераковский достал бумагу и написал несколько фраз. Он советовал Колышко пробиваться к прусской границе, чтобы соединиться там с отрядом Длусского. Мацкевичу будет отдано то же распоряжение.
- Не знаете, часом, кто командует русскими? - спросил Зыгмунт.
- Вроде бы какой-то Ганецкий, - неуверенно ответил крестьянин.
...Ганецкий. Сераковский вспомнил ту зиму, когда он только что вернулся из Алжира. Как-то вечером, уже в январе, он зашел домой к директору аудиторского департамента Философову, чтобы отдать ему свой "Вопрос польский". За столом сидело большое общество, все мужчины блистали звездами на мундирах и фраках, некоторые играли в карты в гостиной, было накурено. "Не желаете ли составить пулечку, капитан?" - услышал Зыгмунт. Он обернулся и увидел генерала в застегнутом на все пуговицы мундире и при орденах. Сераковский согласился и весь вечер провел за картами. Два других партнера, оба штатские, вели себя спокойно, генерал же все время шумел, рассказывал скабрезные анекдоты и ругал революционеров. Звали генерала Иван Степанович Ганецкий...
- Трубач! Боевую тревогу!
Лагерь, где стоял отряд Доленго, располагался на большой, напоминающей по форме треугольник поляне, окруженной густым мрачным лесом. Правая ее сторона была заболочена, там густо росла черная ольха. В топких берегах протекал широкий ручей. Сераковский считал этот фланг почти неприступным. Врага надо было ждать слева. Там срочно рыли окопы и делали завалы из старых, сваленных прошлогодним ураганом деревьев. Сераковский решил дать бой.
Резко похолодало. По хмурому небу ползли черные низкие тучи. Дождь сменился снегом, тяжелые хлопья его закружили в воздухе.
К тому времени, когда раздался сигнал посланных на разведку, все люди Доленго были надежно укрыты. Поляна, лес, ручей - все вокруг казалось вымершим. Стояла гнетущая тишина, нарушаемая только шумом ветра да шорохом дождевых капель.
Из своего укрытия Сераковский видел, как подошла колонна солдат и по команде рассыпалась цепью по правой, неохраняемой опушке. Офицер в чине капитана - Зыгмунт различил даже его форму: Финляндского полка подозрительно осматривал противоположную сторону поляны, а затем что-то сказал, оборотясь. Показались два всадника-казака, они сняли шапки, перекрестились и вдруг поскакали через поляну. Кто-то из повстанцев не выдержал и выстрелил, не причинив, однако, казакам вреда.
И тут же грохнули ответные выстрелы. Зарокотала труба на той стороне, и Сераковский скорее угадал, чем услышал команду "К атаке!", шипящий звук вынимаемых из ножен сабель, увидел стремительно, с гиканьем мчавшийся на него эскадрон. Не медля ни секунды, он поднял свою конницу; выскочив из леса, она бросилась наперерез казакам. Он видел, как столкнулись конь с конем, грудь с грудью. Стали слышны скрежет и звон скрещенных лезвий, крики, стоны, ругань. Кавалерия повстанцев билась насмерть, но силы были не равны, и она начала сдавать.
Сераковский послал в помощь косинеров. Впереди их, не сгибаясь, в рост бежал ксендз, в серой круглой шляпе, с крестом в левой и револьвером в правой руке. Он скоро упал, остальные со своими самодельными пиками наперевес отважно ринулись в самую гущу схватки.
В лесу наступили сумерки, но на поляне еще было довольно светло. Снова начал валить снег, а края туч, казалось, задевали за верхушки деревьев. "Еще немного, еще совсем немного, - думал Сераковский, - и наступит передышка. А там..." Он не заметил, что через поляну, в том ее месте, которое он считал неприступным, идут, проваливаясь по колено, солдаты. Вот они выбрались на твердую почву. Залегли. Прицелились...
- Берегитесь, генерал! - крикнул адъютант, бросаясь вперед, чтобы заслонить своим телом Доленго.
Но было поздно. Какой-то унтер, направивший дуло на воеводу, успел выстрелить. Сераковский пошатнулся, схватился за грудь, выпустил из рук поводья и медленно сполз с лошади.
- Воеводу, воеводу убили! - отчаянно крикнул кто-то.
Подбежавший адъютант подхватил Сераковского на руки и понес от страшного места.
- Генерал жив! Он только ранен! - крикнул он срывающимся голосом.
Бой продолжался и затих, лишь когда совсем смерклось. Пользуясь наступившей темнотой, повстанцы унесли своего воеводу в глубь леса и положили на землю возле костра. Сераковский очнулся. Он велел подозвать к себе начальника штаба, командиров и косинеров - по два от каждого батальона, Офицеров пришло едва ли половина из тех, кто начинал бой, и Зыгмунт не спрашивал почему. Как в тумане он видел знакомые лица, которые вдруг меняли свои очертания, становились чужими, а потом снова обретали прежние черты. На несколько секунд показалось встревоженное лицо Колышко, Сераковский решил, что опять начался бред, но вдруг отчетливо услышал знакомый голос:
- Это я, Зыгмунт... Я здесь, рядом с тобой...
- Это хорошо, Болеслав, что ты рядом... Где твой отряд?
- С твоим. И готов продолжать борьбу.
Превозмогая сильную боль, Сераковский приподнялся, опираясь руками о землю, и посмотрел на крестьян-косинеров.
- Спасибо и низкий земной поклон всем вам, друзья мои... Вы сражались великолепно... Я счастлив... и горд, что командовал такими людьми. А теперь прощайте... Рана моя нелегка, и я вынужден покинуть вас... Продолжайте борьбу!.. Дело свободы не может погибнуть...
Каратели не уходили, пламя их костров виднелось на той стороне поляны. Сераковского надо было срочно укрыть в надежном месте. Решили идти в фольварк одной помещицы, родственницы повстанческого комиссара Поневежского уезда Косцялковского, принимавшего участие в бою. Комиссар показывал дорогу. Рядом с носилками, на которых лежал Зыгмунт, шли доктор Тшасковский, адъютант, Колышко, несколько легко раненных других офицеров и десять человек охраны.
Ветер разогнал тучи, вызвездило, потеплело, и на траве, на только что распустившихся деревьях таял липкий снег. Иногда он срывался с веток и шлепался о мокрую землю.
Маленькая мыза, в которую принесли Сераковского, находилась среди густого леса, на поляне. Дом пустовал, и повстанцы зашли в него. Зыгмунта поместили в отдельной комнате, в ней стояла кровать и висели старинные картины. Сераковскому сделалось немного лучше, и он, несмотря на запрет врача, продиктовал короткий отчет о действиях отряда.
- Боюсь, что нас здесь могут обнаружить... Как вы думаете, доктор, воевода перенесет дорогу? - спросил Колышко.
- Возможно... Но нужна очень удобная повозка...
Сераковский слышал этот разговор.
- Лучше смерть, чем плен, Болеслав, - сказал он еле слышно.
- Понял тебя, Зыгмунт...
Помещица Косцялковская жила в полуверсте от мызы, и Колышко пошел туда. Пани спала и вышла на стук, крайне недовольная тем, что ее разбудили.
- Нам срочно нужна бричка и лошади, чтобы перевезти раненых с вашей мызы, - сказал Колышко.
- И вы из-за такого пустяка побеспокоили среди ночи женщину? ответила помещица раздраженно. - Извините, но ни лошадей, ни брички у меня нет.
- Это очень важно, пани: ранен Доленго!
- Ну и что же? - Косцялковская пожала плечами.
- Вы не полька! - гневно крикнул Колышко. - Я велю вас расстрелять за измену отчизне!
Помещица не на шутку испугалась.
- По, пан офицер, - голос ее из раздраженного стал приторно ласковым и вкрадчивым, - у меня действительно нет сейчас лошадей. Можете осмотреть конюшню - она пуста.
Колышко, хлопнув дверью, вышел во двор и убедился, что Косцялковская не лгала. Он не знал, что лошади паслись рядом, на берегу речки.
Когда Колышко ушел назад в мызу, помещица разбудила кучера и велела немедленно заложить бричку.
- Поедем в местечко! И торопись, если не хочешь, чтобы я велела тебя высечь!
В доме исправника горел свет, и ей не пришлось долго стучать открыли сразу. В горнице за столом, уставленным закусками и винами, сидел сам исправник и какой-то генерал в застегнутом на все крючки мундире и при орденах.
- Простите, если помешала. - Косцялковская поклонилась сначала генералу, потом исправнику. - Но я имею сообщить кое-что. У меня на мызе полно мятежников. Они требуют лошадей для важных особ...
- Каких именно? Может быть, они назвались? - спросил генерал.
- О, ваше превосходительство, далеко не все. Я запомнила только одну фамилию - Доленго.
Генерал встал.
- Мадам, - сказал он по-французски. - Вы только что оказали большую услугу правительству. Благодарю вас.
К полуночи Сераковский забылся в тяжелом сне. Он горел, бредил, вспоминал Аполонию, и доктор прикладывал к его лбу смоченные в холодной воде полотенца. В соседней комнате лежали на соломе раненые офицеры. Солдаты из охраны спали. Колышко и адъютант воеводы продолжали бодрствовать.
Ветер еще не стих, глухо шумели окружавшие мызу старые ели, и за этим шумом не было слышно, как приблизились к мызе солдаты. Ими командовал поручик; держа в руке револьвер, он подошел к двери. Раздался громкий резкий стук.
Бежать, сопротивляться было бесполезно. Адъютант открыл окно.
- Пожалуйста, не надо так громко стучать, - сказал он. - Генерал только что заснул. С вами говорит его адъютант граф Ян Коссаковский.
Поручик усмехнулся:
- Хватит ломать комедию - "генерал", "адъютант", - передразнил он. Потрудитесь разбудить Доленго! Мне приказано немедленно доставить всех вас в штаб.
- Доленго тяжело ранен. - Подошел к окну и Колышко. - Он не вынесет дороги.
- С кем имею честь? - поинтересовался поручик.
- Капитан в отставке Болеслав Колышко.
- Ах, это вы! - Поручик обрадовался. - Мы вас давно ловим!
- Знаю... И не поймали б, когда б не был ранен Доленго.
- Надеюсь, его уже рабудили?
- Подождите до утра, - попросил Колышко. Он все еще надеялся, что к мызе могут подойти повстанцы. - Доленго вам будет более полезен живой, чем мертвый.
- Не надо спорить, Колышко, вы человек военный и знаете, что приказ есть приказ. Отворяйте дверь.
Сераковский едва держался на ногах, но его вывели и посадили в бричку, которую дала поручику помещица Косцялковская. Его знобило, он кутался в пальто и глубже надвигал круглую шляпу. Рядом сел доктор. Колышко, адъютант, другие раненые ехали на телегах, остальные, связанные попарно, шли сзади под конвоем солдат.
- Учтите, Доленго, если на нас нападут, я буду вынужден застрелить вас, - сказал поручик.
В Медейку, к дому, где стоял штаб генерала Ганецкого, прибыли в пять часов утра. Всем, кроме Сераковского, остававшегося в бричке, поручик приказал построиться в линию перед штабом. Через минуту оттуда вышел Ганецкий. Стоя на высоком крыльце, он долго и молча смотрел на пленных, на каждого в отдельности, пока не встретился взглядом с Сераковским. Они сразу узнали друг друга.
- А вы б могли далеко пойти, Сераковский, если бы не предали родину, - сказал Ганецкий насмешливо. - Милютин до сих пор, кажется, не верит, что вы изменник. Придется огорчить...
- Вы заблуждаетесь, генерал, я не изменник! - ответил Зыгмунт. - Я не изменил ни польскому, ни русскому народу...
Скорый поезд здесь не останавливался, но его задержали по распоряжению Ганецкого: генерал-губернатор требовал немедленной доставки преступников в Вильно. Сераковского поместили в отдельном купе вместе с поручиком, получившим приказание не спускать с пленного глаз. Поезд шел быстро, мелькали за окном мызы, сады, высокие деревянные кресты на дорогах.
Поручик от нечего делать просматривал принесенные с собой газеты. Он был в отличном настроении: после столь успешной операции по взятию Доленго можно было рассчитывать на быстрое производство в следующий чин. Сераковский молча лежал на полке, стараясь не думать о том, что его ожидает. Все сильнее болела перевязанная наспех рана, и каждый толчок вагона доставлял новые мучения.
- Может быть, желаете свежую газету? - услышал он голос поручика. Эх, поспать бы сейчас!
- Спите, поручик. Я не могу выпрыгнуть на ходу.
- А на остановке? - Поручик почему-то рассмеялся.
Вот уже несколько дней Сераковский не видел газет... "Известия из Италии". Опять о Гарибальди. "Разбитие шаек"... О нем еще, конечно, нет, не успели... Очередной императорский указ. Интересно, о чем? Он пропустил написанное крупными буквами вступление, доискиваясь сразу до сути... "О некоторых изменениях в существующей ныне системе наказаний уголовных и исправительных"...
Сераковский сразу забыл о ране. Неужели? "17 апреля, в день рождения царя-освободителя..." Буквы прыгали у него перед глазами - от нетерпения, от радости, которая вдруг охватила его. Да, это то, чего он ждал столько лет, чему отдал столько сил! - закон об отмене телесных наказаний! Отныне не будет розог, плетей, клейм!.. Еще - "о совершенной отмене для воинских чинов наказаний шпицрутенами". Чья-то статья: "Снята наконец с русского народа эта позорная язва, много веков тяготевшая над ним".
Он закрыл глаза от слабости, нахлынувшей на него после возбуждения, газета выпала из рук, а он лежал на подрагивающей вагонной полке и думал. Наедине с собой он мог сказать, не боясь, что его обвинят в нескромности: ведь это же он, Сигизмунд Сераковский, первый начал борьбу за гуманный закон, первый подсказал идею записки князю Орлову, дал ему сведения для нее. Он, а не делегаты лондонского конгресса Вернадский и Бушен добился включения в повестку дня вопроса о телесных наказаниях! Это он так повел дело, что международное собрание статистиков и юристов публично перед всем миром осудило произвол, царящий в России...
И вот теперь эта самая Россия сшибла его пулей с коня, чтобы судить военно-полевым судом. "Россия?" - он повторил это слово и вдруг понял, что думает не то, совсем не то. Не Россия послала в него пулю, и не Россия будет его судить, а царь, тот страшный строй, на который он поднял руку...
В Вильно Сераковского ожидала тюремная карета, в которой его отправили в военное отделение госпиталя святого Якова.
Специальный поезд нового виленского генерал-губернатора Муравьева подали на запасной путь, где обычно формировались воинские эшелоны. Погрузку имущества - опечатанных сургучом ящиков с секретными документами, включая шифровальные коды, печати; бланки, закончили заблаговременно, еще днем. Выделенные для охраны солдаты стояли у дверей каждого вагона.
На перроне было людно. В Вильно отправлялись более сотни служащих всех рангов и званий, начиная от генералов и кончая телеграфистами и личным поваром Муравьева. Сам Муравьев занимал отдельный вагон вместе с адъютантом и генералами Соболевским и Лошкаревым. В этом же составе ехали два офицера Генерального штаба, назначенные в распоряжение генерал-губернатора, и еще престарелый солдат Прохор, которого Муравьев знал много лет и нередко прибегал к его услугам. Прохор обладал удивительным талантом: как никто другой, он умел изображать любые мужские и женские крики. Еще в тридцатых годах, когда Муравьев вел допросы задержанных участников польского мятежа, Прохор устраивался в соседней комнате, бил розгами по кожаной подушке и кричал благим матом. Все это, естественно, доходило до ушей арестованных, после чего мятежники сознавались даже в тех проступках, которых они не совершали. Это очень потешало Михаила Николаевича, и он перед отъездом в Вильно велел разыскать Прохора...
Поезд тронулся в десять часов вечера, а утром уже был в Динабурге. Здесь последний вагон, в котором ехал начальник края, отцепили от состава и отправили в крепость по тупиковой ветке. Ехать пришлось всего полторы версты.
Муравьева встречало все крепостное начальство. Рассчитывали, что начальник края соизволит позавтракать, но тот отказался, ссылаясь на нездоровье, и попросил доложить о положении дел в округе и городе.
Хвалиться, к сожалению, было нечем. В окрестных лесах орудовали шайки, и проезд даже по почтовым трактам был небезопасен. У одного ремесленника - бронзовых дел мастера - нашли под кроватью спрятанную медную машину для литья конических пуль. Несколько сапожников были уличены в том, что шили сапоги с длинными голенищами - специально для повстанцев. На придорожных крестах появились надписи: "За полеглых в року 1861", надписи замазали, но на следующий день их читали снова.
- Самонадеянность поляков меня поражала еще в тысяча восемьсот тридцать первом году, - сказал, усмехаясь, Муравьев коменданту крепости. С тех пор прошло немало лет, а поляки, кажется, не поумнели... Много ли преступников заключено под стражу?
- По Динабургу - около семидесяти, Михаил Николаевич.
- Мало, недопустимо мало... - Муравьев покачал головой. - И как с ними поступили?
- Их будут судить.
- И дело затянется. Из Петербурга пойдут запросы, просьбы о помиловании. Поверьте моему опыту, что будет именно так. А по-моему, если человек достоин веревки, так нечего ждать, надо взять и вздернуть его поскорей. Оно и короче и назидательней для подражателей... Кстати, вы уже расстреляли графа Плятера?
- Приговор еще не конфирмован.
- Ну, если дело только за этим... - Начальник края оживился. Велите, пожалуйста, подать дело Плятера.
Когда принесли нужную папку, он аккуратно обмакнул в чернила перо и написал ровным разборчивым почерком: "Привести в исполнение".
- Ну вот и все, - сказал он с видом человека, выполнившего свой долг. - А теперь я бы хотел побеседовать с представителями дворянства. Надо рассеять польскую дурь.
Большая зала динабургского дворянского собрания была заполнена. Начальник края поднялся на второй этаж по широкой, устланной ковром лестнице, бросил беглый взгляд на свое отражение в зеркалах, оправленных в золоченые рамы, и, остановившись перед торопливо спускавшимся ему навстречу предводителем дворянства, сказал тихим голосом:
- Вы совершенно напрасно так торопитесь, граф Плятер. Я приказал вас арестовать за саботаж.
Улыбка, которая до этого сияла на лице динабургского предводителя дворянства, исчезла, и оно стало серым.
- Только что, - продолжал Муравьев, не повышая голоса, - я конфирмовал приговор вашему кузену, мятежнику, напавшему на транспорт с оружием. Граф Плятер будет расстрелян.
Приветственные голоса, раздавшиеся при появлении Муравьева, смолкли, наступила тишина, но Муравьев, казалось, не заметил ничего этого. Тяжелым, грузным шагом он прошел мимо обмякшего Плятера, к которому уже направлялся, придерживая рукой саблю, жандарм, и переступил порог залы.
- Хочу напомнить, господа, случай, - продолжал на ходу Муравьев, который произошел со мной в тысяча восемьсот тридцать первом году, когда меня назначили военным губернатором в Гродно. Во время моего знакомства с представителями шляхетства, адвокатами, ксендзами и прочими подлецами, один из них задал мне вопрос, не родня ли я декабристу Сергею Муравьеву, повешенному в Петропавловской крепости. Пришлось напомнить, что я не из тех Муравьевых, которых вешают, а из тех, которые вешают сами.
В зале по-прежнему было очень тихо, лишь какой-то офицер из числа конвойных подобострастно и глупо хихикнул.
На обратном пути из Динабурга комендант крепости сказал Муравьеву:
- Прошу прощения, Михаил Николаевич, но за предводителем дворянства Плятером мы не замечали никакой вины...
- Что ж, может быть, может быть, - ответил Муравьев добродушно. - Не исключено, что этот ваш Плятер в отличие от своего двоюродного брата ни в чем не замешан. Но в душе он все равно не мог не сочувствовать мятежу, не так ли?
В тот же день, четырнадцатого мая, в три часа пополудни специальный поезд со штабом виленского генерал-губернатора прибыл к месту назначения в притихший в ожидании событий, встревоженный город Вильно.
Прямо с вокзала Муравьев и его многочисленная свита направились в губернаторский дворец. Бывший генерал-губернатор давал в честь прибывших праздничный обед, который в одинаковой мере можно было считать и прощальным - с приездом Муравьева Назимов покидал Вильно.
На всем пути по обеим сторонам мостовой стояли горожане и кто с любопытством, кто со страхом провожали глазами кортеж карет, пролеток, дрожек, охраняемых конными казаками, полицейскими и специально назначенными для этой цели офицерами второй гвардейской пехотной дивизии. В зловещей, противоестественной при таком скоплении народа тишине раздавалось лишь цоканье лошадиных подков о булыжник мостовой, иногда слышался негромкий, однако ж отчетливый голос Муравьева, говорившего что-то сопровождавшему его жандармскому генералу.
Назимов встретил своего преемника у парадного входа во дворец. Тут же расположились войска. Военный оркестр сыграл приветственный марш, после чего солдаты прокричали долгое и громкое "ура" в честь командующего войсками Виленского военного округа. Муравьев рассеянно пожимал руки чиновникам, которых к нему подводил Назимов, в душе сетуя, что зря тратит время, вместо того чтобы заниматься делом.
После обеда Назимов повел Муравьева на второй этаж, в кабинет.
- Я полагаю, Михаил Николаевич, что вам достанется после меня не так уже много работы, - сказал он.
- Это почему же, Владимир Иванович? - удивился Муравьев.
- По причине, что мятеж в основном подавлен, шайки разбиты...
- Вы так думаете? - В голосе Муравьева послышалась насмешка. Совершенно напрасно. Мятеж только разгорается, и государь поручил мне погасить его. Любыми средствами... Как содержится Сераковский? Надеюсь, под усиленной охраной?
- Право, не могу точно ответить на ваш вопрос, но полагаю, что тяжело раненный человек не может быть опасен.
- Такой преступник, как Сераковский, перестанет быть опасным только после казни, - возразил Муравьев.
...Уже давно пора было отправиться на покой, особенно после дороги, а Муравьев все еще сидел в своем новом кабинете. Назимов при первом удобном случае откланялся, и Муравьев был рад этому, по крайней мере он мог теперь спокойно заняться делами.
Из груды грязно-синих папок он выбрал одну, на которой стояла фамилия "Сераковский", выведенная разборчивым и красивым почерком военного писаря. Папка была почти пуста, в ней лежало лишь донесение генерала Ганецкого да несколько листов первого допроса раненого Доленго.
- Вызовите генерала Цылова, - сказал ординарцу Муравьев.
Ординарцу, прискакавшему в сопровождении двух казаков к Цылову, пришлось поднять генерала с постели. Был третий час ночи.
Еще в Петербурге Цылов был высочайше утвержден председателем следственной комиссии.
- Я вас вызвал, Николай Иванович, вот по какому поводу, - сказал Муравьев, едва завидя в дверях поджарую, подтянутую фигуру Цылова. - У прежнего генерал-губернатора накопилось огромное число незаконченных следственных дел. - Он показал рукой на письменный стол, заложенный синими папками. - Среди них необходимо отобрать дела особо опасных преступников, с тем чтобы дать им ход без малейшего промедления. Вот, например, Сераковский... С этим мятежником необходимо покончить возможно быстрее.
- Он ранен и, как мне сказали, находится в тяжелом состоянии.
Муравьев задумался.
- В тяжелом состоянии? В таком случае надлежит особо поторопиться. Преступник может умереть, а нам с вами надо его повесить.
В десять часов утра начался прием, который Муравьев устраивал по поводу вступления в должность. В зале находились представители всех властей и сословий - военные, чиновники, духовенство, включая раввинов и магометанского муллу, обслуживавшего проживавших в Вильно татар.
Появление генерал-губернатора было встречено громкими приветственными возгласами гвардейцев, собравшихся в гостиной.
- Рад сообщить, - сказал Муравьев, дождавшись тишины, - что государь повелел передать вам свою монаршую благодарность за решительные действия, которые вы проявили в боях с мятежниками.
Он не торопился уходить из гостиной, как бы подчеркивая этим, что главной силой общества он считает военных, боевых гвардейцев Финляндского полка, пленивших Доленго, а не напыщенных, надменных, гоноровых, как он звал шляхтичей, нацепивших на грудь бог знает за что пожалованные ордена.
Войдя затем в залу, он некоторое время исподлобья, по-бычьи наклоня голову, смотрел на собравшихся, словно собираясь броситься на них и, лишь насмотревшись вдоволь, насладившись произведенным впечатлением, заметив страх в устремленных на него глазах, промолвил, отчетливо выговаривая слова:
- Господа! Я не оратор, а солдат и долго говорить не намерен. Скажу только, что чаша долготерпения, кротости и вразумления испита до конца. Государь император вверил мне охваченные мятежом губернии и повелел от слов перейти к делу. Я полагаю, что найду в вашем лице усердных помощников, которые употребят всю свою энергию и все свое влияние на искоренение крамолы и усмирение бунтовщиков.
Легкая усмешка пробежала по губам католического епископа, и это не ускользнуло от Муравьева.
- Кажется, ваше преосвященство придерживается особого мнения? спросил он. - Или вы покровительствуете мятежу?
Епископ выдержал взгляд Муравьева и пожал узкими плечами.
- Какие там бунтовщики, ваше высокопревосходительство! - сказал он тихо. - Просто несколько несчастных повстанцев, за которыми, как за зайцами, гоняются в лесах войска.
Глядя на епископа, Муравьев вдруг вспомнил, что за хлопотами, за суетой и делами, навалившимися на него, так и не выполнил своего решения сразу же по приезде в Вильно расстрелять ксендза. Едва дождавшись окончания приема, он поспешил в следственную комиссию, помещавшуюся рядом с дворцом, в каменном флигеле. Комнаты были еще пусты, лишь в одной из них он застал единственного на весь дом человека - Николая Валериановича Гогеля.
- Ценю ваше усердие, поручик, - сказал Муравьев.
Гогель молодцевато щелкнул каблуками начищенных до блеска сапог. У него было длинное бледное лицо с покрасневшими, старавшимися смотреть преданно глазами чуть навыкате. Сам он тоже был длинен и к тому же худ, белокур.
- Вчера я просил генерала Цылова привести в порядок все следственные дела, - сказал Муравьев. - Это сделано?
- Так точно, ваше высокопревосходительство!
- Дайте мне, пожалуйста, дела римско-католического духовенства.
Гогель подошел к шкафу и выложил оттуда на стол несколько десятков синих папок.
- Ну что ж, да падет возмездие на того, кто виновен больше всех, сказал Муравьев и, не глядя, на ощупь взял одну из папок. На ней было написано: "Станислав Ишора".
Губернатор вяло полистал дело.
- Этого викария Залудского костела придется для примера другим расстрелять.
Он попросил перо и наложил резолюцию.
Двадцать второго мая, в восемь часов утра, из тюрьмы, размещавшейся в бывшем францисканском монастыре, вывели молодого высокого ксендза. Раздалась барабанная дробь, уныло и скорбно заиграла труба. Казаки и жандармы громкими окриками оттеснили толпу, собравшуюся у тюремных ворот. Процессия тронулась. Рядом с Ишорой шел духовник.
На узких улочках Вильно толпа растянулась чуть не на версту. Слышались громкие рыдания, крики, возгласы. Люди не хотели верить в реальность происходящего. Какой-то пожилой поляк уверял женщину в черном траурном платье, что казнь не состоится, что царь не отважится на расстрел служителя католической церкви, ибо это явится неслыханным вызовом Ватикану, папе, который считает Польшу одним из самых драгоценных камней в своей короне.
- Если казнь все же свершится, - говорил кто-то другой, - вся латинская Европа вторгнется в пределы России искать возмездия.
Огромная Торговая площадь на окраине, окруженная поросшими травой холмами, тоже была заполнена народом.
- Пани, смотрите смело, казни не будет... Сейчас ему развяжут руки...
На это надеялись до последней минуты, до ружейного залпа, до того момента, пока Ишора упал, сраженный пулями.
На следующий день, как обычно, дежурный ординарец по штабу принес Муравьеву свежую корреспонденцию. Письма тут же распечатывал и зачитывал вслух главный правитель дел генерал-майор Лошкарев. На одном из них он запнулся.
- Что там? - поинтересовался начальник края.
- Вашу голову, Михаил Николаевич, Жонд народовый оценил в двадцать пять тысяч рублей.
- Ничего. - Муравьев усмехнулся. - Немного погодя больше дадут...
Через два дня после казни Ишоры он приказал расстрелять еще одного ксендза - Земацкого. За Земацким был казнен молодой шляхтич Лясковский.
Только в начале июня Муравьев выбрал время, чтобы написать письма. Одно из них он отправил министру внутренних дел.
"По-видимому, начинают смиряться непокорные, - писал Муравьев. Несколько примеров смертных казней произвели желаемое действие. Я полагаю, что теперь можно будет на некоторое время приостановиться с исполнением подобных приговоров. Признаюсь, что крепко тяжело и грустно быть вынужденным утверждать смертные приговоры, как бы нарочно оставленные без разрешения в продолжение почти шести месяцев".
Сераковский был ранен в спину пулей навылет. Осмотревший его госпитальный врач сказал, что раздроблены ребра и нужна срочная операция, которую, однако, пришлось отложить из-за тяжелого состояния раненого.
Зыгмунта поместили на первом этаже в отдельной палате с окном на улицу. В минуты, когда к нему возвращалось сознание, он видел немощеную, поросшую травой дорогу и цветущий сад на той стороне. Это было на воле, здесь же стоял маленький белый столик, два тоже белых стула, а возле двери ходил часовой, получивший приказ никого не впускать к Сераковскому без письменного разрешения самого генерал-губернатора.
Хирург Ляхович сделал Сераковскому операцию - вынул остатки раздробленного пулей ребра.
- Никто от такой раны, голубчик, еще не умирал, - утешил он Зыгмунта.
- Доктор полагает, что мне предстоит умереть от чего-то другого? спросил Сераковский.
- Что вы, что вы, голубчик? - Ляхович понял, что допустил бестактность.
Следователи пока не трогали Зыгмунта: запретили врачи, хотя их торопил член следственной комиссии Гогель. Он был чрезвычайно горд тем, что именно ему, правда в числе других, Муравьев поручил вести дело такого важного государственного преступника. Первый раз он пришел в госпиталь сразу же по приезде в Вильно и, несмотря на то что врач не рекомендовал беспокоить раненого, все же зашел в палату.
- Назначенный по вашему делу следователь поручик Гогель, отрекомендовался он. - Но сегодня я пришел как частное лицо, просто чтобы узнать о вашем здоровье и по-дружески побеседовать с вами. Человек, которому грозит вскоре переселиться в иной мир, нуждается в участии, не так ли?
Назавтра после обхода в палате появился еще один посетитель. На нем был сшитый у лучшего портного мундир капитана Генерального штаба, начищенные до сияния аксельбанты и такие блестящие ботинки, что в них можно было смотреться, как в зеркало.
- Боже мой, князь Шаховской! - пробормотал Зыгмунт.
На первых порах он обрадовался. С Шаховским он вместе учился в академии, знал его как ловеласа и любителя выпить, а подвыпив, поговорить о свободе и даже слегка пожурить сильных мира сего.
- Услышал о твоей беде и сразу же поехал тебя навестить, - сказал Шаховской, усаживаясь на стул. - Ну как ты? Хотя не рассказывай, тебе ведь нельзя напрягаться, а я уже все узнал от дядюшки.
- От какого дядюшки? - слабо удивился Зыгмунт.
- О святая простота, он не знает! Ведь твой покорный слуга - родной племянник генерал-губернатора Муравьева. А посему, - Шаховской поднес палец к губам, - могу тебе быть кое в чем полезным.
И он принялся распространяться о том, какой у него справедливый, хотя и строгий, родственник, что он, родственник, всего больше ценит в людях искренность и неизменно прощает тем, кто чистосердечно раскаивается в своих преступлениях.
Шаховской суетился, то и дело вскакивал со стула, мерял шагами палату, а сейчас остановился у окна.
- Смотри, как невысоко! - сказал он. - Даже совсем немощный человек может без труда выпрыгнуть отсюда... Может быть, ты воспользуешься? Шаховской дружески подмигнул Зыгмунту.
- Да, я мог бы бежать. Но ты представляешь, сколько невинных душ пострадает из-за того, что спасется один?
- Ты прав, Сераковский, - ответил Шаховской. - Еще поймают, тогда совсем твое дело труба. А пока все идет не так плохо, старина. Дядюшка с нетерпением ждет твоего выздоровления. Между прочим, он относится к тебе с известным уважением. Гордись!
Вечером Сераковского перевели на второй этаж, а перед дверью поставили шесть солдат. Другая шестерка солдат дежурила на лестнице.
Теперь каждый день к нему приходил кто-либо "оттуда". Чаще всего это был все тот же Гогель, от одного вида которого Сераковскому делалось хуже. Он возненавидел его длинное, землистого цвета лицо, длинные руки с цепкими бескровными пальцами и особенно - холодные и жесткие глаза. Говорил Гогель тихо, вкрадчиво, но за этой вкрадчивостью слышалось изуверство.
- Да, Сераковский, интереснейшая новость! Вы знали графа Леона Плятера, который пытался достать оружие, напав на транспорт? - Прежде чем сесть на стул, Гогель смахнул с него воображаемую пыль надушенным носовым платком. - Так вот, этого Плятера вчера наконец-то расстреляли в Динабурге... Ведь это абсурдно - идти на Россию с косами и охотничьими ружьями! На что вы надеялись, Сераковский? - Он обратил к Зыгмунту свое постное, вытянувшееся еще больше лицо. - На пароход "Уорд Джексон"? (Зыгмунт вздрогнул: "Неужели и здесь неудача?") Так его капитан был подкуплен еще в Лондоне, и русские военные корабли просто не пустили этот ваш пароход дальше Швеции!
На следующий день:
- К глубокому сожалению, вынужден огорчить вас, господин Сераковский. - Гогель притворно вздохнул. - Вчера повешен ваш соратник и друг Болеслав Колышко. Подумать только, раньше вас!
Сераковскому стало плохо, и он больше не слышал, о чем еще говорил Гогель.
Почтил своим присутствием опасного преступника и жандармский полковник Лосев, назначенный начальником особой следственной комиссии, образованной Муравьевым независимо от высочайше утвержденной просто следственной комиссии. Эта особая комиссия занималась делами, которые особенно интересовали генерал-губернатора. Заявлялись в палату и другие военные следователи. Все они чем-то были противно похожи друг на друга, все заговаривали с Зыгмунтом о его здоровье и задавали провокационные вопросы, на которые надо было отвечать очень осторожно.
На фоне этих людей князь Шаховской выглядел чуть ли не другом. Сегодня он явился с поручением от Муравьева передать Сераковскому нечто весьма важное.
Шаховской стал в позу и начал вспоминать, что именно велел передать его высокопревосходительство.
- Слушай!.. "Если господин Сераковский любит свою родину, если он хочет быть ей полезным, если он хочет предотвратить несчастье, резню, которая разрушает как Польшу, так и Россию, то пусть он напишет памятную записку о положении в стране и о том, что следует предпринять. Я прочту эту записку и передам ее императору".
- Но ведь у меня уже есть такая записка, - сказал Сераковский. - Она называется "Вопрос польский" и находится в Петербурге. Жена может достать ее.
- Это надо сделать как можно скорее. Дядюшка очень торопится...
- Меня повесить?
- Не говори ерунды, Сераковский! Он все делает по справедливости, и если ты будешь вести себя хорошо...
- То есть если я стану предателем?! - Сераковский покраснел от гнева.
- Ладно, перестань дурить! Тебе это вредно... Пиши записку, и я передам ее твоей жене... Да, еще новость. В Вильно граф Шувалов. Инкогнито! - Он поднял кверху палец.
Несмотря на усиленную охрану, Сераковскому удавалось иногда передавать и получать письма. Сначала помог служитель, бородатый русский старик Васильев. Однажды, войдя в палату, он молча сунул что-то Зыгмунту под подушку и, ни слова не говоря, торопливо вышел. Под подушкой оказалась записка от Аполонии... Боже мой, она утешала его и признавалась в такой любви, что он чуть не задохнулся от слез, от жалости и нежности к пей... Теперь он мог написать ей несколько слов.
- Вот бумага и карандаш, - сказал Шаховской.
Сераковский написал Аполонии, что надо немедленно ехать в Петербург и побывать у Милютина и секретаря английского посольства Нитчела. "Помни, говори им не только обо мне, но и о том, что несколько сот человек находятся в том же, что и я, положении... Меня убьют, но возможно ли, чтобы убивали всех?"
Перед отъездом в Петербург Сераковская зашла к Гейштору, который встретил ее с притворным отчаянием на лице.
- Какое горе, какое горе, пани Аполония!.. Но чем я могу помочь несчастному Зыгмунту?! Видит бог, как мы были с ним дружны. - Он помолчал. - Между прочим, во всем прежде всего виноват сам Зыгмунт. Он не захотел иметь дела с помещиками, вооружил их против себя, и это повлияло на ход восстания. Хотя другого от Зыгмунта и нельзя было ожидать. Вы не обижайтесь на меня, пани Аполония, но он поляк только по крови. По духу он русский, москаль. Родился на Украине, кончил русскую гимназию, учился в Петербургском университете... - Гейштор загибал на руке пальцы, - восемь лет провел вообще где-то в Оренбургской губернии, затем опять Петербург, потом поездки за границу. Можно по пальцам подсчитать, сколько не месяцев, а дней он жил в самой Польше. Только наездами, уверяю вас, пани Аполония, наездами после заграничных командировок. В Вильно мы его тоже почти не видели. Приехал в конце марта, а в конце апреля уже... - он запнулся, уже отошел от дел...
- Как вам не совестно, пан Гейштор! Как у вас поворачивается язык говорить такое! - Аполония едва сдержала слезы.
Восьмого июня Сераковский почувствовал себя хуже. Рана заживала трудно, медленно, к тому же опять начались сильные боли, и осмотр показал, что раздроблено еще одно, третье ребро. Снова началась горячка.
- Завтра вас будут смотреть военные врачи, приехавшие из Петербурга, - сказал доктор Ляхович.
Сераковский встретил эту новость равнодушно, ему было безразлично, кто его будет смотреть.
Наступило утро. Всю ночь он провел без сна, лежа на спине, с открытыми глазами и думал об Аполонии, о своих "детях", как он мысленно называл повстанцев. Что с ними? Выстояли они или нет? Гогель хвастался, что начальник кавалерии Лобановский сдался в плен, что в Вильно Ганецкий устроил военный парад по поводу "разгрома шаек" и шел через весь город "с развернутым знаменем литовского воеводы". "Господи, неужели это правда?"
Врачей в палату вошло сразу четверо: надутый надворный советник Стакман, Ляхович и еще двое в военных мундирах, видневшихся из-под халатов. Сераковскому стоило немалого труда, чтобы совладать с собой и не выдать охватившего его волнения: перед ним были Погорелов и Городков, тот самый доктор, которого он встречал у Чернышевского. Как и Сераковский, оба они не подали виду, что знают Зыгмунта.
- Нужна повторная операция, - буркнул Стакман. - Есть приказ генерал-губернатора скорее поставить на ноги этого больного.
Он сразу же удалился, за ним ушел Ляхович. Теперь можно было дать волю чувствам.
- Здравствуйте, Сигизмунд Игнатьевич! - тихонько сказал Городков, протягивая руку. - Ваш новый ординатор.
- Здравствуйте, Гавриил Родионович... Вот где нам довелось встретиться...
- Дай я тебя обниму... очень осторожно, чтобы не потревожить рану. Оказывается, я все-таки сентиментален. Сераковский... - Погорелов тщетно пытался скрыть, как его растревожила встреча с другом.
- Теперь слушайте! - Городков покосился на дверь и понизил голос до шепота. - О вас хлопочут очень влиятельные лица. Есть ходатайство перед государем графа Суворова. Из достоверных источников известно, что английский посол направил письмо Милютину...
- Неужели им всем так нужна моя жизнь? Странно... - Сераковский попробовал пожать плечами и поморщился от боли.
- Друг мой, что за разница, какие политические или другие цели преследуют сии важные особы. Важно, что они хлопочут о вас.
- А я предлагаю другое, более радикальное средство - побег. Погорелов наклонился к Зыгмунту. - Переоденем тебя в солдатскую форму, выведем на улицу...
- Милый Погорелов, я не могу даже сесть в постели.
- Ничего, вылечим! - Он не сдавался. - Сделаем операцию... Ты знаешь, какой Городков доктор! Кудесник! Через неделю не то что сидеть - прыгать на одной ноге будешь!
- Если успеете вылечить. - Зыгмунт грустно улыбнулся. - Следователи очень торопятся. Им не терпится меня скорее повесить.
Теперь он мог наконец послать записки на волю, не беспокоясь об их судьбе. Погорелов дал ему карандаш и бумагу, а сам вышел в коридор, на случай, если покажется непрошеный гость. Сераковский написал два коротеньких письма. Первое было Аполонии: "Ангел мой! - начиналось оно. Сегодня у меня великий, святой день - я увидел друзей. Ты тоже увидишь их, и они тебе все расскажут обо мне". Второе - друзьям: "Берегитесь - граф Шувалов, в настоящее время шеф III отделения, находится в Вильно, он осуществляет верховный полицейский надзор". И дальше: "Напишите мне, где Антось? Где Игнась? Где дети мои жмудские?"
Операцию сделали десятого июня. Она прошла успешно, но через несколько часов началось кровотечение, которое удалось остановить с большим трудом. Сераковский страшно ослабел, и Городков начал опасаться за его жизнь.
Через два дня в госпиталь пришли все члены военно-судной комиссии. Генерал-губернатор Муравьев приказал немедленно начать над Сераковским полевой военный суд и закончить его возможно быстрее, не дожидаясь запрошенных из Петербурга справок и рукописи "Вопрос польский".
- Я как врач категорически протестую, - заявил Городков, узнав об этом. - Нужно обождать по крайней мере три недели. Больному нужен абсолютный покой.
Полковник Лосев недобро усмехнулся:
- Покой он скоро получит, доктор.
Члены комиссии и медик Стакман вошли в палату Сераковского, служитель принес недостающие стулья, и они расселись.
- Подсудимый Сераковский, - сказал Лосев. - По решению генерал-губернатора Муравьева мы начинаем следствие и военно-полевой суд над вами. Имеете ли вы подозрение на кого-либо из судей?
Сераковский ответил едва слышно:
- Два дня назад я перенес повторную операцию... я слишком слаб. Не спал несколько ночей...
- Сие нам известно от докторов. Постарайтесь ответить на заданный вам вопрос, - повторил Лосев.
- От слабости я не могу мыслить логично... очень болит голова...
- Однако, вопреки этому утверждению, больной как раз мыслит логично, - вмешался доктор Стакман, - а посему... - Он даже не пощупал пульс у Зыгмунта, а сел за стол и написал справку о том, что подсудимый находится в здравом уме и со стороны медицины нет причин, препятствующих к началу следствия.
Следствие началось.
- Признаете ли себя виновным?.. Добровольно ли вы остались в лагере инсургентов или же по принуждению?.. Какое вы принимали участие в восстании?..
Вопросы следовали быстро, как бы нарочно для того, чтобы сбить Сераковского с толку.
Зыгмунт отвечал, едва шевеля губами. Страшная боль мешала сосредоточиться, но мысль работала беспощадно ясно. Он знал свою участь, и не было смысла отпираться, а тем более заискивать перед этими инквизиторами в судейских мундирах.
- Раскаиваетесь ли вы в совершенных вами преступлениях?
- Никаких преступлений я не совершал, ибо действовал на благо народов Польши и России. Все, что я делал, я делал в согласии со своей совестью, по глубокому убеждению, а не ради личной выгоды...
- Ах, Сераковский, Сераковский! - Гогель вздохнул и изобразил на своем лице сожаление. - Сколько людей, которым угрожала казнь, остались живы благодаря чистосердечному раскаянию. А вы не хотите воспользоваться этой последней возможностью! Удивительно, право...
Сераковский ничего не ответил.
- Попрошу вас откровенно рассказать все, что вы знаете о других главарях шаек, - сказал Лосев. - Какие злодеяния они совершили?
- Я не знаю об этом.
- В таком случае я вам подскажу, Сераковский, и это будет записано в протоколе как ваши слова.
- Это нечестно и гнусно, полковник!
Лосев зло посмотрел на Зыгмунта.
- А вы думали, что мы будем поднимать и облагораживать вас и вам подобных в мнении общества? О нет, господин Сераковский! Наша задача - не только получить от вас нужные показания, но и выпустить всех вас из наших рук такими черными, чтоб и матери ваши вас не узнали!
Судилище продолжалось до вечера и было перенесено на завтра. Городков смог повидать Сераковского только ночью.
- А где же Погорелов? - спросил Зыгмунт.
- К сожалению, ему запретили бывать в госпитале... Он просил кланяться вам и передать, чтобы вы надеялись на лучшее. Только на лучшее, Сигизмунд Игнатьевич!
Зыгмунт слабо улыбнулся.
- Жаль, что мне не удастся проститься с ним... Пожалуйста, передайте это жене. - Он протянул записку. - Наверное, это мое последнее письмо к ней.
"Полька моя! - писал Сераковский. - Узнал вчера, что жить и быть свободным могу под одним условием - выдачи лиц, руководящих движением. Не знаю никого, но гневно ответил, что если б и знал, то и тогда не сказал бы. Дано мне понять, что подписал свой смертный приговор. Если надо умереть - умру чистым и незапятнанным... Скажи же мне ты, Ангел, разве я мог ответить иначе?"
На следующее утро комиссия явилась снова.
- Последний раз обращаюсь к вам, Сераковский, - сказал полковник Лосев. - Имею честь сообщить вам, что августейший государь готов всемилостивейше возвратить вам свою милость, чины, почести и посты, которые вы занимали, при условии, выдвинутом генерал-губернатором Муравьевым, а именно: вы должны открыть имена лиц, принадлежащих к Национальному правительству, а также главарей шаек.
- Я отклоняю монаршую милость, - отчетливо ответил Сераковский.
Через два часа аудитор военно-судной комиссии Федоров зачитал приговор: бывший Генерального штаба капитан Сигизмунд Сераковский был лишен всех прав состояния и приговорен к смертной казни.
Генерал Ганецкий был в числе тех военных, которые могли заходить к Муравьеву запросто, без доклада и приглашения. Сегодня он пришел в послеобеденный, неурочный час, зная, что генерал-губернатор никогда не отдыхает днем, и действительно застал его в кабинете. Муравьев сидел в глубоком кожаном кресле и, попыхивая длинным дымящимся чубуком, разбирал бумаги.
- А, Иван Степанович, заходи, - сказал он, с усилием приподнимаясь с кресла. - Зачем пожаловал?
- Получил я, Михайло Николаевич, письмецо из Петербурга. Там, оказывается, была недавно жена этого Сераковского. Хлопочет о помиловании. Сейчас там его мать; говорят, что дошла до самого государя. К тому же английский посол с супругой тоже ходатайствуют перед императрицей. Чего доброго, их усилия могут увенчаться успехом?
Муравьев молчал, продолжая сосать трубку.
- Что ж это получается, Михайло Николаевич! - Ганецкий возмущенно крякнул. - Неужели офицер, изменивший присяге, главный руководитель мятежа, вовлекший в шайки тысячи людей, получит прощение? После этого как мы будем наказывать людей, менее его виновных?
Муравьев долго не отвечал. Его скуластое лицо было непроницаемым. Он поднес руку к голове, к редкой пряди волос, прикрывавшей лысину, и стал теребить ее, а затем приглаживать. Это означало, что Муравьев принял какое-то решение.
- Не беспокойтесь, Иван Степанович, ничего у ходатаев не выйдет, сказал он.
Пятнадцатого июня Муравьев, как всегда, встал вместе с петухами. Знавший его привычки дежурный ординарец поручик Морозов к этому времени уже приготовил всю корреспонденцию, которая пришла ночным поездом из Петербурга. Как обычно, в то серое утро было много пакетов, телеграмм, писем. Муравьев взял эту груду своими пухлыми короткими пальцами и как бы просеял через них все бумаги. На одной телеграмме он задержался, повертел ее в руках, не распечатывая, отложил в сторону, а затем долго смотрел на нее, прищуря правый глаз.
- Вот что, поручик, - сказал Муравьев, оторвавшись наконец от телеграммы и переведя взгляд на Морозова. - Я вам сейчас дам пакет, отвезете его в военный госпиталь генерал-майору Шамшеву. Подождете там сколько потребуется, а потом явитесь мне доложить.
На площади у дворца всегда дежурили казаки, и один из них подвел поручику коня. Ехать было недалеко, и через пятнадцать минут ординарец вручил пакет по назначению.
- Приказано исполнить и доложить!
Генерал вскрыл пакет, прочел письмо Муравьева и покачал головой.
- Да, тяжкое дело поручил мне Михайло Николаевич... Вы где будете ждать ответа, поручик? - спросил генерал.
- Если я не нужен вашему превосходительству, то предпочел бы остаться здесь... Спать хочется, - доверительно признался Морозов.
- Что ж, оставайтесь. Зрелище будет не из приятных.
Поручик был молод, и он не придал значения этим не совсем понятным словам.
Генерал Шамшин вернулся через час. Он был бледен, и рука его чуть дрожала, когда он что-то писал на записке Муравьева.
- Доложите Михаилу Николаевичу, что его распоряжение выполнено.
Поручик взял ответный пакет и, вскочив на коня, поскакал во дворец генерал-губернатора. Муравьев принял его вне очереди. Он вскрыл конверт и прочел записку генерала Шамшева.
- А теперь можно заняться и той телеграммой, - сказал Муравьев.
Толстыми, негнущимися пальцами он разорвал бумажную ленточку и углубился в чтение. Лицо его, по обыкновению, оставалось бесстрастным.
- Садитесь и пишите, поручик, - промолвил Муравьев, шагая по кабинету. - Пишите, - повторил он. - "Повеление вашего величества о том, что дело должно идти своим порядком, получил. Сераковский уже повешен".

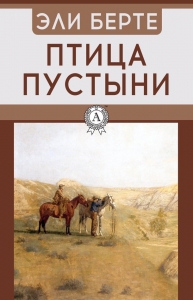

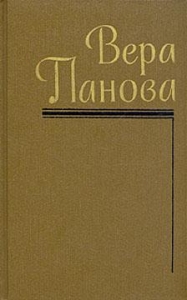



Комментарии к книге «Доленго», Георгий Метельский
Всего 0 комментариев