Мика Валтари Наследник фараона
Книга I Тростниковая лодка
1
Я, Синухе, сын Сенмута и его жены Кипы, пишу это. Я пишу это не во славу богов земли Кем, ибо я устал от богов, и не во славу фараонов, ибо их деяния утомили меня. Я пишу не из страха, не из упования на будущее, но только от одиночества. За свою жизнь я увидел, узнал и потерял слишком много, чтобы быть жертвой напрасного страха; что же до надежды на бессмертие, то от нее я устал так же, как от богов и царей. Только для самого себя пишу я это; и это отличает меня от всех прочих писателей, которые были и которые будут.
Я начал эту книгу на третий год моего заточения на берегах Восточного моря, откуда уходят корабли в страну Пунт, что близ пустыни, возле тех холмов, где добывали камень, чтобы возводить статуи прежним царям. Я пишу это потому, что вино горько для моего языка, потому что женщины не доставляют мне больше наслаждения и потому что ни сады, ни пруды с рыбками не радуют меня более. Я прогнал прочь певцов, и звуки флейт и струн — мука для моих ушей. Поэтому я пишу это, я, Синухе, который не пользуется своим богатством, своими золотыми чашами, слоновой костью, серебром, миррой.
Их не отняли у меня. Рабы все еще боятся моей плети; стража склоняет головы и, простирая руки, опускается на колени передо мной. Но мои прогулки ограничены, и ни один корабль не может пробраться сквозь прибой возле этих берегов; никогда не почувствую я вновь запаха черной земли в весеннюю ночь.
Мое имя некогда было вписано в золотую книгу фараона, и я находился одесную его. Мои слова имели бо́льший вес, чем слова могущественных в земле Кем; знатные осыпали меня дарами и вешали мне на шею цепи из золота. Я обладал всем, что может желать человек, но как всякий человек я желал большего — и вот поэтому я то, что я есть. Я был изгнан из Фив в шестой год царствования фараона Хоремхеба под угрозой быть убитым, как собака, если бы я вернулся, быть раздавленным, как лягушка между камнями, если бы я сделал хоть один шаг в сторону от того места, где мне предназначено было жить. Таков был приказ царя, фараона, бывшего некогда моим другом.
Но прежде чем я начну мою книгу, я хочу позволить моему сердцу излиться в жалобе, ибо так должно плакать сердце изгнанника, когда оно черно от горя.
Тот, кто однажды испил воды из Нила, будет вечно жаждать испить ее снова; его жажду не смогут утолить воды никакой другой реки.
Я обменял бы мою чашу на глиняную кружку, если бы мои ноги смогли еще раз коснуться мягкой пыли земли Кем. Я сменил бы свои льняные одежды на шкуры рабов, если бы я мог хоть раз услышать шелест речного тростника при весеннем ветре.
Чисты были воды моей юности; сладостно было мое безумие. Горько вино старости, и отборнейшие соты не могут сравниться с грубым хлебом моей нищеты. Вернитесь, о годы, повторитесь вновь, вы исчезли, годы; плыви, Амон, с запада на восток через небеса и верни мою юность! Ни одно слово я не искажу здесь, не приукрашу ни малейший свой поступок. О хрупкое перо, гладкий папирус, верните мне мое безумие и мою юность!
2
Сенмут, которого я называл своим отцом, врачевал бедняков в Фивах, и Кипа была его женой. У них не было детей, и когда я появился на свет, они были стариками. В своем простодушии они утверждали, что я был даром богов, не подозревая, сколько зла принесет им этот дар. Кипа назвала меня Синухе в честь кого-то из предания, а она любила предания, и ей казалось, что я появился, спасаясь от опасности, как и мой легендарный тезка, который случайно подслушал страшную тайну в шатре фараона и потом бежал, чтобы прожить долгие годы, полные приключений, в чужих краях.
Это было всего лишь ее наивным представлением; она надеялась, что я тоже смогу всегда спастись от опасности и избежать несчастья. Но жрецы Амона полагали, что в самом имени — предзнаменование, и, может быть, мое имя навлекло на меня опасности, приключения и изгнание в чужие страны. В самом деле, я был посвящен в ужасные тайны царей и их жен, тайны, которые могли стать причиной моей смерти. И, наконец, мое имя сделало меня беглецом и изгнанником.
Я был бы таким же легковерным, как бедная Кипа, если бы вообразил, что имя может влиять на чью-то судьбу; разве не случилось бы то же самое, если бы меня назвали Кепру, или Кафран, или Мозес? Так полагаю я — и однако Синухе действительно стал изгнанником, тогда как Хеб, сын Сокола, получив имя Хоремхеб, был венчан на царство красной и белой коронами, чтобы стать царем Верхнего и Нижнего Царств. Что до значения имен, каждый должен решать за себя; каждый в своей собственной вере найдет прибежище от бед и превратностей этой жизни.
Я родился в царствование великого царя Аменхотепа III и в один год с тем, кто хотел жить по правде и чье имя не называют, потому что оно проклято, хотя в то время об этом ничего еще не было известно. Когда он родился, во дворце было большое ликование, и царь принес много жертв в большом храме Амона, который он построил; народ тоже был рад, не зная, чему суждено свершиться. Супруга царя Тайя до тех пор напрасно ждала сына, хотя была в супружестве двадцать два года и ее имя было начертано в храмах и на статуях рядом с именем царя. Поэтому тот, чье имя нельзя произносить, был провозглашен престолонаследником с подобающим церемониалом, как только жрецы совершили обрезание.
Он родился в раннюю пору весеннего сева, тогда как я появился на свет предыдущей осенью, в разгар половодья. День моего рождения неизвестен, так как меня принесла вниз по Нилу маленькая тростниковая лодка, обмазанная смолой, и моя мать Кипа нашла меня в прибрежных камышах поблизости от своей собственной двери. Ласточки только что вернулись и щебетали надо мной, но я лежал так тихо, что она сочла меня умершим. Она принесла меня в свой дом и отогревала меня у очага и дула мне в рот, пока я не захныкал.
Мой отец Сенмут после визитов к своим пациентам принес двух уток и бумель муки. Услышав мой плач, он подумал, что Кипа подобрала котенка и хотел было выбранить ее, но моя мать сказала:
— Это не кошка — у меня сын! Радуйся, Сенмут, супруг мой, ибо у нас родился сын!
Мой отец обозвал ее дурой и сердился до тех пор, пока она не показала меня ему, и тогда его тронула моя беспомощность. Так что они усыновили меня как своего собственного ребенка и даже распространили слух среди соседей, будто Кипа родила меня. Это было глупо, и я не знаю, многие ли поверили ей. Но Кипа сохранила тростниковую лодку, что принесла меня, и повесила ее над моей постелью. Мой отец отдал в храм свою лучшую медную чашу и внес мое имя в книгу рождений как имя своего собственного сына от Кипы, но обрезание он сделал сам, так как был врачом и боялся ножей жрецов, потому что они заражали раны. Он не позволил жрецам коснуться меня. Кроме того, он, быть может, хотел сберечь деньги, ибо врач бедняков и сам беден.
Я не могу, конечно, воскресить все это в памяти, но мои родители рассказывали мне об этом так часто и в таких одинаковых выражениях, что я должен верить им и у меня нет оснований подозревать их во лжи. В продолжение моего детства я никогда не сомневался в том, что они мои родители, и ни одна печаль не омрачила те годы. Они скрывали от меня правду до тех пор, пока не были острижены мои мальчишеские волосы и я не превратился в юношу. Тогда они рассказали мне это, потому что боялись и почитали богов, и мой отец не хотел, чтобы я прожил во лжи всю свою жизнь.
Но кем я был прежде и кто были мои родители, я так и не узнал, хотя — по некоторым причинам я скажу об этом позже — я думаю, что знаю это.
Одно несомненно: я был не единственным, кого принесла вниз река в просмоленной тростниковой лодке. Фивы с их дворцами и храмами были большим городом, и глиняные лачуги бедняков густо лепились вокруг величественных строений. В правление великого фараона Египет подчинил своей власти многие народы, и с приходом могущества и богатства изменились и обычаи. В Фивах появились чужеземцы: купцы и ремесленники воздвигли там храмы своим богам. Велики были блеск и богатство храмов и дворцов, и велика была нищета за их стенами. Многие бедняки бросали своих детей; множество богатых женщин, чьи мужья были в отлучке, отдавали реке плоды своей неверности. Может, и я был сыном жены моряка, которая обманула своего мужа с каким-нибудь сирийским купцом. Может быть, поскольку мне не сделали обрезания, я был ребенком какого-нибудь чужеземца. Когда мои волосы остригли и моя мать убрала их в маленькую деревянную шкатулку вместе с моими первыми сандалиями, я долго глядел на тростниковую лодку, которую она показала мне. Подпорки пожелтели и сломались и покрылись копотью от жаровни. Она была связана узлами птицелова, но что могло все это поведать мне о моем происхождении? Вот тогда-то впервые я ощутил укол в сердце.
3
С приближением старости душа, как птица, возвращается назад, к дням детства. Теперь те дни так ярко и отчетливо встают в моей памяти, что кажется, будто все, что происходило тогда, было лучше и прекраснее, чем в нынешнем мире. Так чувствуют и богатые, и бедные, ибо, несомненно, нет человека столь обездоленного, чтобы не видеть проблесков счастья в своем детстве, когда оно вспоминается ему в старости.
Мой отец Сенмут жил вниз по течению от стен храма, в грязной, шумной части города. Возле его дома находились большие каменные причалы, где разгружались нильские лодки, и в узких переулках были таверны матросов и купцов и бордели, которые посещали также и богатые; их приносили на носилках из внутреннего города. Нашими соседями были сборщики налогов, владельцы барж, военнослужащие и несколько жрецов пятой ступени. Как и мой отец, они относились к более респектабельной части населения, возвышаясь над ним, как возвышается стена над поверхностью воды.
Наш дом поэтому был просторным по сравнению с грязными хижинами самых бедных, уныло теснившимися вдоль узких переулков. У нас был даже сад длиной в несколько шагов, в нем рос сикомор, посаженный моим отцом. Сад был отгорожен от улицы кустами акации, а бассейном нам служило каменное корыто, куда попадала вода только во время паводка. В доме было четыре комнаты, в одной из них моя мать готовила пищу, которую мы ели на веранде, куда выходил хирургический кабинет моего отца. Два раза в неделю приходила женщина помогать моей матери убирать дом, ибо Кипа была очень чистоплотна, и раз в неделю прачка носила наше белье на берег реки, к тому месту, где она стирала.
В этом шумном квартале, где было множество чужеземцев, в квартале, упадок которого был обнаружен мною, чуть только я ступил за порог детства, мой отец и его соседи поддерживали традиции и все старинные обычаи. В те дни, когда эти обычаи стали исчезать даже в среде городской аристократии, он и его класс неуклонно оставались представителями былого Египта в своем почитании богов, в чистоте сердца и самоотверженности. Казалось, будто своим поведением они хотели отделиться от тех, с кем были связаны жизнью и работой.
Но к чему теперь рассуждать о том, что я понял только позднее? Почему не вспомнить лучше сучковатый ствол сикомора и шелест его листьев, когда я искал под ним защиты от палящего солнца, и мою любимую игрушку, — деревянного крокодила, что щелкал своими челюстями и показывал красную глотку, когда я тянул его на веревке вдоль мощеной улицы? Соседские дети собирались и удивленно таращили на него глаза. Я получал много медовых пряников, много блестящих камешков и кусочки медной проволоки за то, что давал другим потянуть крокодила и поиграть с ним. Обычно только у детей вышестоящих были такие игрушки, но моему отцу она досталась от дворцового плотника, которого он вылечил от нарыва, мешавшего ему сидеть.
По утрам моя мать брала меня с собой на овощной рынок. Ей никогда не приходилось делать много покупок, но она могла потратить уйму времени, выбирая связку лука, и проводила целое утро неделю подряд, покупая новые башмаки. По ее манере говорить она казалась богатой женщиной, озабоченной лишь тем, как бы купить самое лучшее; если она и не покупала всего, что ей приглянулось, — что ж, ведь это только потому, что она желала привить мне бережливость. Она заявляла:
— Богат не тот, у кого серебро и золото, а тот, кто довольствуется малым.
Так она поучала меня тогда, а при этом ее старые бледные глаза жадно разглядывали ярко раскрашенные шерстяные ткани из Сидона и Библоса, тонкие и легкие как пух. Она гладила своими темными, огрубевшими от работы руками перья страуса и украшения из слоновой кости. Это все суета, убеждала она меня — и себя самое. Но детский ум восставал против этих наставлений; я жаждал иметь собственную обезьянку, которая кладет свои лапки на шею хозяина, или птицу с блестящими перьями, которая выкрикивает сирийские и египетские слова. И я ничего не имел бы против золотых цепочек и позолоченных сандалий. Только гораздо позднее я понял, как страстно бедная старая Кипа желала быть богатой.
Будучи, однако, всего лишь женою бедного врача, она заглушала свое томление сказками. Ночью, перед тем как мы засыпали, она рассказывала мне тихим голосом все истории, какие знала. Она поведала мне о Синухе и о потерпевшем кораблекрушение человеке, который вернулся от Змеиного Царя с несчетными богатствами, о богах и злых духах, о чародеях и прежних фараонах. Мой отец частенько ворчал на нее и говорил, что она забивает мне голову чепухой, но по вечерам, когда он начинал храпеть, она продолжала свои рассказы как для моего удовольствия, так и для своего собственного. Я помню те душные летние ночи, когда соломенный тюфяк обжигал мое обнаженное тело, а сон не приходил; мне слышится ее приглушенный, успокаивающий голос; я снова под ее крылышком.
Моя собственная мать едва ли могла быть сердечнее и нежнее, чем простая суеверная Кипа, из рук которой слепые и увечные рассказчики историй всегда получали вкусную еду.
Эти рассказы нравились мне, но противовесом им была оживленная улица, кишащая мухами, наполненная ароматами и запахами. Ветер доносил с пристани свежий запах кедра и мирра, а воздух благоухал ароматическим маслом, когда благородная дама, проезжая в своих носилках, выглядывала оттуда, чтобы выругать уличных мальчишек. По вечерам, когда золотая ладья Амона опускалась на западные холмы, от всех близлежащих хижин и веранд поднимался запах жареной рыбы, смешанный с ароматом свежеиспеченного хлеба. Этот запах бедных кварталов в Фивах я научился любить еще в детстве, и я никогда не забуду его.
Как раз за трапезой на веранде я получил первые наставления от отца. Он обычно входил с улицы в сад усталый или появлялся из своего хирургического кабинета, принося с собой острый запах мазей и лекарств, впитавшийся в его одежду. Мать поливала воду ему на руки, и мы садились на табуретки, чтобы поесть, тогда как она прислуживала нам. Пока мы сидели там, группа матросов шла, пошатываясь, вдоль улицы, они вопили пьяными голосами, ударяя палками по стенам домов, или останавливались облегчиться у наших акаций. Отец, человек сдержанный, ничего не говорил, пока они не уходили; тогда он пояснял мне:
— Только негры или грязные сирийцы делают это на улице. Египтянин заходит в простенок.
Или же говаривал:
— Вино в умеренном количестве доставляет нам наслаждение, как божий дар, и веселит наши сердца. Один кубок никому не повредит. Два — развязывают язык, но человек, который выпил кувшин вина, очнется в сточной канаве, ограбленный и избитый.
Бывало, дыхание благовоний доносилось до веранды, когда мимо проходила красавица, облаченная в прозрачные одежды, с искусно раскрашенными щеками, губами и бровями и с таким ярким блеском в глазах, какого никогда не бывает у порядочных женщин. Когда я, зачарованный, глядел на такую красотку, отец говорил серьезно:
— Берегись женщины, которая называет тебя «милым мальчиком» и соблазняет тебя, ибо ее сердце — западня и ловушка, а ее тело жжет хуже, чем огонь.
Не было ничего удивительного в том, что после таких наставлений моя детская душа стала бояться кружки вина и красавиц, которые не походили на обычных женщин, хотя и те, и другие были наделены погибельным очарованием страшного и запретного.
Когда я был еще ребенком, отец разрешал мне посещать его консультации; он показывал мне свои скальпели, пинцеты и склянки с лекарствами и объяснял их назначение. Когда он осматривал своих пациентов, я стоял рядом с ним и подавал ему чашу с водой, перевязочный материал, масло и вино. Моя мать не могла выносить вида ран и язв и никогда не понимала моего интереса к болезни. Ребенок не осознает страдания, пока не испытает его. Для меня вскрытие нарыва ланцетом было захватывающей операцией, и я гордо рассказывал другим мальчикам все, что видел, дабы завоевать их уважение. Всякий раз, когда приходил новый пациент, я следил, затаив дыхание, за тем, как отец осматривает его и задает ему вопросы, пока наконец он не заключал: «Эта болезнь может быть излечена» или «Я возьмусь вылечить тебя».
Бывали и такие, которых он не брался лечить. Тогда он писал несколько строчек на полоске папируса и посылал их в Обитель Жизни, в храм. Когда такой пациент покидал его, он обычно вздыхал, качал головой и говорил: «Бедняга!»
Не все пациенты моего отца были бедны. Клиентов близлежащих увеселительных заведений время от времени посылали к нему на перевязку после уличных ссор, и их одежды были из тончайшего льна. Порой приходили владельцы сирийских кораблей лечиться от нарывов или зубной боли. Поэтому я не удивился, когда однажды за консультацией зашла жена торговца специями — вся в украшениях и со сверкающим ожерельем из драгоценных камней. Она вздыхала и стонала и оплакивала множество своих недугов, тогда как отец внимательно ее слушал. Я был весьма разочарован, когда наконец он взял полоску бумаги, чтобы писать, ибо я надеялся, что он сможет лечить ее и таким образом получит много хороших подарков. Я вздохнул, покачал головой и прошептал про себя: «Бедняга!»
Молодая женщина испуганно вздрогнула и тревожно взглянула на моего отца. Он нарисовал строчку древних иероглифов, скопированных с истертого свитка папируса, затем налил масла и вина в чашу, опустил туда бумагу и держал там до тех пор, пока чернила растворились в вине. Тогда он вылил жидкость в глиняный кувшин и дал как лекарство жене торговца специями, сказав ей, чтобы она принимала это понемногу при головной или желудочной боли. Когда женщина ушла, я взглянул на отца, который казался смущенным. Он кашлянул раз-другой и сказал:
— Многие болезни можно излечивать при помощи чернил, которыми пользуются для могущественных заклинаний.
Вслух он больше ничего не сказал, но немного погодя пробормотал про себя:
— По крайней мере это не может повредить больному.
Когда мне исполнилось семь лет, мне дали набедренную повязку для мальчиков и мать повела меня в храм, где совершалось жертвоприношение. В то время храм Амона в Фивах был самым могущественным во всем Египте. Улица, окаймленная сфинксами с бараньими головами, вырезанными из камня, вела к нему прямо через город от храма и водоема богини луны. Территория храма была окружена массивными кирпичными стенами и со своими многочисленными строениями была городом внутри города. На верхушках возвышающихся пилонов реяли разноцветные стяги, и гигантские статуи царей охраняли медные ворота по обе стороны ограды.
Мы прошли через ворота, и продавцы Книги Мертвых тянули мою мать за одежду и предлагали свой товар пронзительными голосами или же шепотом. Мать повела меня взглянуть на плотничьи лавки с выставленными в них деревянными фигурками рабов и слуг, которые после того, как жрецы освятят их, будут прислуживать своим хозяевам в загробном мире, так что им не придется и пальцем пошевелить, чтобы обслужить себя.
Мать заплатила деньги, которые взимали с посетителей, и я увидел, как ловкие жрецы в белых одеяниях убили и четвертовали быка, между рогами которого на полоске папируса стояла печать, свидетельствующая, что это животное без порока и без единого черного волоска. Жрецы были тучные и благочестивые, и их бритые головы блестели от масла. Здесь было около сотни людей, которые пришли, чтобы присутствовать при жертвоприношении, но жрецы не обращали на них внимания и в продолжение всей церемонии непринужденно болтали друг с другом о своих делах. Я вглядывался в картины с военными сценами на стенах храма и восхищался огромными колоннами, неспособный понять чувства матери, когда с глазами полными слез она вела меня домой. Там она сняла мои детские башмаки и дала мне новые сандалии, которые были неудобными и терли мне ноги до тех пор, пока я не привык к ним.
После еды отец с серьезным выражением лица положил свою большую сильную руку на мою голову и погладил с робкой нежностью мягкие пряди на моих висках.
— Вот тебе уже и семь лет, Синухе, и ты должен решить, кем ты хочешь быть.
— Воином, — тотчас отвечал я и был озадачен выражением разочарования на его добром лице. Самыми лучшими из игр, увлекавших уличных мальчишек, были военные игры, и я наблюдал солдат, которые боролись и совершенствовались в употреблении оружия перед казармами, и я видел, как военные колесницы, украшенные плюмажами, состязались в скорости, громыхая колесами, когда они проводили учения за городом. Не могло быть ничего прекраснее и величественнее, чем карьера воина. Кроме того, солдату не обязательно уметь писать, и это было то, что более всего влияло на мое решение, ибо старшие мальчики рассказывали ужасные истории о том, как трудно искусство письма и как безжалостно учителя таскали за волосы учеников, если они случайно разбивали глиняную дощечку или ломали тростниковое перо своими неумелыми пальцами.
Похоже, что мой отец никогда не был особенно талантливым человеком, иначе он, несомненно, стал бы чем-нибудь больше, нежели лекарь бедняков. Но он был добросовестен в своей работе и никогда не вредил своим пациентам, а с течением лет он обрел мудрость благодаря опыту. Он уже знал, как я был обидчив и своеволен, и не сделал никаких замечаний по поводу моего решения.
Вскоре, однако, он попросил у моей матери чашу и, идя в свой кабинет, наполнил ее дешевым вином из кувшина.
— Идем, Синухе, — сказал он и повел меня из дома вниз, к берегу реки.
У причала мы остановились взглянуть на баржу, с которой низкорослые грузчики выгружали товары, зашитые в рогожу. Солнце опускалось за западные холмы, на ту сторону Города Мертвых, но эти рабы изо всех сил трудились, мокрые от пота и тяжело дыша. Надсмотрщик стегал их хлыстом, тогда как приказчик безмятежно сидел под навесом, проверяя каждый тюк по списку.
— Не хочешь ли ты стать одним из них? — спросил отец. Я подумал, что это глупый вопрос и изумленно поглядел на него, не отвечая. Нет никого, кто хотел бы быть грузчиком.
— Они работают с раннего утра до поздней ночи, — сказал Сенмут. — Их кожа стала грубой, как у крокодила, а их руки большие, как лапы крокодила. Только с наступлением темноты они могут, еле волоча ноги, добраться до своих жалких хижин, и их пища — корка хлеба, луковица и глоток горького жидкого пива. Такова жизнь грузчика, пахаря, всех тех, кто своими руками зарабатывает себе на жизнь. Ты думаешь, они достойны зависти?
Я покачал головой, все еще глядя на него с удивлением. Ведь я решил быть солдатом, а не грузчиком, не тем, кто копается в земле, не тем, кто поливает поля, не пастухом, облепленным навозом.
— Отец, — сказал я, когда мы пошли дальше, — солдаты хорошо проводят время. Они живут в казармах и едят вкусную пищу, по вечерам они пьют вино в увеселительных заведениях, и женщины дарят им улыбки. Их командиры носят золотые цепочки на шее, хотя и не умеют писать. Они возвращаются после битвы с добычей и рабами, которые трудятся и учатся ремеслам, чтобы служить им. Почему же не должен я стремиться стать воином?
Отец ничего не ответил, но ускорил шаг. Возле большой мусорной свалки, где вокруг нас жужжала туча мух, он нагнулся и стал вглядываться в низенькую грязную хибарку.
— Интеб, друг мой, ты здесь?
Наружу выполз, опираясь на палку, омерзительный старик. Его правая рука была отрублена ниже плеча, а набедренная повязка задубела от грязи. Лицо его ссохлось и сморщилось от старости, и у него не было зубов.
— Это… это Интеб? — выдохнул я, с ужасом глядя на старика. Интеб был герой, сражавшийся в сирийской кампании при Тутмесе III, величайшем из фараонов, и о его подвигах и о тех наградах, которые он получил от фараона, все еще рассказывали легенды.
Старик поднял руку, по-солдатски приветствуя нас, и отец передал ему чашу с вином. Затем они сели на землю, потому что возле лачуга не было даже скамьи, и Интеб поднес вино к губам дрожащей рукой, осторожно, чтобы не пролить ни капли.
— Мой сын Синухе собирается стать воином, — отец улыбнулся. — Я привел его к тебе, Интеб, потому что ты последний оставшийся в живых из героев великих войн и можешь рассказать ему о счастливой жизни и блестящих подвигах солдат.
— Во имя Сета и Ваала и всех прочих демонов, — захихикал старик, устремив на меня свой близорукий взгляд. — Мальчик спятил что ли?
Его беззубый рот, тусклые глаза, висящий обрубок руки и морщинистая грязная грудь были настолько ужасны, что я спрятался за отца и ухватился за его руку.
— Мальчик, мальчик, — захихикал Интеб, — если бы у меня был хороший глоток вина за каждое проклятие, которое я изверг на мою жизнь и мою судьбу, — жалкую судьбу, сделавшую меня солдатом, — я мог бы наполнить этим вином то озеро, что вырыли фараону для его старухи. Правда, я никогда не видел его, потому что мне не на что переправиться через реку, но уж точно я мог бы его наполнить — да! — и этого хватило бы с лихвой, чтобы напоить допьяна армию.
Он опять сделал маленький глоток.
— Но, — сказал я, и у меня задрожал подбородок, — профессия солдата — самая почетная из всех.
— Честь! Слава! — возразил Интеб, герой армий Тутмеса. — Навоз, отбросы для разведения мух — и только. Много я врал в свое время, чтобы выкачать вино из болванов, которые слушали меня, вытаращив глаза, но твой отец — честный человек, и я не стану его обманывать. Поэтому говорю тебе, сынок, профессия воина самая жалкая и унизительная из всех.
Вино разгладило морщины на его лице и вернуло блеск его блуждающим старым глазам. Он поднялся и стиснул свою шею рукой.
— Гляди, мальчик! Эта тощая шея была когда-то увешана золотыми цепочками — в пять рядов. Сам фараон повесил их. Кто может сосчитать отрубленные руки, которые я нагромоздил перед его шатром? Кто первый взобрался на стены Кадеша? Кто прорвался сквозь вражеские ряды, как трубящий слон? Это был я — я, герой Интеб! И кто благодарит меня теперь за это? Мое золото ушло, как уходит все земное, а рабы, которых я взял в битве, сбежали или погибли в нищете. Моя правая рука осталась в стране Митанни, и я давно побирался бы на перекрестках, не будь милосердных людей, которые время от времени дают мне сушеную рыбу и пиво за то, что я рассказываю их детям правду о войне. Я, Интеб, великий герой, — взгляни на меня! Я оставил свою юность в пустыне, она взята голодом, нуждой и лишениями. Там иссохла моя плоть, огрубела моя кожа и окаменело мое сердце. Хуже всего то, что раскаленная пустыня высушила мой язык, и я стал жертвой неутолимой жажды, как и всякий другой солдат, уцелевший в чужих землях. И жизнь стала подобна долине смерти с тех пор, как я потерял мою руку. Мне незачем вспоминать боль от раны и мои страдания, когда армейские хирурги после ампутации ошпарили обрубок кипящим маслом — это твой отец может оценить. Пусть будет благословенно твое имя, Сенмут! Ты справедливый человек, хороший человек — но вино-то кончилось.
Старый воин замолчал, слегка задыхаясь, и, снова усевшись на землю, он печально перевернул вверх дном глиняную чашу. Его глаза походили на догорающие угли, и он опять был старым, несчастным человеком.
— Но воину не обязательно уметь писать, — прозвучал мой нерешительный голос.
— Хм, — сказал старик и искоса взглянул на моего отца, который быстро снял со своей руки медный браслет и передал его ему. Интеб громко крикнул и тотчас же прибежал чумазый мальчишка, взял браслет и чашу и помчался в таверну, чтобы принести еще вина.
— Не самое лучшее! — прокричал Интеб. — Возьми кислое — его дадут больше. — Он снова задумчиво взглянул на меня. — Воину незачем писать, он должен только сражаться. Но если бы он умел писать, он стал бы офицером и командовал самыми храбрыми, которых он послал бы в битву впереди себя. Каждый, кто умеет писать, годен для того, чтобы командовать, но тому, кто не умеет нацарапать каракули, никогда не дадут командовать даже и сотней человек. Что же за счастье для него в золотых цепочках и почестях, если он получает приказы от парня с тростниковым пером в руке? Так есть и так будет, и потому, мой мальчик, если хочешь повелевать людьми и вести их за собой, учись писать. Тогда те, с золотыми цепями, будут склоняться перед тобой, а рабы понесут тебя в носилках на поле боя.
Чумазый мальчишка вернулся с кувшином вина и с такой же полной чашей. Лицо старика просияло от радости.
— Твой отец Сенмут — хороший человек. Он умеет писать и он присматривал за мной в счастливые для меня дни, когда вино лилось рекой и мне виделись крокодилы и гиппопотамы там, где их не было. Хороший он человек, хотя всего лишь врач и не владеет луком. Я благодарен ему.
Я с беспокойством смотрел на кувшин вина, которым Интеб явно был всецело поглощен, и потянул отца за широкий, испачканный лекарствами рукав, опасаясь, как бы после такою количества вина мы не проснулись в какой-нибудь канаве, избитые до синяков. Сенмут тоже взглянул на кувшин, слегка вздохнул и повел меня прочь. Интеб затянул своим пронзительным старческим голосом сирийскую песню под смех голого, загорелого дочерна мальчишки.
Так я похоронил свои воинственные мечты и больше не сопротивлялся, когда на следующий день отец с матерью отвели меня в школу.
4
Моему отцу было не по карману отправить меня в одну из больших храмовых школ, где учились сыновья, а иногда и дочери богачей, знати и именитых жрецов. Моим наставником был старый жрец Онэ, который жил неподалеку и держал классы на полуразрушенной веранде. Его учениками были дети ремесленников, купцов, старших рабочих порта, унтер-офицеров, честолюбиво мечтавших о карьере писца для своих сыновей. В свое время Онэ прислуживал у Селестия Мута в храме и потому вполне мог давать простейшие уроки письма детям, чтобы впоследствии они сумели вести торговые счета, мерить зерно, головы скота и ведать снабжением армии. В великом городе Фивах были сотни таких маленьких школ. Обучение стоило недорого: ученикам приходилось только содержать учителя. Сын угольщика зимой наполнял его жаровню, сын ткача одевал его, ребенок торговца зерном следил, чтобы у него было достаточно муки, а мой отец лечил его от множества болячек и недугов и давал ему болеутоляющие травы, дабы он принимал их с вином.
Зависимость от нас сделала Онэ кротким учителем. Мальчик, засыпавший над его дощечками, никогда не получал от него пощечину; он только должен был следующим утром стащить какой-нибудь лакомый кусок для старика. Иногда сын торговца зерном приносил кувшин пива. В такие дни мы все напрягали внимание, потому что старый Онэ вдохновенно рассказывал нам удивительные истории о других мирах: о Селестии Муте, о Творце, о Пта и богах, окружавших его. Мы хихикали, полагая, что отвлекли его от наших трудных заданий и утомительного писания иероглифов на весь остаток дня; только позднее я осознал, что Онэ был более мудрым учителем, чем мы думали. У него была цель, ради которой он рассказывал нам легенды, проникнутые благочестием его детской души: они знакомили нас с обычаями Древнего Египта. Ни один злой поступок не оставался в них безнаказанным. Перед высоким троном Озириса неумолимо взвешивалось сердце каждого человека. Того смертного, чьи греховные деяния обнаруживались на весах бога с головой шакала, бросали Пожирателю, — полукрокодилу, полугиппопотаму, но он был страшнее того и другого.
Он рассказывал также о том угрюмом, страшном, глядящем назад перевозчике, без помощи которого ни один смертный не достигал Полей блаженных. Когда он греб, лицо его было обращено к корме, он никогда не смотрел вперед, как земные лодочники на Ниле. Онэ заставлял нас повторять наизусть фразы, которыми можно было бы подкупить и умилостивить перевозчика: он учил нас выписывать их, а потом воспроизводить по памяти, исправляя наши ошибки, мягко предостерегая нас, что малейшая неточность уничтожит все наши шансы на счастливую загробную жизнь. Если бы мы вручили Глядящему Назад письмо, содержащее хотя бы пустяковую ошибку, мы были бы обречены блуждать во веки веков подобно теням у берегов этих мрачных вод или, хуже того, нас поглотили бы чудовищные бездны царства смерти.
Я посещал школу Онэ несколько лет. Моим лучшим другом был Тутмес старше меня на год или около того; с детства его готовили быть борцом и укрощать лошадей. Его отец, начальник эскадрона колесниц, носил соответствующую его званию плеть, оплетенную медной проволокой. Он лелеял мечту, что его сын станет высокопоставленным чиновником, а потому желал, чтобы сын научился писать. Но в прославленном имени Тутмеса не было ничего пророческого; несмотря на честолюбие отца, едва начав ходить в школу, мальчик потерял интерес к метанию копья и колесницам. Грамота давалась ему легко, и пока другие мальчики мучительно ее преодолевали, он рисовал картинки на своих дощечках: они изображали колесницы, коней, вставших на дыбы, и борющихся солдат. Он приносил в школу глину, и пока кувшин эля устами Онэ рассказывал истории, он лепил смешные маленькие изображения Пожирателя, щелкающего неповоротливыми челюстями при виде маленького плешивого старичка, чья горбатая спина и толстый живот могли принадлежать только Онэ. Но Онэ не сердился. Никто не мог сердиться на Тутмеса. У него было широкое лицо и короткие ноги крестьянина, но его глаза искрились веселым заразительным блеском, а птицы и животные, которых он лепил из глины своими умелыми руками, восхищали нас всех. Я сначала искал его дружбы, потому что он был храбрый, но дружба сохранилась и после того, как исчезли следы его воинского честолюбия.
В мои школьные годы произошло чудо, притом столь неожиданно, что я все еще вспоминаю этот час как некое откровение. В тот прекрасный свежий весенний день воздух был наполнен пением птиц и аисты чинили свои старые гнезда на глиняных хижинах. Воды спали, и свежие зеленые побеги пробивались из земли. Во всех садах засевали семена и высаживали растения. Это был день, словно предназначенный для какого-то приключения, и мы не могли спокойно усидеть на расшатанной старой веранде Онэ, где под рукой осыпались глиняные кирпичи. Я нацарапал эти вечные символы — буквы для резьбы на камне и подле них — сокращенные знаки, употребляемые для письма на бумаге, как вдруг какое-то забытое слово Онэ, какое-то странное внутреннее озарение заставили заговорить и ожить эти знаки. Картины стали словом, слово — слогом, слог — буквой. Когда я приставил картинку к картинке, выскочили новые слова — живые слова, совершенно отличные от знаков. Какой-нибудь деревенщина может понять один рисунок, но смысл двух рисунков, соединенных вместе, доступен только образованному человеку. Я полагаю, что каждый, кто изучил письмо и умеет читать, понимает, что я хочу сказать. Это впечатление было для меня более волнующим, более пленительным, чем кража граната из корзины продавца фруктов, слаще, чем сушеный финик, восхитительнее, чем вода для жаждущего.
С этого момента я не нуждался более в понуждениях, а впитывал уроки Онэ, как сухая земля впитывает при паводке воды Нила; и я быстро научился писать. Через некоторое время я начал читать то, что написали другие, и к третьему году уже мог разобраться в пергаментных свитках и диктовать другим поучительные истории.
Примерно тогда же я заметил, что непохож на других. Мое лицо было уже, кожа светлее, а руки и ноги изящнее, чем у других мальчиков и вообще у людей, среди которых я жил. Если бы не различия в одежде, едва ли кто-нибудь смог бы отличить меня от мальчиков, которых рабы несли на носилках или сопровождали в прогулках по улицам. Из-за этого надо мной насмехались; сын торговца зерном старался обвить мою шею руками и называл меня девчонкой, пока не вынудил меня уколоть его стилетом. Он был неприятен мне, потому что от него дурно пахло, и мне нравилось бывать с Тутмесом, который никогда не обижал меня. Однажды Тутмес нерешительно сказал:
— Я хотел бы слепить твой портрет, если бы ты согласился позировать мне.
Я позвал его к себе домой, и там под сикомором он вылепил из глины мой портрет и нацарапал на нем иероглифы, означающие мое имя. Моя мать Кипа, принеся нам лепешки, была очень сильно напугана, увидев портрет, и назвала это колдовством. Но мой отец сказал, что Тутмес сможет стать художником царской семьи, если только ему удастся поступить в храмовую школу, и я шутливо склонился перед Тутмесом, вытянув руки, как делают в присутствии знатных особ. Его глаза сияли; потом, вздохнув, он сказал, что этого никогда не случится, ибо, по мнению его отца, ему пришло время вернуться в казармы и поступить в школу для возничих. Он умел уже писать настолько хорошо, насколько это было необходимо будущему офицеру. Потом мой отец ушел от нас, а мы услышали, как Кипа бормочет про себя в кухне; но мы с Тутмесом ели лепешки, жирные и вкусные, и были вполне довольны.
Я был еще счастлив тогда.
5
Наступил день, когда мой отец облачился в свое лучшее свежевыстиранное одеяние и прикрепил к шее широкий воротник, вышитый Кипой. Он отправился к великому храму Амона, хотя в душе не любил жрецов. Но в это время в Фивах и даже во всем Египте ничего не происходило без их посредничества. Они отправляли правосудие, так что смельчак, которому собственный суд фараона вынес приговор, мог обратиться к ним с просьбой о пересмотре дела. В их руках была вся деятельность высшей администрации. Они предсказывали высоту паводка и размеры урожая; на этом основании устанавливались налоги для всей страны.
Не думаю, что отцу было легко унижаться перед ними. Всю свою жизнь он врачевал бедняков в квартале бедняков — чужой в храме и Обители Жизни, а теперь, подобно другим неимущим отцам, он должен был ожидать снаружи в очереди у административного отдела, пока та или иная священная особа соблаговолит принять его. Я и сейчас вижу этих бедных отцов, сидящих на корточках во дворе храма в своих лучших одеждах, лелея честолюбивые мечты о своих сыновьях, для которых они жаждали лучшей доли, чем их собственная. Многие из них проделали большой путь на лодках по реке, захватив с собой пищу. Они тратили свои деньги на взятки привратникам и писцам за привилегию перемолвиться словом с надушенным, умащенным жрецом в золотом шитье, который морщил нос от исходившего от них запаха и резко говорил с ними. И все же Амону всегда нужны новые служители. Чем сильнее его могущество, тем больше писцов стареют у него на службе. Однако нет отца, который не считал бы милостью божества допущение своего сына в храм, хотя, отдавая сына в храм, он приносит дар драгоценнее золота.
Визит моего отца был удачен, потому что тут же после полудня мимо нас проходил его старый однокашник Птагор. Со временем Птагор стал черепным хирургом фараона. Отец решился обратиться к нему, и он обещал почтить наш дом визитом и проэкзаменовать меня.
К назначенному дню отец припас гуся и самого лучшего вина. Кипа пекла — и ворчала. Соблазнительный запах гусиного жира наполнил улицу, поэтому слепые и попрошайки собрались там петь и играть, чтобы получить свою долю в угощении. Кипа, шипя от ярости, сунула каждому из них кусок хлеба, обмокнутый в жир, и прогнала их. Мы с Тутмесом вымели всю улицу от порога до самого города. Отец просил Тутмеса быть под рукой, когда придет гость, надеясь, что великий человек почтит вниманием также и его. Хотя мы были еще мальчишками, но когда отец зажег курильницу и поставил ее у входа для запаха, мы почувствовали такое благовоние, словно были в храме. Я охранял банку с ароматической водой и отгонял мух от ослепительно белого куска полотна, который Кипа берегла для своих похорон, но теперь вытащила как полотенце для Птагора.
Нам пришлось долго ждать. Солнце село и воздух стал прохладнее. Весь фимиам у входа сгорел, гусь печально шипел в жаровне. Я проголодался, а лицо Кипы вытянулось от огорчения. Отец ничего не сказал, но не стал зажигать светильников, когда стемнело. Мы все сели на табуретки у входа и избегали смотреть друг на друга; тогда-то я узнал, какое горькое разочарование могут причинить богатые и могущественные своей небрежностью.
Но наконец на улице показался отблеск факела. Отец вскочил и поспешил в кухню за угольком, чтобы зажечь оба светильника. Я поднял дрожащими руками кувшин с водой, тогда как Тутмес тяжело дышал рядом со мной.
Птагор, царский черепной хирург, скромно прибыл в носилках, которые несли два негра-раба; впереди шел тучный факельщик, явно пьяный. С одышкой и веселыми возгласами приветствия Птагор спустился с носилок, чтобы поздороваться с отцом, который склонился и простер руки перед коленями.
Гость положил руки на плечи Сенмута, то ли показывая ему, что не нужно церемоний, то ли желая сохранить равновесие. Поддерживаемый таким образом, он дал пинка факельщику и велел ему отоспаться под сикомором. Негры, не ожидая приказа, сбросили носилки в кусты акации и уселись на земле.
Все еще опираясь на плечи отца, Птагор ступил на крыльцо, где я полил воду ему на руки, несмотря на его возражения. Когда я передал ему льняное полотенце, он сказал, что поскольку я ополоснул ему руки, то теперь могу вытереть их. После того как я исполнил это, он поблагодарил меня и сказал, что я красивый мальчик. Отец повел его на почетное место — к стулу со спинкой, взятому у торговца специями, и он сел; его пытливые маленькие глазки осматривали все при свете масляных светильников. Некоторое время все молчали. Затем, смущенно покашливая, он попросил чего-нибудь выпить, так как из-за долгого путешествия у него пересохло в горле. Восхищенный отец налил ему вина. Птагор понюхал и с подозрением его попробовал, затем осушил чашу с явным наслаждением и удовлетворенно вздохнул.
Это был кривоногий бритоголовый маленький человек, его грудь и живот свисали под тонкой одеждой. Его воротник, усеянный драгоценными камнями, был теперь перепачкан, как и все его платье, и издавал запах масла, вина и пота.
Кипа потчевала его лепешками и пряностями, мелкой рыбой, жаренной в масле, фруктами и печеным гусем. Он любезно отведал все это, хотя было ясно, что он совсем недавно вкусно поел, но он пробовал и хвалил каждое блюдо к большому удовольствию Кипы. По его просьбе я отнес пива и еды неграм, но они ответили на эту любезность бранью и спрашивали, готов ли старый пузан ехать назад. Слуга храпел под сикомором, и мне не хотелось будить его.
В этот вечер все совершенно смешалось, так как и отец выпил очень много; я никогда не видел, чтобы он столько пил; в конце концов Кипа, сидевшая в кухне, впала в отчаяние и села, раскачиваясь взад и вперед и охватив голову руками. Когда кувшин был опустошен, они выпили отцовское вино для лекарств. Когда и оно кончилось, они приступили к обыкновенному столовому пиву, ибо Птагор убеждал нас, что он не привередлив. Они сидели и говорили о днях их ученья в Обители Жизни, покачиваясь и обняв друг друга. Птагор рассказывал о разных случаях из своей практики царского черепного хирурга, утверждая, что это последняя область, в которой следует специализироваться врачу, поскольку она более подходит для Обители Смерти, чем для Обители Жизни. Но работы было немного, а он всегда был ленив, о чем, разумеется, помнит Сенмут Молчаливый. Человеческую голову, — кроме зубов, ушей и горла, для которых нужны особые специалисты, — было, на его взгляд, проще всего изучить, вот он это и выбрал.
— Но, — сказал он, — если бы во мне была капля порядочности, я остался бы тем, кем был: честным врачом, дающим жизнь пациентам. В сущности мой удел — умерщвлять, когда родственникам надоедают старые или неизлечимые. Я хотел бы походить на тебя, дружище Сенмут, — пусть быть беднее, но вести более честную, более полезную жизнь.
— Никогда не верьте ему, мальчики! — сказал отец, ибо Тутмес сидел теперь с нами и держал в руках маленькую чашу с вином. — Я горжусь, что могу называть своим другом того, кто сверлит череп фараону; в своей области он искуснее всех в Египте. Разве я не помню его чудодейственных трепанаций, которыми он спасал жизнь и могущественным, и смиренным, изумляя мир? Он высвобождает злых духов, которые доводят людей до сумасшествия, и извлекает их круглые яйца из мозга людей. Благодарные пациенты награждают его золотом и серебром, цепочками и чашами для питья.
— Но благодарные родственники делают больше, — вставил Птагор хриплым голосом. — Ибо если случайно я исцелю одного из десяти, одного из пятнадцати — нет, скажем, одного из сотни, тем несомненнее умрут другие. Слышали ли вы хоть об одном фараоне, который жил три дня после того, как был вскрыт его череп? Нет, сумасшедших и неизлечимых кладут под мой кремневый нож — и чем богаче они, чем знатнее, тем скорее они придут. Моя рука избавляет людей от боли, делит наследство — землю, скот и золото, моя рука возводит на трон фараонов. Поэтому они боятся меня и никто не осмеливается возражать мне, ибо я знаю слишком много. Но то, что умножает знание, умножает и скорбь, и я самый несчастный человек.
Птагор немного поплакал и высморкался в саван Кипы.
— Ты беден, но честен, Сенмут, — прорыдал он. — Потому-то я люблю тебя, ибо я богат и гнусен, как лепешка бычьего навоза на дороге.
Он снял с себя покрытый драгоценностями воротник и надел его на шею отца, и тут они стали петь песни, слов которых я не мог понять, хотя Тутмес слушал с интересом и сказал мне, что более похабных песен не услышишь и в казармах. Кипа начала громко рыдать в кухне. Из кустов акации вылез один негр, поднял Пта-гора на руки и хотел отнести его к носилкам, потому что давно уже было время спать. Но Птагор отбивался и жалобно кричал, призывал на помощь стражников и клялся, что негр замышляет убийство. Так как отец мой был ни на что не годен, мы с Тутмесом стали гнать негра палками, пока тот не взбесился и не ушел, нещадно ругаясь и забрав с собой своего товарища и носилки.
Затем Птагор вылил на себя кувшин пива, попросил масла, чтобы натереть лицо, и попытался выкупаться в луже. Тутмес шепнул мне, что мы должны уложить стариков в постель, и получилось так, что мой отец и черепной хирург фараона уснули обнявшись на постели Кипы, плаксиво клянясь в вечной дружбе до гроба.
Кипа рыдала и рвала на себе волосы, посыпая себя пеплом из жаровни. Я мучился мыслью о том, что скажут соседи, ибо шум и гам разносились во все стороны в ночной тишине. Однако Тутмес был невозмутим, ибо видел еще не такие сцены в казармах в отцовском доме, когда возничие толковали о былых днях и о карательных экспедициях в Сирию и в страну Куш. Он ухитрился успокоить Кипу, и, убрав, как умели, следы пиршества, мы тоже отправились спать. Слуга храпел под сикомором, и Тутмес лег рядом со мной в мою постель, обнял меня за шею рукой и стал болтать о девочках, ибо он тоже пил вино. Но я нашел это скучным, так как был двумя годами моложе его, и вскоре уснул.
Рано утром я был разбужен глухими ударами и звуками движения в спальне; войдя туда, я увидел, что отец все еще крепко спит в своей одежде и с воротником Птагора вокруг шеи. Птагор сидел на полу, держась за голову, и спрашивал жалобным голосом, где он находится.
Я почтительно поздоровался с ним и сказал ему, что он все еще находится в портовом квартале в доме врача Сенмута. Это успокоило его, и он попросил во имя Амона пива. Я напомнил ему, что он вылил на себя кувшин пива, о чем свидетельствовала и его одежда. Тогда он поднялся, выпрямился, величественно нахмурившись, и вышел. Я полил воду ему на руки, и он со стоном нагнул свою плешивую голову, приказав мне полить воду и на нее. Тутмес, который тоже проснулся, принес ему банку кислого молока и соленую рыбу. Поев, он приободрился. Он направился к сикомору, где спал слуга, и принялся колотить его палкой, пока парень не проснулся; его одежда была испачкана травой, а лицо — землей.
— Паршивая свинья! — заорал Птагор и вновь стукнул его. — Так-то ты заботишься о делах своего господина и носишь перед ним факел? Где мои носилки? Где моя чистая одежда? И мои целебные ягоды? Прочь с глаз моих, презренный вор и свинья!
— Я вор и свинья моего господина, — смиренно ответил слуга. — Что прикажет мой господин?
Птагор отдал ему приказания, и он удалился на поиски носилок. Птагор, удобно усевшись под сикомором, прислонился к стволу и стал декламировать стихотворение, повествующее об утре, цветах лотоса и царице, купающейся в реке, а потом рассказал нам множество анекдотов, которые мальчики любят послушать. Кипа между тем проснулась, развела огонь и вошла к отцу. До нас доносился ее голос прямехонько в сад, и когда позже отец вышел в чистой одежде, он, конечно, выглядел огорченным.
— У тебя красивый сын, — сказал Птагор. — Он держит себя как принц и у него плаза кроткие, как у газели.
Несмотря на молодость, я понял, что он говорит так, дабы заставить нас позабыть его поведение прошлой ночью. Немного погодя он продолжал:
— Нет ли у твоего сына таланта? Открыты ли глаза его души так же, как глаза его тела?
Тогда мы с Тутмесом принесли наши таблички для письма. Царский черепной хирург, рассеянно глядя на верхушку сикомора, продиктовал небольшое стихотворение, которое я все еще помню. Оно звучало так:
Радуйся, юноша, своей юности, Ибо горло старости наполнено пеплом, И забальзамированное тело не улыбается Во мраке могилы.Я старался изо всех сил, написав это сначала обычным шрифтом, а затем иероглифами. В заключение я написал слова «старость», «пепел», «тело» и «могила» всеми возможными способами — как слогами, так и буквами. Я показал ему мою табличку. Он не нашел ни одной ошибки, и я знал, что отец гордится мной.
— А другой мальчик? — спросил Птагор, протянув руку.
Тутмес сидел в стороне, рисуя картинки на своей табличке, и заколебался, прежде чем отдать ее, хотя у него глаза были веселые. Когда мы нагнулись, чтобы посмотреть, то увидели, что он изобразил Птагора, прикрепляющего воротник к шее отца, затем Птагора, обливающего себя пивом, тогда как на третьей картинке они с отцом пели, обняв друг друга за плечи; эта картинка была так забавна, что не оставляла сомнений, какого рода песни они распевали. Мне хотелось рассмеяться, но я не посмел, боясь, что Птагор может рассердиться. Ибо Тутмес не польстил ему, он изобразил его именно таким коротышкой и плешивым, и кривоногим, и пузатым, каким он был на самом деле.
Долго Птагор ничего не говорил, а лишь пытливо переводил взгляд с картинок на Тутмеса и обратно. Тутмес немного испугался и нервно покачивался на цыпочках. Наконец Птагор спросил:
— Чего ты хочешь за свою картинку, мальчик? Я покупаю ее.
Лицо Тутмеса вспыхнуло, и он ответил:
— Моя табличка не продается. Я отдал бы ее другу.
Птагор рассмеялся.
— Хорошо. Тогда будем друзьями, и табличка — моя.
Он еще раз внимательно взглянул на нее, засмеялся и разбил ее на кусочки о камень. Мы все вздрогнули, и Тутмес попросил простить его, если он его оскорбил.
— Могу ли я гневаться на воду, отражающую мой образ? — мягко возразил Птагор. — А глаз и рука рисовальщика больше, чем вода, потому что я знаю теперь, как выглядел вчера, и не желаю, чтобы другие увидели это. Я разбил табличку, но признаю, что ты художник.
Тутмес подпрыгнул от радости.
Птагор повернулся к отцу и, указав на меня, торжественно произнес древнюю клятву врачей:
— Я берусь его вылечить.
Затем, указав на Тутмеса, он сказал:
— Я сделаю, что смогу.
И снова, заговорив своим медицинским языком, они оба удовлетворенно засмеялись. Отец, положив руку мне на голову, спросил:
— Синухе, сын мой, хочешь ли ты быть, как и я, врачом?
Слезы выступили у меня на глазах и у меня перехватило горло, гак что я не мог говорить, но кивнул в ответ. Я огляделся кругом: и сад был мне дорог, и сикомор, и обложенный камнем бассейн — все было дорого мне.
— Синухе, сынок, — продолжал отец. — Станешь ли ты врачом более искусным, чем я, лучшим, чем я, властителем жизни и смерти и единственным, кому люди всякого звания могут вверить свою жизнь?
— Не похожим ни на него, ни на меня! — вмешался Птагор.
Он выпрямился, и его глаза проницательно блеснули.
— Истинным врачом, ибо он могущественнее всех. Перед ним стоит обнаженным сам фараон, и первый богач для него все равно что нищий.
— Я бы хотел быть настоящим врачом, — сказал я нерешительно, ибо все еще был мальчиком и ничего не знал ни о жизни, ни о том, что старость стремится переложить на плечи юности свои собственные мечты, свои собственные разочарования.
А Тутмесу Птагор показал золотой браслет на своем запястье и сказал:
— Читай!
Тутмес прочел по складам вырезанные там иероглифы и затем недоверчиво произнес вслух:
— Полная чаша веселит мое сердце.
Он не смог сдержать улыбку.
— Нечего смеяться, ты, негодник! — серьезно сказал Птагор. — Это не имеет ничего общего с вином. Если тебе суждено стать художником, ты должен требовать, чтобы твоя чаша была полна. В истинном художнике проявляется сам Пта — творец, строитель. Художник больше, чем отражающая поверхность. Искусство, конечно, и в самом деле часто бывает всего лишь льстивым отражением в воде или лгущим зеркалом, но художник выше этого. Так пусть твоя чаша будет всегда полна, сынок, и не довольствуйся тем, что говорят тебе люди. Лучше полагайся на свой собственный острый взгляд.
Он пообещал, что скоро меня вызовут как ученика в Обитель Жизни и что он постарается помочь Тутмесу поступить в художественную школу в храме Пта, если это будет возможно.
— Но, мальчики, — добавил он, — слушайте внимательно, что я вам скажу, а потом сразу же забудьте это или по крайней мере забудьте, что это говорил царский черепной хирург. Вы теперь попадете в руки жрецов; ты, Синухе, со временем сам станешь жрецом. Мы с твоим отцом оба были посвящены в низшую ступень, и никто не может заниматься профессией врача без посвящения. Когда ты окажешься среди них, будь осторожен, как шакал, и хитер, как змея, чтобы тебя не одурачили и не ввели в заблуждение. Но внешне будь безобиден, как голубь, ибо, не достигнув цели, человек не должен обнаруживать свою суть. Помни!
Мы продолжали беседовать, пока не появился слуга Птагора с нанятыми носилками и чистой одеждой для хозяина. Рабы заложили носилки Птагора в соседнем борделе и все еще спали там. Птагор уполномочил слугу выкупить носилки и рабов, распрощался с нами, заверяя отца в своей дружбе, и вернулся в аристократическую часть города.
Но на следующий день он прислал в подарок Кипе священного скарабея, вырезанного из драгоценного камня, чтобы ей положили его у самого сердца, под саваном, на ее похоронах. Он не мог доставить моей матери большей радости, и она простила ему все и перестала отчитывать моего отца за пьянство.
Книга II Обитель жизни
1
В те дни в Фивах все высшее обучение сосредоточили в своих руках жрецы Амона и невозможно было готовиться к тому, чтобы занять важную должность, без свидетельства от них. Как всем известно, Обитель Жизни и Обитель Смерти с незапамятных времен находились внутри храмовых стен так же, как и богословские школы для жрецов высшей ступени. Можно понять, что математический и астрономический факультеты подчинялись жрецам, но когда они взяли в свои руки правовое и торговое обучение, в наиболее проницательных умах из среды образованных классов возникли опасения, что жрецы вмешиваются в дела, касающиеся лишь фараона и налогового ведомства. Посвящение не было, конечно, обязательно для членов гильдии купцов или юристов, но так как в ведении Амона была по меньшей мере пятая часть земель Египта, а значит, и его торговля, то те, кто желал вести крупные торговые операции или занять административный пост, считали разумным получить первую низшую жреческую степень и подчиниться, как верные слуги, Амону.
Прежде чем я смог переступить порог Обители Жизни, я должен был сдать экзамен на богословском факультете для получения низшей жреческой степени. Это заняло у меня более двух лет, ибо в то же самое время я должен был сопровождать отца при визитах к больным и извлекать из его опыта знания, полезные для моей будущей деятельности. Я по-прежнему жил дома, но каждый день должен был посещать ту или иную лекцию.
Кандидаты на низшую степень были разделены на группы соответственно специальностям, предназначенным им впоследствии. Мы, иначе говоря, те, что должны были стать учениками Обители Жизни, составили особую группу, но я не нашел близкого друга среди моих товарищей. Я принял к сердцу мудрое предостережение Птагора и держался в стороне, покорно выполняя каждый приказ и притворяясь непонимающим, когда другие шутили и кощунствовали, как свойственно мальчишкам. Среди нас были сыновья врачей, чей совет и лечение оплачивались золотом. Среди нас были также сыновья сельских врачей, часто старше нас годами, здоровенные, неуклюжие, загорелые парни, стремившиеся скрыть свою застенчивость и старательно выполнявшие задания. Были и юноши из низших классов, которые желали подняться выше круга занятий и общественного уровня своих отцов; они обладали природной жаждой знаний, и к ним-то и проявляли наибольшую строгость, потому что жрецы по натуре своей недоверчивы ко всем, кто не довольствуется старыми порядками.
Моя осторожность сослужила мне добрую службу, ибо скоро я заметил, что у жрецов были среди нас свои соглядатаи и осведомители. Неосторожное слово, высказанное сомнение или шутка, произнесенная среди друзей, вскоре становились известны жрецам, и виновного вызывали для расследования и наказания. Иных пороли, а других даже изгоняли из Обители Жизни, которая с этого времени была навсегда для них закрыта — как в Фивах, так и во всем остальном Египте.
Мое умение читать и писать дало мне заметное преимущество перед многими из моих товарищей, включая даже некоторых старших. Я считал себя достаточно зрелым, чтобы вступить в Обитель Жизни, но мое посвящение было отложено. У меня не хватало смелости спросить о причине, поскольку на это взглянули бы как на неповиновение Амону. Я тратил попусту свое время, переписывая тексты из Книги Мертвых, что продавалась во внешнем дворе, и стал бунтовать и пал духом, ибо многие из наименее одаренных моих товарищей уже начали заниматься в Обители Жизни. Но под руководством отца мне предстояло получить лучшие знания предмета, чем у них, и впоследствии я стал думать, что жрецы Амона были мудрыми. Они видели меня насквозь, заметили мою строптивость и мое неверие, а потому подвергли меня этому испытанию.
Наконец мне сказали, что пришел моей черед бодрствовать в храме. Я прожил неделю во внутренних покоях. В течение этого времени мне запретили покидать территорию, примыкающую к храму. Я должен был поститься и совершить обряд очищения, а отец поспешил отрезать мои волосы и пригласить соседей на пир, чтобы отпраздновать наступление моей возмужалости. Ибо с этого времени, уже готовый к посвящению (как бы в сущности ни была наивна и пуста эта церемония), я буду для всех взрослым, стоящим выше соседских мальчишек и всех других ребят моего возраста.
Кипа сделала все от нее зависящее, но мне казалась безвкусной ее медовая коврижка, а веселье и грубые шутки соседей не развлекали меня. Вечером, после ухода гостей, моя грусть передалась Сенмуту и Кипе. Сенмут поведал мне правду о моем рождении, Кипа подсказывала, когда ему изменяла память, тогда как я вглядывался в тростниковую лодку, висящую над моей постелью. Ее почерневшие сломанные подпорки наполняли болью мое сердце. Во всем мире не было у меня ни настоящего отца, ни матери, и я был одинок под звездами в большом городе. Может быть, я был всего лишь жалким пришельцем в земле Кем или же мое происхождение было покрыто постыдной тайной.
В моем сердце была боль, когда я шел в храм, одетый в праздничное одеяние, которое сшила для меня Кипа с такой заботой и любовью.
2
Нас было двадцать пять юношей и мальчиков, готовящихся к вступлению в храм. После того как мы вымылись в храмовом бассейне, наши головы были обриты и мы надели грубые одежды. Жрец, назначенный нашим директором, был не такой мелочно-придирчивый, как некоторые другие. Традиция давала ему право подвергать нас унизительным обрядам различного рода, но между нами одни были из знати, а другие, которые сдали уже свои юридические экзамены, — вполне взрослые мужчины, ставшие слугами Амона, чтобы обеспечить свое будущее. Эти привезли с собой много припасов и дарили жрецам вино; некоторые даже убегали по ночам в увеселительные заведения, ибо посвящение ничего не значило для них. Я служил с болью в сердце и с множеством мыслей в голове, довольствуясь куском хлеба и чашкой воды — обычной для новичков диетой — и ожидая того, что должно произойти, с надеждой, смешанной с дурным предчувствием.
Ибо я был так юн, что испытывал желание верить. Говорили, что сам Амон явится на посвящение и лично будет беседовать с каждым кандидатом; было бы несказанным утешением найти освобождение от самого себя в сознании некоей высшей и всеобъемлющей цели. Но перед врачами стоит обнаженным даже фараон; еще ребенком, находясь подле отца, я видел болезнь и смерть; мой глаз был более наметан и видел острее, чем у других моих сверстников. Для врача ничто не может быть слишком священно и он не склоняется ни перед чем, кроме смерти, — так учил меня отец. Поэтому я сомневался, и все, что я видел в храме за три года, только усилило мое неверие.
Все же я надеялся, что за туманной завесой святилища найду Неведомое, что Амон явится мне и принесет мир моему сердцу.
Я размышлял об этом, бродя вдоль колоннад, к которым имели доступ миряне. Я рассматривал красочные священные изображения и надписи, рассказывающие о фантастических дарах Амону от фараонов; их доставляли с поля боя как его долю трофеев. И там встретил я прекрасную женщину в одежде из столь тонкого полотна, что сквозь него можно было видеть ее грудь и чресла. Она была стройная и гибкая, ее губы, щеки и брови были накрашены, и она взглянула на меня с бесстыдным любопытством.
— Как тебя зовут, красавчик? — спросила она; ее глаза остановились на моей серой накидке, означающей, что я готовлюсь к посвящению.
— Синухе, — отвечал я в смущении, не смея встретить ее взгляд; но она была так прекрасна, и я с надеждой ждал, что она попросит меня быть ее проводником в храме. Об этом часто просили новичков.
— Синухе, — задумчиво повторила она, разглядывая меня. — Значит, ты очень пуглив и убегаешь, когда тебя посвятят в тайну.
Она намекала на легендарного Синухе, и это раздосадовало меня: достаточно меня дразнили этим в школе. Я выпрямился и посмотрел ей в глаза, и ее взгляд был таким странным — ясным и испытующим, что я почувствовал, как вспыхнуло мое лицо, и огонь, казалось, пробежал по моим жилам.
— Чего я должен бояться? — резко возразил я. — Будущий врач не боится никаких тайн.
— А-а, — улыбнулась она, — птенец запищал раньше, чем вылупился из яйца. Но скажи-ка мне, нет ли среди твоих товарищей юноши по имени Метуфер? Он сын главного строителя фараона.
Метуфер был тот самый, кто допьяну напоил жреца вином и дал ему золотой браслет как дар при посвящении. Я почувствовал внезапную острую боль, когда сказал, что знаю его, и предложил его привести. Затем мне пришло в голову, что она, может быть, его сестра или какая-нибудь другая родственница; это приободрило меня, и я смело улыбнулся ей.
— Однако как я могу привести его, если не знаю твоего имени? Как я скажу ему, кто послал меня?
— Он знает, — отвечала женщина, нетерпеливо постукивая по полу сандалией, украшенной драгоценностями. Я посмотрел на маленькие ножки, не испачканные пылью, и на прекрасные ногти, покрытые ярко-красным лаком.
— Он знает, кто. Быть может, он что-то мне должен. Быть может, мой муж путешествует и я жду, чтобы Метуфер пришел и утешил меня.
Я снова пал духом при мысли, что она замужем, но живо сказал:
— Отлично, прекрасная незнакомка! Я приведу его. Я скажу, что его зовет женщина моложе и прекраснее богини луны. Тогда он узнает, кто это, ибо тот, кто однажды видел тебя, никогда тебя не забудет.
Испугавшись собственной самонадеянности, я повернулся, чтобы уйти, но она ухватилась за меня.
— Зачем же спешить? Погоди! У нас с тобой есть еще о чем поговорить.
Она снова оглядела меня, и сердце растаяло у меня в груди и все во мне оборвалось. Она протянула руку, унизанную кольцами и браслетами, коснулась моей головы и ласково сказала:
— Разве не холодно этой хорошенькой свежевыбритой голове? — Затем нежно: — Ты говорил правду? По-твоему, я красива? Посмотри внимательнее.
Я взглянул на нее: ее одежда была из царского полотна, и она показалась мне прекрасной — прекраснее всех женщин, каких я видел, и поистине, она не стремилась скрыть свою красоту. Я смотрел на нее и забыл о ране в моем сердце, забыл Амона и Обитель Жизни. Ее близость жгла огнем мое тело.
— Ты не отвечаешь, — грустно сказала она, — и незачем. Твои прекрасные глаза, наверное, видят во мне ведьму. Так ступай и приведи молодого кандидата Метуфера — и избавишься от меня.
Я не мог ни оставить ее, ни говорить, хотя знал, что она меня дразнит.
Между огромными колоннами храма было темно. Тусклый отсвет каменной колоннады мерцал в ее глазах, и никто не видел нас.
— Может, тебе незачем приводить его? — Теперь она улыбалась. — Может, с меня довольно того, что ты восхищаешься мною и насладишься мной, ибо я не знаю, кто другой мог бы дать мне радость.
Тоща я вспомнил, что рассказывала мне Кипа о женщинах, которые соблазняют красивых мальчиков; я вспомнил это столь внезапно, что отпрянул на шаг назад.
— Разве я не угадала, что Синухе испугается?
Она снова приблизилась ко мне, но я в ужасе поднял руку, чтобы отстранить ее, сказав:
— Я знаю теперь, что ты за женщина. Твой муж в отлучке, и твое сердце — ловушка, а твое тело жжет сильнее огня.
Но хотя я и говорил так, я не мог убежать от нее.
Она была ошеломлена, но снова улыбнулась и подошла близко ко мне.
— Ты веришь этому, — мягко сказала она. — Но это неправда! Мое тело вовсе не жжет как огонь; говорят, что оно желанно. Попробуй сам!
Она взяла мою безвольную руку и поднесла ее к своему животу. Я ощущал ее прелесть сквозь тонкую ткань так, что начал дрожать и мои щеки запылали.
— Ты все еще не веришь мне, — сказала она с притворным разочарованием. — Моя одежда мешает, но постой — я сброшу ее.
Она скинула одежду и притянула мою руку к своей обнаженной груди. Она была нежная и прохладная под моей рукой.
— Пойдем, Синухе, — сказала она очень мягко. — Пойдем со мной. Мы выпьем вина и насладимся вместе.
— Мне нельзя выходить за пределы храма, — сказал я в испуге и устыдился своей трусости; я и желал, и боялся ее так, как боялся смерти.
— Я должен блюсти чистоту, пока не пройду посвящения, иначе меня изгонят из храма и никогда вновь не буду я допущен в Обитель Жизни. Пожалей же меня!
Я сказал это, зная, что, если она еще раз попросит меня, я должен буду идти за ней. Но она была опытна и понимала мои терзания. Она задумчиво огляделась вокруг. Мы все еще были одни, но поблизости ходили люди и проводник громко перечислял чудеса храма нескольким посетителям, выпрашивая у них медные монеты перед тем, как показать им новые диковинки.
— Ты очень робкий юноша, Синухе! — сказала она. — Богатые и могущественные должны подносить мне золото прежде, чем я призову их. Но тебе следует остаться чистым.
— Ты бы хотела, чтобы я позвал Метуфера? — спросил я с отчаянием. Я знал, что Метуфер без колебаний улизнет из храма с наступлением ночи, хотя был его черед бодрствовать. Он мог себе это позволить, потому что его отец был главным строителем фараона… но я готов был убить его за это.
— Может быть, я больше не хочу, чтобы ты позвал Метуфера, — заметила она, лукаво заглядывая мне в глаза. — Может, я бы хотела, чтобы мы расстались друзьями, Синухе. Поэтому я скажу тебе, что меня называют Нефернефернефер — поскольку считают прекрасной и поскольку каждый, кто произнесет мое имя, не может удержаться, чтобы не повторить его снова и снова. Есть также обычай, что друзья при расставании обмениваются подарками на память. Поэтому я хочу получить от тебя подарок.
Я еще раз осознал свою бедность, ибо не мог ничего подарить ей: даже самого пустякового украшения, самого маленького медного колечка; но если бы они у меня и были, я не посмел бы предложить их ей. Я испытывал такой горький стыд, что опустил голову и был не в состоянии вымолвить ни слова.
— Тогда дай мне подарок, который оживит мое сердце, — сказала она и приподняла пальцем мой подбородок, приблизив ко мне лицо. Когда я понял, чего она хочет, я коснулся губами ее нежных губ. Она слегка вздохнула.
— Благодарю тебя. Это прекрасный подарок, Синухе. Я не забуду его. Но ты, должно быть, пришелец из далекой страны, раз ты все еще не умеешь целоваться. Иначе как могло случиться, что фиванские девушки не научили тебя, ведь твои волосы острижены в знак возмужания?
Она сняла с большого пальца перстень из золота и серебра с крупным камнем без всякой надписи и надела его мне на руку.
— Я тоже даю тебе подарок, Синухе, так что ты не должен забывать меня. Когда ты примешь посвящение и вступишь в Обитель Жизни, ты сможешь вырезать свою печать на этом камне, как делают люди богатые и солидные. Но помни, что камень зеленый, ибо меня зовут Нефернефернефер и говорят, будто мои глаза зелены, как вода Нила в летний зной.
— Я не могу взять твой перстень, Нефер, — и я повторял это «Нефернефер», и повторение доставляло мне несказанную радость, — но я никогда не забуду тебя.
— Глупый мальчик! Храни перстень, потому что я этого хочу. Храни ею ради моей прихоти и ради прибыли, которую он когда-нибудь принесет мне.
Она помахала тонким пальцем перед моим лицом, и ее глаза смеялись, когда она сказала:
— И запомни, что нужно остерегаться женщин, чьи тела жгут сильнее огня!
Она повернулась, чтобы уйти, запретив мне следовать за ней. Через дверь храма я видел, как она подошла к резным разукрашенным носилкам, которые дожидались ее во дворе. Скороход шел впереди и кричал, чтобы освободили дорогу. В стороне стояли люди, перешептываясь и глядя ей вслед. Когда она ушла, меня охватила смертельная пустота, как если бы я бросился в темную пропасть.
Метуфер заметил перстень на моем пальце спустя несколько дней; он схватил мою руку и с подозрением уставился на него.
— Клянусь сорока священными обезьянами Озириса! Нефернефернефер, а? Я никогда не поверил бы этому.
Он взглянул на меня с чем-то похожим на уважение, хотя жрец заставлял меня мыть полы и выполнять самые унизительные работы, поскольку у меня не хватило ума сделать ему подарок.
Тогда я почувствовал такую ненависть к Метуферу и его словам, какую может ощущать лишь юнец. Как бы страстно ни желал я расспросить его о Нефер, я не хотел унизиться до этого. Я скрыл тайну в сердце, ибо ложь прекраснее, чем правда, а мечта чище, чем плотская близость. Я созерцал зеленый камень на моем пальце, вспоминая ее глаза и ее прохладную грудь, и мне казалось, что я все еще чувствую благоухание ее ароматических притираний на своих пальцах. Я ощущал ее, и ее нежные губы все еще касались моих — в утешение, ибо к этому времени Амон открылся мне и моя вера пропала.
Думая о ней, я шептал с пылающими щеками: «Сестра моя». И это слово ласкало мой слух, ибо с незапамятных времен означало и будет вовеки означать «моя любимая».
3
Но я расскажу о том, как Амон открылся мне. На четвертую ночь был мой черед охранять покой Амона. Нас было семеро мальчиков: Мата, Мозе, Бек, Синуфер, Нефру, Ахмос и я. Мозе и Бек тоже были кандидатами для поступления в Обитель Жизни, так что я знал их, но остальных не знал.
Я ослаб от поста и ожидания. Мы были в торжественном настроении и серьезно шли за жрецом — да сгинет его имя в забвении, — когда он повел нас в огороженную часть храма. Ладья Амона проплыла за холмами на западе, стражи протрубили в свои серебряные рога, и врата храма закрылись. Но жрец, который вел нас, хорошо подкрепился жертвенным мясом, фруктами и сладкими лепешками; жир капал с его лица, а щеки разрумянились от вина. Посмеиваясь про себя, он поднял завесу и велел нам заглянуть в святая святых. В нише, высеченной из одной огромной каменной глыбы, стоял Амон Драгоценности на его головном уборе и воротнике искрились в пламени священных светильников зеленым, красным и голубым, как живые глаза. Утром под руководством жреца мы должны были умастить и переодеть его, ибо каждое утро ему требовалось новое одеяние. Я видел его перед тем на весеннем празднестве, когда его вынесли во внешний двор в его золотой ладье и все люди пали ниц пред ним и когда река достигла полноводья; я видел, как он плыл по священному озеру на своем корабле из кедрового дерева. Но тогда как скромный новичок я видел его лишь мельком на расстоянии. Его красное одеяние никогда еще не производило такого ошеломляющего впечатления, как теперь, при искусственном освещении, в нерушимой тишине святилища. Красное носили только боги и фараоны, и, взглянув на его приподнятое лицо, я почувствовал себя так, словно каменные плиты легли мне на грудь, чтобы задушить меня.
— Бдите и молитесь, чтобы не впасть в грех, — сказал жрец, цепляясь за край занавеса, ибо нетвердо держался на ногах. — Быть может, он позовет вас. Это его обычай открываться кандидатам, называя их по имени и говоря с ними, если они того достойны.
Он наспех сделал священные знаки, пробормотал божественное имя Амона и снова задернул занавес, даже не потрудившись поклониться и вытянуть вперед руки.
Он ушел, оставив нас одних в темноте внутреннего придела, на каменном полу которого стыли наши ноги. Когда он удалился, Мозе извлек светильник из-под накидки, тогда как Ахмос невозмутимо пошел в святилище и принес священный огонь, чтобы зажечь его.
— Мы не дураки, чтобы сидеть в темноте, — сказал Мозе, и мы почувствовали себя безопаснее, хотя думаю, что ни один из нас не избавился от страха.
Ахмос вынул хлеб и мясо. Мата и Нефру затеяли игру в кости на плитах пола, выкрикивая счет очков так громко, что разбудили эхо под сводами храма. Но, поев, Ахмос закутался в свою накидку и, проклиная твердость каменного пола, улегся спать; немного погодя Синуфер с Нефру легли рядом с ним, чтобы согреться.
Но я был юн и бодрствовал, хотя знал, что жрец получил кувшин вина от Метуфера, которого пригласил с одним или двумя другими отличившимися кандидатами в свою комнату, и поэтому не станет приходить, чтобы застать нас врасплох. Я бодрствовал, хотя по рассказам других знал, что у претендентов на посвящение было в обычае проводить время бдения в еде, игре и сне.
Моя ночь тянулась долго. Тогда как другие спали, я был преисполнен благочестия и высоких стремлений и размышлял о том, что остался чистым, постился и выполнял все старинные заповеди, так что Амон может открыться мне. Я повторял его святые имена и напряженно прислушивался к каждому шороху — но храм был пуст и холоден. С приближением утра занавес святилища зашевелился от сквозняка, но, кроме этого, больше ничего не произошло. Когда дневной свет стал пробиваться в храм, я с тяжелым сердцем задул светильник и разбудил товарищей.
Воины затрубили в рога, на стенах сменилась стража, а из внешнего двора донесся приглушенный ропот толпы, похожий на шум отдаленного потока. Мы поняли, что начался новый день с его трудами. Наконец очень поспешно вошел жрец и вместе с ним, к моему изумлению, Метуфер. От них разило вином; они шли под руку, жрец размахивал связкой ключей от святых гробниц. Подталкиваемый Метуфером, он пробормотал священные заклинания, прежде чем поздоровался с нами.
— Кандидаты Мата, Мозе, Бек, Синуфер, Нефру, Ахмос и Синухе! Так ли вы бодрствовали и молились, как вам было приказано, чтобы быть допущенными в Святая Святых?
— Мы бодрствовали и молились, — ответили мы в один голос.
— Открылся ли вам Амон согласно своему слову?
Жрец рыгал и неуверенно посматривал на нас.
Мы искоса поглядывали друг на друга и колебались. Наконец Мозе нерешительно пробормотал:
— Он открылся.
Один за другим мои товарищи повторили:
— Он открылся. Последний из всех, Ахмос твердо и почтительно заявил:
— Вне всяких сомнений, он действительно открылся. — Он уставился прямо в глаза жрецу, а я промолчал. Мне казалось, будто чья-то рука сжала мое сердце, ибо для меня слова моих товарищей были богохульством.
Метуфер дерзко заявил:
— Я тоже бодрствовал и молился, чтобы быть достойным посвящения, так что на следующую ночь меня здесь не будет: мне предстоит нечто иное. И мне также явился Амон, что может подтвердить жрец. Видом он походил на большой винный кувшин, и он говорил со мной о многих священных материях, но мне не подобает рассказывать вам об этом; и слова его освежали меня, как вино, так что я жаждал слушать еще и еще до самого рассвета.
Тогда Мозе набрался храбрости и сказал:
— Ко мне он явился в образе своего сына Гора, который сел мне на плечо подобно соколу и произнес: «Будь благословен ты, Мозе, твоя семья и все твои дела, и да будешь ты жить в доме с двумя воротами и распоряжаться множеством слуг».
Теперь остальные также спешили рассказать о том, что Амон поведал им; они нетерпеливо говорили, несколько человек сразу, тогда как жрец слушал, кивал головой и смеялся. Не знаю, о снах ли своих говорили они или же просто лгали.
Наконец, нахмурив свои выбритые брови, жрец обратился ко мне и строго спросил:
— А ты, Синухе! Разве ты недостоин? Что, Амон не являлся тебе вообще ни в каком обличил? Не видел ли ты его хотя бы в образе мышонка? Ибо он появляется в разных видах.
Мое вступление в Обитель Жизни висело на волоске, так что я собрался с духом и ответил:
— На рассвете я видел, как заколыхался святой занавес в святилище, но больше я ничего не заметил, и Амон ничего не сказал мне.
Тогда все разразились хохотом; Метуфер смеялся, хлопая себя по коленям, и говорил жрецу: «Он простак». Затем, дергая его вымокший в вине рукав, он что-то прошептал ему, все еще не отрывая от меня глаз.
Жрец снова строго взглянул на меня и сказал:
— Если ты не слышал голоса Амона, ты не можешь быть посвящен. При всем том мы все же постараемся найти какое-нибудь средство, ибо я считаю тебя стойким юношей, исполненным честных устремлений.
Проговорив это, он скрылся в Святая Святых, а Метуфер приблизился ко мне. Увидев мое скорбное лицо, он дружески улыбнулся и сказал: «Не бойся!»
Мгновение спустя мы все вскочили, потому что темноту зала прорезал сверхъестественный вопль, непохожий ни на один человеческий голос. Казалось, он доносится сразу отовсюду: с крыши, со стен и от колонн, и мы озирались, чтобы обнаружить, откуда он исходит.
— Синухе, Синухе, ты, бездельник, ты где? Приди скорее и преклонись предо мной, ибо у меня ведь мало времени и я не могу ждать тебя весь день.
Метуфер отдернул завесу святилища и, вталкивая меня внутрь, ухватил меня за шиворот и пригнул к полу, заставив принять позу, в которой надлежит приветствовать фараонов и богов. Но я тотчас же поднял голову и увидел, что Святая Святых была залита светом.
Из уст Амона донесся голос:
— Синухе, Синухе, ты свинья и обезьяна! Значит, ты был пьян и спал, когда я призывал тебя? Поистине, тебя следовало бы бросить в грязную лужу и заставить питаться илом всю твою жизнь, однако же ради твоей юности я сжалюсь над тобой, невзирая на твою глупость, неряшество и лень. Ибо я сострадаю тем, кто верит в меня, но все другие будут сброшены в пропасть Царства Смерти.
Многое еще сказал голос с завываниями, оскорблениями и проклятиями, но я больше не помню всего этого и не желаю помнить, настолько мне было унизительно и горько. Ибо по мере того, как я слушал, я различал в отраженных эхом сверхъестественных звуках голос жреца, и это открытие так потрясло и ужаснуло меня, что я не мог более вслушиваться в это. Когда голос замолк, я остался лежать перед статуей Амона, пока не вошел жрец и не отшвырнул меня пинком. Мои товарищи поспешили принести фимиам, притирания, косметику и красные одежды.
Каждый из нас имел определенное задание, и, помня о своем, я вышел во внешний двор принести сосуд с водой и освященное полотенце для омовения лица, рук и ног бога. Вернувшись, я увидел, как жрец плюнул в лицо Амона и вытер его грязным рукавом. Затем Мозе и Нефру покрасили ему губы, щеки и брови. Метуфер умастил его и, смеясь, натер священным маслом лицо жреца и свое собственное. Затем статую раздели, чтобы вымыть и вытереть ее, будто она сама обмаралась, затем ее обернули красной складчатой юбкой и передником, на ее плечи набросили накидку и продели руки в рукава.
Когда все было закончено, жрец собран сброшенное одеяние и занялся водой для омовения и полотенцами. Все это предстояло рассортировать и распродать на внешнем дворе богатым путешественникам, причем воду раздавали как лекарство от кожных заболеваний. После этого нам разрешили выйти на освещенный солнцем двор, где меня вырвало.
Моя голова и сердце были так же пусты, как и мой желудок, ибо я уже не верил более в богов. Но когда минула неделя, мне умастили голову маслом, и, принеся жреческую клятву, я получил свидетельство. На этом документе была большая печать храма Амона и мое имя, и это давало мне право вступить в Обитель Жизни.
Итак, мы вступили туда, Мозе, Бек и я. Ее врата открылись для нас, и мое имя было внесено в Книгу Жизни так же, как прежде было внесено имя моего отца Сенмута и имя его отца до него. Но я уже не был счастлив более.
4
В Обители Жизни, которая была частью великого храма Амона, номинально обучением руководили царские врачи, каждый по своей специальности. Впрочем, мы редко видели их, ибо у них была обширная практика, они получали от богачей дорогие подарки и жили в просторных загородных домах. Но когда в Обитель Жизни приходил какой-нибудь пациент, чья болезнь ставила в тупик обыкновенных врачей, или если они не решались взять на себя лечение, обычно появлялся царский врач, чтобы лечить его, а заодно продемонстрировать свое искусство тем, кто специализировался в его области. Таким образом, даже самый бедный больной мог воспользоваться помощью царского врача во славу Амона.
Период обучения был долог даже для тех, кто обладал талантом. Мы должны были прослушать курс о лекарствах и их дозировке, знать названия и свойства трав, время года и часы, когда их следует собирать, а также научиться высушивать их и готовить из них экстракты, ибо врач должен уметь изготовлять в случае необходимости свои собственные лекарства. Многие из нас роптали на это, не находя в этом смысла, ибо достаточно было написать рецепт, чтобы получить из Обители Жизни все известные лекарства, надлежащим образом приготовленные и дозированные. Я покажу, однако, как впоследствии это знание сослужило мне добрую службу.
Мы должны были изучить названия различных частей тела, а также функции и назначение каждого органа. Мы учились управлять скальпелем и пинцетами, но прежде всего нам следовало приучить наши руки распознавать болезнь — как по исследованию естественных отверстий, так и пальпацией; по глазам мы также должны были определять характер недомогания. Мы должны были научиться помогать женщине при родах, когда повитуха с этим не справлялась. Мы должны были уметь вызывать боль и смягчать ее по обстоятельствам и отличать пустяковые жалобы от серьезных, а заболевания психические от физических. Нам нужно было распознавать в жалобах больного правду и ложь и уметь задавать вопросы, с тем чтобы получить ясную картину недуга.
За длительным периодом испытания наступил день, когда — после долгого очищения — я облачился в белую тогу и начал работать в приемном зале, где учился рвать зубы у здоровенных детин, перевязывать раны, вскрывать скальпелем нарывы и вправлять сломанные конечности. Все это было для меня не ново; благодаря урокам отца я делал большие успехи, и мне поручили опекать моих товарищей и наставлять их. Порой я получал такие же подарки, как и врачи, и я вырезал свое имя на том зеленом камне, что подарила мне Нефернефернефер, и потому мог ставить свою печать под рецептами.
На меня возлагали еще более ответственные задания. Я дежурил в покоях, где лежали неизлечимо больные, и ассистировал знаменитым врачам в лечении и при операциях, во время которых на одного вылеченного приходилось десять умерших. Я понял, что в смерти нет ничего страшного для врача, а к больным она часто приходит как милосердный друг, так что их лица после смерти становились безмятежнее, чем когда бы то ни было за всю их трудную жизнь.
Я все еще был слеп и глух, пока однажды не пришло прозрение, как это случилось в моем детстве, когда изображения, слова и буквы обрели жизнь. Мои глаза вновь открылись, и я словно очнулся ото сна; дух мой преисполнился радости, ибо я сам себе задал вопрос «почему?» Сокровенная тайна истинного знания и заключена в вопросе «почему?» Этот вопрос могущественнее, чем свирель Тота, и убедительнее, чем надписи, высеченные на камнях.
Это случилось так. Ко мне пришла женщина, не имевшая детей и считавшая себя бесплодной, ибо ей было уже сорок лет. Но ее месячные очищения прекратились, и она была встревожена; она пришла в Обитель Жизни, поскольку боялась, что одержима злым духом, который отравляет ее тело. Как предписывалось в таких случаях, я посадил в землю пшеничные зерна, поливая половину из них нильской водой, а остальное — мочой женщины. Затем я выставил эту землю на солнце и велел женщине вернуться через два дня. Когда она пришла снова, зерна проросли, причем политые нильской водой побеги были мелкие, а другие — зеленые и крепкие.
То, что писали в старину, оказалось правдой, и я сказал удивленной женщине:
— Радуйся, ибо святой Амон в милосердии своем благословил твое чрево и ты произведешь на свет дитя, как и другие избранные женщины.
Бедная душа зарыдала от радости и дала мне серебряный браслет со своего запястья, весивший два дебена, ибо она давно уже потеряла надежду. И как только она поверила мне, она спросила: «Это сын?» — полагая, что я всеведущий. Я набрался храбрости, посмотрел ей в глаза и сказал: «Это сын». Ибо шансы были равны, а в это время мне везло. Женщина еще больше обрадовалась и подарила мне браслет с другого запястья весом в два дебена.
Но когда она ушла, я спросил себя, возможно ли, чтобы пшеничное зерно открыло то, чего не может обнаружить ни один врач, и знало это прежде, чем глаз может обнаружить признаки беременности? Призвав всю свою решимость, я спросил об этом моего учителя. Он только взглянул на меня как на слабоумного и сказал: «Так написано». Но это не было ответом.
Я снова собрался с духом и задал тот же вопрос царскому акушеру в родильном доме. Он ответил:
— Амон превыше всех богов. Его око видит чрево, восприявшее семя; если он допускает зачатие, почему он не может, также допустить, чтобы прорастало зерно, политое мочой беременной женщины?
Он тоже уставился на меня как на полоумного, но и это не было ответом.
Тогда мои глаза открылись, и я понял, что врачи в Обители Жизни знают лишь писаные правила и традиции и ничего более. Если я спрашивал, почему гноящиеся раны прижигают, тогда как обычные просто перевязывают и бинтуют, и отчего нарывы излечиваются плесенью и паутиной, они замечали только: «Так было всегда». Точно также хирург мог выполнить 182 предписанные операции, а также иссечения соответственно своему опыту и мастерству — хорошо или плохо, быстро или медленно, более или менее безболезненно; но большего сделать он не мог, ибо лишь эти операции были описаны и объяснены в книгах и ничего более никогда не было сделано.
Бывали случаи, когда больной худел и бледнел, хотя врач не мог обнаружить у него ни болезни, ни повреждения; его можно было укрепить или вылечить диетой из сырой печени жертвенных животных, очень дорого стоящей, но ни в коем случае нельзя было спросить «почему?». У некоторых были боли в животе и жжение в руках и ногах. Они получали слабительное и наркотики; одни выздоравливали, другие умирали, но ни один врач не мог предсказать, выживет больной или его живот раздуется и он умрет. Никто не знал, отчего это происходит; никому не дозволялось искать ответа.
Я скоро заметил, что задаю слишком много вопросов, ибо люди начали коситься на меня, а те, кто пришел после меня, уже стали моими начальниками. Тогда я снял мое белое одеяние, очистился и покинул Обитель Жизни, унося с собой два серебряных запястья, весивших вместе четыре дебена.
5
Когда я покинул храм, чего не делал годами, то увидел, что, пока я работал и учился, Фивы изменились. Я заметил это, проходя вдоль улицы Рамс и через рынки. Везде царило оживление; одежда людей стала более изысканной и дорогой, так что с трудом можно было отличить мужчин от женщин по их парикам и складчатым юбкам. Из винных магазинов и борделей доносилась пронзительная сирийская музыка; чужеземная речь слышалась на улицах, где сирийцы и богатые негры без стеснения общались с египтянами.
Богатство и мощь Египта были безмерны; в течение столетий ни один враг не вторгался в его города, и люди, которые никогда не знали войны, достигли уже среднего возраста. Но не могу сказать, стали ли люди от этого хоть сколько-нибудь счастливее, ибо их глаза были беспокойны, движения торопливы, и казалось, что они все время нетерпеливо ждут чего-то нового и не удовлетворены сегодняшним днем.
Я шел один вдоль фиванских улиц с чувством тяжести и протеста в душе. Вернувшись домой, я обнаружил, что мой отец Сенмут состарился; спина его сгорбилась и он не мог больше разбирать писаных иероглифов. Моя мать Кипа тоже постарела; она передвигалась с одышкой и не говорила ни о чем, кроме своей могилы, ибо на свои сбережения отец купил могилу в Городе Мертвых на западном берегу реки. Я видел ее: это была красивая гробница, сложенная из глиняных кирпичей, слепленных из ила, с традиционными надписями и картинками на стенах, а вокруг нее были сотни и тысячи подобных могил; жрецы Амона продавали их честным бережливым людям за большую цену: те платили ее, чтобы обрести бессмертие. Я переписал Книгу Смерти, которую следовало положить в их гробницу, чтобы они не заблудились в своем долгом путешествии; это была прекрасная, отлично написанная книга, хотя и не украшенная цветными картинками, как те, что продавались в книжном дворе храма Амона.
Мать дала мне поесть, а отец расспрашивал меня о занятиях; но кроме этого нам нечего было сказать друг другу; дом казался мне таким же чужим, как улицы и люди на улицах. На сердце у меня стало еще тяжелее, пока я не вспомнил храм Пта и Тутмеса, который был моим другом и собирался стать художником. Я думал: «В моем кармане четыре дебена серебра. Я разыщу моего друга Тутмеса, и мы сможем вместе повеселиться и попировать, ибо я не нахожу никакого ответа на мои вопросы».
Итак, я попрощался с родителями, сказав, что должен вернуться в Обитель Жизни, и незадолго до захода солнца разыскал храм Пта. Узнав у привратника, где находится художественная школа, я вошел и осведомился об ученике Тутмесе; только тогда я услышал, что его давным-давно исключили. Ученики плевали на землю передо мной, произнося его имя, потому что при этом был их учитель; когда же он отвернулся, они посоветовали мне пойти в таверну под названием «Сирийский кувшин».
Я нашел эту таверну; она находилась между бедным и богатым кварталами, над дверью ее была надпись, восхваляющая вино с виноградника Амона, а также и то, что доставляли из порта. Внутри художники, сидя на корточках на полу, писали картины, тогда как какой-то старик меланхолически созерцал пустую винную чашу, стоящую перед ним.
— Синухе, клянусь всеми гончарными кругами! — воскликнул кто-то, вскочив с поднятыми в удивлении руками и приветствуя меня.
Я узнал Тутмеса, хотя ею грязная накидка превратилась в лохмотья и глаза были налиты кровью, а на лбу красовалась большая шишка. Он возмужал и похудел, и в углах его рта появились морщинки, но глаза его все еще хранили бодрый, озорной, неотразимый блеск; он нагнулся, пока мы не коснулись друг друга щеками. Я понял тогда, что мы все еще друзья.
— У меня тяжело на душе, — сказал я ему. — Все суета, и я разыскал тебя, чтобы мы вместе порадовали наши сердца вином, ибо никто не отвечает на мой вопрос «почему?»
Тутмес поднял свой фартук, показывая, что у него нет денег на покупку вина.
— Я принес четыре дебена серебра на своих запястьях, — произнес я с гордостью.
Затем Тутмес указал на мою голову, которая все еще была выбрита, поскольку я хотел показать людям, что был жрецом первой ступени — это все, чем я мог гордиться. Но теперь мне было досадно, что я не отпустил волосы, и я раздраженно сказал:
— Я врач, а не жрец. Кажется, я прочел над дверью, что здесь можно получить вино из порта; давай же попробуем, каково оно на вкус.
Тутмес заказал смешанное вино, и пришел раб, чтобы полить воду нам на руки, и поставил на низкий стол перед нами жареные семена лотоса. Сам хозяин принес ярко раскрашенные кубки. Тутмес поднял свой кубок, выплеснул немного на пол и сказал:
— За божественного Гончара! Разрази чума художественную школу и ее учителей! — И он перечислил имена самых ненавистных ему.
Я тоже поднял свой бокал и уронил каплю на пол.
— Во имя Амона! Пусть у него вечно будет дырявая лодка, пусть лопнет брюхо его жрецов и пусть чума унесет всех тупиц-учителей в Обители Жизни! — Но я произнес это тихим голосом и оглянулся вокруг, чтобы кто-нибудь чужой не услышал мои слова.
— Не бойся, — сказал Тутмес. — В этой таверне столько раз давали в морду соглядатаям Амона, что с них уже хватит подслушивания, а все мы, находящиеся здесь, уже пропащие. У меня не было бы даже хлеба и пива, не осени меня мысль рисовать книжки с картинками для детей богатых.
Он показал мне свиток, над которым работал, когда я пришел. Я не мог сдержать смеха, ибо он изобразил здесь крепость, которую дрожащая испуганная кошка защищала от нападения мышей, а также гиппопотама, распевающего на вершине дерева, тогда как голубь с трудом карабкался туда по лестнице.
Карие глаза Тутмеса светились улыбкой, но она исчезла, когда он развернул папирус дальше и раскрыл картинку, изображающую лысого маленького жреца, который ведет в храм на веревке огромного фараона, как ведут жертвенное животное. Затем он показал мне низенького фараона, склонившегося перед гигантской статуей Амона. Он кивнул головой в ответ на мой вопросительный взгляд.
— Видишь? Взрослые тоже смеются над этими нелепыми картинками. Смешно, когда мыши атакуют кошку или жрец тащит фараона, но люди понимающие начинают о многом задумываться. Поэтому у меня не будет нужды в хлебе и пиве, пока жрецы не изобьют меня до смерти на улице. Такое уже случалось.
— Давай выпьем, — сказал я, и мы выпили как следует, но на душе у меня не стало легче. Теперь я задал ему свой вопрос:
— Не следует спрашивать «почему?»
— Конечно, не следует, ибо человеку, который осмеливается задать вопрос «почему?», нет места в стране Кем. Все должно быть, как было, и ты это знаешь. Я трепетал от радости, когда поступил в школу искусств. Я был похож на человека, который, изнывая от жажды, приник к источнику, на голодного, схватившего кусок хлеба. И я узнал много замечательных вещей… О да! Я узнал, как держать перо и обращаться с резцом, как слепить из воска то, что будет высечено из камня, как шлифовать камень, как подбирать для мозаики цветные камни и как писать красками на гипсе. Но когда я страстно желал приступить к работе и сделать то, о чем я мечтал, меня поставили мять глину, чтобы лепили из нее другие. Потому что выше всего стоит условность. В искусстве не меньше условности, чем в литературе, и тот, кто нарушает ее, будет проклят.
С начала времен было установлено, как надо изображать стоящую фигуру и как сидящую, как лошадь, поднявшуюся на дыбы, и как быка под ярмом. Испокон веку техника была предопределена, и кто бы ни отступил от этого, будет непригоден для храма, и нет для него ни камня, ни резца. О, Синухе, друг мой, я тоже спрашивал «почему?» — только слишком часто. Вот оттого и сижу здесь с шишками на голове.
Мы выпили и повеселели, и сердцу моему стало легче, словно в нем вскрыли нарыв, ибо я не был больше одинок.
— Синухе, мой друг, мы родились в странное время. Все мельчает — изменяет свою форму, как глина на гончарном круге. Меняются одежда, слова, обычаи, и люди больше не верят в богов, хотя и боятся их. Синухе, друг мой, верно, мы родились, чтобы увидеть конец света, ибо мир уже стар и прошло целых двенадцать веков с тех пор, как построили пирамиды. Когда я думаю об этом, мне хочется охватить голову руками и рыдать как ребенок.
Но он не плакал, ибо мы пили смешанное вино в ярко раскрашенных кубках, и всякий раз, вновь наполняя их, хозяин «Сирийского кувшина» кланялся и простирал руки вперед. Время от времени приходил раб, чтобы полить воду нам на руки. На душе у меня стало легко, как у ласточки в преддверии зимы; мне хотелось читать стихи и обнять весь мир.
— Пойдем в бордель, — смеясь, предложил Тутмес. — Послушаем музыку, поглядим на танцующих девочек и развеселим наши сердца. Давай не будем больше спрашивать «почему?» или требовать, чтобы наш кубок был полон.
Мы побрели вдоль улиц. Солнце село, и я в первый раз узнал такие Фивы, где никогда не бывает ночи. В этих ярких, шумных кварталах перед борделями пылали факелы, а на углах улиц на колоннах горели светильники. Рабы бегали взад и вперед с носилками, и крики скороходов смешивались с музыкой, доносящейся из домов, и с воплями пьяных.
Еще ни разу в жизни не переступал я порога борделя и был поэтому немного испуган. Тот, в который привел меня Тутмес, назывался «Кот и виноград». Это был хорошенький домик, залитый нежным золотистым светом. Там были мягкие циновки для сидения, и юные и, на мой взгляд, прелестные девушки отбивали такт под музыку флейт и арф. Когда музыка прекратилась, они подсели к нам и попросили меня угостить их вином, ибо у них совершенно пересохло в горле. Затем две обнаженные танцовщицы исполнили сложный танец, требующий большого мастерства, и я с интересом следил за ними. Как врач я привык видеть обнаженных женщин, но никогда еще не видел колышущейся груди или маленького живота, двигающегося так соблазнительно, как эти.
Но от музыки мне снова стало грустно, и я начал тосковать, сам не зная о чем. Красивая девушка взяла мою руку, прижалась ко мне сбоку и сказала, что у меня глаза мудреца. Но ее глаза не были так зелены, как Нил в разгар лета, и ее одежда, хотя и оставляла обнаженной ее грудь, была не из царского полотна. Так что я пил вино и не только не глядел в ее глаза, но и не чувствовал никакого желания назвать ее сестрой или насладиться с ней. И последнее, что я помню об этом месте, — это злобный пинок негра и шишку на голове, которую я набил, падая с лестницы. Вышло все точно так, как предсказала моя мать Кипа: я валялся на улице без гроша в кармане, пока Тутмес не взвалил меня на свои сильные плечи и не притащил к молу, где я смог досыта напиться нильской воды и омыть лицо, руки и ноги.
В это утро я пришел в Обитель Жизни с опухшими глазами и болящей шишкой на голове, в грязном плаще и без малейшего желания задавать вопрос «почему?». Я должен был дежурить у глухих и тех, чьи уши поражены болезнью, так что я быстро помылся и надел белую одежду. По дороге я встретил своего руководителя, и он начал бранить меня, употребляя выражения, которые я уже читал в книгах и знал наизусть.
— Что из тебя выйдет, если ты по ночам бегаешь по улицам и не считаешь выпитых кубков? Что из тебя выйдет, если ты бездельничаешь, проводя время в борделях и разбивая палкой кувшины с вином, и беспокоишь честных горожан? Что из тебя выйдет, если ты проливаешь кровь и бежишь от стражи?
Но, выполнив свой долг, он удовлетворенно улыбнулся про себя, повел меня в свою комнату и дал мне слабительное, чтобы очистить мой желудок. Мое настроение поднялось, так как я понял, что в Обители Жизни на вино и бордели смотрят сквозь пальцы, если перестаешь спрашивать «почему?»
6
Так что и меня охватила фиванская лихорадка, и я полюбил ночь больше, чем день, мерцание факелов больше, чем солнечный свет, сирийскую музыку больше, чем своих больных, и шепот хорошеньких девушек больше, чем старые запутанные тексты на пожелтевших бумагах. Но никто не возражал против этого, так как я выполнял свою работу в Обители Жизни, удовлетворяя своих руководителей, и рука моя оставалась твердой. Все это составляло часть жизни посвященного; немногие ученики могли позволить себе обзавестись собственным домом и жениться в период обучения, и мой руководитель дал мне понять, что было бы хорошо, если бы я перебесился, дал себе волю и развлекался. Но я не сходился ни с одной женщиной, хотя полагал, будто знаю, что их тело не жжет страшнее огня.
Времена были беспокойные, и великий фараон был болен. Я увидел его сморщенное старческое лицо, когда его принесли в храм во время осеннего празднества разукрашенного золотом и драгоценными камнями, неподвижного, как статуя, с головой, склоненной под тяжестью двойной короны. Врачи не могли более помочь ему, прошел слух, что дни его сочтены и что наследник скоро станет его преемником, — а наследник был всего лишь подростком, как и я сам.
Службы и жертвоприношения совершались в храме Амона, но Амон не мог помочь своему божественному сыну, хотя фараон Аменхотеп III воздвиг ему величайший за все времена храм. Говорили, что царь разгневался на египетских богов и спешно послал вестников к своему тестю, царю Митанни, желая, чтобы чудотворная Иштар из Ниневии прибыла исцелить его. Но, к радости жрецов, даже чужеземные боги не смогли вылечить фараона. Когда река начала подниматься, царский черепной хирург был вызван во дворец.
За все время, что я провел в Обители Жизни, я ни разу не видел Птагора, ибо трепанации были редки, а в период моего обучения мне не позволяли присутствовать при проведении процедур и операций специалистов. Теперь старика поспешно доставили с его виллы в Обитель Жизни, и я постарался быть под рукой, когда он вошел в комнату для очищений. Он был так же плешив, как и прежде, лицо его сморщилось, а щеки уныло свисали по обе стороны его недовольного старческого рта. Он узнал меня, улыбнулся и сказал:
— А, это ты, Синухе? Значит, ты продвинулся так далеко, сын Сенмута?
Он вручил мне черный деревянный ящик, в котором держал свои инструменты, и приказал следовать за ним. Это была незаслуженная честь, так что даже царский врач мог позавидовать мне, и я держался соответственно.
— Я должен проверить твердость моей руки, — сказал Птагор, — вскрою здесь один или два черепа и посмотрю, как это пройдет.
В его глазах стояли слезы, а рука дрожала. Мы вошли в комнату, где лежали неизлечимые больные, паралитики и те, чьи головы были повреждены. Птагор расспросил нескольких больных и выбрал старика, для которого смерть была бы избавлением, а также крепкого невольника, утратившего способность говорить и не владеющего конечностями вследствие удара по голове, нанесенного ему в уличной драке. Им дали наркотики, а затем взяли в операционную и подготовили к операции. Птагор вымыл свои инструменты и обжег их над огнем.
Мне надлежало побрить головы обоим пациентам самым острым из лезвий. Затем головы протерли и вымыли еще раз, кожу натерли мазью, вызывающей онемение, и Птагор приступил к своей работе. Сначала он сделал надрез на коже головы старика и оттянул края назад, невзирая на обильную струю крови. Затем быстрыми движениями просверлил в голом черепе дыру большим цилиндрическим инструментом и вытянул оттуда кружок кости. Старик застонал, и лицо его посинело.
— Не нахожу у него в голове ничего плохого, — сказал Птагор.
Он вставил на место кусочек кости, сшил края кожи и перевязал голову; после этого старик испустил дух.
— Мои руки, по-моему, немного дрожат, — заметил Птагор. — Может быть, один из молодых людей принесет мне чашу вина?
Зрителями, кроме учителей из Обители Жизни, были все ученики, которым предстояло стать черепными хирургами. Выпив вино, Птагор занялся невольником, который был уже связан и усыплен, но все еще сидел, свирепо глядя на нас. Птагор потребовал еще крепче связать его и зажать его голову в тиски так, чтобы великан не мог шевельнуться. Затем он вскрыл кожу и на этот раз старательно остановил кровотечение. Сосуды на краях надреза прижгли и остановили кровь специальными лекарствами. Птагор, щадя свои руки, позволил сделать это другим врачам. В Обители Жизни был, как правило, тот, кто заговаривал кровь, — человек без всякого образования; одно только его присутствие быстро останавливало кровотечение; но Птагор хотел, чтобы операция была показательной, и желал также приберечь свои силы для фараона.
Очистив поверхность черепа, Птагор указал нам место, куда вдавилась кость. Посредством бора, пилы и щипцов он удалил кусок черепа величиной с ладонь и затем показал нам, сколько свернувшейся крови накопилось в белых извилинах мозга. С бесконечной осторожностью он извлек один за другим сгустки крови и освободил осколок кости, вдавившейся в вещество мозга. Операция заняла столько времени, что каждый ученик мог проследить за движениями Птагора и запечатлеть вид мозга в памяти. Потом Птагор закрыл отверстие приготовленной заранее серебряной пластинкой, соответствующей по форме удаленному им куску кости, и прочно укрепил ее на месте крошечными скобами. Затем он сшил края раны, перевязал голову и сказал: «Разбудите его». Ибо пациент давно уже потерял сознание.
Раба освободили от уз, влили вино ему в глотку и дали вдыхать сильное лекарство. Вскоре он очнулся и разразился потоком брани. Это было такое чудо, что не видавший всего этого, не смог бы этому поверить, ибо только что этот парень был нем и не владел конечностями. На этот раз у меня не было необходимости спрашивать «почему?», ибо Птагор объяснил, что осколок кости и кровь на поверхности мозга были причиной этих нарушений.
— Если он не умрет в течение трех дней, то поправится, — сказал Птагор. — Через две недели он будет в состоянии измолотить человека, который ударил его камнем. Полагаю, что он не умрет.
С дружеской учтивостью он поблагодарил всех, кто помогал ему, назвав среди них и меня, хотя я только подавал ему инструменты по мере надобности. Я не мог тогда понять, какова была его цель, но, дав мне нести свой ящик из черного дерева, он тем самым избрал меня своим ассистентом во дворце фараона. Поскольку я помогал ему на двух операциях, постольку был опытнее и полезнее ему, чем даже царские врачи, когда речь шла о трепанации черепа. Я не понимал этого и был изумлен, когда он сказал:
— Мы теперь созрели для того, чтобы заниматься царским черепом. Готов ли ты, Синухе?
Облаченный в свое простое докторское одеяние, я вступил вслед за ним в носилки. Человек, заговаривающий кровь, примостился рядом, и рабы фараона понесли нас к пристани таким плавным шагом, что носилки ни разу не качнулись. Нас ожидал корабль фараона с отборными рабами, которые быстро гребли: казалось, мы скорее летим над водой, чем плывем по ней. С пристани фараона нас быстро перенесли в золотой дворец. Я не удивлялся такой поспешности, ибо солдаты уже маршировали по фиванским улицам, ворота закрывались и купцы перетаскивали свои товары на склады и закрывали двери и ставни. Это означало, что фараону предстояло скоро умереть.
Книга III Фиванская лихорадка
1
Огромная толпа людей всех сословий собралась у стен золотого дворца, и даже запретная береговая полоса была переполнена лодками — деревянными гребными лодками богатых и просмоленными тростниковыми — бедных. Когда мы показались, по толпе пробежал шепот, подобный шуму отдаленного потока, и известие, что царский черепной хирург уже в пути, передавалось из уст в уста. Затем люди воздели в скорби руки, тогда как вопли и стенания преследовали нас до самого дворца, ибо каждый знал, что ни один фараон никогда еще не увидел третьего восхода солнца после того, как был открыт его череп.
Через Ворота Лилий нас провели в царские покои; придворные прислуживали нам и падали ниц пред нами, ибо мы несли смерть в своих руках. Для очищения была приготовлена временная комната, но, обменявшись несколькими словами с личным врачом фараона, Птагор воздел в горе руки и совершил обряд очищения кое-как. За нами несли священный огонь, и, миновав ряд роскошных комнат, мы вошли в царскую опочивальню.
Великий фараон лежал под золотым пологом; столбики, поддерживающие балдахин, изображали богов-хранителей, а постель опиралась на изваяния львов. Его распухшее тело было обнажено и освобождено от всех эмблем власти. Он был без сознания, его старческая голова свесилась набок, и он тяжело дышал, слюна вытекала из уголка его рта. Величие смертных так призрачно и недолговечно, что фараона нельзя было теперь отличить от любого другого старика, лежащего при смерти в приемном зале Обители Жизни. А на стенах комнаты он был изображен несущимся в колеснице, запряженной резвыми конями, украшенными султанами; его сильная рука натягивала тетиву, и львы, пронзенные его стрелами, падали мертвыми к его ногам.
Мы простерлись ниц пред ним, зная, как должен был знать каждый видевший смерть, что искусство Птагора здесь бессильно. Но поскольку на протяжении столетий прибегали к трепанации черепа фараона как к последнему средству, если естественная смерть не наступала, постольку фараону следовало вскрыть череп, и мы приступили к нашей работе. Я поднял крышку ящика из черного дерева и еще раз обжег в пламени скальпели, боры и пинцеты. Придворный врач уже выбрил и вымыл голову умирающего, и Птагор приказал человеку, заговаривающему кровь, сесть на кровать и взять в руки голову фараона.
Тогда царская супруга Тайя шагнула к постели и отстранила его. До сих пор она стояла у стены с воздетыми в горе руками, неподвижная, как изваяние. Позади нее стояли юный наследник трона Аменхотеп и его сестра Бакетамон, но я все еще не смел поднять на них глаза. Теперь, когда в комнате началась суета, я взглянул на них и узнал их по их изображениям в храмах. Наследник был одних лет со мной, но выше меня. У принцессы Бакетамон были благородные и прекрасные черты лица и большие глаза. Но величественнее их была царская супруга Тайя, хотя она была невысокого роста и полная. У нее был очень смуглый цвет лица, широкие и выдающиеся скулы. Рассказывали, что происходила она из народа и что в ее жилах течет негритянская кровь; не знаю, так ли это, ибо это только слух. Если даже и правда, что ее родители не носили почетных титулов в летописях, все же глаза ее выражали ум, смелость и проницательность, да и вся ее внешность излучала властность. Когда она сделала движение рукой, взглянув на того, кто заговаривал кровь, он показался пылью под ее смуглыми ногами. Я понял ее чувства, ибо этот человек был погонщиком мулов, низким по рождению, и не умел ни читать, ни писать. Он стоял, склонив голову, свесив руки и открыв рот, с безучастным лицом. Хотя он не был искусным и талантливым, но все же обладал способностью заговаривать кровь одним своим присутствием. Потому-то его и оторвали от поля и мулов и платили ему вознаграждение в храме; но, несмотря на весь обряд очищения, вокруг него держался запах навоза. Он и сам не мог бы объяснить, что эта за сила. Она таилась в нем, как таится в земле драгоценный камень, и сила эта была такова, что ни изучить ее, ни упражняться в ней было невозможно.
— Я не позволяю ему касаться бога, — заявила царица. — Я сама буду держать голову бога, если это необходимо.
Птагор протестовал, ибо это была неприятная и кровавая работа; тем не менее она села на край постели и с величайшей осторожностью положила голову своего умирающего мужа себе на колени, не обращая внимания на слюну, которая капала на ее руки.
— Он мой, — сказала она, — и никто другой не прикоснется к нему. Только из моих рук он может уйти в царство смерти.
— Он вступит на корабль своего отца солнца, — промолвил Птагор, надрезая кожу своим кремневым ножом. — Он рожден от солнца и вернется к солнцу, и все будут восхвалять его имя во веки веков… Во имя Сета и всех демонов, чем занят тот, кто останавливает кровь?
Он говорил, чтобы отвлечь внимание царицы от операции — так опытный врач беседует с больным, которому причиняет боль; но последние слова он прошипел крестьянину, который стоял, прислонившись к притолоке, с сонными, полузакрытыми глазами. Кровь хлынула из головы фараона и заструилась по коленям его супруги, так что она вздрогнула и лицо ее стало изжелта-серым. Крестьянин очнулся от своих мыслей, несомненно, о быках и оросительных канавах, вспомнил о своей обязанности и, подойдя к постели, взглянул на фараона и поднял руки. Кровотечение тотчас же прекратилось, и я вымыл и очистил от крови голову.
— Простите меня, моя маленькая госпожа, — сказал Птагор, взяв бор у меня из рук, — к солнцу, да, конечно, прямо к своему отцу на золотой корабль, да будет с ним благословение Амона!
Говоря это, он быстро и ловко вращал руками бор до тех пор, пока не просверлил кость. Наследник открыл глаза, сделал шаг вперед, и по лицу его пробежал трепет, когда он сказал:
— Не Амон, а Ра-Герахте благословит его, и он проявится в Атоне.
— Да, разумеется, Атон, — успокаивающе прошептал Птагор. — Конечно, Атон, это я обмолвился.
Он снова взял свой кремневый нож и молоток с эбонитовой рукояткой и легкими постукиваниями стал отодвигать кусок кости.
— Ибо я помню, что в своей божественной мудрости он воздвиг храм Атону. Это случилось, несомненно, после рождения наследника, не так ли, прекрасная Тайя? Одну минуту.
Он с беспокойством взглянул на наследника, который стоял у постели со сжатыми кулаками и подергивающимся лицом.
— Глоток вина уймет дрожь в моих руках и не причинит никакого вреда наследнику. В такое время, как сейчас, вполне можно было бы сломать печать на царском кувшине. Так-то!
Я подал ему щипцы, и он со скрежетом выдернул кусок кости.
— Посвети немного, Синухе!
Птагор тяжело вздохнул, ибо самое худшее осталось позади; так же вздохнул и я. Казалось, то же чувство облегчения передалось лежащему без сознания фараону, ибо его члены пришли в движение, дыхание стало медленнее и он впал в еще более глубокую кому. Птагор задумчиво рассматривал при ярком освещении открытый мозг фараона: он был серовато-голубой и трепещущий.
— Хм, — сказал он, размышляя. — Что сделано, то сделано. Да поможет ему в остальном Атон, ибо это по силам лишь одним богам, но не людям.
Легко и осторожно он вставил на место кусочек кости, смазав клеем края, стянул края раны и забинтовал ее. Супруга царя положила его голову на подпорку для шеи из редкого дерева и посмотрела на Птагора. Кровь засохла на ней, но она не замечала этого. Птагор встретил ее бесстрашный взгляд без почтительного поклона и тихо сказал:
— Он протянет до рассвета, если дозволит его бог.
Затем он поднял руки в знак скорби, так же поступил и я. Но когда он поднял их, чтобы выразить сочувствие, я не посмел последовать его примеру, ибо кто я был такой, чтобы сострадать королевской семье? Я обжег над огнем инструменты и сложил их обратно в ящик из черного дерева.
— Вас ожидает большое вознаграждение, — сказала царица и знаком показала нам, что мы можем идти.
В другой комнате для нас приготовили пищу, и Птагор с восхищением взирал на множество винных кувшинов, стоявших вдоль стены. Тщательно рассмотрев печать одного из них, он велел открыть его, и раб полил воду нам на руки.
Когда мы снова остались одни, Птагор объяснил мне, что Ра-Герахте — бог-покровитель династии Аменхотепов и что Агон — его воплощение: бог великой древности, конечно, старше, чем Амон.
— Говорят, что теперешний наследник трона — божественный сын этого Атона, — продолжал Птагор. Он сделал глоток вина. — Именно в храме Ра-Герахте у царской супруги было видение, после которого она родила сына. Она взяла с собой одного очень честолюбивого жреца, к которому благоволила; его звали Эйе, и он позаботился о том, чтобы его жена стала кормилицей наследника. Его дочь Нефертити сосала ту же грудь, что и наследник, и играла с ним во дворце как сестра, так что ты можешь представить себе, что из этого выйдет.
Птагор снова выпил, вздохнул и продолжал:
— Ах, для старика нет ничего восхитительнее, чем пить вино и сплетничать о том, что его не касается. Если бы ты только знал, Синухе, сколько тайн схоронено в этой старой голове. Возможно, среди них есть и царские тайны. Многих удивляет, что в женской половине дворца ни один мальчик не родился живым, что противоречит законам медицины, а ведь человек, лежащий там со вскрытым черепом, не был хилым во дни своего расцвета и силы. Он встретил свою супругу во время охоты; говорят, что Тайя была дочерью какого-то птицелова и жила в тростниковых зарослях Нила, но что царь возвысил ее до себя из-за ее мудрости и что он также чтил ее родителей и заполнил их гробницу самыми ценными дарами. Тайя не возражала против его развлечений, лишь бы его наложницы не рожали мальчиков. В этом ей так поразительно везло, что трудно было бы даже поверить в это, если бы это не происходило на самом деле.
Птагор искоса взглянул на меня и, оглянувшись по сторонам, быстро сказал:
— Но никогда, Синухе, не верь никаким россказням, которые можешь услышать; их распространяют только дурные люди… и каждый знает, какая царица добрая и мудрая и какой у нее дар окружать себя полезными людьми. Да, да…
Я вывел Птагора на свежий воздух; спустилась ночь, и на востоке огни Фив затмевали красный отблеск на небе. Я был возбужден от вина и снова ощутил в своей крови лихорадку этого города. Звезды мерцали у меня над головой, а сад был напоен благоуханием цветов.
— Птагор, — сказал я, — когда фиванские огни сияют в ночном небе, тогда… тогда я жажду любви!
— Любви не существует, — выразительно заметил Птагор, — мужчине грустно, когда ему не с кем спать, а когда он переспал с кем-то, ему еще грустнее. Так всегда было и будет.
— Почему?
— Даже боги не знают этого. И никогда не говори мне о любви, если не хочешь, чтобы я вскрыл тебе череп. Я сделаю это даром и не потребую от тебя даже самого ничтожного подарка и этим избавлю тебя от многих горестей.
Тогда мне показалось, что лучше всего будет взять на себя обязанности раба; я поднял его на руки и отнес в комнату, предоставленную в наше распоряжение. Он был такой маленький и легкий, что я даже не запыхался. Как только я уложил его на постель, он тотчас же уснул, предварительно пошарив, нет ли рядом чаши с вином. Я накрыл его мягкими шкурами, так как ночь стала холодной, и снова вышел на увитую цветами террасу, ибо я был юн, а юность не желает спать в ночь, когда умирает царь.
Ропот голосов тех, кто проводил ночь у дворцовых стен, достигал террасы подобно отдаленному шелесту ветра в тростниках.
Я очнулся среди благоухания трав, когда огни Фив сияли ослепительным красным цветом на фоне восточного неба; я вспомнил глаза, зеленые, как воды Нила в летний зной, и обнаружил, что я уже не одинок.
Свет от звезд и от серпа луны был таким слабым, что я не мог различить, кто приближается ко мне — мужчина или женщина, но кто-то подошел поближе и всматривался в мое лицо. Я пошевельнулся, и подошедший властным голосом, еще по-детски пронзительным, спросил:
— Это ты, Одинокий?
Я узнал голос наследника и его долговязую фигуру и пал ниц пред ним, не осмеливаясь говорить. Но он нетерпеливо подтолкнул меня ногой.
— Встань, глупый. Никто не может видеть нас, так что тебе незачем кланяться мне. Прибереги это для бога, сыном которого я являюсь, ибо бог только один, а все другие — его проявления. Знал ли ты это? — Не дожидаясь ответа, он задумчиво добавил: — Все другие, кроме Амона, который ложный бог.
Я сделал протестующий жест и сказал: «О!», показывая, что боюсь таких разговоров.
— Полно! — сказал он. — Я видел, как ты стоял подле моего отца, подавая нож и молоток этому полоумному старому Птагору. Так что я назвал тебя Одиноким. Птагора мать прозвала Старой Обезьяной. Вы должны носить эти имена, если вам предстоит умереть прежде, чем вы покинете дворец. Но твое имя придумал я.
Я подумал, что он, должно быть, безумный, если говорит так исступленно, хотя Птагор предупреждал, что в случае смерти фараона мы должны умереть, и тот, кто заговаривал кровь, верил этому. Волосы встали дыбом у меня на голове, ибо я не хотел умирать.
Наследник тяжело дышал, его руки дрожали, и он бормотал про себя:
— Беспокойный… Я хотел бы… я хотел бы быть в каком-то другом месте. Это мой бог открывает себя. Я знаю это… я боюсь этого. Останься со мной, Одинокий. Он сокрушает мое тело своей силой, и мой язык причиняет мне страдание…
Я дрожал, думая, что он бредит. Но он сказал мне повелительно: «Идем!» — и я последовал за ним. Он повел меня от террасы и мимо озера фараона, тогда как из-за стен доносились причитания плакальщиков. Я был объят великим страхом, ибо Птагор предупреждал, что нам нельзя оставлять дворец до кончины царя, но я не мог противоречить наследнику.
Его тело было напряжено, и он шел такими быстрыми, неровными шагами, что я еле поспевал за ним. На нем была только набедренная повязка, и луна освещала его светлую кожу, стройные ноги и женственные бедра. Она освещала его торчащие уши и измученное взволнованное лицо, казалось, сосредоточенное на каком-то видении, открытом лишь ему одному.
Когда мы достигли берега, он сказал:
— Мы возьмем лодку. Я отправляюсь на восток, чтобы встретить моего отца.
Не заботясь о том, чтобы найти свою лодку, он вошел в ближайшую; я последовал за ним, и мы начали грести к противоположному берегу. Никто не пытался помешать нам, хотя лодку мы украли. Ночь была полна возбуждения и тревоги; еще много лодок было на реке, и красное зарево Фив все ярче разгоралось перед нами. Когда мы подплыли к другому берегу, он пустил лодку по течению и пошел вперед так уверенно, словно бывал здесь уже не раз. Повсюду были люди, и стража не окликнула нас, когда мы проходили. Фивы знали, что царь умрет в эту ночь.
Ходьба утомила его. Все же я удивлялся выносливости этого юного тела, ибо, хотя ночь была холодной, спина моя взмокла от пота, пока я следовал за ним. Звезды плыли по небосклону, луна зашла, а он все еще шел, пока мы не поднялись из долины в пустыню, оставив Фивы позади. Три холма на востоке — стражи города — замаячили перед нами на фоне неба.
Наконец он, задыхаясь, опустился на песок и сказал испуганно:
— Возьми мои руки, Синухе, ибо они дрожат, а мое сердце стучит о ребра. Приближается час — он приближается, ибо мир безлюден и мы с тобой одни. Ты не можешь следовать за мной туда, куда я иду. А я не хочу быть один.
Я сжал его запястья и почувствовал, что все его дергающееся тело покрыто холодным потом. Мир вокруг нас был действительно безлюден; в отдалении выл какой-то шакал, предвещая смерть; медленно бледнели звезды, и пространство вокруг нас становилось тускло-серым. Внезапно он вырвал свои руки и, вставая, поднял лицо к востоку, к холмам.
— Бог грядет! — сказал он тихо; его смятенное, пылающее лицо выражало благоговение. — Бог грядет. — Затем он опять громко прокричал в пустыню: — Бог грядет!
Воздух стал светлее, холмы перед нами засияли золотым блеском, солнце всходило — и с пронзительным криком он упал в обмороке на землю, его губы шевелились, руки и ноги судорожно подергивались и взбивали песок. Но я уже не боялся больше, ибо слыхал такие же крики во внешнем дворе Обители Жизни и знал, что надо делать. Не имея деревянного колышка, чтобы вставить его между зубами наследника, я оторвал полоску от моей набедренной повязки, скатал ее и сунул ему в рот. Затем я начал массировать его руки и ноги. Он, видимо, чувствовал себя плохо и был ошеломлен, когда пришел в себя. Я оглядывался вокруг себя в поисках помощи, но Фивы были позади нас и не видно было даже самой жалкой лачуги.
В тот же момент мимо меня пролетел сокол, с криком вырвавшись из лучей восходящего солнца в радугу над ними, затем снова опустился так, словно собирался сесть на лоб принца. Испуганный, я инстинктивно сделал святое знамение Амона. Думал ли принц о Горе, когда приветствовал своего бога, и не было ли это воплощением Гора? Наследник стонал, и я наклонился, чтобы помочь ему. Когда я снова поднял голову, оказалось, что птица приняла человеческий облик. Передо мной стоял юноша подобный богу, прекрасный в лучах солнца. Он держал копье, и на нем был грубый плащ, какой носят бедняки. Хотя я не верил в богов, я на всякий случай распростерся перед ним.
— Что случилось? — спросил он на диалекте Нижнего Царства. — Этот юноша болен?
Чувствуя себя очень глупо, я поднялся на колени и приветствовал его в обычной манере.
— Если ты грабитель, — сказал я, — ты не много от нас добудешь, но у меня здесь больной мальчик, и боги благословят тебя за твою помощь.
Он закричал как сокол, и птица ринулась вниз, чтобы усесться на его плечо.
— Я Хоремхеб, Сын Сокола, — сказал он гордо. — Мои родители всего-навсего торговцы сыром, но при моем рождении было предсказано, что многие мне будут подчиняться. Сокол летел передо мной, и я следовал за ним, не найдя в городе никакого пристанища на ночь. В Фивах не принято ходить с копьями после наступления темноты. Но я собираюсь поступить на военную службу к фараону. Говорят, что он болен, поэтому, быть может, ему нужны сильные руки, чтобы защищать его могущество.
Наследник застонал, провел по лицу руками, ощупывая его, и по его рукам и ногам прошла судорога. Я вынул лоскут у него изо рта, размышляя, как достать воду, чтобы привести ею в себя. Хоремхеб взглянул на него и равнодушно спросил:
— Он умирает?
— Нет, — нетерпеливо возразил я. — У него священная болезнь.
Взглянув на меня, Хоремхеб схватился за копье.
— Ты не смеешь презирать меня, хотя я беден и пришел босиком. Я умею сносно писать и читать то, что написано, и мне будут подчиняться многие. Каким богом он одержим?
Люди верят, что боги говорят устами тех, кто одержим священной болезнью, — этим был вызван его вопрос.
— У него есть свой бог, — отвечал я, — и я думаю, что он немножко тронутый.
— Ему холодно. — Хоремхеб снял свой плащ и накрыл им наследника. — Утром в Фивах прохладно, но моя собственная кровь достаточно согревает меня. Мой бог — Гор. Должно быть, это сын богатого человека, ибо его кожа белая и нежная и он никогда не работал руками. А ты кто?
— Врач и посвященный в первую ступень жречества в храме Амона в Фивах.
Наследник трона сел, застонал и изумленно огляделся вокруг. Его зубы стучали, когда он заговорил:
— Да, я видел! Это мгновение казалось очень долгим — я потерял счет своим годам — он протянул тысячу рук над моей головой, благословляя меня, и в каждой руке был символ вечной жизни. Могу ли я после этого не верить?
При виде Хоремхеба глаза его просветлели, и он был прекрасен в своем радостном удивлении.
— Это ты — тот, кого послал Атон, единственный бог?
— Сокол летел передо мной, а я следовал за ним; вот почему я здесь. Это все, что я знаю.
Наследник, нахмурившись, взглянул на его оружие.
— Ты носишь копье, — сказал он с укоризной.
Хоремхеб протянул копье вперед.
— Древко из самого лучшего дерева, — сказал он. — Его медная головка страстно желает испить крови врагов фараона. Мое копье томится жаждой, и его имя — Пронзающий Горло.
— Не надо крови! — воскликнул наследник. — Кровь отвратительна Атону. Нет ничего ужаснее льющейся крови.
— Кровь очищает людей и дает им силу, она делает богов толстыми и довольными. Пока существует война, должна литься кровь.
— Войн никогда больше не будет, — заявил наследник.
Хоремхеб рассмеялся:
— Мальчик полоумный! Война всегда была и всегда будет, ибо народы должны испытать силу друг друга, если они хотят выжить.
— Все люди — его дети: всех языков, всех цветов кожи — черных земель и красных. — Наследник пристально глядел прямо на солнце. — Я воздвигну храмы ему во всех землях и пошлю символ жизни государям этих земель — ибо я видел его! От него я рожден и к нему я вернусь.
— Он сумасшедший, — сказал мне Хоремхеб, сочувственно покачав головой. — Насколько я понимаю, ему нужен врач.
Наследник поднял руку, приветствуя солнце, и его лицо снова осветилось таким пылким восторгом, словно он заглянул в иной мир. Мы дали ему закончить молитву, а затем повели его по направлению к городу. Он не сопротивлялся. После припадка он ослаб; при ходьбе он спотыкался и стонал, так что, наконец, мы вместе понесли его, а сокол летел впереди.
Когда кончились возделанные участки, мы увидели на дороге поджидающие нас царские носилки. Рабы пали ниц на землю, а из носилок вышел толстый жрец с бритой головой; его смуглое лицо было важным и красивым. Я вытянул вперед руки, низко склонившись перед ним, ибо знал, что это был Эйе, о котором говорил мне Птагор. Но он не обратил на меня внимания. Он распростерся перед наследником и приветствовал его как царя, поэтому я понял, что Аменхотеп III умер. Рабы поспешили позаботиться о новом фараоне. Его руки и ноги омыли, растерли и умастили; его облачили в царское одеяние, а на голову возложили короны.
Между тем Эйе разговаривал со мной:
— Повстречал ли он своего бога, Синухе?
— Он встретил своего бога, и я наблюдал за ним, чтобы не случилось ничего дурного. Как ты узнал мое имя?
Он улыбнулся.
— Мне положено знать все, что происходит внутри дворцовых стен. Я знаю твое имя и что ты врач, и я могу поэтому доверить тебе заботу о нем. Ты ведь тоже один из жрецов Амона и дал ему свою клятву?
В тоне, каким он это сказал, чувствовалась угроза. Подняв руки, я воскликнул:
— Какое значение имеет клятва Амону?
— Ты прав, и тебе не в чем каяться. А этот копьеносец?
Он указал на Хоремхеба, который стоял в стороне с сидящим у него на плече соколом и пробовал на своей руке острие копья.
— Наверное, ему было бы лучше умереть, — добавил он, — ибо в тайны фараона посвящены лишь немногие.
— Он укрыл фараона своим плащом, когда было холодно, и готов направить свое копье против врагов фараона. Думаю, он будет тебе более полезен живой, чем мертвый, жрец Эйе.
Эйе бросил ему золотое кольцо со своей руки, небрежно сказав:
— Ты можешь как-нибудь зайти ко мне в золотой дворец, копьеносец.
Но Хоремхеб дал кольцу упасть в песок и вызывающе посмотрел на Эйе.
— Я получаю приказы от фараона, и, если не ошибаюсь, фараон тот, кто носит царскую корону. Сокол привел меня к нему, и это достаточный знак.
Эйе сохранял невозмутимость.
— Золото ценно и всегда полезно, — заметил он. Он поднял золотое кольцо и снова надел его на палец. — Выражай свое почтение фараону, но ты должен отложить в сторону копье в его присутствии.
Наследник шагнул вперед. Его лицо было бледно и искажено, но все еще озарено тайным восторгом, который тронул мое сердце.
— Следуйте за мной, — сказал он, — следуйте за мной вы все по новому пути, ибо истина открылась мне.
Мы вместе с ним прошли к носилкам, хотя Хоремхеб пробормотал про себя:
— Истина в моем копье.
Носильщики рысью пустились к пристани, где нас ожидала лодка. Мы возвратились так же, как и пришли, никем не замеченные, хотя люди толпились у дворцовых стен.
Нам разрешили войти в покои наследника, и он показал нам большие критские кувшины, на которых были изображены рыбы и другие существа. Доложили, что царица-мать вдет приветствовать его, так что он позволил нам удалиться, обещая, что не забудет нас обоих. Когда мы вышли, Хоремхеб сказал мне недоуменно:
— Я в растерянности. Мне некуда идти.
— Оставайся здесь с легким сердцем, — посоветовал я. — Он обещал вспомнить о тебе, и хорошо, если ты будешь под рукой, когда это случится. Боги непостоянны и забывчивы.
— Остаться здесь и увиваться вокруг него вместе с этими ловкачами? — спросил он, указывая на придворных, толпившихся у двери наследника. — Нет, у меня есть веская причина для беспокойства, — угрюмо продолжал он. — Что станется с Египтом, правитель которого боится крови и считает, что все народы, и языки, и цвета кожи имеют одинаковые достоинства? Я рожден воином, и чутье воина подсказывает мне, что эти взгляды сулят беду такому человеку, как я.
Мы расстались, и я предложил ему справиться обо мне в Обители Жизни, если ему когда-нибудь понадобится друг.
Птагор, раздраженный, с воспаленными глазами, ждал меня в нашей комнате.
— Тебя не было, когда фараон испустил дух на рассвете, — проворчал он. — Тебя не было, а я спал; и ни один из нас не был там, чтобы увидеть, как душа фараона вылетела из его ноздрей прямо к солнцу, как птица.
Я рассказал ему о том, что произошло этой ночью, и он поднял руки в величайшем изумлении.
— Да сохранит нас Амон! Значит, новый фараон сумасшедший?
— Не думаю, — с сомнением сказал я. — Полагаю, он познал нового бога. Когда его голова прояснится, мы, быть может, увидим чудеса в земле Кем.
— Упаси нас Амон! Налей-ка мне вина, ибо моя глотка суха, как придорожная пыль.
Вскоре после этого мы были под стражей доставлены в помещение Дома Правосудия, где хранитель печати зачитал нам указ из кожаного свитка и сказал, что, поскольку фараон не выздоровел после вскрытия черепа, мы должны умереть. Я взглянул на Птагора, но он лишь улыбнулся, когда палач выступил вперед со своим мечом.
— Пусть тот, кто останавливает кровь, уйдет первым, — сказал он. — Он спешит больше, чем мы, ибо его мать уже готовит ему гороховую похлебку в Западной Земле.
Тот, кто останавливал кровь, тепло попрощался с нами, сделал священный знак Амона и робко опустился на колени перед кожаными свитками. Палач описал мечом большую дугу над головой осужденного, так что меч просвистел в воздухе, но сразу же остановился, как только лезвие коснулось его затылка. Но тот, кто останавливал кровь, повалился на пол, и мы решили, что он упал в обморок, ибо на нем не было ни малейшей царапины. Когда пришел мой черед, я без страха опустился на колени, палач рассмеялся и коснулся лезвием моей шеи, даже не стараясь меня испугать. Птагор полагал, что при его маленьком росте ему не обязательно становиться на колени, и палач так же взмахнул мечом над его шеей. Так мы умерли, приговор был приведен в исполнение, и нам дали новые имена, вырезанные на массивных золотых кольцах. На кольце Птагора было написано: «Тот, кто похож на Обезьяну», а на моем — «Тот, кто Одинок». Затем золото, подаренное Птагору, было взвешено, как и мое, и мы были облачены в новые одежды. Я в первый раз в жизни надел складчатое платье из царского полотна и тяжелый воротник, украшенный серебром и драгоценными камнями. Когда слуги попытались поднять того, кто заговаривал кровь, и привести его в чувство, оказалось, что он мертв как камень. Я видел это собственными глазами и могу поручиться, что так оно и было. Но почему он умер, не знаю, быть может, просто от страха. Как бы он ни был прост, но человек, который может остановить поток крови, не такой, как другие люди.
С этого времени, считаясь официально умершим, я не мог подписывать свое имя Синухе, не добавляя «Тот, кто Одинок», и при дворе меня должны были называть только этим именем.
2
Когда я возвратился в Обитель Жизни в новых одеждах и с золотым кольцом на руке, учителя склонились передо мной. Все же я был еще учеником и должен был написать подробный отчет об операции и смерти фараона, удостоверив его своим именем. Я потратил на это много времени и закончил описанием того, как душа фараона вылетела в образе птицы из его ноздрей и направилась прямо к солнцу. Позже я получал удовлетворение, слушая, как мой отчет читают людям в каждый из семидесяти дней, в течение которых тело фараона подготовлялось для бессмертия. В продолжение этого траурного времени все увеселительные дома, винные лавки и таверны в Фивах были закрыты, так что купить вино и послушать музыку можно было, только проникнув туда с черного хода.
Когда истекли эти семьдесят дней, я узнал, что теперь я квалифицированный врач и могу открыть практику в любой части города по моему выбору. Если же, с другой стороны, я захотел бы продолжать занятия в той или иной специальной области, например, среди дантистов, ушных врачей, акушеров или хирургов, или же предпочесть любой другой из четырнадцати различных предметов, которым обучали в Обители Жизни, то мне стоило только выбрать. Это был особый знак благоволения, свидетельствующий о том, как щедро награждает Амон своих слуг.
Я был молод, и занятия в Обители Жизни больше не поглощали меня. Я был захвачен фиванской лихорадкой, жаждал богатства и славы. Мне хотелось использовать свою теперешнюю популярность среди людей. На полученное мною золото я приобрел домик на окраине аристократического квартала, обставил его по своим возможностям и купил раба — тощего парня с одним глазом, но вполне подходящего для меня. Его звали Капта. Он уверял меня, будто мне очень повезло, что у него один глаз, ибо теперь он сможет рассказывать моим будущим пациентам в комнате ожидания о том, как он был совершенно слеп, когда я купил его, и как я частично вернул ему зрение. Стены моей приемной комнаты были разрисованы картинами. На одной из них Имхотеп Мудрый, покровитель врачей, был изображен поучающим меня. По обычаю, я был нарисован маленьким в сравнении с ним, но под картиной была надпись, гласившая: «Мудрейший и искуснейший из твоих учеников — Синухе, сын Сенмута, Тот, кто Одинок».
Другая картина изображала меня приносящим жертву Амону, так что можно было видеть, как я его почитаю и завоевать доверие моих пациентов. На третьей же великий фараон взирал на меня с небес в образе птицы, тогда как его слуги отвешивали мне золото и облачали меня в новые одежды.
Я поручил Тутмесу написать для меня эти картины, хотя он не был официально признанным художником и его имя не было занесено в книгу храма Пта. Но он был моим другом, и благодаря его искусству те, кто смотрел на его картины в первый раз, поднимали в изумлении руки, говоря: «Вправду он внушает доверие, этот Синухе, сын Сенмута, Тот, кто Одинок, и несомненно, вылечит всех пациентов благодаря своему искусству».
Когда все было готово, я уселся поджидать больных. Я сидел долго, но никто не пришел. Вечером я отправился в винную лавку, ибо у меня было еще немного золота и серебра, оставшихся от подарка фараона. Я был молод и воображал себя умным врачом; будущее не внушало мне никаких опасений, и я пировал вместе с Тутмесом. Мы громко обсуждали дела Двух Царств, ибо везде — на рынке, перед домами купцов, в тавернах и увеселительных заведениях — такие вопросы оживленно обсуждались всеми в это время.
Все происходило так, как предсказывал старый хранитель печати. Когда тело великого фараона было подготовлено к вечной жизни и отнесено на место покоя в Долину Царей, где двери гробницы были запечатаны царской печатью, царица-мать поднялась на трон, держа в руках плеть и жезл. На ее подбородке была борода, как олицетворение верховной власти, и ее талия была подвязана львиным хвостом. Наследник еще не был коронован, и говорили, что он желает очиститься и выполнить религиозные обряды для богов перед тем, как принять власть. Но когда царица-мать отставила старого хранителя печати и оказала Эйе, безвестному жрецу, честь находиться одесную ее, так что он превзошел по рангу всех знатных людей Египта, тогда храм Амона загудел как пчелиный улей; появились дурные предзнаменования, и царские жертвоприношения проходили неудачно. Жрецы толковали множество странных сновидений, приснившихся людям. Ветры изменили направление противно всем законам природы, и в течение двух дней дождь лил на земли Египта. Товары, оставаясь на пристанях, портились, зерно гнило. Вода в некоторых прудах на окраинах Фив превратилась в кровь, и многие ходили посмотреть на это. Но люди все же не были испуганы, ибо такое случалось во все века, когда жрецы были разгневаны. Несмотря на беспокойство и множество пустых разговоров, наемники в казармах — египтяне, сирийцы, негры и шарданы — получали щедрые подарки от царицы-матери и сохранялся полный порядок. Могущество Египта было бесспорно; в Сирии оно поддерживалось с помощью гарнизонов, и принцы Библоса, Смирны, Сидона и Газы, которые провели детство у ног фараона и выросли в золотом дворце, оплакивали его как родного отца и писали царице письма, в которых называли себя пылью под ее ногами.
Царь земли Митанни послал свою дочь как невесту новому фараону, так же поступил прежде и его отец, и таково было соглашение с великим фараоном перед его смертью. Тадукипа — так ее звали — прибыла в Фивы со слугами, рабами и ослами, нагруженными самыми дорогими товарами. Она была ребенком шести лет, и наследник взял ее в жены, ибо царство Митанни разделяло богатую Сирию и страны севера, охраняя караванные дороги на всем пути от Двуречья до моря. Веселье прекратилось среди жрецов Сехмет, небесной дочери Амона, и петли на воротах ее храма скоро заржавели.
Вот о чем мы говорили, Тутмес и я; вино радовало наши сердца, пока мы слушали сирийскую музыку и смотрели на танцующих девушек. Лихорадка города была в моей крови; однако теперь каждое утро мой одноглазый слуга почтительно подходил к моей постели и приносил мне хлеб и соленую рыбу и наполнял мою чашу вином. Затем я умывался и садился поджидать своих пациентов, чтобы выслушивать их жалобы и исцелять их.
3
Было время половодья. Вода поднялась до самых стен храма, и, когда она вновь спала, земля пустила нежно-зеленые ростки, птицы построили свои гнезда и цветки лотоса распустились в прудах среди благоухания акаций. Однажды к моему дому подошел Хоремхеб и поздоровался со мной. На нем была одежда из царского полотна и золотая цепь на шее. В руке он нес плеть, означающую, что он офицер личной охраны фараона. Но копья у него теперь не было.
— Я пришел за советом, Синухе Одинокий, — сказал он.
— Что ты имеешь в виду? Ты силен, как бык, и смел, как лев. Врач ничем не может помочь тебе.
— Я спрашиваю тебя как друга, а не как врача, — ответил он, усаживаясь.
Капта полил воду ему на руки, и я предложил ему лепешки, которые прислала мне моя мать Кипа, и вино из порта, ибо мое сердце возрадовалось при виде его.
— Ты получил повышение. Ты теперь офицер личной охраны и, несомненно, свет очей для всех женщин.
Его лицо помрачнело.
— Какая все это грязь! Во дворце полно гадов, которые наговаривают на меня. Фиванские улицы жестки для моих ног, а мои сандалии тесны мне.
Он сбросил сандалии и стал тереть пальцы.
— Я офицер личной охраны, верно, но иные офицеры, которым по десять лет и у которых еще не острижены волосы, благодаря своему высокому происхождению смеются надо мной и дразнят меня. В их руках еще нет сил, чтобы натянуть тетиву, а их мечи — это золотые и серебряные игрушки; ими можно резать мясо, но не сражать врага. Солдаты пьют и спят с дворцовыми рабынями и не знают дисциплины. В военной школе они читают устаревшие трактаты; они никогда не видели войны и не знали голода, жажды и страха перед врагом.
Он нетерпеливо зазвенел цепочкой, надетой на шею, и продолжал:
— Что цепи и почести, если они получены не в битве, а в пресмыкательствах перед фараоном? Царица-мать подвязала бороду к своему подбородку и подпоясалась львиным хвостом, но может ли воин смотреть на женщину как на начальника? Во дни великих фараонов воин не был человеком всеми презираемым, но теперь фиванцы смотрят на его профессию как на самую презренную из всех и закрывают перед ним двери. Я теряю время. Дни моей молодости и силы уходят, пока я изучаю военное искусство под руководством тех, которые побегут, едва заслышав боевой клич негров. Клянусь моим Соколом! Солдатами становятся на поле битвы и более нигде, и они проходят испытание в лязге оружия. Я не останусь здесь более!
Он ударил по столу своей плетью, опрокинув кубки с вином, и мой слуга убежал, визжа от страха.
— Хоремхеб, друг мой, все-таки ты болен. У тебя лихорадочные глаза, и ты весь облит потом.
— Разве я не мужчина? — Он ударил себя в грудь. — Я мог бы поднять в каждой руке по здоровенному рабу и стукнуть их головами. Я могу носить большие тяжести, как положено солдату, могу бегать на длинные расстояния, не задохнувшись, и мне не страшны ни голод, ни жажда, ни раскаленная пустыня. Но все это позорно, по их мнению, и женщины в золотом дворце восхищаются лишь такими мужчинами, которым еще не надо бриться; им нравятся тонкие запястья, безволосая грудь и девичьи бедра. Они восхищаются теми, кто носит зонтик от солнца, и красит губы, и щебечет, как птицы на деревьях. Меня презирают, ибо если ты силен и у тебя загорелая кожа — значит, ты умеешь работать.
Он умолк, уставившись перед собой. Наконец он осушил свой кубок.
— Ты одинок, Синухе, одинок и я, ибо я догадываюсь, что случится. Знаю, я рожден для высокого удела и когда-нибудь оба царства будут нуждаться во мне. Но я не могу больше выносить одиночества, Синухе. В моем сердце искры пламени, у меня стиснуто горло, я не могу спать. Я должен уйти из Фив — этот разврат душит меня, а эти гады меня оскорбляют.
Затем, глядя на меня, он тихо сказал:
— Ты врач, Синухе. Дай мне средство победить любовь.
— Это легко. Я могу дать тебе ягоды; если растворишь их в вине, они сделают тебя сильным и горячим, как бабуин, так что женщины будут стонать в твоих объятиях и закатывать глаза. Это очень легко сделать.
— Нет, ты неверно понял меня, Синухе. С моей силой ничего не случилось. Мне нужно лекарство от безумия. Я хочу лекарства, которое успокоит мое сердце и превратит его в камень.
— Такого средства нет. Улыбка, взгляд зеленых глаз — и искусство врача бессильно. Эго я знаю. Но мудрецы говорят, что одного злого духа можно изгнать с помощью другого злого духа. Правда ли это, не знаю, но полагаю, что второй может быть хуже первого.
— Что это значит? — спросил он раздраженно. — Мне надоели мудреные слова.
— Найди другую женщину, которая изгонит первую из твоего сердца. Вот все, что я имею в виду. В Фивах полно прекрасных соблазнительных женщин, которые красят лицо и носят тончайшее полотно. Может, ты найдешь среди них одну, которая выкажет благоволение тебе, молодому и сильному, со стройными ногами и золотой цепью на шее. Но я не понимаю, что стоит на пути к той, кого ты желаешь. Даже если она замужем, то и эта стена не так высока, чтобы ее нельзя было преодолеть. Когда женщина хочет мужчину, ее хитрость устраняет все преграды. Сказания обоих царств подтверждают это. Любовь женщин, как говорят, постоянна как ветер, который дует всегда и лишь меняет направление. Говорят, что женская добродетель подобна воску и тает от жары. Так всегда было и будет всегда.
— Она не замужем, — отрезал Хоремхеб. — Совсем не к месту ты болтаешь о постоянстве и добродетели. Она даже и не видит меня, хоть я нахожусь у нее перед глазами, и не берет моей руки, если я протягиваю ее, чтобы помочь ей войти в носилки.
— Значит, она какая-нибудь знатная дама?
— Ни к чему говорить о ней. Она прекраснее луны и звезд и еще более недоступна. Право, мне легче было бы схватить луну в объятия. Поэтому я должен забыть, поэтому я должен покинуть Фивы или умереть.
— Надеюсь, ты не стал жертвой волшебных чар царицы-матери, — шутливо воскликнул я, ибо хотел рассмешить его. — Она слишком стара и толста, чтобы нравиться юношам.
— И у нее есть ее жрец, — возразил с презрением Хоремхеб. — Думаю, они были любовниками еще при жизни царя…
Я поднял руку, чтобы остановить его, и сказал:
— Ты пил из многих отравленных источников с тех пор, как пришел в Фивы.
— Та, кого я желаю, красит губы и щеки в оранжевый цвет, у нее темные миндалевидные глаза, и никто не касался еще ее тела, облаченного в царское полотно. Ее имя Бакетамон, и в ее жилах течет кровь фараонов. Теперь ты знаешь все о моем безумии, Синухе. Но если ты расскажешь кому-нибудь или напомнишь мне об этом хоть единым словом, я разыщу и убью тебя, где бы ты ни был, я просуну твою голову у тебя между ног и швырну твое тело на стену.
Меня очень встревожило то, что он сказал, ибо то, что человек низкою происхождения осмелился взглянуть на дочь фараона и желать ее, было, разумеется, ужасно. Я ответил:
— Ни один смертный не смеет приблизиться к ней. Если она за кого-нибудь и выйдет замуж, то это будет ее брат, наследник, который возвысит ее, сделав ее царской супругой. И так оно и будет, ибо я прочел это в ее глазах у смертного одра царя, когда она не смотрела ни на кого, кроме своего брата. Она испугала меня как женщина, чье тело не согреет ни одного мужчину и в чьих глазах пустота и смерть. Уходи, Хоремхеб, друг мой; Фивы — не место для тебя.
Он нетерпеливо возразил:
— Все это я знаю лучше тебя, и твоя болтовня напоминает мне жужжание мух. Давай лучше вернемся к тому, что ты сказал о злых духах; ибо сердце мое переполнено, и, выпив вина, я мечтаю о какой-нибудь женщине, которая улыбнется мне, кто бы она ни была. Но ее одежда должна быть из царского полотна, она должна носить парик и красить губы и щеки оранжевой краской и, чтобы возбудить во мне желание, изгиб ее глаз должен напоминать радугу.
Я улыбнулся.
— Ты говоришь разумно. Поэтому давай дружески обсудим вопрос.
— Слушай! Среди моих товарищей-офицеров есть один — Кефта с Крита, которого мне как-то случилось ударить. Теперь он уважает меня и пригласил меня пойти с ним сегодня на прием в одно место, которое находится близ храма какого-то бога с кошачьей головой. Я позабыл имя этого бога, потому что у меня нет никакого желания идти туда.
— Ты имеешь в виду богиню Бает. Я знаю этот храм, и это место, по всей вероятности, вполне отвечает твоей цели, ибо женщины легкого поведения усердно молятся богине с кошачьей головой и приносят жертвы, чтобы заполучить богатых любовников.
— Но я не пойду без тебя, Синухе. Я человек низкого происхождения и не знаю, как вести себя в Фивах и особенно среди фиванских женщин. Ты опытный человек, ты здесь родился и должен пойти со мной.
Я был разгорячен вином, и его доверие льстило мне; я не хотел признаться, что знаю женщин так же мало, как и он. Я послал Капта за носилками и торговался с носильщиками, пока Хоремхеб все еще пил вино, чтобы набраться храбрости. Люди понесли нас к храму Баст. Увидев, что у дверей дома, к которому мы направлялись, зажжены факелы и светильники, они начали громко выражать недовольство низкой платой; тогда Хоремхеб ударил их своей плетью, и они обиженно замолчали.
Я вошел первым, и казалось, наш приход никого не удивил. Веселые слуги полили воду нам на руки, и аромат горячих блюд, притираний и цветов доносился до самой веранды. Слуги украсили нас гирляндами, и мы смело вступили в огромную залу.
Когда мы вошли, я никого не увидел, кроме женщины, которая шла нам навстречу. Она была облачена в царское полотно, так что ее тело просвечивало сквозь него, как тело богини. На голове ее был массивный голубой парик, и на ней было много прекрасных драгоценностей; ее брови были насурмлены, а под глазами положены зеленые тени. Но зеленее зеленого были ее глаза, похожие на воды Нила во время летнего зноя, так что сердце мое утонуло в них. Ибо это была Нефернефернефер, которую повстречал я однажды в колоннаде великого храма Амона. Она не узнала меня, но улыбнулась Хоремхебу, который поднял свою офицерскую плеть в знак приветствия. Кефта, молодой критянин, также был там; он подбежал к Хоремхебу и обнял его, называя своим другом.
Никто не обращал на меня внимания, и у меня было время наглядеться на сестру моего сердца. Она была старше, чем я ее запомнил, и глаза ее уже не улыбались, но были жесткие, как зеленые камни; они не улыбались, хотя рот ее улыбался, и они прежде всего остановились на золотой цепочке на шее Хоремхеба. Но колени мои подогнулись, когда я смотрел на нее.
Вокруг раздавались крики и смех; опрокинутые винные кувшины и смятые цветы валялись на полу, и сирийские музыканты так управлялись со своими инструментами, что разговор не был слышен. Очевидно, упились как следует, ибо одну женщину вырвало. Слуга слишком поздно подал ей чашку, так что ее платье было испачкано, и все смеялись.
Кефта, критянин, обнял и меня, перепачкав при этом все мое лицо мазью, и называл меня своим другом. Но Нефернефернефер взглянула на меня и сказала:
— Синухе! Я знала когда-то одного Синухе, он тоже был врачом.
— Я и есть тот самый Синухе, — сказал я, глядя ей в глаза и дрожа.
— Нет, ты не тот. — Она сделала отрицательный жест. — Тот Синухе, которого я знала, был молоденьким мальчиком, с чистыми, как у газели, глазами, а ты мужчина и ведешь себя по-мужски. У тебя между бровей две морщины и не такое гладкое лицо, как у него.
Я показал ей перстень с зеленым камнем, который я носил на пальце, но она покачала головой, притворившись озадаченной, и сказала:
— Я, должно быть, принимаю в своем доме разбойника, который убил Синухе и украл тот перстень, что я когда-то подарила ему в знак нашей дружбы. Его имя ты тоже украл, и того Синухе, который нравился мне, уже нет более в живых.
Она подняла руки в знак печали, и я с горечью снял перстень с пальца и вручил его ей, сказав:
— Тогда возьми обратно свой перстень, и я уйду и не буду более докучать тебе.
Но она возразила:
— Не уходи! — и снова, легко положив свою ладонь на мою руку, как она уже делала это однажды, тихо сказала: — Не уходи!
И я не ушел, хотя знал, что ее тело будет жечь меня сильнее огня и что никогда уже не смогу я быть счастлив без нее. Слуги налили нам вина, и оно никогда не было слаще для моих уст, чем в тот раз.
Женщина, которой было плохо, прополоскала рот и снова принялась пить вино. Затем она скинула свое испачканное платье и отбросила его; она также сняла свой парик, так что осталась совсем обнаженной. Руками она сжала вместе свои груди, приказав слугам налить между ними вина, и она разрешала пить оттуда любому, кто только хотел. Она закружилась по комнате, громко смеясь, молодая, прекрасная и бесшабашная, и, остановившись перед Хоремхебом, предложила ему выпить вино, налитое между ее грудями. Он склонил голову и пил. Когда он снова поднял голову, его лицо было мрачно, он посмотрел в глаза женщине, обхватил ее бритую голову руками и поцеловал ее. Все засмеялись, и женщина смеялась с ними. Затем, внезапно застыдившись, она потребовала чистое платье. Слуги одели ее, и она снова водрузила на голову свой парик. Она села рядом с Хоремхебом и больше не пила. Сирийские музыканты продолжали играть; я чувствовал фиванскую лихорадку в крови и знал, что рожден увидеть сумерки мира, а пока я могу сидеть с сестрой моего сердца и смотреть на ее зеленые глаза и алые губы.
Таким образом, благодаря Хоремхебу мне привелось снова увидеть Нефернефернефер, мою возлюбленную; но для меня было бы лучше, если бы я никогда не встретил ее.
4
— Это твой дом? — спросил я ее, когда она села рядом со мной, разглядывая меня своими холодными зелеными глазами.
— Это мой дом и мои гости. Я принимаю гостей каждый вечер, потому что не люблю быть одна.
— И Метуфера? — спросил я, желая узнать все, несмотря на боль, которую это могло причинить мне. Она слегка нахмурилась.
— Разве ты не знаешь, что Метуфер умер? Он умер, потому что злоупотреблял деньгами, которые фараон дал его отцу для постройки храма. Метуфер умер, и его отец уже больше не главный строитель царя. Разве ты не знал об этом?
— Если это правда, — ответил я, улыбаясь, — я готов поверить, что Амон наказал его, ибо он высмеивал имя Амона. — Я рассказал ей о том, как Метуфер и жрец плевали в лицо статуи Амона, чтобы вымыть его, и как они натирались священной мазью Амона.
Она улыбалась, но взгляд ее был холодным и отчужденным. Внезапно она сказала:
— Почему ты не пришел ко мне тогда, Синухе? Если бы ты меня искал, то нашел бы меня. Ты дурно поступил, не приходя ко мне и посещая других женщин, ведь на твоем пальце был мой перстень.
— Я был совсем еще мальчиком, и я боялся тебя, но в моих снах ты была моей сестрой, Нефернефер, и — смейся, если хочешь, — я никогда еще не знал ни одной женщины. Я ждал, что снова увижу тебя.
Она рассмеялась и жестом выразила недоверие.
— Ты, конечно, лжешь. В твоих глазах я должна выглядеть старой уродиной, и насмехаться надо мной и лгать мне — забава для тебя. — Ее глаза были теперь веселыми, как в прежние дни, и она казалась настолько моложе, что мое сердце переполнилось и заныло, когда я посмотрел на нее.
— Это правда, что я не прикасался ни к одной женщине, — сказал я, — но, может быть, неправда, что я ждал тебя. Позволь мне быть откровенным. Очень много женщин прошло передо мной, молодых и старых, хорошеньких и некрасивых, мудрых и глупых; но я смотрел на всех одинаково — глазами врача, и ни одна из них не взволновала моего сердца, хотя почему так было, не могу сказать, я сам не знаю.
— Наверное, когда ты был малышом, ты свалился с груженой повозки и приземлился верхом на оглобле, и вот с тех пор ты приуныл и полюбил одиночество, — и, смеясь, она слегка коснулась меня так, как не касалась еще никогда ни одна женщина. Отвечать было излишне, ибо она сама знала, что сказанное ею — неправда. Она быстро отдернула руку, прошептав:
— Выпьем вина вместе. Я все же могу насладиться с тобой, Синухе.
Мы пили вино, тогда как рабы выносили некоторых гостей к их носилкам, а Хоремхеб обнял рукой сидящую рядом с ним женщину, называя ее своей сестрой. Он снял с себя золотую цепь и хотел повесить ей на шею.
Но она сопротивлялась и говорила сердито:
— Я приличная женщина, а не шлюха! — Поднявшись, она пошла прочь с оскорбленным видом, но у выхода незаметно сделала знак, и Хоремхеб последовал за ней. Я не видел больше никого из них в этот вечер.
А те, кто еще оставался, продолжали пить. Они ходили, шатаясь, спотыкаясь о табуреты и потренькивая на цитре, которую стащили у музыкантов. Они обнимались, называя друг друга братом и другом, а потом передрались и обзывали друг друга кастратами и евнухами.
Я был пьян, но не от вина, а от близости Нефернефернефер и от прикосновения ее руки, пока наконец по сделанному ею знаку слуги не начали гасить светильники и подбирать растоптанные гирлянды. Тогда я сказал ей:
— Я должен идти.
Но каждое слово разъедало мое сердце, как соль рану, ибо я боялся потерять ее и каждое мгновение без нее казалось мне потраченным даром.
— Куда ты пойдешь? — спросила она, притворяясь удивленной.
— Я иду, чтобы ходить дозором этой ночью на улице перед твоим домом. Я иду, чтобы принести жертву в каждом фиванском храме в благодарность богам за то, что вновь встретил тебя. Я иду срывать цветы с деревьев, чтобы усыпать ими твой путь, когда ты выйдешь из дома, и купить мирры, чтобы намазать ею косяки твоих дверей.
Она улыбнулась и сказала:
— Было бы лучше, если бы ты не уходил, ибо цветы и мирра у меня уже есть. И если ты уйдешь столь возбужденный вином, ты заблудишься среди чужих женщин. Этого я не допущу.
Ее слова преисполнили меня радостью. Я хотел схватить ее, но она сопротивлялась, говоря:
— Постой! Нас могут увидеть слуги. Хотя я и живу одна, я не продажная женщина.
Она вывела меня в свой сад, окутанный лунным сиянием и наполненный ароматом мирры и акаций. В пруду цветы лотоса уже закрыли свои чашечки на ночь, и я видел, что края пруда выложены разноцветными камнями. Слуги полили воду нам на руки и принесли жареного гуся и фрукты в меду, и Нефернефернефер сказала:
— Ешь и наслаждайся здесь со мной, Синухе.
Но мое горло сжалось от желания, и я не мог глотать. Она одарила меня насмешливым взглядом и ела с жадностью. Каждый раз, когда она глядела на меня, лунный свет отражался в ее глазах. Я страстно желал заключить ее в объятия, но она оттолкнула меня, говоря:
— Не знаешь ли ты, почему Бает, богиню любви, изображают в виде кошки?
— Мне нет дела ни до кошек, ни до богов, — ответил я, потянувшись к ней; глаза мои были затуманены желанием. Она оттолкнула мои руки.
— Скоро ты уже сможешь коснуться меня. Я позволю тебе положить руки мне на грудь и на живот, если это успокоит тебя, но сперва ты должен выслушать меня и узнать, почему женщина похожа на кошку и почему страсть тоже подобна кошке. Ее лапы мягки, но под ними скрываются когти, которые безжалостно рвут, ранят и раздирают твое сердце. Да, действительно, женщина подобна кошке, ибо кошка тоже получает удовольствие, мучая свою жертву и пытая ее, и никогда не устает от этой игры. И только изувечив эту тварь, она ее сожрет и затем отправится разыскивать новую жертву. Я говорю это тебе, потому что хотела бы быть честной с тобой; я никогда не желала причинить тебе зло. Нет, я никогда не желала причинить тебе зло, — повторила она рассеянно, взяв мою руку и поднеся к своей груди, тогда как другую она положила к себе на колени. Я задрожал, и слезы брызнули из моих глаз. Тогда она снова оттолкнула меня.
— Ты можешь уйти от меня сейчас и никогда не возвращаться, и тогда я не причиню тебе вреда. Но если ты теперь не уйдешь, не пеняй на меня потом, что бы ни произошло.
Она дала мне время уйти, но я не ушел. Потом, слегка вздохнув, как бы устав от игры, она сказала:
— Пусть будет так. Ты должен получить то, за чем пришел, но будь снисходителен, ибо я устала и боюсь, что могу уснуть в твоих объятиях.
Она привела меня в свою комнату, к своему ложу из слоновой кости и черного дерева. Там, выскользнув из своей одежды, она открыла мне объятия.
Казалось, ее тело спалило меня дотла.
Вскоре она зевнула и сказала мне:
— Я очень хочу спать — и приходится поверить, что ты никогда не спал с женщиной, ибо ты очень неловок и не доставил мне никакого удовольствия. Но когда юноша берет свою первую женщину, он отдает ей бесценное сокровище. Мне не надо от тебя другого подарка. А теперь уходи и дай мне уснуть, ибо ты получил то, за чем пришел.
И когда я попытался снова обнять ее, она стала сопротивляться и отослала меня прочь. Когда я шел домой, мое тело таяло и горело, и я знал, что никогда не смогу забыть ее.
5
На следующий день я велел Капта отослать прочь всех моих пациентов и предложить им поискать других докторов. Я послал за цирюльником, умылся и умастился ароматическими маслами, заказал носилки и велел носильщикам бежать. Мне хотелось быстро добраться до дома Нефернефернефер, не испачкав пылью одежду или ноги. Капта с беспокойством следил за мной и качал головой, ибо никогда прежде не покидал я среди дня моей рабочей комнаты, и он боялся, что если я стану пренебрегать своими пациентами, то гонорары уменьшатся. Но у меня была только одна мысль, и мое тело горело огнем — восхитительным огнем.
Слуга впустил меня и проводил в комнату Нефернефернефер. Она наряжалась перед зеркалом и посмотрела на меня жестким безразличным взглядом.
— Чего ты хочешь, Синухе? Ты утомляешь меня.
— Ты прекрасно знаешь, чего я хочу, — сказал я, пытаясь обнять ее и вспоминая ее пылкость в прошлую ночь. Но она грубо оттолкнула меня:
— Что это, злоба или глупость? Явиться сейчас! Из Сидона прибыл купец с драгоценным камнем, который некогда принадлежал царице, — украшение на лоб из какой-то гробницы. Сегодня вечером кто-то даст его мне; я долго мечтала о драгоценности, подобной которой нет ни у кого. Поэтому я решила быть красивой и умастить мое тело.
Она невозмутимо разделась и вытянулась на постели, чтобы рабыня натерла ее тело бальзамом. Сердце мое перевернулось в груди и мои руки вспотели, когда я увидел, как она прекрасна.
— Что же ты медлишь, Синухе? — спросила она, когда рабыня ушла, оставив ее, беспечно лежащую на постели. — Почему не уходишь? Мне надо одеться.
У меня закружилась голова, и я бросился к ней, но она оттолкнула меня так проворно, что я не успел обнять ее и стоял, проливая слезы от неудовлетворенного желания.
Наконец я сказал:
— Если бы я мог купить для тебя эту драгоценность, я бы купил ее, как ты прекрасно знаешь, но больше никто не должен касаться тебя — иначе я умру.
— А? — произнесла она, полузакрыв глаза. — Ты не допустишь, чтобы кто-то еще прикасался ко мне? А если я подарю этот день тебе, Синухе, если я буду есть, пить и играть с тобой сегодня, — поскольку никто не знает, что будет завтра, — что ты дашь мне?
Она так вытянулась на постели, что ее плоский живот запал. На ней не было ни одного волоска — ни на голове, ни на теле.
— У меня в самом деле нет ничего, чтобы дать тебе, — и, сказав это, я посмотрел вокруг — на пол из ляпис-лазури, выложенный бирюзой, и на множество золотых чаш, стоявших в комнате. — Правда, мне нечего дать тебе.
Мои колени подогнулись, и я повернулся, чтобы уйти, но она остановила меня.
— Мне жаль тебя, Синухе, — сказала она мягко, снова вытягивая свое гибкое тело. — Ты уже дал мне то, что имел, то, что стоило дарить, хотя ценность этого кажется мне очень преувеличенной. Но у тебя есть дом, и одежда, и все инструменты, необходимые врачу. Полагаю, что в общем ты не беден.
Дрожа с головы до ног, я ответил:
— Все это твое, Нефернефернефер, если желаешь. Это стоит немного, но дом удобен для врача. Какой-нибудь воспитанник Обители Жизни мог бы дать за него хорошую цену, если бы у его родителей были средства.
— Ты так думаешь?
Она повернулась ко мне обнаженной спиной и, созерцая себя в зеркале, провела своими тонкими пальцами вдоль черных линий своих бровей.
— Как хочешь. Тогда найди писца, который запишет, что все, чем ты владеешь, может быть переведено мне, на мое имя. Ибо хотя я и живу одна, я не из тех женщин, которых презирают, и я должна обеспечить свое будущее, когда ты, быть может, бросишь меня, Синухе.
Я пристально смотрел на ее обнаженную спину; язык не поворачивался у меня во рту, и мое сердце начало так неистово биться, что я поспешно повернулся и ушел. Я нашел писца, который быстро выправил необходимые бумаги и отправил их для безопасности в царский архив. Когда я вернулся, Нефернефернефер уже облачилась в царское полотно и надела красный, как золото, парик; ее шея, запястья и лодыжки были украшены самыми роскошными драгоценностями. У входа ее ожидали нарядные носилки.
Вручив ей бумагу писца, я сказал:
— Все, чем я владею, теперь твое, Нефернефернефер, включая и одежду, которую я ношу. Давай теперь поедим и выпьем и вместе насладимся этим днем, ибо никто не знает, что будет завтра.
Она небрежно взяла бумагу, положила ее в шкатулку из слоновой кости и сказала:
— Извини, Синухе, но оказывается, у меня начались месячные очищения, так что ты не можешь прийти ко мне, как я того желала. Тебе лучше уйти теперь, пока я не совершу необходимое омовение, ибо у меня тяжелая голова и мое тело болит. Приходи в другой день и ты получишь то, чего желаешь.
Помертвев, я пристально смотрел на нее и не мог говорить. Она нетерпеливо топнула ногой.
— Убирайся, я спешу.
Когда я попытался дотронуться до нее, она сказала:
— Не размажь краску на моем лице.
Я пошел домой и привел в порядок свои вещи, чтобы все было готово для новой хозяйки. Мой одноглазый слуга следил за каждым моим шагом, качая головой, пока его присутствие не довело меня до бешенства. Я взорвался:
— Не ходи за мной по пятам; ты больше не принадлежишь мне. У тебя теперь другой хозяин. Слушайся его, когда он придет, и не воруй у него так, как воровал у меня, ибо, быть может, его палка тверже моей.
Тогда он бросился на землю, подняв руки над головой в глубокой печали и горько рыдая.
— Не прогоняй меня, господин, ибо мое старое сердце привязалось к тебе и разобьется, если ты прогонишь меня. Я всегда был предан тебе, хотя ты молод и простодушен. То, что я украл у тебя, я украл, заботясь о твоей же пользе. Я бегал по улицам на своих старых ногах в полдневный зной, выкрикивая твое имя и расхваливая тебя, хотя слуги других врачей избивали меня и бросались навозом.
Мое сердце было переполнено горечью, я ощущал во рту горький вкус, когда смотрел на него.
Но я был тронут и, схватив его за плечи, сказал:
— Вставай, Капта! К чему все эти вопли? Я отпускаю тебя не потому, что недоволен тобой, ибо был доволен твоей службой, хотя ты частенько выказывал свой нрав, бесстыдно хлопая дверями и стуча тарелками, когда что-либо раздражало тебя. И твое воровство не сердило меня, ибо оно обычно для раба. Я вынужден передать тебя другому против своей воли, ибо мне нечего больше дать; мой дом тоже достался другому, как и все, чем я владел, так что у меня осталась всего лишь моя собственная одежда. Ты напрасно сокрушаешься.
Капта рвал волосы и стонал:
— Это злосчастный день!
Он некоторое время сосредоточенно думал, а затем продолжал:
— Ты великий врач, Синухе, несмотря на молодость, и мир открыт перед тобой. Поэтому будет лучше, если я поспешу собрать самые ценные вещи, и, когда наступит ночь, мы сможем убежать. Мы можем пробраться в Красные Земли, где никто не знает нас, или к морским островам, где искрящееся вино и веселые женщины. И в стране Митанни, и в Вавилоне, где реки текут в обратном направлении, искусство египетских врачей ценится высоко, так что ты сможешь разбогатеть, а я могу стать слугой уважаемого господина. Поэтому поторопись, хозяин, чтобы мы успели упаковать вещи до наступления темноты, — и он потянул меня за рукав.
— Капта, Капта! Избавь меня от своей бессмысленной болтовни. Моя душа смертельно скорбит, и мое тело больше не принадлежит мне. Я связан узами более крепкими, чем медные цепи, хотя и невидимыми. Я не могу бежать, ибо уйти из Фив — все равно что быть в раскаленной печи.
Мой слуга сел на пол, ибо его ноги были покрыты болезненными опухолями, которые я время от времени лечил, когда имел досуг.
Он сказал:
— Ясно, что Амон отказался от нас, что неудивительно, поскольку ты так редко приносишь ему жертвы. Однако я честно жертвовал одну пятую из того, что крал у тебя, в благодарность за то, что он дал мне молодого и простодушного хозяина. Теперь он отказался также и от меня. Ну-ну… Мы должны переменить богов и поторопиться принести жертвы кому-то другому, кто, быть может, отведет от нас зло и опять устроит все по-хорошему.
— Хватит этого вздора. Ты забыл, что нам нечего жертвовать, так как все теперь принадлежит другому.
— Женщине или мужчине?
— Женщине, — ответил я, ибо что толку было скрывать это?
Услышав это, он снова разразился слезами.
— О, лучше бы я никогда не родился на свет! О, лучше бы моя мать задушила меня пуповиной при рождении! Ибо нет горше участи для раба, чем служить бессердечной женщине а она, должно быть, безжалостна, раз поступила так с тобой.
— Она нисколько не бессердечна, — ответил я, ибо такому глупцу, как я, необходимо было поговорить о Нефернефернефер хоть со своим рабом, так как мне было больше некому довериться. — На своем ложе, обнаженная, она прекраснее луны. Ее тело блестит от дорогих масел, а ее глаза зеленые, как воды Нила в летний зной. Счастливец ты, Капта, тебе можно позавидовать, если тебе позволят жить близ нее и дышать одним с нею воздухом.
Капта запротестовал еще громче.
— Она продаст меня носильщику или в каменоломню. Мои легкие задохнутся, и кровь будет сочиться из-под моих ногтей, и я погибну в грязи, как искалеченный осел.
В душе я знал, что эго вполне вероятно, ибо у Нефернефернефер едва ли найдется место и хлеб для такого, как он. Слезы потекли и у меня из глаз, хотя я не знал, плачу ли я из-за него или из-за самого себя. Увидев это, Капта тотчас же замолчал и ошеломленно уставился на меня, но я охватил голову руками, и мне было безразлично, что мой раб видит меня плачущим. Коснувшись моей головы своей широкой ладонью, он печально сказал:
— Это все я натворил, я должен был лучше охранять моего хозяина. Но мне и в голову не приходило, что он так неопытен и чист — как одежда до первой стирки. Ибо только так это можно объяснить. Я, конечно, удивлялся, что мой хозяин не посылает меня за девушкой, возвращаясь ночью домой из винной лавки, а женщины, которых я приводил для твоею удовольствия, уходили раздосадованные, обзывая меня крысой и черной вороной. А среди них были молодые и хорошенькие. Но мои хлопоты были напрасны, и я радовался как болван, думая, что ты никогда не приведешь жену в дом, чтобы она колотила меня по голове и плескала кипяток мне на нога всякий раз, когда поссорится с тобой. Какой же я был дурак и болван! Это та первая головешка, от которой сгорит дотла весь дом.
Он сказал еще гораздо больше, и звук его голоса был как жужжание мух в моих ушах. Наконец он умолк и приготовил для меня пищу и полил воду мне на руки. Но я не мог есть, ибо тело мое горело; и когда пришел вечер, одна-единственная мысль наполняла мою голову.
Книга IV Нефернефернефер
1
Рано утром я отправился к дому Нефернефернефер, но она еще спала. Когда я разбудил слуг, они стали ругаться и плескать в меня помоями, так что я сидел у входа как нищий, пока не услышал движение и говор в доме, и тогда попытался еще раз войти.
Нефернефернефер лежала на постели. Ее лицо казалось маленьким и бледным, а зеленые глаза потемнели от винных возлияний.
— Ты надоел мне, — сказала она. — Чего ты хочешь?
— Есть, пить и наслаждаться с тобой, — печально ответил я, — ибо так ты обещала.
— То было вчера. Сегодня новый день.
Девушка-рабыня сняла измятое платье Нефер, умастила и растерла ее тело. Нефер рассматривала себя в зеркале, красила лицо, надела парик и водрузила на лоб новое украшение из жемчуга и драгоценных камней, оправленных в старое золото.
— Эго восхитительно, — сказала она, — и стоит уплаченной цены, хотя я и устала так, словно всю ночь боролась.
— Так ты лгала мне вчера, и никакой помехи для нас не было, — заметил я, хотя в душе знал это.
— Я ошиблась, но мой срок уже должен бы подойти, и боюсь, ты наградил меня ребенком, Синухе, ибо я была слабой в твоих руках, а ты был неистов. — Она насмешливо улыбнулась.
— Так твои драгоценности появились из царской гробницы в Сирии — не так ли ты сказала мне вчера?
— Ах, — тихо произнесла она, — они были найдены под подушкой сирийского купца, но пусть это тебя не смущает. Он был пузатый, жирный, как свинья, и от него пахло луком. Я получила то, чего добивалась, и не собираюсь видеться с ним снова.
Она сняла парик и украшения и небрежно бросила их на пол возле постели. Ее голова была гладкая и красивая, и, вновь вытянувшись, она положила ее на сплетенные руки.
— Я устала, Синухе, и ты не считаешься с моей усталостью, а так и пожираешь меня глазами, когда у меня нет сил помешать тебе. Тебе следовало бы помнить, что, хотя я и живу одна, я не из тех женщин, которых презирают.
— Ты прекрасно знаешь, что мне нечего больше дать тебе, ибо теперь ты располагаешь всем, что раньше было моим.
Я склонил голову на край постели и ловил аромат ее притираний и ее тела Она протянула руку, чтобы коснуться моих волос, потом быстро отдернула ее, смеясь и качая головой.
— Какие мужчины обманщики! Ты тоже лжешь мне, Синухе. Я ничего не могу поделать с моей доверчивостью к тебе — я слаба.
Но когда я хотел заключить ее в объятия, она оттолкнула меня и села, сказав с горькой обидой в голосе:
— Как бы ни была я слаба и одинока, я не желаю иметь дела с обманщиками и мошенниками. Ты никогда не говорил мне, что у твоего отца Сенмута есть дом в бедной части города близ порта. Дом стоит немного, но земля, на которой он построен, находится у причалов, и за его мебель можно выручить что-нибудь на рынке. Я стала бы есть, пить и наслаждаться с тобой сегодня, если бы ты подарил мне это ваше имущество, ибо никто не знает, что будет завтра, а я должна беречь свою репутацию.
— Имущество моего отца не принадлежит мне, — сказал я ошеломленный. — Ты не должна просить меня подарить тебе то, что мне не принадлежит, Нефернефернефер.
Она склонила голову набок, следя за мною своими зелеными глазами.
— Имущество твоего отца — это твое законное наследство, Синухе, как это тебе хорошо известно. Далее, ты никогда не рассказывал мне, что он слепой и поручил тебе управлять его имуществом, так что ты можешь распоряжаться им как своим собственным.
Это была правда, ибо когда у отца ослабло зрение, он отдал мне свою печать и просил меня присматривать за его хозяйством, так как он уже не мог подписать свое имя. Кипа и он часто говорили, что за дом можно было бы выручить хорошую цену и это позволило бы им купить маленькую усадьбу за городом и жить там, пока им не придет время обосноваться в своей гробнице и начать путешествие в вечность.
Я не мог произнести ни слова — в такой ужас привела меня мысль обмануть мать и отца, которые полагались на меня. Но Нефернефернефер полузакрыла глаза и прошептала:
— Возьми мою голову в руки, коснись губами моей груди, ибо в тебе есть что-то, что лишает меня сил, Синухе, поэтому я забываю о собственной выгоде, когда дело касается тебя. Весь день я буду наслаждаться с тобой, если ты передашь мне имущество твоего отца, как бы мало оно ни стоило.
Я взял в ладони се голову, и она была гладкая и маленькая, и это наполнило меня невыразимым жаром.
— Да будет так, — сказал я, и мой голос резал мне слух.
Но когда я хотел приблизиться к ней, она возразила:
— Ты войдешь в царство, которое уже принадлежит тебе, но прежде найди писца, который выправит нужные документы, ибо я не верю обещаниям мужчин и должна беречь свою репутацию.
Я покинул ее, чтобы послать за писцом, и каждый шаг, удаляющий меня от нее, был мукой. Я убеждал его поторопиться и, когда все было сделано, скрепил бумагу печатью отца и подписал на ней его имя. Но когда я вернулся, слуги сказали мне, что Нефернефернефер спит, и я должен был ждать до позднего вечера, пока она проснется. Наконец она приняла меня, взяла расписку писца и небрежно сунула ее в черную шкатулку.
— Ты настойчив, Синухе, но я женщина чести и всегда держу свои обещания. Возьми то, за чем пришел.
Она легла на постель и раскрыла свои объятия, но я не доставил ей никакой радости. Она поворачивала голову, чтобы посмотреть на себя в зеркало, зевала, прикрываясь ладонями, так что радость, которой я ожидал, превратилась в прах.
Когда я поднялся с ее ложа, она сказала:
— Ты получил то, чего хотел, Синухе; теперь уходи, потому что ты очень скучный. Как-нибудь в другой раз можешь вернуться, но ты, несомненно, получил то, чего хотел.
Я походил на пустую яичную скорлупу, когда плелся домой. Мне хотелось побыть в покое, одному в темной комнате, закрыть лицо руками и дать выход своему отчаянию в слезах. Но на веранде сидел чужеземец в парике и в пестром сирийском одеянии. Он надменно поздоровался со мной и сказал, что пришел посоветоваться со мной как с врачом.
— Я не принимаю больше никаких пациентов, — ответил я, — ибо этот дом уже не мой.
— У меня на ногах болезненные опухоли, — сказал он, примешивая к своей речи сирийские слова. — Твой смышленый раб Капта рекомендовал мне твое искусство в лечении таких опухолей. Избавь меня от муки, и ты не пожалеешь об этом.
Он был так настойчив, что я наконец повел его в мою комнату и позвал Капта, чтобы он принес мне горячей воды для мытья рук. Ответа не последовало, но, только осмотрев нога сирийца, я узнал искривленные и распухшие суставы Капта. Мой раб сдернул с себя парик и разразился хохотом.
— Что это за представление? — воскликнул я и бил его до тех пор, пока его смех не перешел в стоны. Когда я отбросил палку, он сказал:
— Так как я больше не твой раб, а раб другого, могу без опаски сообщить тебе, что задумал совершить побег и потому хотел проверить, узнаешь ли ты меня в этом одеянии.
Я напомнил ему о наказаниях, которые угрожают беглым рабам, и сказал ему, что все равно рано или поздно он будет пойман, ибо на что же он будет жить? Но он ответил:
— Прошлой ночью, выпив много пива, я видел сон. Ты, господин, лежал в горящей печи, но я подошел побранить тебя и, вытащив тебя за шиворот, окунул в текущую воду, которая унесла тебя прочь. После этого я побывал на базаре, чтобы спросить толкователя снов, что это значит. Он сказал, что мой хозяин в опасности и его ожидает длительное путешествие и что я за свою дерзость получу хорошую трепку. Этот сон правдив, ибо достаточно увидеть твое лицо, чтобы понять, какая большая опасность тебе грозит. Трепку я уже получил, так что начало сна тоже должно сбыться. По этой причине я и переоделся, ибо решил отправиться с тобой в твое путешествие.
— Твоя верность трогает меня, Капта, — сказал я, стараясь говорить шутливо. — Может быть, хорошо, что мне предстоит длительное странствие, но если и так, то это путь в Обитель Смерти, куда ты едва ли последуешь за мной.
— Будущее скрыто от нас, — последовал дерзкий ответ Капта. — Ты молод и зелен, как новорожденный теленок, и я не могу допустить, чтобы ты отправился один в тяжелое путешествие в Обитель Смерти и Западную Землю. Похоже, что я отправлюсь с тобой, дабы помочь тебе моим опытом, ибо мое сердце привязано к тебе, несмотря на твою глупость. Хотя, несомненно, в свое время я породил много детей, однако никогда не видел их, так что мне пришла фантазия думать о тебе как о моем сыне. Этим я не собираюсь тебя обидеть, я хочу лишь выразить мою привязанность к тебе.
Его дерзость зашла слишком далеко, но у меня не хватило духу отколотить его палкой, и ведь он больше не был моим рабом. Я заперся в своей комнате, накрыл голову и спал до утра как убитый, ибо нет наркотика, равного стыду и раскаянию, если они достаточно глубоки. Все же, когда я наконец проснулся, первое, что я вспомнил, были глаза Нефернефернефер и ее тело, и мне казалось, что я держу ее гладкую голову в своих ладонях и чувствую ее грудь около своей груди. Я умылся, оделся и умастил свое лицо, чтобы идти к ней.
2
Нефернефернефер приняла меня в своем саду близ пруда с лотосами. Ее глаза, ясные и веселые, были зеленее, чем воды Нила. Увидев меня, она воскликнула:
— О, Синухе! Так ты вернулся! Стало быть, я, наверное, еще не так стара и уродлива. Чего ты хочешь?
Я смотрел на нее так, как изголодавшийся человек смотрит на хлеб, пока она не отвернулась в досаде.
— Синухе, Синухе, опять? Я, конечно, живу одна, но я не презренная женщина и должна беречь свою репутацию.
— Вчера я передал тебе все имущество моею отца, и он теперь нищий, хотя некогда был почитаемым врачом. Так как он слеп, он должен будет в старости просить хлеб, а моей матери придется стирать белье чужим людям.
— Вчера было вчера, а сегодня — сегодня. — Ее глаза сузились. — Но я не вымогательница. Ты можешь сидеть и держать мою руку. Я счастлива сегодня и хотела бы по крайней мере разделить с тобой хоть свою радость, если не что-то другое.
Она озорно рассмеялась и погладила живот рукой.
— Ты не спрашиваешь, почему мое сердце радостно сегодня, но я расскажу тебе. Ты должен узнать, что один выдающийся человек из Нижнего Царства прибыл в город и привез с собой золотую чашу весом почти в сто дебенов; на ней вырезано много красивых и занимательных картинок. Он, конечно, старый и такой тощий, что его старческие ноги поранят меня, но все же полагаю, что утром эта чаша украсит мой дом.
Она притворно вздохнула, поскольку я ничего не ответил, и устремила свой мечтательный взгляд на лотосы и другие цветы этого сада. Потом, медленно выскользнув из своего платья, она вошла в пруд. Ее голова поднималась из воды рядом с цветком лотоса, и она была прекраснее всех лотосов. Покачиваясь передо мной на воде и закинув за голову руки, она сказала:
— Ты молчалив сегодня, Синухе! Надеюсь, это не я нечаянно причинила тебе боль? Я бы охотно загладила это, если бы могла.
Я ответил, злясь на себя:
— Ты очень хорошо знаешь, чего я хочу, Нефернефернефер.
— Твое лицо раскраснелось, и я вижу, как жилки бьются у тебя в висках. Разве не славно будет, если ты сбросишь свою одежду и войдешь сюда, в пруд, чтобы вместе со мной освежиться в этот жаркий день? Никто не увидит нас здесь, так что решайся.
Я разделся и вошел в пруд, и наши бока соприкоснулись. Но когда я захотел удержать ее, она ускользнула от меня, смеясь и брызгая мне в лицо водой.
— Я поняла, чего ты хочешь, Синухе, хотя я слишком застенчива, чтобы смотреть на тебя. Но сначала ты должен сделать мне подарок, ибо ты знаешь, что я не презренная женщина.
Я воскликнул в ярости:
— Ты сошла с ума? Ты же знаешь, что лишила меня всего! Мне стыдно, и я никогда больше не посмею взглянуть в лицо моим родителям. Но все-таки я врач, и мое имя записано в Книгу Жизни. Может быть, я еще смогу заработать достаточно, чтобы сделать тебе подарок, достойный тебя. Пожалей же меня теперь, ибо когда я гляжу на тебя, то даже в воде горю, как в огне, и кусаю себе до крови руку.
Она вытянулась на воде, и ее груди возвышались над поверхностью пруда, как два розовых цветка. Она посмотрела на меня из-под своих век, покрашенных в зеленый цвет, и сказала:
— Давай придумаем что-нибудь такое, что ты мог бы подарить мне. Ибо я слабею, Синухе; меня волнует вид твоего обнаженного тела в моем пруду. Ты неуклюж и неопытен, но все же я думаю, что когда-нибудь смогу научить тебя многому, чего ты еще не знаешь — способам, которые доставляют наслаждение и мужчинам, и женщинам. Поразмысли, Синухе!
Когда я схватил ее, она быстро выскочила из пруда и, стоя за деревом, смахивала воду со своих рук.
— Я только слабая женщина, а мужчины обманщики, и ты тоже, Синухе! У меня тяжело на душе при мысли об этом и слезы наворачиваются на глаза, ибо ясно, что я наскучила тебе. Если бы было иначе, ты никогда не скрыл бы от меня, что твои родители купили прекрасную гробницу в Городе Мертвых и что они внесли в храм всю сумму, нужную для бальзамирования их тел и для всех вещей, необходимых для путешествия в Западную Страну.
Услышав это, я стал раздирать себе ногтями грудь, пока не пошла кровь.
— Могу ли я лишить моих родителей бессмертия и допустить, чтобы их тела обратились в прах, как тела нищих, рабов и тех, кого бросают в реку за преступления? Ты не можешь требовать от меня ничего подобного!
Слезы катились по моим щекам. Стеная от муки, я подошел к ней, и она прижалась ко мне своим обнаженным телом, говоря:
— Подари мне гробницу твоих родителей, и я шепну тебе на ухо «брат», и распалю тебя наслаждениями, и научу тебя тысяче неизвестных тебе вещей, которые доставят тебе радость!
Я не владел собой и только рыдал.
— Да будет так, и пусть твое имя будет проклято навеки, но сопротивляться тебе я не в силах, так могущественны чары, которыми ты опутала меня.
— Не говори о чарах, ибо это мне обидно. Раз ты ноешь и не в настроении, я пошлю слугу за писцом, а мы пока поедим, выпьем и повеселимся, а когда бумаги будут в порядке, мы сможем насладиться друг другом. — И с радостным смехом она вбежала в дом.
Я оделся и последовал за ней; слуги полили воду нам на руки и склонились, вытянув вперед руки. Но за моей спиной они хихикали и насмехались надо мной, хотя я делал вид, что их насмешки значат для меня не больше, чем жужжание мух. При появлении Нефернефернефер они замолчали; мы вместе ели и пили, и было пять сортов мяса и двенадцать сортов печенья, и мы пили смешанное вино, которое быстро ударяло в голову. Пришел писец и выправил нужные бумаги. Я передал Нефернефернефер гробницу моих родителей в Городе Мертвых вместе с ее принадлежностями, а также их вклад в храм, лишив их бессмертия и надежды на путешествие в Страну Запада. Я поставил на бумаге печать моего отца и подписал на ней его имя, и писец обязался отправить в тот же день документы в царский архив; таким образом они были узаконены. Он передал расписку в получении бумаг Нефернефернефер; она положила ее в черную шкатулку и заплатила ему за труды.
Когда он ушел, я сказал:
— С этого часа я проклят и обесчещен пред богом и людьми — я заплатил за это дорогой ценой. Докажи мне теперь, что это не слишком высокая цена.
Но она улыбнулась.
— Пей вино, брат мой, чтобы твое сердце развеселилось.
Когда я хотел было схватить ее, она ускользнула от меня и наполнила мой кубок вином из кувшина. Тут же она взглянула на солнце и сказала:
— Смотри, день на исходе и скоро наступит вечер. Чего же ты ждешь?
— Ты хорошо знаешь!
— И ты хорошо знаешь, какой колодец самый глубокий и какая яма бездонна, Синухе. Я должна поспешить одеться и накрасить лицо, ибо меня ждет золотая чаша, которая завтра украсит мой дом.
Когда я попытался заключить ее в объятия, она ускользнула от меня, насмешливо смеясь, и позвала слуг, которые тотчас повиновались ее зову.
— Как этот несносный попрошайка проник в мой дом? Сейчас же выбросьте его вон отсюда, и пусть он никогда больше не переступает моего порога. Если он будет сопротивляться, избейте его.
Слуги выкинули меня вон, онемевшего от вина и ярости, и вернулись, чтобы побить меня палками, когда я начал барабанить в запертую на засов наружную дверь. И когда на мой крик сбежались люди, слуги заявили:
— Этот пьяница оскорбил нашу госпожу, которая живет в собственном доме и совсем не презренная женщина.
Они избили меня до бесчувствия и бросили лежащим на улице, где люди плевали на меня, а собаки мочились на мою одежду.
Когда я пришел в себя, у меня не было сил подняться, и я лежал там недвижимый до утра. Темнота укрыла меня, и я чувствовал, что никогда больше не посмею показаться людям. Наследник назвал меня «Тот, кто Одинок», и я, несомненно, в эту ночь был самым одиноким из смертных во всем мире. Но когда рассвело, когда на улицах появился народ, когда купцы стали выставлять перед своими лавками товар, когда запряженные волами повозки загрохотали мимо меня, я встал и ушел из города и прятался в тростниках три дня и три ночи — без еды и питья. Душа и тело были одной кровоточащей раной. Если бы кто-нибудь тогда заговорил со мной, я издал бы пронзительный вопль; я опасался за свой рассудок.
3
На третий день я вымыл руки и ноги и смыл засохшую кровь со своей одежды. Повернувшись лицом к городу, я пошел к своему дому. Но дом больше не принадлежал мне, и на двери была вывеска другого врача. Я позвал Капта, и он прибежал, плача от радости, и обнял мои колени.
— Хозяин, — ибо для меня все еще хозяин ты, кто бы ни отдавал мне приказания, — здесь поселился молодой человек, который воображает себя великим врачом. Он примерял твои одежды и смеялся от восторга. Его мать уже побывала на кухне, ошпарила меня кипятком, обозвала крысой и навозной мухой. Но твоим пациентам не хватает тебя; они говорят, что у него не такая легкая рука, как у тебя, и что он не разбирается в их болезнях так, как ты.
Он продолжал болтать, но его единственный глаз с покрасневшим веком глядел на меня с выражением ужаса, пока я наконец не сказал:
— Расскажи мне все, Капта. Сердце мое уже превратилось в камень и не может больше испытывать боли.
Тоща, воздев руки в знак глубокой скорби, он ответил:
— Я отдал бы свой единственный глаз, чтобы избавить тебя от этого горя, но черный это день, и хорошо, что ты пришел. Твои родители умерли.
— Мой отец Сенмут и моя мать Кипа! — воскликнул я, воздев руки, как того требует обычай, и сердце перевернулось у меня в груди.
— Только вчера принесли повестку о выселении, а сегодня слуги закона взломали их дверь и нашли их на постели уже бездыханными. Поэтому сегодня ты должен доставить их в Обитель Смерти, ибо завтра их дом снесут по приказу нового владельца.
— Известно ли было моим родителям, почему это произошло? — спросил я, не смея взглянуть в лицо моему рабу.
— Твой отец Сенмут пришел тебя разыскивать, твоя мать привела его, ибо он был слеп. Они были старые и хилые и при ходьбе их била дрожь. Но я не знал, где ты. Твой отец сказал, что так оно и лучше, и рассказал, как слуги закона выгнали его из дома и опечатали его сундуки и все имущество, так что у него и его жены не осталось ничего, кроме лохмотьев на плечах. Когда он спросил, на каком это все основании, судебные приставы засмеялись и сказали, что его сын Синухе продал дом, и имущество, и гробницу своих родителей за золото, чтобы подарить его дурной женщине. После долгих колебаний твой отец попросил у меня медную монету, чтобы продиктовать письмо к тебе какому-нибудь писцу.
Но в доме появился новый хозяин, и сразу же его мать пришла за мной и избила меня палкой за то, что я теряю время с каким-то нищим. Наверное, ты поверишь мне, если я скажу, что дал твоему отцу медную монету, ибо хотя я не успел ничего украсть у моего нового господина, все же у меня остались медь и серебро, сворованные еще у тебя и моего прежнего хозяина. Но когда я вернулся на улицу, твои родители уже ушли. Мать моего нового хозяина не позволила мне побежать за ними и заперла меня на ночь в кладовке, так что я не мог убежать.
— Отец ничего не передал мне?
— Он не передал ничего, господин.
Хотя мое сердце и превратилось в камень, мои думы были спокойны, как птицы на холоде. Немного поразмыслив, я сказал Капта:
— Принеси мне всю медь и серебро, что у тебя есть. Дай это мне поскорее, и, может быть, Амон или какой-нибудь другой бог вознаградит тебя, если не смогу я. Я должен перенести моих родителей в Обитель Смерти, и мне нечем больше заплатить за бальзамирование их тел.
Капта начал плакать и сокрушаться, но наконец он пошел в угол сада, поглядывая по сторонам, как собака, которая зарыла кость. Подняв камень, он вытащил тряпку, в которую были завязаны его серебро и медь, всего меньше двух дебенов, а ведь он копил их всю жизнь. Все это он отдал мне, хотя и пролил много слез. Будь же он благословен за это во веки веков!
Я поспешил к дому отца, где обнаружил, что двери разбиты, а все вещи опечатаны. В саду стояли соседи; они подняли руки и в ужасе отпрянули от меня, не проронив ни слова. Во внутренней комнате Сенмут и Кипа лежали на своей постели, их лица были свежими, как при жизни, а на полу стояла все еще тлеющая жаровня, от дыма которой они погибли при плотно закрытых ставнях и дверях. Я обернул их тела в покров, не обращая внимания на печати, стоящие на нем, и разыскал погонщика ослов, который согласился перевезти их тела.
С его помощью я поднял их на спину осла и привез в Обитель Смерти. Но в Обители Смерти не пожелали их принять, ибо мне не хватило серебра, чтобы заплатить даже за самое дешевое бальзамирование.
Тогда я сказал мойщикам трупов:
— Я, Синухе, сын Сенмута, и мое имя занесено в Книгу Жизни, хотя жестокая судьба лишила меня серебра, необходимого, чтобы заплатить за похороны моих родителей. Поэтому умоляю вас во имя Амона и всех богов Египта: забальзамируйте тела моих родителей, и я буду служить вам в меру своего умения столько времени, сколько нужно, чтобы закончить их бальзамирование.
Они проклинали мое упрямство и ругали меня, но наконец обезображенный оспой старший мойщик принял деньги Капта; он подцепил крючком за подбородок моего отца и швырнул его в большую ванну. То же самое он проделал и с моей матерью, бросив ее в ту же ванну. Всего этих ванн было тридцать. Каждый день одна из них была наполнена и одна спущена, так что тела бедняков лежали тридцать дней, погруженные в соль и щелок, чтобы предохранить их от разложения. Кроме этого с ними не делали больше ничего, хотя тогда я не знал об этом.
Я должен был вернуться в дом отца с покровом, на котором стояла казенная печать. Главный мойщик насмехался надо мной, говоря:
— Возвращайся до завтрашнего дня, иначе мы вытащим тела твоих родителей и бросим их собакам.
При этом я видел, что он считает меня лгуном, а совсем не врачом.
Я вернулся в дом отца с окаменевшим сердцем, хотя его крошащиеся глиняные стены взывали ко мне так же, как сикомор в саду и бассейн моего детства. Поэтому я быстро повернулся, чтобы уйти, положив покров обратно на место, но у дверей я встретил писца, который занимался своим ремеслом на углу улицы, рядом с торговцем пряностями. Он сказал:
— Синухе, сын Сенмута Справедливого, это ты?
— Это я.
— Не беги от меня, ибо у меня письмо к тебе от твоего отца. Он не нашел тебя в твоем доме.
Я опустился на землю и закрыл голову руками, тогда как писец вынес бумагу и стал читать ее вслух:
«Я, Сенмут, чье имя внесено в Книгу Жизни, и моя жена Кипа посылаем это приветствие нашему сыну Синухе, которому во дворце фараона дали имя "Тот, кто Одинок". Боги послали нам тебя; всю твою жизнь ты приносил нам только радость, и мы очень гордились тобой. Мы глубоко опечалены за тебя, потому что ты потерпел неудачу, а мы не в состоянии помочь тебе, как мы того желали бы. И мы верим, что во всем, что ты делал, ты был прав и не мог поступить иначе. Не горюй о нас, хотя тебе пришлось продать нашу гробницу, ибо, несомненно, ты не сделал бы этого, не будь на то веской причины. Но слуги закона спешат и у нас нет времени, чтобы дождаться смерти. Смерть теперь желанна для нас, как сон для усталого человека, как дом для изгнанника. Наша жизнь была долгой и в ней было много радостей, но самую большую радость дал нам ты, Синухе, ты, который приплыл к нам по реке, когда мы были уже стары и одиноки.
Поэтому мы благословляем тебя. Не огорчайся, что у нас нет гробницы, ибо вся жизнь — только суета, и, вероятно, лучше, что мы уйдем в небытие, не ища встречи с дальнейшими опасностями и трудностями на этом тяжком пути в Западную Страну. Помни всегда, что наша смерть была легкой и что мы благословляли тебя перед тем, как уйти. Пусть все бога Египта хранят тебя от опасности, пусть твое сердце будет ограждено от печали, и да найдешь ты столько счастья в твоих детях, сколько мы нашли его в тебе. Таково желание твоего отца Сенмута и твоей матери Кипы».
Мое окаменевшее сердце оттаяло, и поток слез хлынул в песок. Писец сказал:
— Вот это письмо. На нем нет печати твоего отца, также не мог он подписать свое имя, ибо был слеп, но ты, вероятно, поверишь мне, если я скажу, что это написано слово в слово под его диктовку; кроме того, слезы твоей матери закапали иероглифы там и сям.
Он показал мне бумагу, но мои глаза были затуманены слезами, и я ничего не увидел. Он свернул ее, вложил мне в руку и продолжал:
— Твой отец Сенмут был справедливый человек, а твоя мать Кипа — хорошая женщина, грубоватая иногда, как это бывает у женщин. Так что я написал это для твоего отца, хотя у него не было для меня даже самого пустякового подарка, и я отдам эту бумагу тебе, хотя это хорошая бумага, и ее можно было бы почистить и снова использовать.
Немного подумав, я ответил:
— И мне нечего дать тебе, превосходный человек. Возьми мою накидку, ибо она из хорошей ткани, хотя сейчас она грязная и помятая. Да благословят тебя все боги Египта и пусть навсегда сохранят твое тело, ибо ты даже не знаешь цены своего поступка!
Он взял накидку и ушел, размахивая ею над головой и смеясь от радости. А я отправился в Обитель Смерти, прикрытый только набедренной повязкой, как раб или погонщик мулов, чтобы помогать мойщикам трупов тридцать дней и ночей.
4
Как врач я полагал, что уже перевидал все виды смерти и страдания и сделался бесчувственным к отвратительным запахам, к лечению нарывов и гноящихся ран. Начав служить в Обители Смерти, я понял, что я дитя и ничего не знаю. Бедняки действительно доставляли нам мало хлопот. Они спокойно лежали в своих ваннах в резком запахе соли и щелока, и я скоро научился управляться с крюком, при помощи которого их передвигали. Но тела тех, кто был зажиточнее, требовали более сложной обработки, и, чтобы промыл, внутренности и разложить их по кувшинам, нужна была крепкая закалка. Еще больше надо было очерстветь для того, чтобы быть свидетелем того, как Амон обирает мертвых — куда больше, чем живых. Цена бальзамирования колебалась соответственно применяемым средствам, и бальзамировщики лгали родственникам мертвых, требуя платы за множество дорогих масел, специальных мазей и консервирующих средств, которые, по их клятвенным заверениям, они применяли, хотя все сводилось к одному и тому же кунжутному маслу. Только тела выдающихся людей бальзамировали по всем правилам искусства. Прочих же наполняли едким маслом, которое разъедало внутренности, потом полости набивали тростником, пропитанным смолой. Для бедных не делали даже этого; вытащив их из ванны на тридцатый день, им давали просохнуть и затем вручали их родственникам.
За Обителью Смерти надзирали жрецы. Тем не менее те, кто мыл и бальзамировал тела, крали все, что попадалось под руку, и считали это своим правом. Только про́клятые богами или беглые преступники брались за такую работу, как мытье трупов, и их можно было издалека распознать по запаху соли, щелока и трупов, неотделимого от их ремесла, так что люди избегали их и не допускали в винные лавки и в увеселительные заведения.
С тех пор, как я отважился работать среди них, мойщики трупов считали меня своим и ничего не скрывали от меня. Если бы я не был свидетелем еще худшего, я бы убежал в ужасе от того, как они оскверняли тела даже самых выдающихся людей, увеча их, чтобы продать колдунам нужные им органы. Если только существует Западная Страна, на что я очень надеюсь ради моих родителей, то, наверное, многие покойники удивятся своему калечеству, когда отправятся в последнее путешествие, ведь они внесли в храм немалые деньги за собственное погребение.
Но самая большая радость бывала в Обители Смерти, когда приносили тело молодой женщины, неважно, была ли она хороша собой или нет. Ее не бросали сразу же в ванну, а держали всю ночь для утехи мойщиков трупов, которые ссорились и бросали жребий, кому первому она достанется. К этим людям питали такое отвращение, что даже самые жалкие проститутки отвергали их, не соблазняясь их золотом. Даже негритянки не подпускали их к себе и страшно их боялись.
Если кто-то поступал в Обитель Смерти на должность мойщика трупов, он очень редко оставлял свое место из-за омерзения, которое окружающие питали к его касте, и всю жизнь жил среди трупов. В первые дни моего пребывания там мне казалось, что все они прокляты богом, и их разговоры, когда они насмехались над трупами и оскверняли их, оскорбляли мой слух. Позднее я обнаружил, что даже среди них были искусные мастера, которые считали свое ремесло очень почетным, относились к нему как к самому важному из ремесел, и у лучших из них оно было наследственным. Все они специализировались в какой-нибудь области, как врачи в Обители Жизни, так что один всегда занимался головой, другой — животом, третий — сердцем, четвертый — легкими, пока каждая часть тела не была подготовлена к вечной сохранности.
Был среди них один пожилой человек по имени Рамос, чья работа была самой трудной из всех: ему приходилось отделять мозг и вытаскивать его пинцетом через нос, а затем полоскать череп в очистительных маслах. Он с удивлением отметил ловкость моих рук и начал обучать меня, так что к тому времени, как я отбыл полсрока моей службы в Обители Смерти, он сделал меня своим помощником и моя жизнь стала более сносной. Я помогал ему в его работе, самой чистой и наиболее почетной в этом месте, и его влияние было так велико, что другие не смели больше запугивать меня и бросать в меня кишки и отбросы. Не знаю, каким образом он приобрел такую власть, ибо он никогда не повышал голоса.
Когда я увидел, как мойщики трупов воруют, как мало делают, чтобы сохранить тела бедняков, хотя жалованье у них было большое, я решил сам помочь моим родителям и украсть для них вечную жизнь. Ибо, на мой взгляд, мой грех перед ними был так чудовищен, что воровство не могло усугубить его. Единственная надежда и отрада их старости заключалась в том, что их тела сохранятся на веки вечные, и, желая осуществить эту надежду, я забальзамировал их с помощью Рамоса и обвил их полосами льняной ткани, оставаясь для этой цели еще на сорок дней и ночей в Обители Смерти. Таким образом, мое пребывание там затянулось, и я успел украсть достаточно для надлежащей обработки их тел. Но у меня не было гробницы для них, а был лишь деревянный гроб, и я не мог сделать ничего больше, как только зашить их вместе в воловью шкуру.
Собравшись покинуть Обитель Смерти, я стал колебаться, и сердце мое упало. Рамос, который оценил мое искусство, предложил мне остаться его помощником. Я мог бы тогда много зарабатывать, воровать и прожить жизнь в этих норах Обители Смерти, свободный от огорчений и страданий, и друзья ничего не узнали бы обо мне. Но все же я не захотел — и кто знает, почему?
Очень тщательно вымывшись и очистившись, я ушел из Обители Смерти, тогда как мойщики трупов выкрикивали мне вслед проклятия и глумились надо мной. Они не имели в виду ничего дурного; это была их обычная и единственно для них доступная манера разговаривать друг с другом. Они помогли мне вынести воловью шкуру. Хоть я и умылся, прохожие обходили меня, зажимая носы и знаками выражая свое отвращение, настолько я был пропитан зловонием Обители Смерти. Никто не хотел перевозить меня через реку. Я ждал до наступления сумерек, когда, не обращая внимания на стражника, украл тростниковую лодку и перевез тела моих родителей в Город Мертвых.
5
Город Мертвых строго охранялся днем и ночью, и я не мог отыскать ни одной оставшейся без надзора гробницы, чтобы спрятать моих родителей там, где они могли навсегда остаться и пользоваться жертвами, которые приносили богатым и знаменитым умершим. Итак, я понес их в пустынное место, тогда как солнце палило мою спину и подтачивало мои силы, пока я не закричал, уверенный, что умираю. Но я тащил свою ношу по холмам вдоль опасных дорог, которыми осмеливались ходить только грабители могил, к запретной долине, где были погребены фараоны.
Ночью выли шакалы, ядовитые змеи пустыни шипели на меня, и по горячим камням ползали скорпионы. Я не испытывал страха, ибо мое сердце стало бесчувственным ко всякой опасности. Несмотря на молодость, я бы с радостью встретил смерть, если бы она не забыла обо мне. Мое возвращение к свету солнца и к миру людей снова заставило меня почувствовать горечь моего позора, и жизнь не могла уже ничего предложить мне.
Я тогда еще не знал, что смерть избегает человека, который стремится к ней, но хватает того, чья душа крепко цепляется за жизнь. Змеи уползали с моего пути, скорпионы не причиняли мне никакого вреда, и жар солнца пустыни не останавливал меня. Сторожа запретной долины были слепы и глухи и не слышали, как загрохотали камни, когда я спускался вниз. Если бы они меня увидели, они тут же убили бы меня и бросили мой труп шакалам. Итак, запретная долина открылась передо мной мертвенно-спокойная и более величественная для меня в своем запустении, чем все когда-либо правившие фараоны.
Я исходил за ночь всю долину, разыскивая гробницу какого-нибудь великого фараона. Зайдя так далеко, я чувствовал, что только самая лучшая гробница может подойти для моих родителей. Я искал и нашел гробницу фараона, который совсем недавно взошел на борт ладьи Амона, так что жертвоприношения могли быть еще свежими и похоронные обряды в его храме на берегу были совершены безупречно.
Когда взошла луна, я вырыл в песке у входа в гробницу яму и там похоронил родителей. Далеко в пустыне завывали шакалы. Мне казалось, что Анубис бродит поблизости, охраняя моих отца и мать и сопровождая их в последнее путешествие. И я знал, что на больших весах Озириса их сердцам найдется место; хотя они не были занесены жрецами в Книги Смерти, их не сопровождала ложь, заученная наизусть, которой богачи придавали столько значения. Блаженное облегчение снизошло на мою душу, когда я закапывал их в песок, ибо это давало им вечную жизнь рядом с фараоном и они могли смиренно наслаждаться принесенными ему богатыми жертвами. В Стране Запада они будут ездить в лодке фараона, есть хлеб фараона и пить его вино.
Когда я сгребал песок, чтобы насыпать холмик, я Наткнулся на что-то твердое и обнаружил, что у меня в руке священный скарабей, вырезанный из красного камня, с драгоценными бусинками вместо глаз; он был весь испещрен священными знаками. Я затрепетал, и мои слезы заструились на песок, ибо мне показалось, что родители подали мне знак, говорящий о том, что они довольны и покоются с миром. Я предпочел поверить этому, хотя знал, что скарабей, должно быть, выпал из украшений гробницы фараона.
Луна зашла, и небо начало бледнеть. Я поклонился, воздел руки и сказал «прощайте» моему отцу Сенмуту и моей матери Кипе. Да сохранятся их тела навечно, и да будет их жизнь в Стране Запада полна радости! Только ради них я надеялся, что такая страна существует, хотя теперь больше этому не верю.
В тот же день я достиг берегов Нила, напился из него воды и улегся спать среди тростников. Мои ноги были в порезах и ранах, руки кровоточили. Пустыня ослепила меня, а мое тело было в ожогах и покрылось волдырями, но я был жив и дремота превозмогла боль, ибо я очень устал.
6
Утром я проснулся от кряканья уток в камышах; Амон плыл по небу в своей золотой ладье, и с дальнего берега до меня доносился шум города. Речные суда скользили под красными парусами; прачки дружно стучали валками, смеясь и перекликаясь друг с другом за работой. Утро было раннее и свежее, но в сердце у меня была пустота, и моя жизнь пошла прахом.
Я искупил как мог свою вину, и теперь, казалось, у меня в жизни нет ни назначения, ни цели. На мне была изорванная набедренная повязка, как у раба; моя спина была обожжена и покрыта струпьями, и у меня не было даже самой мелкой медной монеты, чтобы купить еду. Я знал, что стоит мне двинуться, как я наскочу на стражников, которые окликнут меня. Я не смог бы ответить им, ибо считал, что имя Синухе проклято и обесчещено навеки.
Размышляя над этим, я заметил поблизости какое-то живое существо, хотя с первого взгляда я принял его не за человека, а скорее за призрак из какого-то дурного сна. На том месте, где должен быть нос, у него была дыра, его уши были отрезаны, и он был ужасно истощен. Посмотрев на него более внимательно, я увидел, что руки у него большие и костистые, а тело крепкое и покрытое рубцами, как бывает от тяжестей или от трения веревки.
Заметив, что я наблюдаю за ним, он сказал:
— Что ты так крепко держишь в руке?
Я разжал кулак и показал ему священного скарабея фараона, которого я нашел в песке запретной долины, и он сказал:
— Дай это мне, ибо это может принести мне удачу, а она очень необходима такому бедняку, как я.
Я ответил:
— Я тоже бедняк, и у меня нет ничего, кроме этого скарабея. Я сохраню его как талисман, и он принесет мне счастье.
— Хотя я бедный и никудышный человек, я дам тебе за него слиток серебра, несмотря на то что это слишком много за такой маленький цветной камешек. Но я чувствую сострадание к твоей бедности. Вот этот слиток серебра.
И в самом деле, он вытащил из-за пояса слиток серебра. Тем не менее я еще тверже решил сохранить скарабея, и меня обуяла мысль, что он составит мое благополучие; так я и сказал ему.
Он гневно возразил:
— Ты забыл, что я мог бы убить тебя, когда ты лежал, ибо я долго наблюдал за тобой, пока ты спал, желая знать, что это ты так крепко зажал в руке. Я ждал, пока ты проснешься, но теперь я раскаиваюсь в том, что не убил тебя, раз ты такой неблагодарный.
— По твоим ушам и носу видно, что ты преступник, убежавший из каменоломни. Было бы очень кстати, если бы ты убил меня, пока я спал, это был бы добрый поступок, ибо я одинок и мне некуда идти. Но остерегайся и беги отсюда, ибо если стражники заметят тебя, они тебя изобьют и повесят вниз головой на стене или по меньшей мере, вернут тебя туда, откуда ты явился.
— Откуда ты взялся, если не знаешь, что мне нечего бояться стражников, поскольку я свободный человек, а не раб? Я мог бы войти в юрод, если бы пожелал, но я не люблю ходить по улицам, так как мое лицо путает детей.
— Как может быть свободен тот, кто был осужден на пожизненную работу в каменоломнях, ведь это видно по твоему носу и ушам? — усмехнулся я, полагая, что он хвастает.
Он ответил:
— Значит, тебе неизвестно, что наследник, когда он был коронован коронами Верхнего и Нижнего Царств, приказал снять все оковы и освободить всех рабов на рудниках и в каменоломнях, так что те, кто сейчас работает там, — свободные люди, которые получают плату за свой труд.
Он засмеялся про себя и продолжал:
— Много отважных парней находится сейчас в тростниках, и они живут подношениями со столов богачей из Города Мертвых, ибо стража боится нас, а мы никого не боимся, даже мертвых. Не боится никто, кто побывал в рудниках; нет хуже судьбы, чем быть сосланным туда рабом, как тебе хорошо известно. Многие из нас не боятся даже богов, хотя полагаю, что осторожность — это добродетель, а я благочестивый человек, уж если я прожил десять лет на руднике.
Я тогда впервые услышал, что наследник вступил на трон как Аменхотеп IV и освободил всех рабов, так что рудники и каменоломни на востоке у побережья опустели так же, как и в Синае. Ибо не было в Египте такого безумца, который стал бы работать в рудниках по своей охоте. Царской супругой была принцесса Митанни, которая все еще играла в куклы, а фараон поклонялся новому богу.
— Ею бог, конечно, в высшей степени замечателен, — сказал бывший раб, — ибо он заставляет фараона поступать так, как поступают безумцы. Разбойники и убийцы свободно бродят теперь по Двум Царствам, рудники опустели, и богатство Египта, по-видимому, не возрастает. Я, конечно, невиновен в преступлении, я только жертва несправедливости, но такое всегда случалось и всегда будет случаться. Эго сумасшествие — снять оковы с сотен и тысяч преступников, чтобы освободить одного невиновного. Но это дело фараона, а не мое. Пусть он думает за меня.
Говоря это, он осматривал меня и ощупывал с состраданием мои руки и рубцы на моей спине. Его не пугал запах Обители Смерти, который все еще исходил от меня, и было ясно, что он жалеет меня за мою молодость, ибо он сказал:
— У тебя на коже ожоги; у меня есть масло. Можно, я натру тебя?
Он втирал масло в мои руки и ноги, но, делая это, сквернословил.
— Во имя Амона, не знаю, чего ради я это делаю, ибо какая мне от тебя польза? Никто не растирал меня, когда я бывал избит и изранен и поносил богов за несправедливость ко мне.
Я прекрасно знал, что рабы и каторжники всегда уверяют в своей невиновности, но он был добр ко мне, и мне хотелось отплатить ему тем же. Кроме того, я был одинок и боялся, что он уйдет и оставит меня безутешным. Поэтому я сказал:
— Расскажи мне о несправедливости, которую ты испытал, чтобы я мог горевать вместе с тобой.
— Узнай тогда, — начал он, — что когда-то я был свободным человеком, и у меня была земля, которую я возделывал, хижина, жена, волы и пиво в кувшинах. Но у меня был еще и сосед, влиятельный человек, по имени Анукис — да сгниет его тело! Его землю нельзя было охватить глазом; ею стада были неисчислимы, как песок в пустыне, а их мычание напоминало рев океана, но при этом ему понадобился еще и мой клочок земли. Он чинил мне всякие пакости, и после каждого половодья, когда землю мерили заново, межевой камень передвигался все ближе к моей хижине. Я ничего не мог поделать; землемеры слушали его, а не меня, так как он давал им щедрые подарки.
Безносый вздохнул и опять стал растирать маслом мою спину.
— Однако я мог бы еще жить в своей хижине, если бы боги не наказали меня красивой дочерью. У меня было пять сыновей и три дочери, ибо бедняки плодятся быстро. Когда они выросли, они стали для меня поддержкой и радостью, хотя одного из мальчиков еще маленьким украл сирийский купец. Но моя младшая дочь была красавицей, и в своем безумии я гордился ею и не позволял ей ни выполнять тяжелую работу, ни носить воду, ни обжигать кожу на полевых работах. Было бы благоразумнее остричь ей волосы и вымазать лицо сажей, ибо мой сосед Анукис увидел и возжелал ее и обещал мне сохранить мое поле, если я отдам ему мою дочь. Но на это я не хотел согласиться, ибо надеялся, что при ее красоте она получит в мужья приличного человека, который будет заботиться обо мне, когда я состарюсь, и не обидит меня.
Наконец его слуги напали на меня. При мне была только палка, но я стукнул ею одного из них по голове так, что он умер. Тогда мне отрезали нос и уши и отправили меня в рудники. Мою жену и детей продали в рабство, только младшую дочь Анукис оставил себе и, насладившись ею, отдал ее своим слугам. Так что, по-моему, было несправедливо посылать меня в рудники. Когда через десять лет царь свободна меня, я поспешил домой, но мою хижину снесли, чужой скот пасся в моих лугах, а моя дочь и знать меня не захотела, только плеснула кипяток мне на ноги в лачуге пастухов. Я услышал, что Анукис умер и что его гробница находится в Городе Мертвых близ Фив и на ее двери длинная надпись. Так что я отправился в Фивы, чтобы посмеяться над тем, что там написано. Но я не умею читать и никто не прочитал мне ее, хотя я нашел дорогу к гробнице с чужой помощью.
— Если хочешь, я прочту тебе надпись, — сказал я.
— Да сохранится твое тело навеки, если ты окажешь мне эту услугу, ибо я хочу узнать, что написали об Анукисе, перед тем, как умру.
Мы вместе пошли в Город Мертвых, не окликнутые стражей, и бродили между рядами гробниц, пока не достигли большой гробницы, перед которой лежали мясо и много разного печенья, фрукты и цветы. Там также стоял запечатанный кувшин с вином. Безносый, отведав жертвоприношения, попотчевал и меня, а затем попросил меня прочитать то, что было написано на двери. И вот что я прочел ему:
«Я, Анукис, сеял зерно и сажал фруктовые деревья, и мои урожаи были обильны, потому что я страшился богов и приносил в жертву им одну пятую часть своего урожая. Нил встречал меня благосклонно, и никто на моей земле не голодал за всю мою жизнь, так же не нуждались в пище мои соседи, ибо я подвел воду к их полям и кормил их своим зерном в неурожайные годы. Я осушал слезы сирот и не только не грабил вдов, но и прощал им их долги, и мое имя благословляют от края и до края моей земли. Тем, у кого пал бык, я, Анукис, давал другого, здорового. Я не только был совестлив при межевании земли, но и не допускал, чтобы вода заливала поле моего соседа. Я всю жизнь шел путем справедливости и благочестия. Так поступал я, Анукис, чтобы боги были милостивы ко мне и облегчили мое путешествие в Страну Запада».
Безносый слушал почтительно, и, когда я кончил, он сказал, проливая горькие слезы:
— Я бедный человек и верю всему, что тут написано. Теперь я вижу, что Анукис был благочестивый человек, почитаемый и после смерти. Потомство прочтет надпись на двери его гробницы и воздаст ему должное. А я гадок и грешен, и у меня нет ни носа, ни ушей, так что мой позор виден всем, а когда я умру, мое тело бросят в реку и мое существование прекратится. Все в этом мире одна суета.
Он сломал печать на кувшине с вином и выпил. Подошел стражник и стал угрожать ему своей палкой, но мой товарищ сказал:
— Анукис был добр ко мне в свое время, и я хочу почтить его память, поев и выпив у его гробницы. Но если ты тронешь меня или моего друга, — ученого человека, который вот здесь, возле меня, то знай, что в тростниках много крепких парней, и у некоторых из них есть ножи, и мы нападем на тебя ночью и перережем тебе глотку.
Он свирепо взглянул на стражника, и вид его был страшен. Тот огляделся по сторонам и пошел прочь. Мы ели и пили у гробницы Анукиса, и навес над жертвами давал прохладную тень.
Он сказал:
— Теперь я вижу, что было бы лучше добровольно отдать мою дочь Анукису. Может быть, он оставил бы мне мою хижину да к тому же еще сделал бы мне подарок, ибо моя дочь была красавица и девственница, хотя теперь она изношенная подстилка для его слуг. Я вижу, что права богатого и сильного — единственные права в этом мире и что слово бедняка не доходит до ушей фараона.
Поднеся кувшин ко рту, он рассмеялся и сказал:
— Твое здоровье, праведнейший Анукис, и да сохранится навеки твое тело! У меня нет охоты следовать за тобой в Страну Запада, где ты и тебе подобные живут весело и боги вас не допекают. Все же мне представляется вполне справедливым, что ты сохранишь свое земное человеколюбие и поделишься со мной своими золотыми кубками и драгоценностями из твоей гробницы, так что на следующую ночь я посещу тебя, когда луна скроется в облаках.
— Что ты говоришь, Безносый? — в ужасе воскликнул я и сделал священный знак Амона. — Ты не станешь грабителем могил, ибо это самое гнусное из всех преступлений в глазах богов и людей!
Но Безносый, разгоряченный вином, резко возразил:
— Ты городишь сущий вздор на свой ученый лад. Анукис у меня в долгу, и я, не столь милосердный, как он, заставлю его выполнить мои требования. Если ты попытаешься помешать мне, я сломаю тебе шею. А если ты умен, то поможешь мне, так как четыре глаза видят лучше, чем два, и вместе мы можем унести из гробницы больше, чем я сумею один. Конечно, если ночь будет безлунной.
— Я не желаю, чтобы меня повесили на стене вниз головой и высекли, — сказан я в испуге. Но, поразмыслив, я понял, что мой стыд едва ли станет глубже от того, что мои друзья увидят меня висящим таким образом, и смерть сама по себе не ужасала меня.
В эту ночь солдаты из города переправились через реку, чтобы охранять гробницы, но новый фараон не сделал им подарков после коронации, как это было принято. Так что они перешептывались между собой и, напившись, ибо вина было много среди жертвоприношений, они начали взламывать гробницы и грабить их. Никто не мешал мне и Безносому, когда мы оскверняли гробницу Анукиса, опрокидывали его сундуки и захватили столько золотых чаш и драгоценностей, сколько могли унести. На рассвете толпа сирийских купцов собралась на берегу реки, чтобы скупить награбленное добро и увезти его по реке к своим кораблям. Мы продали им свою добычу, получив около двух тысяч дебенов золота и серебра, которые мы разделили между собой соответственно весу, обозначенному на металле. Эта цена была лишь частицей подлинной стоимости товаров и золото было в сплаве, но Безносый очень радовался.
— Я стану богачом, ибо поистине это ремесло более прибыльно, чем таскание тяжких тюков в гавани или воды из оросительных каналов на полях.
Но я сказал:
— Повадился кувшин слишком часто по воду ходить.
Итак, мы расстались, и я вернулся в лодке купцов на другой берег к Фивам. Я купил новую одежду и поел и выпил в винной лавке, ибо от меня уже не исходило зловоние Обители Смерти. Но в течение всего дня из Города Мертвых доносились через реку звуки труб и бряцание оружия. Колесницы грохотали вдоль дорожек между гробницами, и личная охрана фараона с копьями преследовала солдат-грабителей и рудокопов, чьи предсмертные вопли можно было услышать в Фивах. В этот вечер стена была усеяна телами, повешенными за ноги, и порядок был восстановлен.
7
Я провел ночь на постоялом дворе, а потом пошел к тому дому, который некогда был моим, и вызвал Капта. Он вышел, прихрамывая, с распухшими от побоев щеками. Увидев меня, он заплакал от радости и кинулся к моим ногам.
— Господин, ты пришел, а ведь я думал, что ты умер! Я полагал, что, будь ты жив, ты непременно вернулся бы, чтобы взять еще серебра и меди, ибо если человек дал однажды, он должен давать и впредь. Но ты не приходил, хотя я украл у моего нового хозяина так много, сколько не крал за всю мою жизнь, как ты можешь видеть по моей щеке и по моему колену, которое он ударил вчера. Его мать, старая крокодилица, — чтоб ей сгнить! — грозится продать меня, и я очень боюсь. Давай покинем этот проклятый дом, господин, и убежим вместе.
Я заколебался, и он неправильно понял меня.
— Я вправду украл так много, что смогу некоторое время заботиться о тебе, а когда все деньги выйдут, буду работать для тебя, если ты только заберешь меня отсюда.
— Я пришел лишь заплатить тебе свой долг, Капта, — сказал я и пересыпал в его руку золото и серебро — сумму во много раз большую, чем он дал мне. — Но если хочешь, я выкуплю тебя на свободу у твоего хозяина, так что ты сможешь уйти, куда захочешь.
— Но если ты освободишь меня, куда же я пойду, ведь всю мою жизнь я был рабом? Без тебя я слепой котенок, ягненок, брошенный овцой. И нечего тебе тратить хорошее золото на мою свободу — зачем платать за то, что и так принадлежит тебе? — Размышляя, он лукаво прищурил свой единственный глаз. — В Смирну отправляется большой корабль, и мы, наверное, можем рискнуть отплыть на нем, если сперва принесем щедрые жертвы богам. Только жаль, что я не нашел достаточно могущественного бога с тех пор, как отказался от Амона, причинившего мне такое зло.
Вспомнив о найденном мною скарабее, я отдал его Капта и сказал:
— Вот бог могущественный, хотя и маленький. Бережно храни его, ибо я верю, что он принесет нам удачу; золото уже завелось в моем кошельке. Оденься как сириец и беги, если можешь, но не упрекай меня, если тебя поймают как беглого раба. Пусть маленький бог помогает тебе, мы таким образом сбережем деньги, чтобы оплатить наш проезд в Смирну. Я не осмелюсь никому больше посмотреть в лицо в Фивах или во всей Египетской земле, так что я уеду, дабы никогда не возвращаться.
— Не давай никаких клятв, ибо кто знает, что может случиться завтра? Человек, однажды испивший воды из Нила, не может больше нигде утолить свою жажду. Я не знаю, какой ты совершил грех, — ты опускаешь глаза, когда говоришь об этом, — но ты молод и сможешь когда-нибудь позабыть это. Поступок человека похож на камень, брошенный в пруд: от него разлетаются брызги и расходятся круги на поверхности, но туг же вода снова становится спокойной, и от камня не остается и следа. Человеческая память подобна воде. Когда пройдет достаточно времени, все забудут и тебя, и твой поступок и ты сможешь вернуться, и я надеюсь, что тогда ты будешь достаточно богатым и могущественным, чтобы защитить также и меня.
— Я уезжаю и не вернусь, — сказал я решительно.
Как раз в этот момент хозяйка Капта окликнула его резким голосом. Я пошел на угол улицы, чтобы подождать его, и спустя некоторое время он присоединился ко мне с корзинкой. В корзинке был узел, а в его руке позвякивала медь.
— Мать всех крокодилов послала меня на рынок, — радостно сказал он. — Как всегда, она дала мне слишком мало денег, но и это нам пригодится, ибо, наверное, отсюда до Смирны долгий путь.
Его одежда и парик были в корзинке. Мы спустились к берегу, и он переоделся в камышах. Я купил ему красивую палку из тех, что обычно бывают у слуг и скороходов в богатых домах. Затем мы пошли к причалу, где стояли на якоре сирийские суда, и нашли большой трехмачтовый корабль, по которому от носа до кормы тянулся трос толщиной с человеческое тело и на топ-мачте которого развевался сигнальный флаг к отплытию. Сириец-капитан был рад услышать, что я врач, ибо он уважал египетскую медицину и многие из судовой команды были больны. Действительно, скарабей принес нам удачу, ибо капитан занес нас в корабельный журнал и не пожелал взять денег за переезд, которые, как он сказал, мы отработаем. С этого момента Капта чтил скарабея как бога, ежедневно умащивая его и заворачивая в тонкую тряпочку.
Мы отчалили, рабы взялись за весла, и за восемнадцать дней мы достигли границы Двух Царств. В следующие восемнадцать дней мы подошли к дельте, а еще через два дня нашим взорам открылось море и берега больше не было видно. Когда судно начало качать, лицо Капты стало серым и он уцепился за большой канат. Тут же он пожаловался мне, что его желудок поднимается к ушам и что он умирает. Ветер посвежел, корабль стало качать сильнее, капитан вывел его в открытое море, и земля исчезла из виду. Тогда мне тоже стало не по себе, ибо я не мог понять, как он снова найдет ее. Я уже не смеялся над Капта, потому что у меня кружилась голова и я испытывал неприятные ощущения. Вскоре Капта вырвало, и он опустился на палубу; лицо его позеленело, и он не проронил больше ни слова. Я встревожился, увидев, что у многих других пассажиров тоже рвота, они стонут, что погибают, и странно изменились в лице; я поспешил к капитану и сказал ему:
— Ясно, что боги наложили проклятие на наше судно и наслали на него какую-то ужасную болезнь, которая разразилась на борту, несмотря на все мое искусство.
Я умолял его повернуть назад, к земле, пока он может еще ее найти, иначе как врач я не отвечаю за последствия. Но капитан успокоил меня, говоря, что ветер благоприятный, он быстро понесет нас по нужному курсу и что грешно насмехаться над богами, называя ветер бурей. Он клялся своей бородой, что каждый пассажир будет резв, как молодой козел, как только ступит на сушу, и что я могу не опасаться за свое достоинство врача. Все же, когда я видел страдания этих путешественников, мне было трудно верить ему.
Почему я сам не заболел так тяжело, не могу сказать, разве только потому, что, едва родившись, очутился в тростниковой лодке, которая, покачиваясь, понесла меня по Нилу.
Я старался помочь Капта и другим, но пассажиры ругались, стоило мне только их коснуться. Когда я принес Капта еду подкрепиться, он отвернул лицо и громко щелкнул зубами, как гиппопотам, чтобы опорожнить свой желудок, хотя в нем ничего уже не было. Но Капта никогда раньше не отворачивался от пищи, и я стал думать, что он в самом деле умрет. Я был очень угнетен, ибо начал привыкать к его глупостям.
Настала ночь, и я наконец заснул, несмотря на то что был напуган качкой судна, громким хлопаньем парусов и грохотом волн, разбивавшихся о борт. Шли дни, но никто из пассажиров не умирал, некоторые даже оправились настолько, что стали есть и гулять по палубе. Только Капта неподвижно лежал и не прикасался к пище; все же он подавал некоторые признаки жизни, снова начав молиться скарабею; из этого я заключил, что он вновь обрел надежду вернуться живым на землю. На седьмой день показалась полоска берега, и капитан сказал мне, что мы миновали Иоппию и Тир и сможем войти прямо в порт Смирны благодаря благоприятному ветру. Откуда он все это знал, я и теперь не могу понять. На следующий день мы увидели Смирну, и капитан принес в своей каюте щедрую жертву богам моря и другим богам. Паруса спустили, гребцы взялись за весла и повезли нас к порту Смирны.
Когда мы вошли в спокойные воды, Капта встал и поклялся своему скарабею, что никогда вновь не ступит ногой на борт корабля.
Книга V Земля Кабири
1
Теперь я расскажу о Сирии и о различных городах, где побывал, и, наконец, прежде всего объясню, что Красные Земли во всем отличаются от Черных Земель. Там, к примеру, нет реки вроде нашей; вместо этого вода изливается с неба и увлажняет землю. В каждой долине есть возвышенность, а за каждой возвышенностью лежит другая долина. В каждой из этих долин живут различные народы, ими правят государи, которые платят дань фараону или платили в те времена, о которых я пишу. Одежда людей, яркая, искусно сотканная из шерсти, покрывает их с головы до ног, отчасти, полагаю, потому, что в их стране холоднее, чем в Египте, а отчасти потому, что они считают постыдным обнажать свои тела, кроме тех случаев, когда они облегчаются на вольном воздухе, к чему египтянин питает отвращение. Они носят длинные волосы и отпускают бороды и едят всегда в помещении. Их боги, у каждого города свои собственные, требуют человеческих жертвоприношений. По всему этому можно легко увидеть, что все в Красных Землях отличается от обычаев Египта.
Ясно также, что для тех знатных египтян, которые занимали постоянные должности в городах Сирии, ведая налогами или командуя гарнизонами, их обязанности были больше наказанием, чем почетом. Они тосковали о берегах Нила — все, за исключением немногих, тех, кто принял чужеземные обычаи. Они изменили стиль своей одежды и образ мысли и приносили жертвы чужим богам. Сверх того, постоянные интриги между жителями, надувательство и жульничество налогоплательщиков, раздоры между соперничающими государями отравляли существование египетских должностных лиц.
Я жил в Смирне два года, в течение которых изучил вавилонский язык, разговорный и письменный, ибо мне говорили, что человек, знающий его, может объясняться с образованными людьми во всем подлунном мире. Иероглифы, как известно, пишут острой иглой на глиняных дощечках, и вся переписка между царями ведется таким образом. Почему это так, не могу сказать, возможно, оттого, что бумага горит, а глиняные таблички сохраняют навсегда письменное свидетельство того, как быстро правители забывают свои договоры и соглашения.
Сирия отличается от Египта также и тем, что врач должен искать себе пациентов, но они не приходят к нему, а полагаются на своих богов, которые, по их представлениям, должны прислать врача к ним. Более того, они дают подарки до начала лечения, а не после него. Это выгодно врачам, ибо пациенты становятся забывчивы, как только их вылечат.
Я собирался заняться здесь моим ремеслом без всякой помпы, но Капта придерживался иного мнения. Он настаивал, чтобы я на все наличные деньги купил нарядную одежду и нанял глашатаев, которые кричали бы о моей славе на каждом углу. Они также должны были объявить, что сам я не посещаю больных, но что им следует приходить ко мне, и Капта запретил мне принимать тех, кто не приносил в подарок хоть одной золотой монеты. Я сказал ему, что глупо поступать так в городе, где никто не знает меня и где обычаи совсем не те, что в Черной Земле, но Капта твердо стоял на своем. Я ничего не мог с ним поделать, ибо если его осеняла какая-нибудь идея, он становился упрям как осел.
Он убеждал меня также посетить тех врачей, которые пользовались самой высокой репутацией, и сказать им:
— Я, Синухе, египетский врач, тот самый, кому новый фараон дал имя «Тот, кто Одинок», и я известен в своей стране. Я возрождаю мертвых к жизни и дарую зрение слепым, если мой бог хочет этого — ибо у меня есть маленький, но могущественный бог, которого я привез с собой в своем дорожном сундуке. Знания отличаются в разных местах, но ведь и болезни везде разные. По этой причине я явился в ваш город, чтобы изучать болезни и лечить их и чтобы воспользоваться вашими знаниями и мудростью.
Я не собираюсь никоим образом покушаться на вашу практику, ибо кто я такой, чтобы соревноваться с вами? Поэтому я предлагаю, чтобы вы посылали ко мне тех больных, которые в немилости у ваших богов, так что вы не можете лечить их, а особенно тех, кого нужно лечить при помощи ножа, ибо ножом вы не пользуетесь; я должен увидеть, принесет ли им мой бог выздоровление. И если такой больной будет излечен, я отдам вам половину того, что он подарит мне, ибо я пришел сюда не за золотом, а за знаниями. Если же я не вылечу его, то не возьму у него ничего, а отошлю его к вам вместе с его подарками.
Врачи, которых я встречал на улицах и на рынках, когда они навещали своих больных, и с которыми я беседовал, размахивали своими мантиями и, перебирая пальцами бороды, говорили:
— Ты молод, но поистине твой бог наделил тебя мудростью, ибо твои слова ласкают наш слух. То, что ты сказал о золоте и о подарках, так же мудро, как и твое упоминание о ноже. Ибо мы никогда не применяем нож для лечения больных, поскольку операция рискованнее обычного лечения. Мы хотим от тебя лишь одного — чтобы ты не лечил с помощью колдовства, ибо наши собственные колдуны очень могущественны, и в этой области подвизается слишком много людей как в Смирне, так и в других городах побережья.
Это было верно, ибо на улицах толпилось множество безграмотных людей, которые брались исцелять больных с помощью колдовства и сытно жили в домах легковерных, пока их пациенты не выздоравливали или умирали.
Таким образом, больные, которых другим не удалось вылечить, приходили ко мне, и я лечил их, но тех, кому я не мог помочь, я отсылал назад к врачам Смирны. Я принес в мой дом священный огонь из храма Амона, чтобы иметь возможность выполнять положенное очищение, так что я мог отважиться применять нож и сделатъ операцию. Врачи чрезвычайно удивлялись этому и теребили свои бороды. Я был настолько удачлив, что вернул слепому зрение, хотя как свои врачи, так и чародеи мазали его веки смесью глины со слюной без всякого результата. Я подверг его действию иглы по египетскому способу, очень повысив этим свою репутацию. Однако спустя некоторое время этот человек снова потерял зрение, ибо игла излечивала только временно.
Купцы и богачи Смирны вели беззаботную и роскошную жизнь; они были тучнее египтян и страдали одышкой и расстройствами желудка. Я делал им кровопускания, и кровь текла из них, как из свиней. Когда мои врачебные запасы истощились, я нашел прекрасное применение своим познаниям, собирая травы в предписанные дни при благоприятном расположении луны и звезд, ибо в этом люди Смирны плохо разбирались и я боялся доверять их лекарствам. Тучным я приносил облегчение от болей в животе и спасал их от удушья посредством тех лекарств, которые продавал им по ценам соответственно их возможностям. Янис кем не ссорился, только одаривал врачей и городские власти, пока Капта распространял обо мне добрую славу и подкармливал попрошаек и сплетников, чтобы они восхваляли меня на улицах и рынках и сохраняли мое имя от забвения.
Я заработал немало золота. Все, что я не потратил и не раздал, я помещал у купцов Смирны, которые снаряжали корабли в Египет, к морским островам и в землю Хетти, так что внес пай на многих судах — одну сотую или пятисотую соответственно моим возможностям в тот момент. Некоторые корабли никогда больше не возвращались, но большая часть их вернулась, и моя доля в них — теперь удвоенная или утроенная — была внесена в торговые книги. Таков был обычай Смирны, неизвестный в Египте. Даже бедные поступали так же и либо увеличивали свои средства, либо нищали еще более; десять или двадцать человек объединялись и вскладчину покупали за свои гроши тысячную долю прибыли от судна или от его груза. Таким образом, я никогда не держал в своем доме золота, чтобы не соблазнять грабителей. Никогда мне не приходилось таскать его за собой во время путешествий по другим городам, таким, как Библос и Сидон, где мне случалось практиковать, ибо тогда купец давал мне глиняную табличку, которую я предъявлял в торговых домах этих городов и безотказно получал деньги по первому требованию.
Так что у меня все шло хорошо. Я преуспевал, а Капта толстел в своих дорогих новых одеждах и умащался прекрасными маслами. Разумеется, он стал дерзок, и я был вынужден его колотить. Но почему все так благоприятствовало мне, не могу сказать.
2
Однако я продолжал томиться одиночеством, и жизнь не доставляла мне радости. Мне надоело даже вино, ибо оно нисколько не утешало меня, лишь лицо мое мрачнело от него, и, когда я напивался, мне хотелось только умереть. Поэтому я стремился постоянно умножать мои знания, чтобы ни на одну минуту не оставаться праздным, ибо в праздности меня терзало недовольство собой и своими поступками, и ночью я засыпал как убитый.
Я познакомился с богами Смирны, чтобы узнать, не откроют ли они мне какой-то скрытой истины. Как и все остальное, эти боги отличались от богов Египта. Высшим божеством был Ваал, жестокий бог, требующий крови в благодарность за свои милости; его жрецы были евнухами. Он требовал также и детей. Более того, море алкало жертвоприношений, так что купцы и капитаны должны были постоянно искать новые жертвы. Поэтому никогда не попадалось ни одного искалеченного раба, а беднякам грозила зверская расправа за малейшее прегрешение. Например, бедняка, укравшего рыбу, чтобы накормить семью, разрубали на части как жертву на алтарь Ваала.
Их женским божеством была Астарта, которую также называли Иштар, наподобие Иштар из Ниневии. У нее было много грудей, и каждый день ее заново украшали драгоценностями и облачали в тонкие одеяния, причем обслуживали ее женщины, которые по каким-то причинам были известны как храмовые девы, хотя это было совсем не так. Напротив, они были там, чтобы ими наслаждались — назначение, на которое с благоволением взирала богиня, и чем изощреннее было наслаждение, тем больше золота и серебра жертвовал храму клиент.
Но купцы Смирны охраняли своих собственных жен с большой строгостью, запирая их в доме и закрывая их с головы до ног плотной одеждой, чтобы они не искушали чужестранцев. Мужчины, однако, посещали храм для разнообразия и для того, чтобы снискать божественное расположение. Таким образом, в Смирне не было увеселительных заведений подобных египетским. Если храмовые девы были не по вкусу мужчине, он должен был жениться или купить себе рабыню. Рабыни были в продаже ежедневно, ибо корабли непрерывно приходили в порт и на борту их были женщины и дети различного вида и цвета, и полные, и худые — на любой вкус. Но искалеченных и негодных покупали по дешевке для жертвоприношений Ваалу в пользу городских советников; они принимали это со смехом, похлопывая себя по груди и похваляясь, как хитро они обманули своего бога.
Я тоже приносил жертвы Ваалу, так как он был богом-покровителем города и мне казалось разумным снискать его расположение. Как египтянин я не приносил ему человеческих жертв, а дарил ему золото. Иногда я посещал храм Астарты, который был открыт по вечерам, чтобы послушать там музыку и посмотреть на храмовых женщин (которых не стану называть девами), танцующих сладострастные танцы во славу своей богини. Повинуясь обычаю, я спал с ними и изумлялся приемам, которым они обучали меня и о которых я прежде ничего не знал. Но это не радовало меня, и я делал все это из любопытства. Когда они обучили меня тому, чему должны были обучить, они наскучили мне, и я больше не посещал их храм. На мой взгляд, не было приемов более однообразных, чем у них.
Но Каша качал головой, тревожась обо мне, ибо лицо мое старело, морщины между бровей стали глубже, а мое сердце замкнулось. Он хотел, чтобы у меня была рабыня, которая развлекала бы меня в свободные минуты. Так как он вел дом и распоряжался моими деньгами, он купил для меня девушку по своему собственному вкусу. Он вымыл, одел и умастил ее маслами и представил ее мне однажды вечером, когда, усталый от дневной работы, я желал только мирно улечься спать.
Эта девушка была с морских островов — полная, белокожая, с безупречными зубами и кроткими и круглыми, как у белки, глазами. Она смотрела на меня с благоговением и проявляла страх к чужому городу, куда ее привезли. Капта превозносил ее прелести с величайшим усердием, и, чтобы доставить ему удовольствие, я взял ее. Однако, хотя я делал все что мог, дабы избавиться от одиночества, сердце мое не радовалось и я не мог заставить себя называть ее моей сестрой.
Я зря проявлял к ней доброту, ибо это сделало ее наглой, и она мешала мне принимать больных. Она много ела и растолстела и непрерывно требовала драгоценностей и новых платьев. Кроме того, она ходила за мной по пятам, постоянно желая со мною наслаждаться. Напрасно я предпринимал путешествия в глубь страны и в прибрежные города. Когда я возвращался, она первая приветствовала меня, изводя слезами и приставаниями. Я бил ее, но без толку; после этого она становилась еще более пылкой, чем раньше, и жизнь в моем доме стала невыносимой.
Но скарабей принес мне счастье, ибо однажды ко мне явился царь Азиру, правитель внутренней области Амурру. Я лечил его зубы и сделал ему один зуб из слоновой кости, чтобы заменить им зуб, выбитый в сражении, и покрыл золотом те, что были повреждены. Пока он оставался в городе, совещаясь с властями об административных делах, он посещал меня ежедневно. Он встретил мою рабыню, которой я дал имя Кефтью, по названию морских островов, так как не мог выговорить ее языческое имя, и был восхищен ею. Этот Азиру был белокожий и сильный, как буйвол. У него была блестящая иссиня-черная борода, его глаза дерзко сверкали, так что Кефтью начала страстно смотреть на него, ибо женщин всегда пленяет новизна. Он больше всего восхищался ее полнотой, и одежда, которую она носила на греческий манер, воспламенила его. Хотя одежда и закрывала ее горло, но оставляла обнаженной грудь, а он привык видеть женщин, закрытых с головы до пят.
Наконец он не смог сдерживать своего желания и, глубоко вздохнув, сказал мне:
— Ты поистине мой друг, Синухе-египтянин, и ты поправил мои зубы и сделал так, что, когда я открываю рот, там сверкает золото, которое придаст мне большее достоинство в земле Амурру. За это я одарю тебя так, что ты от удивления поднимешь руки. Тем не менее я против воли вынужден причинить тебе боль.
Как только я увидел эту женщину, что у тебя в доме, она приглянулась мне, и я не могу больше противиться моей страсти к ней, которая терзает меня, как дикая кошка, и даже все твое искусство не может исцелить меня от этого недуга. Я никогда не видел подобной женщины и легко могу представить себе твою нежность к ней, когда по ночам она согревает твою постель.
Все же я прошу у тебя ее, чтобы я мог сделать ее своей женой меж жен и освободить ее от рабства. Я открыто говорю тебе об этом, ибо ты — справедливый человек, и я дам тебе все, что бы ты ни попросил. Но я также говорю тебе открыто, что, если ты не отдашь ее по доброй воле, я приду и заберу ее силой и увезу ее в свою страну, где ты никогда не найдешь ее, если даже посмеешь искать.
При этих словах я поднял руки от восторга, но Каша, который подслушивал, стал рвать на себе волосы и причитать:
— Злой это день, и лучше бы моему господину никогда не родиться на свет, ибо теперь ты хочешь отнять у него единственную женщину, которая была ему по душе. Потерять ее будет очень тяжело, ибо для моего хозяина она дороже всего золота на свете, всех драгоценных камней, всего фимиама, и она прекраснее полной луны, ее живот округлый и белый, как сноп пшеницы, хотя ты еще не видел его, и ее груди напоминают дыни, о чем тебе могут поведать твои собственные глаза.
Так он болтал, ибо с тех пор, как мы приехали в Смирну, он изучил повадки купцов и рассчитывал на хорошее вознаграждение, хотя как он, так и я ничего не желали так сильно, как избавиться от этой девицы. Услышав его, Кефтью тоже зарыдала, говоря, что никогда не покинет меня, но, рыдая, она восхищенно поглядывала сквозь пальцы на царя и его курчавую бороду.
Я поднял руки и, успокоив их, принял серьезный вид.
— Азиру, царь Амурру и мой друг! Поистине эта женщина дорога моему сердцу, и я называю ее сестрой, но твоя дружба для меня дороже всего. В знак этой дружбы я дарю тебе ее без всякого вознаграждения и прошу тебя принять ее и делать с ней все, чего желает живущая в тебе дикая кошка, ибо, если я не обманываюсь, ты мил ее сердцу, и она будет довольна, потому что в ее теле тоже таится множество диких кошек.
Азиру громко вскрикнул от радости.
— Ах, Синухе, хоть ты и египтянин, а все зло приходит из Египта, с этого дня ты мой брат и друг; по всей земле Амурру будут благословлять твое имя; как мой гость, ты сядешь одесную меня, превосходя всех других, пусть они будут хоть цари. Я клянусь тебе в этом!
Он засмеялся так, что его зубы засверкали. Затем, когда он взглянул на Кефтью, уже переставшую плакать, его лицо изменилось. Горящими глазами он посмотрел на нее, схватил ее за руку, так что дыни заколыхались, и бросил ее в свои носилки, как пушинку. Так что он отбыл, и ни я, ни кто-либо другой в Смирне не видел его некоторое время, ибо он заперся в своем жилище на три дня и три ночи. Мы с Капта радовались нашему освобождению от плутовки, хотя он и упрекал меня за то, что я ничего не потребовал в обмен, когда Азиру предлагал дать мне все, чего бы я ни пожелал.
Но я возразил:
— Ощав ему эту девушку, я обеспечил себе его дружбу. Никто не знает, что будет завтра. Хотя земля Амурру мала и незначительна, ведь это всего лишь пастбище для ослов и овец, все же дружба царя — это дружба царя, и она может оказаться дороже золота.
Капта покачал головой, но умастил скарабея миррой и поставил перед ним свежий навоз в благодарность за освобождение от Кефтью.
Перед тем как вернуться в свою страну, Азиру навестил меня и, поклонившись до земли, сказал:
— Я ничего не предлагаю тебе, Синухе, ибо ты дал мне то, что нельзя оплатить подарками. Эта девушка даже более обольстительна, чем я полагал; ее глаза напоминают бездонные колодцы, и я не устал от нее, хотя она выжала из меня все соки, как выжимают масло из оливок. Откровенно говоря, моя страна небогата и я не могу приобрести золото иным путем, чем облагая налогом купцов, которые проезжают через нее, или затевая войну с соседями, и тогда египтяне наседают на меня, как слепни, и часто я больше теряю, чем выигрываю. Так что я не могу сделать тебе таких подарков, каюк заслуживает твой поступок. Но я обещаю, что, когда бы ты ни пришел ко мне и что бы у меня ни попросил, я тебе дам, если это будет в моей власти, только не проси у меня эту женщину или лошадей, ибо у меня их мало и они нужны для моих колесниц. И если кто-либо оскорбит тебя, пошли только весточку, и мои люди убьют его, где бы он ни был. Никто не услышит об этом, и твое имя не будет упомянуто в этом деле. Так велика моя дружба к тебе.
Затем он обнял меня по сирийскому обычаю. Я видел, что он уважает меня и восхищается мною, ибо он снял со своей шеи золотую цепь и надел ее на меня, но он так глубоко вздохнул при этом, что я понял, насколько велика была эта жертва. Поэтому я снял со своей шеи золотую цепь, которая была подарена мне самым богатым судовладельцем Смирны за то, что я спас жизнь его жены при тяжелых родах, и повесил ему на шею. Он ничего не потерял от обмена, и это очень обрадовало его. И так мы расстались.
3
Теперь, когда я освободился от этой женщины, сердце мое стало легким, как птица. Мои глаза жаждали увидеть что-то новое, и я был преисполнен нетерпением и желанием выбраться из Смирны. Вновь пришла весна. Земля освежилась и зазеленела; на деревьях распускались листья; слышалось воркование голубей и кваканье лягушек в прудах. В гавани снаряжали корабли в долгие путешествия. Вместе с весной разнесся слух, что кабиры вторглись из пустыни и пересекли сирийскую границу от юга до севера, сжигая селения и осаждая города. Но также пришла и армия фараона через Синайскую пустыню из Таниса и дала сражение кабирам. Войска фараона забрали в плен военачальников врага и погнали его назад в пустыню. Это случалось каждую весну, и случалось неизменно. На этот раз, однако, жители Смирны встревожились, потому что город Катна, охраняемый египетскими войсками, был разграблен, царь убит, и египтяне были преданы мечу; не дали пощады ни женщинам, ни детям, даже не брали пленных для выкупа. О подобном не помнил никто из живущих, ибо кабиры обыкновенно избегали укрепленных городов.
В Сирии вспыхнула война, а я никогда не видел войны. Я решил присоединиться к войскам фараона и посмотреть, нет ли там какой-нибудь скрытой от меня истины, а заодно изучить ранения, нанесенные военными дубинками и другим оружием. Но более всего влекло меня то, что командовал войсками Хоремхеб, и в своем одиночестве я страстно желал снова увидеть лицо друга и услышать его голос. Сев на корабль, следовавший вдоль побережья, я прошел затем в глубь страны с хозяйственной частью, между повозками с зерном, запряженными быками и ослами, нагруженными кувшинами с маслом и вином и мешками с луком. Мы подошли к маленькому городку, расположенному на холме и окруженному стеной; он назывался Иерусалимом. Здесь размещался небольшой египетский гарнизон и здесь же находился штаб Хоремхеба. Но слухи, дошедшие до Смирны, сильно преувеличивали численность его отряда, который включал в себя лишь один эскадрон колесниц и две тысячи стрелков и копьеносцев, тогда как полчища кабиров, как говорили, были подобны песку в пустыне.
Хоремхеб принял меня в грязной глиняной хижине со словами:
— Я знал когда-то Синухе. Он тоже был врачом и моим другом.
Он разглядывал меня, озадаченный моим сирийским плащом. Как и он, я постарел, мое лицо изменилось, но он все же узнал меня и рассмеялся, подняв в знак приветствия свою оплетенную золотом плеть военачальника.
— Клянусь Амоном, это Синухе! Я считал, что ты умер. — Он отослал своих офицеров и писцов с их картами и бумагами и приказал подать вина. — Неисповедимы пути Амона, раз мы снова встретились здесь, в Красной Земле, в этом жалком городишке.
При его словах сердце перевернулось у меня в груди, и я понял, как истосковался по нему. Я поведал ему все что было можно о своей жизни и приключениях, и он сказал:
— Пойдем с нами и разделим военные почести! Я задам этим паршивым кабирам такую трепку, что они никогда меня не забудут и проклянут день, когда родились. Я был совсем юным, когда мы встретились впер вые, а ты имел жизненный опыт и дал мне хороший совет. Я научился… Я научился… и, как видишь, держу в руке золотую плеть. Но я добился ее на постыдной службе в личной гвардии фараона, вылавливая грабителей и каторжников, которых он в своем безумии отпустил с рудников. Они причинили нам достаточно хлопот, прежде чем мы их уничтожили.
Когда я узнал, что напали кабиры, я попросил фараона дать мне войско, чтобы отбросить их. Никто из старших офицеров не претендовал на командование, ибо богатство и почести обильнее изливаются вблизи трона, чем в пустыне, кроме того, у кабиров острые копья, а их боевой клич — самый отвратительный, в чем мне пришлось самому убедиться. Но наконец я смог приобрести опыт и испытать свои войска в настоящем сражении. Однако фараон заботится только о том, чтобы я построил здесь, в Иерусалиме, храм его новому богу и прогнал кабиров без кровопролития!
Хоремхеб разразился смехом и ударил себя по ноге плетью, и я рассмеялся вместе с ним. Затем он помолчал и, сделав еще глоток вина, продолжал:
— Откровенно говоря, Синухе, я несколько изменился с нашей последней встречи, как должен измениться человек, который живет рядом с фараоном, независимо от того, хочет он этого или нет. Он смущает меня, ибо глубоко задумывается… и говорит о своем боге, которого отличает от всех других богов. Я часто чувствую себя так, словно мне в мозги напустили муравьев. Ночью я не могу уснуть — мне нужно вино и женщина, чтобы прояснить голову, такое странное это его божество. Бог без всякого облика, хотя он повсюду одновременно; его изображают в виде круга с руками, которыми он благословляет все, что сотворил; и раб, и господин равны для него. Скажи мне, Синухе, не бред ли это больного человека? Я могу только думать, что его укусила бешеная обезьяна, когда он был маленьким, ибо кто, кроме безумца, мог бы вообразить, что кабиров можно разбить без кровопролития?
Он опять выпил.
— Мой бог — Гор, но я ничего не имею и против Амона. Но вижу, что Амон стал слишком могущественным, и новый бог возвысился в противовес ему, чтобы усилить власть фараона. Вот то, что сказала мне сама царица-мать и что было подхвачено жрецом Эйе, который ныне носит посох по правую руку царя. С помощью Атона они стремятся ниспровергнуть Амона или по крайней мере ограничить его власть, ибо не подобает, чтобы жрецы Амона правили Египтом, минуя фараона. Это высокое умение управлять государством, и как воин я вполне понимаю, что новый бог необходим. Если бы только фараон довольствовался строительством храмов для него и нанял жрецов ему в услужение, я бы ни на что не жаловался. Но фараон слишком много думает и говорит о нем. При любом случае, раньше или позже, он переводит разговор на него, и от этого окружающие становятся еще более безумными, чем он сам. Он говорит, что живет по правде, но правда подобна острому ножу в руках ребенка; нож следует носить в ножнах и употреблять только при надобности. Так обстоит дело с правдой, а всего опаснее правда для правителей.
Он сделал еще глоток вина.
— Я благодарен моему Соколу за то, что смог покинуть Фивы, ибо народ кипит, как змеиное гнездо, а я не хочу ввязываться в свары богов. Жрецы Амона уже распространяют всякие небылицы насчет происхождения фараона и подстрекают к мятежу против нового бога. Его женитьба также вызвала недовольство, ибо принцесса Митанни, имевшая обыкновение играть в куклы, внезапно умерла, и фараон возвысил Нефертити, дочь жреца, до ранга царской супруги. Конечно, эта Нефертити красива и великолепно одевается, но она очень своенравна, и во всем чувствуется, что она — дочь своего отца.
— Как умерла принцесса Митанни? — спросил я, вспомнив испуганные, широко раскрытые глаза девочки, глядящей на Фивы, когда ее везли в храм вдоль улицы Рамс разодетую и разукрашенную, как идол.
— Врачи сказали, что она не вынесла климата, — рассмеялся он. — А это подлая ложь, ибо всем известно, что нигде нет такого здорового климата, как в Египте. Но ты сам знаешь, какая высокая смертность среди царских детей — выше, чем в бедных кварталах, хотя, пожалуй, трудно в это поверить. Разумнее всего не называть имен, но я хотел бы остановить свою колесницу перед домом жреца Эйе, если бы посмел.
После этого мы улеглись спать в шатре.
Утром я проснулся от звука рогов и увидел солдат, строящихся в отряды, тогда как сержанты бегали взад и вперед по рядам и кричали на них, раздавая пощечины налево и направо и стегая их своими плетьми. Когда все построились, Хоремхеб вышел из грязной хижины со своей золотой плетью в руке, а слуга держал над его головой зонт и отгонял от него мух опахалом, тогда как он держал речь к солдатам:
— Солдаты Египта! Сегодня я поведу вас в бой, ибо мои разведчики донесли, что кабиры расположились за холмами. Какова их численность, не знаю, ибо эти разведчики со страху удрали, не успев их сосчитать. Надеюсь, их хватит, чтобы покончить с вами всеми, так что не придется больше видеть ваши скверные рожи, и я вернусь назад в Египет, чтобы собрать войско настоящих мужчин, которые любят славу и военную добычу.
Он свирепо посмотрел на войско, и этот взгляд попал в цель: никто из солдат не посмел даже моргнуть.
— Я поведу вас в бой, и все и каждый должен знать, что я пойду в первых рядах и не оглянусь посмотреть, кто из вас следует за мной. Ибо я — сын Гора; Сокол летит передо мной, и я намерен победить кабиров, если даже мне придется сделать это в одиночку. Однако предупреждаю вас, что вечером с моей плети потечет кровь, ибо своими собственными руками я выпорю каждого, кто не последует за мной. И говорю вам, что моя плеть страшнее, чем ломкие копья кабиров из дрянной меди. В кабирах нет ничего страшного, кроме их голоса, который, конечно, ужасен. Если кто-нибудь струсит, услышав их вопли, пусть заткнет уши глиной. Не пристало идти в бой с бабьими причитаниями, хотя бы уж прикиньтесь мужчинами, ведь вы носите набедренные повязки, а не юбки. Если вы победите кабиров, то поделите между собой их скот и прочее имущество, ибо у них скопилось много добра, награбленного в городах, разоренных ими. Вы также разделите между собой их женщин; думаю, что вам будет приятно поваляться с ними сегодня ночью, ведь кабирские женщины красивы и горячи и они любят отважных воинов.
Хоремхеб замолчал и оглядел своих людей, которые дружно закричали и ударили копьями в свои щиты и стали размахивать луками. Он улыбнулся и, взмахнув плетью, продолжал:
— Вижу, что вы рветесь в бой, но сначала мы должны освятить храм Атона — новою бога фараона. Вообще-то он не воинственный бог, и не думаю, что он придется вам по душе. Так вот, главные силы отправляются в поход, резервы остаются, чтобы освятить храм и обеспечить нам благосклонность фараона.
Войска снова отдали ему приветствие, затем отряды стали беспорядочно выходить из города, следуя за своими знаменами, которые несли на шестах. На знаменах были изображены эмблемы — львиные хвосты, ястребы и головы крокодилов. В бой знамена несли перед солдатами. Легкие колесницы ехали впереди, расчищая дорогу. А оставшиеся командиры вместе с резервами последовали за Хоремхебом в храм, который стоял на возвышении у окраины города. Храм был маленький, построенный из бревен, сбитых наспех и обмазанных глиной. Он не походил на другие храмы, так как вход был посередине, там, где стоял алтарь. Никакого бога не было видно, и озадаченные солдаты оглядывались по сторонам, чтобы отыскать его.
Хоремхеб сказал им:
— Бог круглый и подобен солнечному диску, так что смотрите в небо, если ваши глаза переносят яркий свет. Он простирает над вами руки, благословляя вас, но я предчувствую, что сегодня после похода его пальцы будут для вашей спины не лучше раскаленных иголок.
Солдаты роптали, что бог фараона слишком далеко, а им нужен был такой бог, пред которым можно пасть ниц и которого можно коснуться руками, если осмелишься. Но они замолкли, когда вперед вышел жрец — стройный юноша с небритой головой и с белой накидкой на плечах. У него были горящие и ясные глаза, и он возложил на алтарь весенние цветы, масло и вино, что вызвало у солдат громкий смех. Он также пропел гимн Атону, который, как говорили, сочинил фараон. Он был очень длинным и монотонным, и люди слушали его, открыв рот и мало что понимая.
Ты прекраснее всего на горизонте, Живой Атон, источник всего сущего! Когда ты восходишь в восточном небе, Все земли преисполняются великолепием. Ты прекрасен, ты велик, излучающий свет на весь мир. Твои лучи обнимают все земли, сотворенные тобой, И они связаны вместе лучами твоей любви. Ты далеко, но все же твои лучи касаются земли; Тебя превозносят, но все же подошвы твоих ног ступают по пыли.Жрец пел о темноте, о львах, которые ночью крадутся из своего логова, и о змеях, и многие из слушавших были напуганы. Он пел о блеске дня и говорил о том, что птицы расправляют свои крылья по утрам, поклоняясь Атону. Он провозгласил также, что этот новый бог приводит в движение плод во чреве и оплодотворяет семя мужчины. Слушая его, можно было вообразить, что нет ни одной, даже самой ничтожной вещи на свете, которая не касалась бы Атона, и даже цыпленок не мог бы вылупиться и запищать без его помощи. Жрец закончил:
Только ты обитаешь в моем сердце, И ни один человек не знает тебя, кроме царя — его сына. Ты делишься с ним мыслями, Ты умащаешь его своим могуществом. Мир лежит в твоих руках, каким ты его сотворил; Твоим светом живут люди, И если ты закрываешь от них свое лицо, они погибают. Ты — жизнь, и люди живут благодаря тебе. Все глаза обращены к твоей славе До часа твоего захода, Всякие работы прекращаются, Когда ты склоняешься к западу. С сотворения мира Ты подготовил это к приходу твоего сына. Для него, который родился от тебя, Царь, который живет по правде, Повелитель обоих Царств, сын Ра, Который живет по правде. Для повелителя обеих корон сотворил ты мир И для его великой супруги, его возлюбленной, Царицы Двух Царств, Нефертити, Которая будет жить и цвести от века до века!Солдаты слушали и шевелили пальцами в песке. Когда наконец песнь окончилась, они закричали с облегчением в честь фараона, ибо все, что они усвоили из гимна, было намерение превознести фараона и приветствовать его как сына бога, достойного и справедливого: всегда так было и всегда так будет. Хоремхеб опустил глаза, и юноша, восхищенный приветственными возгласами военных, ушел, чтобы написать отчет об этом событии фараону.
4
Люди шли в поход, сопровождаемые упряжками быков и навьюченными ослами. Хоремхеб устремился вперед в своей колеснице, а старшие офицеры отправились в своих носилках, жалуясь на жару. Я был доволен, что сижу на спине осла, как и мой приятель квартирмейстер, и захватил с собой свой медицинский ящик, на который я очень рассчитывал.
Колонна двигалась до вечера с одной только короткой передышкой, во время которой людям разрешили поесть и выпить. Все больше народу натирало себе ноги и оставалось на обочине не в силах подняться, несмотря на пинки и побои сержантов. Люди попеременно ругались и пели. Когда тени стали удлиняться, послышался свист стрел со стороны скал, окаймляющих дорогу, и то и дело доносился крик из рядов, где кто-то хватался за плечо, пронзенное стрелой, или падал головой вперед на дорогу. Хоремхеб, не обращая на это внимания, мчался вперед, а его солдаты бежали трусцой. Легкие колесницы расчищали дорогу впереди, и скоро мы увидели лежащие по обочинам дороги тела кабиров в разодранных одеждах, во рту и в глазах у них кишели мухи. Некоторые из наших людей выходили из строя, чтобы перевернуть их тела в поисках добычи, но взять было нечего.
Квартирмейстер потел на своем осле и наказал мне передать последнее «прости» его жене и детям, ибо чувствовал, что пришел его последний день. Он сказал мне, где найти в Фивах его жену, и просил меня последить за тем, чтобы никто не ограбил его труп — в случае, если все мы доживем до вечера, — добавил он, мрачно покачав головой.
Наконец перед нами открылась широкая равнина, на которой лагерем расположились кабиры. Хоремхеб дал приказ трубить в рога и приготовился к атаке, поместив копьеносцев в центре, а стрелков — на флангах. Колесницы, кроме нескольких более тяжелых, он отослал, чтобы они делали свое дело в других местах, и они унеслись с такой быстротой, что пыль взметнулась вверх и скрыла их. Из долин по ту сторону холмов поднимался дым от горящих селений. Казалось, что на равнине несчетное количество кабиров, и их завывания и крики наполняли воздух, когда они надвигались на нас. Их щиты и острия копии угрожающе сверкали на солнце.
Хоремхеб громко закричал:
— Распрямите колени, вы, жабы, ведь бойцов среди них мало, а то, что вы видите: скот, женщины и дети — все это будет вашим до наступления ночи. В их кухонных горшках вас ждет горячая еда. А теперь прочь отсюда, чтобы мы могли поесть, потому что я уже голоден, как крокодил!
Но войско кабиров, далеко превосходившее нас численностью, подошло ближе. Острия их копий сверкали, и битва не сулила мне ничего приятного. Ряды наших копьеносцев дрогнули, и они озирались по сторонам так же, как и я. Сержанты размахивали плетями и ругались, но, конечно, люди были слишком измучены, чтобы повернуться и убежать; они сомкнули ряды, а лучники в беспокойстве натянули тетиву своих луков, дожидаясь сигнала.
Приблизившись, кабиры издали свой боевой клич — вой столь ужасный, что кровь застыла у меня в жилах и ноги подкосились подо мной. Тут же они выстрелили, пуская стрелы на бегу. Жужжание стрел — бзззт, бзззт — напоминало жужжание мух. Я не знаю более невыносимого звука, чем свист стрелы, пролетающей мимо ушей. Все же я приободрился, увидев, как мало вреда они принесли, ибо они либо пролетали над нашими головами, либо отскакивали от щитов.
Тут Хоремхеб закричал:
— За мной, ублюдки!
Его возничие отпустили поводья и умчались за ним; лучники все как один выпустили стрелы, тогда как копьеносцы бились за колесницами. Из всех глоток вырвался крик — еще более ужасный, чем вой кабиров, ибо каждый кричал для себя, чтобы заглушить страх. Я тоже закричал во всю силу своих легких и нашел в этом большое облегчение.
Колесницы врезались в ряды нападающих кабиров и промчались на передовую; над взвихренной пылью и летящими копьями мелькал оперенный шлем Хоремхеба. Вслед за колесницами пошли в атаку копьеносцы под своими боевыми знаменами с их львиными хвостами и соколами, тогда как разбросанные по равнине лучники осыпали градом стрел смятенного врага. С этого момента все смешалось в один сплошной чудовищный, грохочущий, стучащий, орущий, вопящий хаос. Стрелы со свистом проносились мимо моих ушей; мой осел испугался и метнулся в самую гущу битвы, и я завопил и в отчаянии ударил ею ногами, но не смог его сдержать. Кабиры бились решительно и бесстрашно, и те, кто был затоптан ногами лошадей, все еще кидались со своими копьями на тех, кто нападал на них, и не один египтянин был убит, собираясь отрезать руку своей жертвы как трофей. Кровь лилась обильней, чем солдатский пот, и все росли стаи воронов, кружившихся над нами.
Внезапно кабиры испустили яростный крик и начали поспешно отступать, ибо увидели, что колесницы, посланные в объезд равнины, ворвались в их лагерь; их женщин хватали и угоняли их скот. Этого зрелища они не смогли перенести и побежали на выручку, и это было их погибелью. Колесницы повернули на них и их рассеяли, с остальными разделались копьеносцы и лучники. Когда солнце село, равнина была полна безруких трупов, лагерь был в огне, и отовсюду слышался рев обезумевшего скота.
Опьяненные победой, наши люди продолжали резню, прокалывая копьями все, что им попадалось, убивая мужчин, уже сложивших оружие, проламывая детям черепа своими дубинками и неистово стреляя из луков в панически бегущий скот, пока Хоремхеб не приказал трубить в рога. Тогда офицеры и их подчиненные опомнились и разогнали толпу своими плетьми. Но мой ошалевший осел все еще скакал по полю боя, брыкаясь и подкидывая меня на своей спине, как мешок с мукой, тогда как я был ни жив ни мертв. Солдаты смеялись и дразнили меня, пока наконец один из них не стукнул осла по морде древком своего копья, заставив животное остановиться, так что я смог спрыгнуть на землю. С этого времени я стал известен среди них как Сын Дикого Осла.
Всех пленных согнали в огороженные места, оружие было сложено, пастухов послали собрать скот. Число кабиров было так велико, что многие из них сумели убежать, и Хоремхеб предполагал, что они будут бежать всю ночь и не очень-то поторопятся вернуться. При свете горящих шатров и повозок с фуражом принесли священный ящик и поставили его перед Хоремхебом. Он открыл его и извлек оттуда Сехмет Львиноголовую, резная грудь которой гордо вздымалась при свете костров. Ликующие солдаты окропили ее каплями крови, текущей из их ран, и бросили перед ней отрубленные руки в знак победы. Из них образовалась большая груда, и некоторые бросали в нее даже по пять-шесть рук. Хоремхеб даровал им цепи и браслеты и дал повышение наиболее храбрым. Он был в пыли и запачкан кровью, которая стекала с его золотой плети, но его глаза улыбались воинам, когда он приветствовал их как своих веселых драчунов и головорезов.
Мне пришлось много поработать, так как копья и дубинки кабиров оставляли страшные раны. Я работал при свете горящих шатров, и крики раненых смешивались с воплями женщин, которых тащили солдаты, получившие их по жребию. Я промывал и сшивал зияющие раны, вправляя кишки в разорванные животы, и водворял на место свисающие с черепа лоскуты кожи. Тем, кто был безнадежен, я давал пиво и снотворное, чтобы ночью они отошли с миром.
Я взял на себя также заботу о некоторых кабирах, которым ранения не дали убежать, я зашивал и перевязывал их раны. Не знаю, зачем я это делал, может быть, полагая, что Хоремхеб, продавая их в рабство, выручит за них больше, если я их вылечу. Но многие из них не хотели моей помощи и предпочитали разрывать свои свежие раны, услышав крики своих детей и плач похищенных женщин. Они подгибали ноги, натягивали на голову свои лохмотья и истекали кровью.
Я наблюдал за ними и все меньше гордился нашей победой. Они были всего лишь жалкие голодные дети пустыни, которых изобилие сирийских долин, богатых скотом и хлебом, толкало на отчаянные набеги. Они были измождены и часто страдали глазными болезнями. Хотя они были отважны, вселяли ужас во время боя и оставляли за собой хвост горящих селений, я мог испытывать лишь сострадание, глядя, как они натягивают на голову свои отрепья, чтобы умереть.
На следующий день я встретил Хоремхеба и попросил его устроить надежную стоянку, где могли бы долечиваться солдаты с особо тяжкими ранениями, ведь если взять их в Иерусалим, они непременно погибнут по дороге.
Хоремхеб поблагодарил меня за помощь и сказал:
— Я не ожидал от тебя такой отваги, какую ты проявил вчера, врезавшись на своем полоумном осле в самую гущу битвы. Ведь ты не знал, что на войне работа врача начинается тогда, когда кончается бой. Я слышал, что люди прозвали тебя Сыном Дикого Осла, и, если хочешь, я возьму тебя в бой в своей собственной колеснице. Несомненно, тебе везет, раз ты уцелел, ведь ты никогда не держал в руке ни копья, ни дубинки.
— Твои люди прославляют твое имя и клянутся идти за тобой повсюду, куда бы ты их ни повел, — сказал я, чтобы польстить ему. — Но как же это ты даже не ранен, хотя ринулся в одиночку в самую гущу копий? Хранит ли тебя некая волшебная сила и как это получается, что ты не испытываешь никакого страха?
— Я знаю, что мне суждено свершить великие дела, хотя откуда я это знаю, не могу сказать. Воину или сопутствует счастье, или нет, а мне оно сопутствовало с тех пор, как мой Сокол призвал меня к фараону. Правда, мой Сокол не любил дворца и улетел прочь, чтобы никогда не возвращаться. Но когда мы шли через пустыню, терпя ужасный голод и еще более ужасную жажду, — ибо я страдал вместе с моими людьми, чтобы узнать их поближе и научиться командовать ими, — я увидел в одной долине горящий куст. Эго был живой огонь, очертаниями похожий на большой куст или дерево, и он не сгорал, а горел день и ночь. Земля вокруг него источала аромат, который ударил мне в голову и вселил в меня храбрость. Я увидал его, когда во главе моих войск ехал поохотиться на диких зверей пустыни, и никто не видел его, кроме моего возничего, который может это подтвердить. Но с этой минуты я знаю, что ни копье, ни стрела, ни боевая дубинка не опасны мне, пока не пробьет мой час.
Я поверил его рассказу и преисполнился благоговения, ибо ему незачем было придумывать такую историю для моего развлечения. Действительно, вряд ли он был способен на это, так как он сам верил лишь в то, чего мог коснуться собственными руками.
На третий день Хоремхеб разделил свои отряды — один отослал назад в Иерусалим с награбленным добром, ибо торговцы редко приходили сами на поле боя за нашими рабами, кухонными горшками и зерном, а другой отряд отправил стеречь пасущийся скот. Я разбил лагерь для раненых, которых охранял особый военный взвод, но большая часть раненых умерла. Сам Хоремхеб отправился со своими колесницами преследовать кабиров, поскольку из расспросов пленных узнал, что беглецы ухитрились спастись и унести своего бога.
Против моей воли он взял меня с собой, и я встал позади него в колеснице, схватив его за талию и думая, что лучше бы мне никогда не родиться. Он гнал как сумасшедший, и я ждал каждую минуту, что мы опрокинемся и меня выбросит на камни головой вперед. Но он только усмехался и говорил, что даст мне почувствовать вкус войны, поскольку я пришел узнать, что же это такое.
Он дал мне почувствовать это: я увидел, как колесницы подобно урагану налетели на кабиров, весело распевавших и размахивавших пальмовыми ветвями, когда они гнали краденый скот в потаенное место в пустыне. Его лошади топтали женщин, детей и стариков, он был окутан клубами дыма от горящих шатров; проливая кровь и слезы, кабиры узнали, что лучше жить в нищете в пустыне и умирать от голода в своих логовах, чем делать набеги на богатую, плодородную Сирию; они могли бы намазать маслом свою спаленную под солнцем кожу и наесться краденым зерном. Так я узнал вкус войны — и это была уже не война, а преследование и убийство, пока Хоремхеб сам не пресытился и не приказал установить пограничные камни, которые сбросили кабиры.
Однако он догнал бога кабиров и кинулся на него, как ястреб, разметал несших его, и те разбежались. Изображение бога потом раскололи и сожгли перед Сехмет. Воины били себя в грудь, крича:
— Смотрите, как мы сжигаем бога кабиров!
Этого бога звали Еху или Яхве; это был единственный бог участников набега, и они, лишившись всего, были вынуждены вернуться в свою пустыню. Таким образом они стали еще беднее, чем были до своего вторжения, и не помогли им ни пальмовые ветви, ни песни радости.
5
Хоремхеб вернулся в Иерусалим, переполненный беженцами из пограничных земель. Им продавали их же зерно и печные горшки, а они рвали на себе одежды и кричали: «Эти разбойники хуже, чем кабиры!» Но они не испытывали никакой нужды, ибо могли брать взаймы деньги в своих храмах, у своих купцов и у сборщиков податей, которые устремились в Иерусалим со всей Сирии. Таким образом Хоремхеб обратил награбленное добро в золото и серебро и разделил это между своими солдатами. Тогда я понял, почему большинство раненых умерло, несмотря на мои старания. Ведь их доля добычи доставалась их товарищам, которые вдобавок украли у больных одежду, оружие и ценности и не давали им ни питья, ни еды, отчего те и умирали. Так нечего удивляться, что неумелые хирурга всегда стремились идти в бой за войсками и что при всем своем невежестве они возвращались с войны разбогатевшими!
В Иерусалиме стоял шум и гам и грохот сирийской музыки. Солдаты проматывали золото и серебро на пиво и девок, пока торговцы, вернув таким образом свои деньга, не уехали. Хоремхеб обложил налогом купцов; они платили его, приезжая в город и уезжая из него. Он разбогател, хотя и отказался от своей доли награбленного добра.
Он не ощущал никакого подъема, и, когда я пришел попрощаться с ним перед моим отъездом в Смирну, он сказал:
— Эта война закончилась прежде, чем началась, и в своем письме ко мне фараон упрекает меня за кровопролитие, происшедшее вопреки его приказаниям. Я должен вернуться в Египет вместе со своими крысами, распустить их и передать их знамена во владение храма. Но не знаю, что из этого выйдет, ибо это единственные обученные части в Египте, а остальные годятся лишь на то, чтобы облопаться на стены и щипать женщин за ляжки на рынке. Клянусь Амоном, в золотом дворце фараону очень легко сочинять гимны в честь своего бога и верить, что любовь может управлять всеми народами! Если бы только он слышал вопли изувеченных мужчин и рыдания женщин в горящих селениях, когда враг переходит границу, он, быть может, думал бы иначе.
— У Египта нет врагов; он слишком богат и слишком могуществен, — сказал я. — Кроме того, твоя слава вышла за пределы Сирии, и кабиры не нарушат границ в другой раз. Почему бы тебе не распустить свои части, ибо поистине, напиваясь, они ведут себя как скоты; берлоги, где они спят, провоняли и завшивели.
— Ты знаешь, что говоришь, — возразил он, пристально глядя перед собой и почесывая под мышками, ибо даже шатер командующего кишел вшами. — Египет доволен собой — и здесь его ошибка. Мир велик, и в потаенных местах вдет сев, а жатвой будет огонь и разрушение. Я слышал, например, что царь аморитян усердно собирает коней и колесницы, тогда как ему скорее подобало бы своевременно платить дань фараону. На его пирах высокие должностные лица говорят только о том, как аморитяне некогда правили всем миром, что отчасти верно, поскольку последние хиксы живут в стране Амурру.
— Этот Азиру мой друг, он тщеславный человек, ибо захотел, чтобы я позолотил ему зубы. И думаю, у него другие заботы, ибо слышал, что он взял жену, которая вытягивает силу из его чресел.
— Ты многое знаешь, — заметил Хоремхеб, пристально глядя на меня. — Ты свободный и независимый человек; путешествуя из города в город, ты узнал много такого, что скрыто от других. Если бы я был на твоем месте и свободен, я изъездил бы все страны в поисках знания. Я отправился бы в землю Митанни и в Вавилон и узнал бы, каким видом военных колесниц пользуются теперь хетты и как они обучают своих воинов. Я посетил бы морские острова, чтобы посмотреть, есть ли там корабли, о которых так много говорят. Но мое имя известно по всей Сирии, и, может быть, мне не удалось бы особенно много услышать. Но ты, Синухе, одет по-сирийски и знаешь язык, известный образованным людям всех наций. К тому же ты врач, и никому не придет в голову, что ты разбираешься в чем-то еще, помимо своего ремесла. Более того, твоя речь проста и для моих ушей часто звучит по-детски, и у тебя открытый взгляд. Однако я знаю, что твое сердце закрыто и того, что ты носишь внутри себя, никто не ведает. Верно?
— Может быть. Но чего ты хочешь от меня?
— Что ты сказал бы, если бы я дал тебе много золота и послал тебя в те земли, о которых я говорил, чтобы ты занимался своим ремеслом и прославил как египетскую науку, так и свое собственное врачебное искусство? Богатый и влиятельный, может быть, ты будешь призван даже к царям и сможешь заглянуть в их душу. Пока ты будешь заниматься врачеванием, твои глаза будут моими глазами, а твои уши — моими ушами, так что, вернувшись в Египет, ты сможешь отчитаться передо мной во всем, что видел и слышал.
— Я вообще не намерен возвращаться, и, кроме того, то, что ты предлагаешь, опасно. Я не хочу висеть вниз головой на стене чужого города.
— Никто не знает, что будет завтра. Думаю, что ты вернешься в Египет, ибо тот, кто однажды испил воды из Нила, не сможет нигде больше утолить свою жажду. Даже ласточки и журавли возвращаются каждую зиму. Золото для меня — всего лишь прах, и я охотно обменял бы его на знание. Что же до повешения, твои слова подобны жужжанию мух в моих ушах. Я не прошу тебя делать зло или нарушать законы какой-то страны. Разве большие города не приманивают путешественника возможностью посещать их храмы, разве не приготовляют они разнообразные пиры и развлечения, чтобы привлечь его и его золото? Тебе везде будут рады, если у тебя есть золото.
Твоему искусству тоже будут рады в странах, где топором убивают стариков и оставляют больных умирать в пустыне — это ведь бывает, как тебе известно. Цари горды и любят выставлять напоказ своих солдат, чтобы поразить чужеземца. Нет ничего дурного, если ты заметишь, как эти люди маршируют и как они вооружены, посчитаешь колесницы и запомнишь, какие они — большие и тяжелые или маленькие и легкие, и сколько человек в них помещается — двое или трое, ибо я слышал, что некоторые используют щитоносцев как возничих. Также очень важно заметить, упитаны ли солдаты и лоснятся ли от масла или истощены и завшивлены, и не больны ли у них глаза, как у моих крыс. Прошел слух, будто хетты открыли какой-то новый металл и что оружие, сделанное из него, отбивает края самых лучших медных секир. Правда ли это, не знаю; возможно, они открыли какой-нибудь новый способ выплавки меди. Как бы то ни было, я хотел бы знать побольше. Но для меня важнее всего узнать мысли правителей и их советников. Посмотри на меня!
Я взглянул на него, и мне показалось, что он вырос у меня на глазах. Он походил на бога, и его глаза сверкали как раскаленные уголья, так что мое сердце дрогнуло, и я склонился перед ним.
Он сказал:
— Веришь ли ты теперь, что я создан властвовать?
— Сердце говорит мне, что ты можешь мною распоряжаться, но я не знаю, отчего это происходит, — ответил я, запинаясь, и язык еле ворочался у меня во рту. — Без сомнения, это правда, что тебе предназначено повелевать многими, как ты сказал. Итак, я еду, и мои глаза будут твоими глазами, а мои уши — твоими ушами. Не знаю, пригодится ли тебе то, что я увижу и услышу, ибо в таких делах я ничего не смыслю. Тем не менее я сделаю это, как сумею, и не ради золота, а ради нашей дружбы и еще потому, что такова воля богов — если они вообще существуют.
Он сказал:
— Надеюсь, ты не пожалеешь о нашей дружбе. И все же я дам тебе золота для твоего путешествия, ибо, насколько я понимаю, оно тебе пригодится. Ты не спрашиваешь, почему это знание для меня драгоценнее золота, но я могу объяснить тебе: великие фараоны посылали умных людей к чужеземным дворам, но посланники нашего фараона — болваны, которые умеют только укладывать складки на своей одежде и носить свои знаки отличия и знают, должны ли они стоять по правую руку или по левую руку от фараона. Так что не обращай на них никакого внимания, если встретишься с кем-то из них, и пусть их болтовня будет как жужжание мух в твоих ушах.
Когда мы расставались, он позабыл о своем сане, погладил меня по щеке и, коснувшись лицом моего плеча, сказал:
— На душе у меня тяжело из-за твоего отъезда, Синухе, ибо если ты одинок, то ведь и я одинок. Никому неведомы тайны моего сердца.
Думаю, что, когда он говорил это, его мысли были с принцессой Бакетамон, чья красота околдовала его.
Он дал мне много золота, больше, чем я мог вообразить. Думаю, он дал мне все золото, захваченное им в сирийской войне, и выделил мне охрану до самого побережья, так что я мог путешествовать, не опасаясь грабителей. Как только я прибыл туда, я поместил золото в большую торговую компанию, обменяв его на глиняные таблички, которые мне было безопаснее иметь при себе, так как ворам они были ни к чему, после чего я ступил на борт корабля, идущего в Смирну.
Книга VI День Ложного Царя
1
Прежде чем начать новую книгу, я должен восхвалить ушедшие дни, когда я беспрепятственно странствовал по многим землям, набираясь мудрости, ибо подобное время едва ли повторится вновь. Я путешествовал по местам, которые в течение сорока лет не знали войны. Цари повсюду охраняли караванные пути и торговцев, которые ими пользовались, тогда как их суда и корабли фараона очищали моря от пиратов. Границы были открыты; купцов и путешественников, которые привозили с собой золото, радушно принимали в каждом городе, и не было между людьми ни неприязни, ни раздоров; при встрече они низко кланялись друг другу, простирая вперед руки, и знакомились с обычаями друг друга. Многие образованные люди владели несколькими языками и писали двумя видами письма.
Поля орошались и приносили обильные урожаи, а в Красных Землях небеса посылали ливни, которые пополняли наш Нил и увлажняли землю. В те дни скот спокойно бродил и пастухи не носили копий, а играли на свирели и распевали веселые песни. Виноградники процветали, фруктовые деревья склонялись под тяжестью своих плодов; жрецы были толстые и лоснились от масла; дым от бесчисленных жертвоприношений поднимался повсюду с наружного двора храмов. И боги тоже процветали и были милостивы и жирели от сожженных жертв. Богатые богатели, могущественные становились еще могущественнее, а бедняки беднели, такова была воля богов, — и все были довольны, и никто не роптал. Таким видится мне прошедшее время, которое никогда не вернется, когда мои молодые нога не знали усталости при долгих переходах, когда мои глаза жадно впитывали все новое, а моя душа, алчущая знаний, насыщалась ими.
И теперь, воздав хвалу былым временам, когда даже солнце светило ярче и ветры были ласковее, чем в эти злосчастные дни, я расскажу о моих странствиях и обо всем, что видел и слышал. Но сначала я должен поведать о моем возвращении в Смирну.
Когда я вернулся домой, Капта выбежал мне навстречу, вопя и плача от радости, и бросился к моим ногам.
— Да будет благословен день, когда мой господин вернулся домой! — воскликнул он. — Ты вернулся, хотя я считал, что ты погиб в бою. Я был совершенно уверен, что тебя пронзили копьем, ибо ты не внял моим предупреждениям и бросился смотреть, что такое война. Наш скарабей поистине могущественный бог — он защитил тебя, и будь благословен нынешний день! Мое сердце преисполнено радостью оттого, что я вижу тебя, и эта радость слезами вытекает из моих глаз, и я не могу сдержать их, хотя я ведь считал себя твоим наследником и ожидал, что все золото, которое ты поместил у купцов Смирны, перейдет ко мне. Но я не горюю об утраченном богатстве, ибо без тебя я подобен козленку, потерявшему свою матку, и дни мои печальны. Не только не украл я у тебя больше прежнего, но и сберег твой дом, и твое имущество, и все твои доходы, так что ты теперь богаче, чем был перед отъездом.
Он омыл мои ноги, полил мне на руки свежей воды и всячески опекал меня, не переставая вопить, пока наконец я не приказал ему замолчать.
— Быстро собирайся, ибо нам предстоит долгое путешествие, которое может продлиться много лет, и нас ждет немало испытаний; мы отправляемся в страну Митанни, и в Вавилон, и к морским островам.
Тогда Капта вскричал:
— Теперь уж и вправду я хотел бы никогда не родиться на свет и быть не столь жирным и удачливым, ибо чем больше везет человеку, тем труднее ему отказаться от своей праздности. Если бы ты отправлялся на месяц или на два, как бывало прежде, я бы ничего не сказал, а сидел бы себе спокойно здесь, в Смирне. Но если твое путешествие продлится столь долго, ты, может быть, уже и не вернешься, и я никогда больше не увижу тебя. Значит, я должен ехать с тобой, взяв нашего священного скарабея. При таком риске понадобятся всевозможные талисманы, и без скарабея ты можешь свалиться в пропасть и угодить под нож разбойников. Но лучше было бы остаться в нашем доме в Смирне.
С каждым годом Капта становился все наглее и всегда говорил о нашем доме и нашем скарабее, а, платя за что-нибудь, упоминал о нашем золоте.
Но мне надоели его причитания, и я сказал:
— Сердце подсказывает мне, что в один прекрасный день тебя повесят за пятки на стене за твою дерзость. Решай поэтому, отправишься ли ты со мной или останешься здесь, а главное прекрати эту вечную кошачью музыку, когда я буду готовиться к долгому путешествию.
Тогда Капта замолчал и примирился со своей участью, и мы стали готовиться к отъезду. Так как он поклялся никогда больше не ступать на борт морского корабля, мы присоединились к каравану, направлявшемуся в северную Сирию, ибо я хотел увидеть кедры Ливана, откуда поступало дерево для дворцов и для священной ладьи Амона. О путешествии мне нечего сказать; оно было небогато событиями, и грабители на нас не напали. Постоялые дворы были хорошие, и мы вкусно ели и пили; на одной или двух стоянках к нам приходили больные, и я оказал им помощь. Я передвигался в носилках, ибо с меня уже хватило ослов. Правда, сухой ветер обжигал мне лицо, так что приходилось все время натираться маслом, и я задыхался от пыли, и меня раздражали песчаные блохи, но все это казалось пустяком, и меня восхищало все, что я видел.
А видел я кедровые леса и такие гигантские деревья, что ни один египтянин не поверил бы мне, если бы я ему рассказал. Удивительнее всего было благоухание этих лесов, а потоки были прозрачны, и мне казалось, что никто из жителей столь прекрасной страны не может быть несчастлив. Но это было до того, как я увидел рабов, которые рубили деревья и обдирали бревна, а затем катили их по склону холма на морской берег. Ужасно было видеть страдания этих рабов; их руки и ноги были покрыты гнойными болячками от ран, нанесенных древесной корой и топорами, а на их спинах, исполосованных плетью, кишели мухи.
Наконец мы прибыли в город Кадеш, где была крепость и большой египетский гарнизон. Но стены крепости не охранялись, укрепления были разрушены, а командиры и солдаты жили в городе со своими семьями, и лишь в те дни, когда со складов фараона распределяли зерно и пиво, они вспоминали о своем воинском звании. Мы задержались в этом городе, чтобы у Капта на заду зажили болячки от верховой езды. Я лечил многих больных, ибо здешние египетские врачи были несведущими, и их имена, вероятно, давно были вычеркнуты из Книги Жизни, если они вообще были туда внесены.
В этом городе мне изготовили резную печать из редкого камня, как это приличествовало моему званию; здешние печати также отличаются от египетских тем, что их носят не в перстне, а вешают на шею. У них форма цилиндра, и, когда его катают по табличке, он оставляет на глине отпечаток. Люди бедные и неграмотные только нажимают на глину большим пальцем, если им вдруг потребуется поставить свою подпись.
Мы продолжили наше путешествие и беспрепятственно пересекли границу Нахарани, где добрались до реки, которая текла вверх, а не вниз, как Нил. Нам сказали, что мы находимся в земле Митанни, и мы уплатили в царскую казну пошлину, взимаемую с путешественников. Люди относились к нам с уважением только потому, что мы были египтянами, и подходили к нам на улицах со словами:
— Добро пожаловать! Мы рады встретить египтян, ведь уже давно мы их не видели. А у нас на душе тревожно, ибо ваш фараон не прислал нам ни солдат, ни оружия, ни золота; и ходят слухи, что он предложил нашему царю какого-то нового бога, а мы о нем даже не слыхали, хотя у нас уже есть Иштар из Ниневии и еще много других богов, которые до сих покровительствовали нам.
Они приглашали меня к себе домой, кормили и поили меня и угощали также и Капта, потому что он был египтянин, хотя всего-навсего мой слуга, и вот что он сказал мне:
— Это хорошая страна. Давай останемся здесь, господин, и займемся медициной, ибо сдается мне, что эти люди невежественны и доверчивы и их будет легко одурачить.
Царь Митанни со своим двором из-за жары уехал в горы. Я не хотел следовать туда за ними, ибо мне не терпелось посмотреть на чудеса Вавилона, о которых я был так много наслышан. Но я выполнял приказ Хоремхеба и беседовал как со знатными, так и с простыми людьми; все рассказывали мне одно и то же; все были в тревоге. Страна Митанни была прежде могущественной, но теперь казалась страной, повисшей в пустоте. С востока ее теснил Вавилон, на севере — дикие племена, а на западе — хетты, чья страна называлась Хатти. Чем больше я слышал о хеттах, которые внушали всем большой страх, тем тверже становилась моя решимость посетить также и страну Хатти, но сначала я хотел побывать в Вавилоне.
Обитатели страны Митанни были маленького роста, их женщины были прелестны, а дети походили на кукол. Может быть, в свое время они были могущественным народом, ибо, по их словам, некогда управляли всеми народами на севере и юге, востоке и западе, но так говорит о себе каждый народ. Еще со времен великих фараонов эта страна была в зависимости от Египта, и уже в течение двух поколений их цари отдавали своих дочерей замуж за фараонов. Прислушавшись к разговорам и ропоту жителей Митанни, я стал понимать, что этой стране предназначено было служить щитом для Сирии и Египта против могущественного Вавилона и диких племен, принимая на себя удары, направленные против верховной власти фараона. По этой и только по этой причине фараоны поддерживали непрочную власть неустойчивого царя и посылали ему золото, оружие и наемников. Но народ не понимал этого и безмерно гордился своей страной и ее могуществом.
Я видел, что это усталая и вырождающаяся нация, клонящаяся к упадку, с печатью смерти на челе. Люди и не подозревали этого и думали прежде всего о том, как бы вкусно покушать, и изощрялись в приготовлении самых невероятных блюд; они не жалели времени на примерку обновок, и обувь у них была узконосая, а головные уборы высокие, и они были привередливы в выборе драгоценностей. Ноги у них были так же стройны, как и у египтян, а кожа у женщин была так прозрачна, что видно было, как по их голубым жилкам бежит кровь. Их речи и манеры были утонченны, и с детства их приучали к изящной осанке — как мужчин, так и женщин. Жить здесь было приятно; даже в увеселительных заведениях не было шумных ссор, все было тихо и пристойно, так что я чувствовал себя увальнем, когда заходил туда посидеть и выпить вина. Но на душе у меня было тяжело, ибо я повидал войну и знал, что если все, что говорят о стране Хатти, — правда, то страна Митанни обречена.
Их медицина тоже была на высоком уровне, и их врачи были искусны, знали свое дело и еще много такого, чего не знал я. Я получил от них лекарство от глистов, которое было далеко не так мучительно и противно, как те, что были известны мне ранее. Они могли также лечить и слепых при помощи иголки, и этому я тоже подучился. Но они ничего не знали о вскрытии черепа и говорили, что лишь боги могут лечить повреждения головы и что даже тогда больные не выздоравливают полностью, так что им лучше уж умереть.
Однако эти люди были любознательны; они приходили ко мне и приводили своих больных, так как их привлекало все необычное. Как им нравилось носить чужеземную одежду и драгоценности, есть экзотические блюда и пить заморские вина, так они хотели и лечиться у иноземного врача. Женщины тоже приходили, и улыбались мне, и рассказывали мне о своих болезнях, и жаловались, что их мужья ленивы, утомлены и бесстрастны. Я прекрасно понимал, к чему они клонят, но был тверд и не уступал им, ибо не хотел нарушать законы чужой страны. Вместо этого я давал им снадобья, чтобы они подмешивали их в вино своим мужьям, — такие зелья, которые могли и мертвого расшевелить. Сирийцы лучше всех на свете разбираются в таких делах, а их средства в этой области куда сильнее, чем египетские. Но кому подмешали эти женщины мои снадобья — мужьям или совсем другим мужчинам, не знаю, хотя полагаю, что они предпочитали чужеземцев, ибо у них были свободные нравы. Немногие из гак имели детей, и это также для меня означало, что призрак смерти навис над их страной.
Должен упомянуть, что эти люди уже не знали, где границы их царства, поскольку пограничные камни постоянно передвигались. Хетты увозили их в своих колесницах и устанавливали, где хотели. Когда жители Митанни протестовали, хетты смеялись и предлагали им самим вернуть камни на прежнее место, если у них есть желание. Но такого желания у них не было, ибо если то, что говорили о хеттах, — правда, то никогда еще не было на земле столь жестокого, столь грозного народа. Рассказывали, что для них нет большего наслаждения, чем слушать крики искалеченных и видеть их кровь, текущую из открытых ран. Они отрубали кисти рук у жителей пограничных селений Митанни, которые жаловались, что скот хеттов топчет их поля и пожирает их хлеба, и потом насмехались над, ними и предлагали им перенести пограничные камни на прежнее место. Они также отрубали им ноги и предлагали им побежать и пожаловаться царю или надрезали им кожу на голове и лоскуты кожи стягивали им на глаза, чтобы они не видели, куда унесли межевые знаки. Я не могу перечесть все зло, причиненное хеттами, все их зверства и гнусные дела. Говорили, что они хуже саранчи, потому что после саранчи земля снова плодоносит, но там, где прошли колесницы хеттов, никогда уже не вырастет даже трава.
Я не хотел больше задерживаться в стране Митанни, ибо чувствовал, что узнал уже все, что хотел узнать, но мое профессиональное самолюбие было уязвлено, ибо митаннские врачи сомневались и не верили тому, что я рассказывал им об операциях на черепе. В то время меня посетил в гостинице один известный человек с жалобами на непрерывный шум прибоя в ушах, на частые обмороки и на невыносимые головные боли. Он говорил, что если никто не вылечит его, то ему остается только умереть. Врачи Митанни не хотели его лечить.
Я сказал ему:
— Если ты позволишь мне вскрыть твой череп, может быть, ты выздоровеешь, но более вероятно, что умрешь. После этой операции выздоравливает один из сотни.
Он ответил:
— Было бы безумием не согласиться на это, ибо так у меня есть хоть один шанс из ста на выздоровление. Я не верю в то, что ты излечишь меня, но, если я умру от твоей руки, боги не сочтут это таким грехом, как если бы я сам положил конец своей жизни. Если же, напротив, ты вылечишь меня, я с радостью отдам тебе половину моего состояния, а это немалая сумма, но, если я умру, тебе тоже не придется жалеть о содеянном, ибо и тогда тебя ждут щедрые дары.
Я очень тщательно осмотрел его, ощупав каждую часть его головы, но мое прикосновение не причинило ему боли, и ни одно место на его голове не было более чувствительно, чем другое.
Тогда Капта предложил:
— Постучи по его голове молоточком; тебе нечего терять.
Я постучал молоточком в различных точках, и он не подавал никаких признаков боли, но внезапно он вскрикнул и упал без чувств на пол. Из этого я заключил, что нашел место, где было бы лучше всею вскрыть его череп.
Созвав сомневающихся врачей, я сказал:
— Вы можете верить или не верить, но я собираюсь вскрыть череп этого человека, чтобы исцелить его, хотя смерть — более вероятный исход.
Врачи насмешливо усмехались:
— На это действительно стоит посмотреть!
Я взял огонь из храма Амона, затем совершил обряд очищения над собой, и над своим знаменитым пациентом, и надо всем, что находилось в комнате. Я начал свою работу, когда полуденное солнце светило всего ярче. Надрезав кожу, я остановил обильное кровотечение раскаленным докрасна железом, хотя И боялся, что это вызовет у него сильнейшую боль. Но он сказал мне, что эта боль — ничто по сравнению с той, что он терпит ежедневно. Я дал ему большую порцию вина, в котором растворил усыпляющие средства, от чего глаза у него выкатились, как у мертвой рыбы, а он повеселел. Затем со всей возможной осторожностью я вскрыл кость инструментами, бывшими в моем распоряжении, и он не только не потерял сознания, но даже глубоко вздохнул и сказал, что ему уже стало легче, когда я удалил кусочек кости. Теперь сердце мое возликовало, ибо именно тогда, когда я вскрыл его голову, я увидел, что то ли демон, то ли дух болезни положил свое яйцо — так учил меня Птагор. Красное и отвратительное, оно было величиной с яйцо ласточки. С величайшей осторожностью я извлек его, прижигая все, что прикрепляло его к мозгу, и показал его врачам, которые теперь уже не смеялись. Я закрыл череп серебряной пластинкой и зашил над ней кожу, а больной ни на минуту не терял сознания. Когда я окончил, он встал и прошелся и от всего сердца благодарил меня, ибо он больше не слышал ужасного шума в ушах и боли также прекратились.
Этот успех принес мне славу в стране Митанни, и она опередила меня в Вавилоне. Мой пациент принялся было пить вино и веселиться, как вдруг его тело стало горячим и у него начался бред. На третий день он в бреду выскочил из постели, упал со стены и сломал себе шею. Но все утверждали, что это не моя вина, и очень хвалили мое искусство.
Затем мы с Капта наняли лодку с гребцами и поплыли вниз по реке к Вавилону.
2
Страна под владычеством Вавилона имеет множество названий: она известна как Халдея, а также как страна касситов по имени народа, который там проживает. Но я буду называть ее Вавилоном, ибо каждый знает, что такое Вавилон. Это страна изобилия, ее поля изрезаны сетью оросительных каналов, а она плоская, насколько видит глаз, и в этом, как и во всем остальном, она также отлична от Египта. Так, например, египетские женщины размалывают зерно, стоя на коленях и вращая круглый камень, а вавилонские сидят и трут друг о друга два камня, что, конечно, тяжелее.
Там так мало деревьев, что срубить дерево считается преступлением против богов и людей и карается законом. Но кто посадит дерево, снискивает этим расположение богов. Жители Вавилона упитаннее и толще других народов и, как все толстяки, любят посмеяться. Они едят тяжелую мучнистую пищу, и я видел птицу, которую они называют курицей, но она не могла летать, а жила среди людей и откладывала для них каждый день яйцо большое, как яйцо крокодила, хотя никто, услышав об этом, не хотел этому поверить. Мне предложили как-то съесть такое яйцо, ибо вавилоняне считают это большим лакомством, но я так и не рискнул попробовать его и довольствовался знакомыми мне блюдами или теми, составные части которых были мне известны.
Жители этой страны рассказывали мне, что Вавилон самый большой и самый древний город в мире, хотя я не верил им, зная, что Фивы и больше, и древнее. В мире нет города, похожего на Фивы, хотя я и не отрицаю, что Вавилон изумил меня своими размерами и богатством. Самые его стены возвышались, как холмы, и на них было страшно смотреть, и башня, которую они воздвигли своему богу, вздымалась до неба. Жилье было в четыре и пять этажей, так что люди жили друг над другом и друг под другом; и нигде, даже в Фивах, не видел я таких великолепных лавок и таких богатых товаров, как в торговых домах храма.
Их бога зовут Мардук, а в честь Иштар построены ворота, превосходящие высотой пилоны храма Амона. Они покрыты многоцветными глазированными изразцами, подобранными так, что составлялись картины, слепящие глаза при солнечном свете. От этих ворот идет широкая улица к башне Мардука, а к верхушке башни ведет спиральная дорога, такая ровная и широкая, что по ней могут проехать в ряд несколько колесниц. На верхушке живут астрологи, которые знают все небесные тела, вычисляют их орбиты и предсказывают благоприятные и неблагоприятные дни, так что каждый может соответственно соразмерять свою жизнь. Говорят также, что они предсказывают судьбу человека, однако для этого им надо знать день и час его рождения. Не зная, когда я родился, я не мог подвергнуть испытанию их науку.
Золота у меня было столько, сколько я хотел взять в конторе храма, и я поселился близ ворот Иштар в большой многоэтажной гостинице; на крыше ее находятся фруктовые сады и кусты мирта, и текут ручейки, и рыба плещется в водоемах. Здесь часто останавливаются именитые люди, прибывшие в Вавилон из своих загородных поместий, если у них нет собственного городского дома, а также чужеземные посланники. Комнаты устланы толстыми циновками, мягкие диваны покрыты шкурами диких зверей, а на стенах там игривые картины, очень ярко и красочно составленные из глазированных изразцов. Эта гостиница называется Домом Радости богини Иштар и, как все достопримечательности города, принадлежит Башне Бога.
Нигде во всем мире не увидишь столько разнообразных людей и не услышишь такого многоязычия, как в Вавилоне. Здешние жители утверждают, что все дороги ведут сюда и что здесь пуп земли. Вавилоняне — самые первые и самые умелые купцы; нет более почетного занятия, чем торговля, так что даже их боги торгуют друг с другом. Поэтому они не любят войны, а содержат наемников и строят стены лишь для того, чтобы охранять свои торговые дела. Они хотят, чтобы дороги в любую страну были открыты для всех, ибо им хорошо известно, что нет купцов, равных им, и что торговля для них более прибыльна, чем война. Все же они гордятся солдатами, которые охраняют их твердыни и храмы и которые каждый день маршируют у Врат Иштар; их шлемы и нагрудники сверкают золотом и серебром. Также рукоятки их мечей и наконечники их копий украшены золотом и серебром в знак их богатства. Они настойчиво расспрашивают чужеземцев, случалось ли им когда-нибудь видеть такие войска и такие колесницы.
Царем Вавилона был безбородый юнец, которому при вступлении на трон пришлось надеть искусственную бороду. Он любил игрушки и таинственные истории. Моя слава дошла до него раньше, чем я прибыл из Митанни, так что, когда я поселился в Доме Радости богини Иштар и побеседовал со жрецами и врачами башни, меня известили, что царь требует меня к себе.
Капта, как всегда, встревожился и сказал мне:
— Не ходи, давай лучше убежим, ибо от царей не жди добра.
Но я ответил:
— Дурень, разве ты забыл, что с нами скарабей?
— Скарабей скарабеем, — возразил он, — и я этою не забыл, но безопасность лучше риска, и мы не должны слишком уж полагаться на скарабея. Если ты решишь пойти, я не могу помешать тебе, но пойду с тобой, так что по крайней мере мы вместе умрем. Но мы должны постоять за свою честь и потребовать, чтобы за нами прислали царские носилки, и мы не пойдем сегодня, ибо, по верованиям этой страны, сегодня дурной день. Купцы закрыли лавки, люди отдыхают в домах и не работают. Если бы они что-нибудь делали, то потерпели бы неудачу, поскольку это седьмой день недели.
Я поразмыслил над этим и решил, что он прав. Хотя для египтян все дни равны, за исключением тех, которые объявляются неблагоприятными по сочетанию звезд, все же в этой стране седьмой день мог быть несчастливым также и для египтян, и лучше было соблюдать осторожность.
Поэтому я сказал царскому слуге:
— Ты в самом деле считаешь меня чужеземцем, если воображаешь, что я явлюсь к царю в такой день, как этот. Завтра я приду, если царь пришлет за мной носилки. Я не желаю предстать перед ним с испачканными уличной пылью ногами.
Слуга ответил:
— Боюсь, что за такие твои слова, египетский негодяй, ты предстанешь перед царем с копьем, воткнутым в твой зад.
Но он ушел и был, конечно, поражен, ибо на следующий день носилки царя прибыли за мной к Дому Радости Иштар. Но носилки были обычные, какие посылают за торговцами и другими простыми людьми, чтобы доставить их во дворец с их товаром — драгоценностями, перьями и обезьянами.
Капта громко крикнул носильщикам и скороходу:
— Во имя Сета и всех демонов! Пусть Мардук напустит на вас скорпионов! Поживее! Моему господину не подобает разъезжать в такой дрянной старой клетке, как эта!
Носильщики смутились, а скороход погрозил Капта своим жезлом. Любопытные стали собираться у дверей гостиницы; они смеялись, говоря:
— И вправду нам очень хочется поглядеть на твоего господина, которому царские носилки не подходят.
Но Капта нанял большие носилки, принадлежащие гостинице: чтобы нести их, требовалось сорок рабов; в них разъезжали по своим делам послы могущественных царств, и в них также носили чужеземных богов, когда они посещали город. Зеваки уже не смеялись более, когда я спустился из своей комнаты в одежде, на которой серебром и золотом были вышиты знаки, обозначающие мою профессию. Воротник мой блестел на солнце золотом и драгоценными камнями, а мне на грудь спускались золотые цепи. Рабы у гостиницы следовали за мной с ящиками из кедра и черного дерева с инкрустациями из слоновой кости, в которых лежали мои лекарства и инструменты. Разумеется, никто больше не смеялся; напротив, всс склонились передо мной, переговариваясь между собой:
— Поистине, наверное, мудрость этого человека божественна. Давайте последуем за ним во дворец.
У дворцовых ворот стража разогнала толпу копьями и преградила ей дорогу, сомкнув щиты стеной, сверкающей золотом и серебром. Крылатые львы окаймляли дорогу, вдоль которой меня понесли во внутренний двор. Сюда, навстречу мне, вышел старик, чей подбородок был выбрит, как это принято у ученых; в его ушах блестели золотые кольца. Его щеки свисали складками, что придавало ему недовольное выражение, в глазах его была злоба, когда он обратился ко мне:
— У меня разлилась желчь из-за излишнего шума, вызванного твоим появлением. Властелин четырех частей света уже спрашивал, что это за человек, который приходит, когда ему угодно, а не тогда, когда это угодно царю, и который, соизволив прийти, создает такую суматоху.
Я ответил ему:
— Старик! Твоя речь подобна жужжанию мух в моих ушах. Тем не менее я спрашиваю, кто ты такой, чтобы так ко мне обращаться?
— Я главный врач властелина четырех частей света, а ты что за мошенник, явившийся вымогать у царя золото и серебро? Знай, что, если в своей щедрости он и наградит тебя золотыми и серебряными монетами, ты должен половину отдать мне.
— Вижу, что тебе лучше было бы побеседовать с моим слугой, который обязан убирать с моего пути всяческих вымогателей и бездельников. Однако я обойдусь с тобой по-дружески, ибо ты старик и дурно воспитан. Я отдам тебе вот эти золотые кольца с моей руки, дабы показать тебе, что золото и серебро для меня всего лишь пыль и прах и что я пришел не ради них, а только за мудростью.
Я отдал ему браслеты, и он был изумлен и не знал, что сказать. Он даже разрешил Капта сопровождать меня, и мы предстали перед царем.
Царь Бурнабуриаш сидел, держась рукой за щеку, на мягкой подушке в просторной комнате, сияющей яркими цветными изразцами. Это был избалованный мальчуган с надутым лицом. Подле него лежал лев, который слегка зарычал при нашем появлении. Старик распростерся ниц пред царем, касаясь лицом пола, Капта поступил так же. Однако, услышав рычание, он вскочил, как лягушка, на четвереньки и завопил от страха. На это царь разразился хохотом и опрокинулся на спину на подушках, корчась от смеха. Капта сел на корточки на пол и поднял, обороняясь, руки, тогда как лев тоже сел и протяжно зевнул, затем лязгнул клыками так громко, словно захлопнулась крышка храмового сундука, поглотив лепту вдовицы.
Царь смеялся до слез. Затем он вспомнил про свою боль и застонал, схватившись рукой за щеку, такую раздутую, что один глаз был наполовину прикрыт. Он сердито взглянул на старика, который поспешил сказать:
— Вот тот упрямый египтянин, который не хотел прийти, когда ты звал его. Скажи только слово, и стража проткнет ему печень.
Но царь дал ему пинка, сказав:
— Сейчас не время болтать чепуху, пусть он тотчас вылечит меня. Боль ужасная, и я боюсь умереть, ибо мало того, что я не спал много ночей, но я и не ел ничего, кроме бульона.
Тогда старик стал сокрушаться, стукаясь головой об пол:
— О властелин четырех частей света! Мы сделали все возможное, чтобы исцелить тебя; мы в храме приносили в жертву челюсти и зубы, чтобы изгнать злого духа, который поселился в твоей челюсти. Большего мы не смогли сделать, потому что ты не позволил нам коснуться твоей священной особы. И не думаю, чтобы этот нечистый египтянин мог сделать больше нашего.
Но я сказал:
— Я, Синухе, египтянин, Тот, кто Одинок, Сын Дикого Осла, и, мне не нужно осматривать тебя, я и так вижу, что твоя щека распухла из-за зуба, ибо ты вовремя не дал его почистить или вырвать, как, должно быть, советовали тебе ваши врачи. Такие боли могут быть у детей и трусов, но не у властелина четырех частей света, перед которым даже львы дрожат и склоняют головы, как я вижу своими собственными глазами. Однако я знаю, что боль твоя велика, и я помогу тебе.
Царь, все еще держась рукой за щеку, отвечал:
— Твои речи дерзки. Будь я здоров, я велел бы вырвать твой бесстыжий язык и вырезать твою печенку, но сейчас не время для этого. Быстрее вылечи меня, и награда твоя будет велика. Но, если ты повредишь мне, ты будешь убит на месте.
— Будь по-твоему. У меня есть небольшой, но необычайно могущественный бог, из-за которого я не пришел вчера, ибо если бы я и пришел вчера, это было бы ни к чему. Я вижу, что сегодня болезнь достаточно созрела, чтобы я мог лечить ее, и я ее вылечу, если желаешь. Но никого и даже царя бога не могут уберечь от боли, хотя я утверждаю, что, когда болезнь пройдет, облегчение будет так велико, что ты забудешь о боли, и что я сделаю это так умело, как никто в целом мире не может сделать.
Царь некоторое время колебался, хмурясь и прижимая руку к щеке. Он был красивый мальчик, когда был здоров, хотя и испорченный, и я проникся к нему расположением. Почувствовав на себе мой взгляд, он наконец раздраженно сказал:
— Делай скорее то, что должен сделать.
Старше тяжело вздохнул и стукнулся головой об пол, но я не обратил на него никакого внимания. Я велел принести подогретого вина и примешал к нему снотворное. Он выпил, а немного погодя оживился и сказал:
— Боль проходит, и тебе ни к чему мучить меня своими щипцами и ножницами.
Но мое решение было твердо. Крепко зажав его голову, я заставил его открыть рот, потом вскрыл нарыв на его челюсти ножом, очищенным в огне, который Капта принес с собой. Этот огонь, конечно, не был священным огнем Амона — тот от небрежности Капта погас, когда мы плыли вниз по реке. Новый огонь Капта добыл в моей комнате в гостинице, простодушно полагая, что скарабей столь же могуществен, сколь и Амон.
Царь громко завопил, почувствовав нож, и лев с горящими глазами вскочил и зарычал, размахивая хвостом; но скоро мальчик начал усердно плеваться. Облегчение успокоило его, и я помогал ему, слегка надавливая на его щеку. Он плевался и плакал от радости и снова плевался, восклицая:
— Синухе-египтянин, будь благословен, хотя ты и причинил мне боль! — И он продолжал плеваться.
Но старик сказал:
— Я мог бы сделать это так же хорошо, так и он, и даже лучше, если бы только ты позволил мне коснуться твоей священной челюсти. А твой зубной врач сделал бы это лучше всех.
Царь был удивлен, когда я заметил:
— Этот старик прав, ибо он мог бы сделать это так же хорошо, как и я, а зубной врач сделал бы это еще лучше. Но у них не такая твердая воля, как у меня, так что они не могли избавить тебя от боли. Ибо врач должен отважиться причинить боль даже царю, когда это неизбежно, не боясь за себя. Они боялись, а я не боялся, ибо мне все безразлично, и пусть твои люди проткнут меня копьем теперь, когда я вылечил тебя.
Царь сплевывал и нажимал на щеку, и щека больше не болела.
— Я никогда не слыхал, чтобы человек говорил так, как ты, Синухе. Поистине ты принес мне великое облегчение; по этой причине я прощаю твою дерзость и я также прощаю твоего слугу, хотя он и видел, как ты держал мою голову под мышкой, и слышал, как я кричал. Я прощаю его за то, что он рассмешил меня своими прыжками. — Он обратился к Капта: — Попрыгай еще!
Но Капта сердито сказал:
— Это несовместимо с моим достоинством.
Бурнабуриаш улыбнулся:
— Посмотрим!
Он позвал льва, и лев поднялся и потянулся, так что хрустнули его суставы, и посмотрел на хозяина своими умными глазами. Царь указал на Капта, и лев лениво побрел по направлению к нему, помахивая хвостом, тогда как Капта пятился все дальше назад и испуганно, словно зачарованный, смотрел на животное. Внезапно лев открыл пасть и издал приглушенное рычание. Капта заметался и, ухватившись за дверные драпировки, стремительно вскарабкался на них и уселся на дверном карнизе. Он заверещал от ужаса, когда животное слегка коснулось его лапой. Царь хохотал до упаду.
— Никогда я не видел такого шутовства, — сказал он.
Лев сидел, предвкушая удовольствие, тогда как Капта в отчаянии цеплялся за дверной карниз. Но теперь царь приказал подать еду и питье, заявив, что он голоден. Старик плакал от радости, что царь исцелен, и нам принесли множество различных кушаний на серебряных блюдах, а также вино в золотых чашах.
Царь сказал:
— Поешь со мной, Синухе. Хотя это и не подобает моему достоинству, но я позабуду сегодня же о том, как ты держал мою голову под мышкой и засовывал пальцы мне в рот, и не буду впредь об этом думать.
Итак, я ел и пил с ним и сказал ему:
— Твоя боль успокоилась, но может возобновиться через некоторое время, если зуб, который причиняет ее, не будет удален. Поэтому пусть зубной врач вытащит его, как только спадет опухоль у тебя на щеке, тогда это не будет угрожать твоему здоровью.
Его лицо омрачилось.
— Ты много и скучно говоришь, безумный чужестранец.
Затем, немного пораздумав, он добавил:
— Но, пожалуй, ты прав, ибо боль возвращается каждую осень и весну, как только я промочу ноги, и такая сильная, что я хочу умереть. Если это нужно сделать, то сделаешь это ты, ибо я больше видеть не желаю моего зубного врача, ведь он уже причинил мне столько боли.
Я серьезно ответил:
— Зуб вырвет твой зубной врач, а не я, ибо в таких делах он умнее всех в стране и меня тоже, и я не хочу навлечь на себя его гнев. Но, если хочешь, я постою рядом с тобой и буду держать тебя за руки и ободрять тебя, пока он будет это делать, и облегчу твою боль всеми способами, которым научили меня во многих странах, у многих людей. И это должно быть сделано через две недели, ибо лучше всего точно назначить срок, чтобы ты не передумал. К тому времени твоя челюсть заживет, а пока ты будешь полоскать рот утром и вечером тем лекарством, которое я дам тебе, хотя оно, может быть, жгучее и имеет неприятный вкус.
Он разозлился.
— А если я не буду этого делать?
— Ты должен дать мне свое честное слово, что сделаешь все, как я сказал, ибо ведь властелин четырех частей света не может нарушить слово. И если это будет сделано, я буду развлекать тебя своим искусством и превращу у тебя на глазах воду в кровь и даже научу тебя делать это — на удивление людям. Но ты должен обещать мне никогда и никому не открывать тайны, ибо она священна для жрецов Амона и я сам не узнал бы ее, если бы не был жрецом первой ступени, и не открыл бы ее тебе, если бы ты не был царем.
Когда я кончил говорить, Капта жалобно закричал с дверного карниза:
— Уберите прочь это проклятое животное или я спущусь вниз и убью его, потому что руки у меня уже онемели, а мой зад болит от сидения в этом неудобном месте, которое никоим образом не подобает моему достоинству.
Бурнабуриаш безудержно захохотал от этой угрозы. Затем с деланной серьезностью он сказал:
— Будет, конечно, очень грустно, если ты убьешь моего льва, ибо я вырастил его и мы с ним друзья. Поэтому я придержу его, чтобы ты не совершил этого злого дела в моем дворце.
Он подозвал к себе льва, и Капта, слезши с драпировок, стоял, растирая затекшие ноги и свирепо глядя на льва, так что царь снова расхохотался и шлепнул себя по коленям.
— В жизни не видал более забавного человека. Продай его мне, и я озолочу тебя.
Но я не желал продавать Капта. Царь не настаивал, и мы расстались друзьями. К этому времени он начал клевать носом, и глаза у него слипались, так как он не спал много ночей.
Старый врач проводил меня, и я сказал ему:
— Давай обсудим вместе то, что должно случиться через две недели, поскольку это будет тяжелый день, и было бы благоразумно принести жертву всем богам, которым положено.
Это очень понравилось ему, ибо он был благочестив, и мы договорились встретиться в храме, чтобы принести жертву и посовещаться с врачами насчет зуба царя. Перед тем как мы покинули дворец, он велел принести закуску носильщикам, которые доставили меня; они ели и пили во внутреннем дворе и восхваляли меня на все лады. Они с песнями везли меня назад в гостиницу, нас сопровождала большая толпа, и с этого дня имя мое прославилось в Вавилоне. А рассерженный Капта ехал на своем белом осле и не разговаривал со мной, ибо было задето его достоинство.
3
Две недели спустя я встретился с царскими врачами в башне Мардука, где мы все вместе принесли в жертву овцу и жрецы исследовали ее печень; в Вавилоне жрецы изучают печень жертвенных животных, постигая таким образом многое, что скрыто от прочих. Они сказали нам, что царь будет очень разгневан, но никто из-за этого не лишится жизни и не подвергнется длительному заточению, хотя нам нужно остерегаться когтей и копий. Затем мы попросили астрономов посмотреть в Небесную Книгу, благоприятен ли назначенный день для такого дела. Они сказали нам, что он не то что неблагоприятен, но можно было выбрать день и получше. Потом жрецы по нашей просьбе вылили в воду масло и так попытались узнать будущее. Поглядев на масло, они сказали, что не видят ничего примечательного — во всяком случае, дурного предзнаменования там нет. Когда мы уходили из храма, над нами пролетел стервятник, неся в когтях человеческую голову, схваченную им со стены. Это жрецы истолковали как благоприятный знак, хотя я воспринял это совсем иначе.
Следуя прорицаниям, мы распустили царскую стражу и заперли льва, чтобы он нас не разорвал, ибо, разгневавшись, царь мог натравить его на нас; по рассказам врачей было известно, что такое случалось. Но царь Бурнабуриаш вошел решительным шагом, предварительно подкрепившись для бодрости вином, как говорят в Вавилоне, однако, увидев носилки, доставившие зубного врача, он сильно побледнел и сказал, что у него есть важное государственное дело, о чем он позабыл, пока пил вино.
Он собрался было уйти, но, пока другие врачи лежали ничком, касаясь пола губами, я схватил царя за руку и стал подбадривать его, говоря, что все быстро кончится, если только у него хватит смелости. Я велел врачам очиститься и сам очистил инструменты зубного врача над огнем скарабея, затем стал втирать обезболивающие мази в десну мальчика, пока он не приказал мне остановиться, сказав, что щека у него одеревенела и он не может больше двинуть языком. Затем мы усадили его в кресло, привязав к нему его голову, и вставили клинышки ему в рот, чтобы он не смог закрыть его. Я держал его за руки и подбадривал его, зубной врач громко призвал на помощь всех богов Вавилона и, засунув в рот мальчика щипцы, вырвал зуб с невиданной дотоле ловкостью. Несмотря на клинышки, царь завопил не своим голосом, а лев зарычал за дверью, которая едва не вылетела, когда он кидался на нее и царапал ее когтями.
Это был ужасный момент, ибо, когда мы отвязали голову мальчика и вынули клинышки у него изо рта, он стал сплевывать на блюдо кровь, визжа и вопя, и слезы ручьем бежали по его лицу. Он орал, требуя, чтобы его телохранители предали всех нас смерти; он звал своего льва, лягал ногой священный огонь и бил палкой своего врача, пока я не отнял ее у него и не велел ему прополоскать рот. Так он и сделал, а врачи лежали у его ног, дрожа всем телом, а зубной врач думал, что пришел его последний час. Но царь успокоился и выпил вина, хотя рот его еще был перекошен, и он попросил меня позабавить его, как я обещал.
Мы пошли в большую пиршественную залу, потому что комната, в которой царю вырвали зуб, уже была ему не по душе. Он и в самом деле решил навсегда ее запереть и назвал ее проклятой комнатой. Я налил воду в сосуд и дал ее царю и врачам на пробу — удостовериться, что это действительно обыкновенная вода. Затем я медленно стал переливать ее в другой сосуд, и, пока я лил, она превратилась в кровь, так что царь и врачи громко вскрикнули в испуге.
После этого царь щедро наградил врачей, сделав зубного врача богачом, и отослал их прочь. Но мне он приказал остаться, и я научил его превращать воду в кровь, дав ему немного вещества, которое для чудесного превращения нужно было смешать с водой. Это несложно, как известно всякому, кто это проделывал, но великое искусство всегда просто, и царь был очень восхищен и изливался в похвалах мне. Он не успокоился, пока не собрал в саду всех важных придворных, а также любопытных, глазевших с дворцовых стен. На глазах у всех он превратил в кровь воду в бассейне, так что как знатные люди, так и простые смертные закричали от страха и распростерлись перед ним ниц, к его великому удовольствию.
Он забыл о своем зубе и сказал мне:
— Синухе-египтянин, ты исцелил меня от большого зла и всячески порадовал мою душу, поэтому проси у меня все что хочешь. Скажи, какой подарок ты желаешь, и я дам тебе его, каков бы он ни был, ибо хочу порадовать и твою душу.
Я отвечал:
— Царь Бурнабуриаш, властелин четырех частей света! Как врач я держал под мышкой твою голову и сжимал твои руки, когда ты вопил во гневе. Не подобает мне, чужеземцу, сохранить такое воспоминание о царе Вавилона, когда я вернусь в мою страну и расскажу о том, что здесь видел. Поэтому яви мне свое могущество! Повяжи бороду, опояшься львиным хвостом и прикажи своим воинам пройти перед тобой строем, чтобы я мог увидеть твое величие и силу, смиренно пасть ниц перед тобой и целовать прах у твоих ног. Я не прошу ничего, кроме этого.
Моя просьба понравилась ему, ибо он ответил:
— Поистине никто и никогда не говорил так, как ты, Синухе. Я исполню твою просьбу, хотя для меня она самая скучная, ибо я должен сидеть целый день на золотом троне, пока у меня не устанут глаза и меня не одолеет дремота. Тем не менее пусть будет по-твоему.
Он послал вестников во все концы страны, созывая свои войска, и назначил день для парада.
Этот парад происходил у Врат Иштар. Царь сидел на золотом троне, у ног его лежал лев, вокруг него стояли главные сановники в полном вооружении; он был словно окружен облаком из золота, серебра и пурпура. Вдоль широкой дорога внизу бежали воины — копьеносцы и лучники по шестьдесят в ряд и колесницы по шесть в ряд, и это заняло весь день. Колеса колесниц гремели, и стук бегущих ног и лязг снаряжения напоминали бурю, и все плыло перед глазами и дрожали колени.
Я сказал Капта:
— Для нашего отчета недостаточно будет сказать, что вавилонские воины бесчисленны, как песок в море; мы должны сосчитать их.
Он запротестовал:
— Господин, это невозможно сделать, ибо на свете вообще нет таких чисел.
Все же я считал, как умел. Солдат-пехотинцев было шестьдесят раз по шестьдесят человек, а колесниц было шестьдесят, ибо шестьдесят — священное число в Вавилоне, так же как пять, семь и двенадцать.
Я заметил также, что щиты и оружие телохранителей царя сияли золотом и серебром, их лица лоснились от масла, они были такие упитанные, что задыхались от бега, и, пробегая мимо царя, они пыхтели, как стадо быков. Но их было немного. Солдаты из отдаленных мест были загорелые и грязные и от них несло мочой. У многих из них не было копий, ибо приказ царя застал их врасплох. Их глаза были воспалены от грязи, и я подумал, что солдаты одинаковы во всех странах. Кроме тою, колесницы у них были старые и скрипучие, одна или две из них потеряли колесо, когда проезжали мимо, и кривые клинки, которые прикрепили к ним, были зелены от ярь-медянки.
В этот вечер царь призвал меня к себе и сказал, улыбаясь:
— Ну, видел ты мою мощь, Синухе?
Я распростерся у его ног, поцеловал землю и ответил:
— Воистину нет монарха сильнее, чем ты, и не зря называют тебя властелином четырех частей света. Мои глаза устали, голова кружится, а руки и ноги дрожат от страха, ибо у тебя столько же воинов, сколько песка в море.
Он радостно улыбнулся.
— Ты получил то, чего желал, Синухе. Давай теперь выпьем вина и развеселим наши сердца после этого утомительного дня, ибо мне нужно о многом расспросить тебя.
Я пил вместе с царем, и он задавал мне множество таких вопросов, какие задают дети и юнцы, которые ничего еще не видели.
Мои ответы нравились ему, и наконец он сказал:
— Вино оживило меня и развеселило мою душу, и теперь я пойду к моим женщинам. Но пойдем со мной, потому что ты врач и тебе можно пойти. У меня чрезвычайно много жен, и я не обижусь, если ты выберешь одну для себя на сегодняшнюю ночь при условии, что ты не наградишь ее ребенком, ибо это все усложнило бы. Мне тоже любопытно посмотреть, как египтянин спит с женщиной, ибо у каждого народа свои обычаи. Если бы мне пришлось рассказать тебе о повадках этих жен, которые прибыли из далеких стран, ты бы не поверил мне и был бы очень удивлен.
Несмотря на мое нежелание, он повел меня в женские покои и показал мне на стенах картины, составленные его художниками из цветных изразцов. Они изображали мужчин и женщин, предающихся наслаждению самыми различными способами. Он показал мне также некоторых своих жен, облаченных в богатые одежды и украшенных драгоценностями. Среди них были взрослые женщины и юные девушки из всех известных стран, а также несколько дикарок, привезенных купцами. Все они различались по цвету кожи и по телосложению и болтали, как обезьяны, на множестве разных языков. Они танцевали перед царем с голыми животами и всячески развлекали его, соревнуясь одна с другой, дабы завоевать его расположение. Он все время убеждал меня выбрать для себя одну из них, пока наконец я не сказал ему, что дал обет своему богу воздерживаться от женщин, если мне предстоит лечить больного. На следующий день я должен был делать операцию одному придворному, поэтому я утверждал, что поскольку мне нельзя приблизиться к женщине, то мне лучше уйти, дабы не запятнать свое доброе имя. Царь согласился с этим и позволил мне удалиться, но женщины были глубоко разочарованы и выказывали это различными жестами и звуками. Они никогда еще не видели мужчины в расцвете сил, а знали лишь евнухов да юного, хрупкого и безбородого царя.
Перед моим уходом царь сказал, посмеиваясь:
— Реки затопили берега, и пришла весна, и вот жрецы решили, что через тринадцать дней надо отметить весенний праздник — День Ложного Царя. На этот день я приготовил для тебя нечто неожиданное и надеюсь, это очень позабавит тебя, да и меня развеселит. Что это будет, я не скажу, иначе это испортит мне все удовольствие.
Я ушел, очень опасаясь, что забавы царя Бурнабуриаша отнюдь не развлекут меня, и хоть в этом Капта наконец согласился со мной.
За время моего длительного пребывания в Вавилоне я приобрел много оккультных познаний, полезных врачу; особенно меня интересовали жреческое искусство и прорицания. Под руководством жрецов я научился также распознавать предзнаменования по печени овцы, в которой таилось много сокровенного, и посвятил немало времени истолкованию узоров, образованных маслом на поверхности воды.
Перед тем как рассказать о весеннем фестивале в Вавилоне и о Дне Ложного Царя, я должен упомянуть о любопытном случае, касающемся моего рождения.
Исследовав печень овцы, чтобы узнать мою судьбу, и изучив форму масляного пятна на воде, жрецы сказали:
— С твоим рождением связана какая-то ужасная тайна, которую мы не можем раскрыть и из которой явствует, что ты не египтянин, как полагаешь, а странник в этом мире.
Тогда я сказал им, что появился на свет не как другие люди, а приплыл вниз по реке в тростниковой лодке и моя мать нашла меня в камышах. Тогда жрецы переглянулись и, низко склонившись передо мной, ответили:
— Так мы и предполагали.
Они рассказали мне об их великом царе Саргоне, который объединил под своей властью четыре части света и чья империя простиралась от северного моря до южного, он правил также и морскими островами. Они поведали мне, что, только родившись, он был унесен рекой в просмоленной тростниковой лодке и ничего не было известно о его рождении, пока его великие дела не доказали, что он рожден от богов.
При этом сердце мое преисполнилось страха, и я попытался отшутиться:
— Надеюсь, вы не думаете, что я, врач, рожден от богов?
Они не рассмеялись, а серьезно ответили:
— Этого мы не знаем, но осторожность — добродетель, поэтому мы склоняемся перед тобой.
Они еще раз низко поклонились мне, но мне это надоело, и я сказал:
— Хватит дурачиться, лучше займемся делом.
Они снова начали толковать о загадках печени, но поглядывали на меня с благоговейным страхом и перешептывались. С этого дня мысль о моем происхождении запала мне в душу и сжимала мое сердце, потому что я был чужим во всех четырех частях света. Мне очень хотелось порасспросить астрологов, но поскольку я не знал точного часа моего рождения, то и спрашивать было бесполезно, ведь они не могли бы просветить меня. Однако по просьбе жрецов они разыскали таблички, устанавливавшие год и день, когда я спустился по реке, ибо жрецы тоже были любопытны. Но все, что могли сказать астрологи, заключалось в том, что, если я родился в такое-то и такое-то время дня, во мне должна течь царская кровь и мне предназначено управлять многочисленным народом. Эго знание не утешало меня, ибо, думая о прошлом, я вспоминал о совершенном мною преступлении и о позоре, который я навлек на себя в Фивах. Может быть, звезды прокляли меня в самый день моего рождения и послали меня в тростниковой лодке, чтобы я привел Сенмута и Кипу к преждевременной смерти, лишил их в старости благополучия — и украл у них даже гробницу. И при этом я содрогался, ибо раз уж судьба была против меня, я не мог избежать своей участи, но должен был продолжать приносить гибель и страдания тем, кто был мне дорог. Будущее удручало меня, и я страшился его, понимая, что все случившееся со мной предназначалось для того, чтобы заставить меня отвернуться от моих друзей и сделать меня одиноким, ибо одиночество могло избавить меня от необходимости приносить гибель другим.
4
Мне осталось рассказать о Дне Ложного Царя.
Когда молодая пшеница пустила ростки и ночная прохлада сменилась теплом, жрецы вышли из города, чтобы принести своего бога из его гробницы и объявить, что он воскрес. По этому случаю город Вавилон превратился в ярмарочную площадь, где танцевали и празднично одетые люди толпились на улицах. Чернь грабила лавки, производя больше суматохи и шума, чем солдаты после генерального смотра. Женщины и девушки шли в храм Иштар, чтобы собрать серебро для приданого к свадьбе, и любой желающий мог, не стесняясь, наслаждаться с ними. День Ложного Царя завершал праздник.
К этому времени я был уже хорошо знаком со многими обычаями Вавилона и все же очень удивился, увидев на рассвете этого дня, как пьяные царские телохранители ломятся в Дом Радости Иштар, распахивают настежь двери и бьют каждого встречного древками копий, крича во все горло:
— Где прячется наш царь? Живо ведите его сюда, ибо солнце уже восходит и царь должен вершить правосудие над своим народом!
Шум был неописуемый. Горели светильники, и слуги гостиницы в испуге бегали по коридорам, а Капта, полагая, что в городе разразился мятеж, спрятался ко мне под кровать. Но я, только что проснувшись и накинув на голое тело свой шерстяной плащ, вышел к солдатам и спросил:
— Чего вам надо? Не вздумайте оскорбить меня, ибо я Синухе-египтянин, Сын Дикого Осла, и это имя вам, конечно, известно.
Туг они закричали:
— Если ты Синухе, то как раз тебя нам и надо!
Они сорвали с меня плащ, оставив меня совсем голым; тут они стали удивленно указывать на меня друг другу пальцами, так как никогда не видели обрезанного человека. Тогда они стали совещаться, говоря:
— А можно ли отпустить этого человека? Он опасен для наших женщин, которым нравится все новое и необычное.
Но, поиздевавшись надо мной всласть, они отпустили меня, сказав:
— Не отнимай у нас больше времени, а дай нам своего слугу, ибо мы должны срочно доставить его во дворец, поскольку сегодня будет День Ложного Царя. По воле царя мы должны спешно отвести его во дворец.
Услышав это, Капта пришел в такой ужас, что задрожал всем телом, а кровать заходила ходуном, так что они его нашли, с ликованием вытащили и отвесили ему почтительный поклон.
Они говорили друг другу:
— Вот это радостный день, ибо мы наконец нашли нашего царя, который запрятался и пропал с наших глаз. Как утешительно его видеть, и, наверно, он наградит нас за преданность множеством подарков.
Дрожащий Капта уставился на них, вытаращив глаз, и, видя его изумление, они еще больше развеселились и сказали:
— Эго точно царь четырех частей света, мы ведь узнали его лицо!
Они низко кланялись ему, а стоявшие позади него пинали его в зад, чтобы он поторапливался.
Капта сказал мне:
— Поистине этот город, да и весь этот мир полон погибели, безумия и подлости, и тут уж и сам скарабей не спасет меня. Не пойму, на голове я стою или на ногах, а, может, я сплю на постели и мне снится страшный сон? Так или иначе, мне надо идти с ними, уж очень они сильные парни. Но ты, господин, спасай свою жизнь, если можешь. Сними мой труп со стены, когда они повесят меня за пятки, и забальзамируй его, чтобы тело сохранилось. Не позволяй им бросить меня в реку.
Услышав это, солдаты взвыли от удовольствия.
— Клянемся Мардуком, мы не смогли бы найти лучшего царя; удивительно, что у него на языке нет типунов от его болтовни.
Уже рассвело, и они подталкивали Капта в спину древками своих копий, чтобы поторопить его и увести прочь. Я быстро оделся и последовал за ними во дворец, где увидел, что все дворы и наружные покои заполнены шумными толпами. Теперь я был уверен, что вспыхнул мятеж и по сточным канавам потечет кровь, как только из провинций прибудут подкрепления.
Но, войдя вслед за солдатами в большой тронный зал, я увидел Бурнабуриаша, сидящего на золотом троне под царским балдахином, облаченного в царское одеяние, со знаками власти в руках и с лежащим у ног его львом. Вокруг него стояли главные жрецы Мардука, советники и вельможи. Но солдаты не обращали на них никакого внимания, они толкали Капта вперед, прокладывая себе дорогу копьями, пока не достигли трона, где и остановились.
Внезапно наступило молчание; никто не проронил ни слова, пока вдруг Капта не сказал:
— Уберите прочь это дьявольское отродье, а то мне надоест вся эта возня и я уйду совсем.
В этот миг солнце пробилось сквозь узор восточного окна, и все закричали:
— Он прав! Уберите отсюда это отродье, ибо хватит с нас этого безбородого мальчишки! А это мудрый человек, и мы объявляем его царем, и пусть он правит нами.
Я не поверил своим глазам, когда увидел, что они бросились на царя, толкаясь, смеясь и сквернословя, пытаясь вырвать из его рук символы власти и срывая с него одежду, так что вскоре он остался нагим, каким был я, когда солдаты захватили меня врасплох. Они щипали его руки, трогали его крепкие мускулы и всячески потешались над ним.
— На нем написано, что его только-только отняли от груди и у него еще и молоко на губах не обсохло. Самое время повеселиться женщинам на их половине, и, наверное, этот старый мошенник Капта-египтянин уж здесь-то их не подведет!
Бурнабуриаш ни в чем не возражал, а хохотал вместе с ними, тогда как его лев, испугавшись толпы, прокрался прочь с поджатым хвостом в большом беспокойстве и недоумении.
Я так растерялся, что уже ничего не соображал, ибо, оставив царя, они ринулись на Капта, нарядили его в царскую одежду и заставили его взять в руки символы власти. Они усадили его на трон, пали пред ним ниц, касаясь губами пола. Впереди полз совершенно голый Бурнабуриаш, крича:
— Все идет как и надо! Он будет нашим царем, и лучшего царя нам не найти.
Затем все они повскакали и провозгласили Капта царем, и топали ногами от смеха, и хватались за бока.
Капта вылупил на них глаз, его волосы встали дыбом под царской диадемой, которую они криво напялили ему на голову.
Наконец он сказал:
— Если я и вправду царь, то стоит выпить. Поэтому поспешите принести вина, эй вы, рабы, а не то моя палка попляшет на ваших спинах, и я велю повесить вас на стене. Тащите побольше вина, ибо эти господа и мои друзья, которые сделали меня царем, будут пить со мной, а я собираюсь окунуться в вино по шею.
Его слова вызвали взрыв веселья, и орущая толпа потащила его в обширную залу, где было выставлено множество сладких блюд и много вина. Каждый брал что хотел, а Бурнабуриаш напялил на себя фартук слуги и носился вокруг, как шут, путаясь у всех под ногами, пачкая вином и соусом их одежду, так что многие ругались и швыряли в него обглоданные кости. Во все наружные дворы вынесли для толпы еду и питье, там четвертовали быков и овец, простой народ черпал из бассейнов пиво и вино и объедался кашей, приготовленной со сливками и сладкими финиками. Когда солнце поднялось выше, начался неописуемый шум.
Как только представился случай, я подошел к Капта и тихо сказал ему:
— Капта, следуй за мной, давай незаметно убежим отсюда, ибо из этого не выйдет ничего хорошего.
Но Капта пил вино, и его живот раздулся от вкусной еды. Он ответил:
— Твои слова, как жужжание мух в моих ушах. Никогда не слышал я таких глупых речей. Неужели я уйду теперь, когда все эти добрые люди сделали меня царем и склоняются передо мной?
Он утер засаленный рот и, махнув на меня обглоданной ослиной костью, закричал:
— Уберите прочь этого мерзавца египтянина, не то я потеряю терпение, и моя палка попляшет на его спине.
Быть может, мне не поздоровилось бы, но тут прозвучал рог и некто возгласил, что царю пришло время спуститься вниз и вершить правосудие над своим народом, и тогда про меня забыли.
Капта был несколько ошеломлен, когда его повели Дворцу Правосудия, и сказал, что готов передать эти дела назначенным судьям — надежным людям, на которых он полагается. Но народ с негодованием воспротивился этому и возмущенно кричал:
— Мы хотим проверить мудрость царя и знать наверняка, что он справедливый царь и знает законы.
И вот Капта возвели на трон правосудия; перед ним положили плеть и кандалы — эмблемы правосудия; затем людям предложили выходить вперед и излагать царю свое дело.
Когда Капта вынес приговор нескольким из них, ему все это надоело; он потянулся и сказал:
— Сегодня я наелся и напился и, как я полагаю, достаточно потрудился и изнурил свои мозга. Как царь я еще и повелитель женской половины, где, насколько мне известно, меня ожидают примерно четыреста жен. Поэтому я должен осмотреть свои владения, ибо вино и власть чрезвычайно воодушевили меня, и я чувствую, что силен, как лев.
Услышав это, люди подняли ужасающий крик, которому, казалось, не будет конца. Они проследовали за ним обратно во дворец, где во дворе перед входом в женскую половину они и остановились. Бурнабуриаш больше не смеялся; он беспокойно потирал руки и почесывал ногу об ногу.
Увидев меня, он подошел и быстро проговорил:
— Синухе, ты мой друг, и как врач ты можешь войти в женские покои. Иди за ним и пригляди, чтобы он не сделал ничего такого, о чем он может впоследствии пожалеть. Я велю содрать с него кожу заживо и выставить его голову на стену для просушки, если он коснется моих жен; если же он будет вести себя хорошо, я обещаю ему легкую смерть.
Я сказал ему:
— Бурнабуриаш, я, конечно, твой друг и желаю тебе добра, но объясни мне, что все это значит, ибо мне тяжело видеть тебя в роли слуги, над которым все потешаются.
Он нетерпеливо ответил мне:
— Сегодня, как известно каждому, День Ложного Царя; так поспеши за ним, чтобы не вышло греха.
Я не двинулся с места, хотя он схватил меня за руку, и только сказал:
— Я незнаком с обычаями твоей страны, ты должен объяснить мне, что все это значит.
— Каждый год в День Ложного Царя самый глупый, самый тупой человек в Вавилоне избирается царем, чтобы править от рассвета до заката в полном величии и могуществе, и сам царь прислуживает ему. И никогда не видел я более смешного царя, чем Капта, которого я по этой причине и выбрал. Он не знает, что с ним случится, и это забавнее всего.
— Что же должно случиться?
— На закате он будет убит так же внезапно, как был коронован. Если я захочу, то могу предать его мучительной смерти, но обычно я даю избранникам в вине мягко действующий яд, и они засыпают, не подозревая, что должны умереть. Теперь поспеши и последи за тем, чтобы твой слуга не натворил никаких глупостей, о которых придется пожалеть, до захода солнца.
Но не было никакой нужды выручать Капта, который, спотыкаясь, шел из дома в дикой ярости; из носа у него текла кровь, и он прикрывал рукой свой единственный глаз. Завывая и вопя, он сказал:
— Посмотри, что они сделали со мной! Они подсовывали мне старых ведьм и негритянок, а когда я пожелал отведать нежную овечку, она обернулась тигрицей, подшибла мне глаз и била меня по носу туфлей!
Бурнабуриаш так обессилел от смеха, что не мог устоять на ногах и вынужден был ухватиться за мою руку, а Капта продолжал свои причитания:
— Я не смею открыть дверь этого дома, ибо эта девушка беснуется там, как дикий зверь, а я не знаю, что делать, разве только ты, Синухе, войдешь и вскроешь ей череп и таким образом выпустишь злого духа, который в ней засел. И вправду она, должно быть, одержимая, а иначе она не осмелилась бы поднять руку на царя и бить меня по носу своей туфлей, так что кровь хлынула из меня, как из заколотого быка.
Бурнабуриаш подтолкнул меня локтем и сказал:
— Иди туда, Синухе, и взгляни, что там происходит. Ты знаешь теперь это место, а мне сегодня нельзя туда входить. Потом придешь и расскажешь мне. Кажется, я знаю, что это за девушка, ибо вчера с морских островов привезли сюда одну, которая, как я рассчитываю, доставит мне большое удовольствие, хотя сначала ей надо дать питье из макового сока.
Он приставал ко мне, пока я не отправился на женскую половину, где царила суматоха. Евнухи не препятствовали мне, зная, что я врач. Старухи, которые в честь этого дня разоделись в роскошные одежды и раскрасили свои морщинистые лица, толпились вокруг меня, спрашивая в один голос:
— Что же случилось с ним, нашим возлюбленным, с цветком нашего сердца, с нашим козликом, которого мы ждем с самого утра?
Здоровенная негритянка, чьи груди свисали на живот как черные супные горшки, разделась, с тем чтобы первой заполучить Капта, и кричала:
— Дайте мне моего возлюбленного, чтобы я могла прижать его к груди! Дайте мне моего слона, чтобы он обвил меня своим хоботом!
Но встревоженные евнухи сказали:
— Не обращай внимания на этих женщин. Их дело только развлекать ложного царя, и они налакались вина, пока ждали его. Но врач нам действительно нужен, так как девушка, которую привезли вчера, — сумасшедшая. Она сильнее нас и очень жестоко нас бьет, и мы не знаем, что из этого получится, потому что у нее есть нож, а она свирепа, как дикий зверь.
Они повели меня в женский двор, где разноцветные изразцы сверкали в лучах солнца. Посреди двора был круглый бассейн, в котором стояли изваяния водяных чудищ и из их пастей струей била вода. На них вскарабкалась безумная женщина; евнухи разорвали ее одежду, пытаясь поймать ее, и она промокла, плавая в бассейне, и водяные струи били вокруг нее. Одной рукой она уцепилась за морду дельфина, из которой била вода, а в другой сжимала блестящий нож. Так что из-за хлещущей воды и воплей евнухов я не мог услышать ни слова из того, что она говорила. Несмотря на рваную одежду и мокрые волосы, она была, несомненно, красивой девушкой. Она смущала меня, и я сердито сказал евнухам:
— Ступайте отсюда и дайте мне поговорить с ней и успокоить ее; отключите воду, чтобы я мог услышать ее слова, ибо я вижу, что она кричит.
Когда шум воды прекратился, я услышал, что она не кричит, а поет. Я не мог разобрать слов песни, ибо это был незнакомый мне язык. Голова ее была запрокинута назад, глаза у нее были зеленые и сверкали, как у кошки, а ее щеки горели от возбуждения.
Я гневно крикнул ей:
— Прекрати эти вопли, дикая кошка! Брось свой нож и иди сюда, чтобы мы могли поговорить и чтобы я мог полечить тебя, ибо ты, несомненно, безумна.
Она оборвала свою песню и ответила мне на ломаном вавилонском языке, который был еще хуже, чем мой:
— Прыгай в бассейн, бабуин, и плыви сюда, ко мне, чтобы я пустила из тебя кровь, ибо меня ужасно разозлили!
— Я не причиню тебе никакого зла!
— Многие мужчины говорили мне это — и лгали. Я не могу приблизиться к мужчине, даже если бы захотела, ибо я предназначена моему богу и должна танцевать пред ним. Вот почему я ношу этот нож, и он напьется моей собственной крови, прежде чем мужчина коснется меня. И уж во всяком случае не этот одноглазый черт, который пытался пощупать меня, ибо он больше похож на раздутый мешок, чем на мужчину.
— Танцуй, сколько хочешь, безумная, но отложи в сторону нож, ибо ты можешь поранить себя, и будет очень жаль, так как евнухи сказали мне, что ради царя они заплатили за тебя немало золота на невольничьем рынке.
— Я не рабыня; меня похитили тайком, и ты заметил бы это, будь у тебя глаза. Но не можешь ли ты говорить на каком-нибудь приличном языке, который непонятен этим людям? Евнухи прячутся за колоннами, чтобы подслушать наш разговор.
— Я египтянин, — отвечал я на моем родном языке, — и меня зовут Синухе, Тот, кто Одинок, Сын Дикого Осла. Я врач, так что тебе нечего бояться меня.
Тогда она прыгнула в воду и поплыла ко мне с ножом в руке. Бросившись передо мной на землю, она сказала:
— Я знаю, что египетские мужчины — слабые люди и не берут женщину силой; и вот поэтому я тебе верю, и ты прости мне, что я держу при себе нож, ведь похоже, что сегодня же мне придется вскрыть себе жилы, чтобы невольно не осквернить моего бога. Но если ты боишься богов и желаешь мне добра, так спаси же меня и увези из этой страны, хотя мне и нельзя вознаградить тебя так, как ты того заслуживаешь, ибо это мне запрещено.
— А я совсем и не собираюсь помочь тебе спастись, — огрызнулся я. — Это было бы несправедливо по отношению к царю — моему другу, который заплатил за тебя горы золота. И еще я могу сказать тебе, что тот раздутый мешок, который был здесь, — ложный царь, он правил только сегодня, а завтра тебя посетит настоящий царь. Он еще безбородый мальчик, но хорош собой и надеется вкусить с тобой много наслаждений, когда укротит тебя. Не думаю, что власть твоего бога может настигнуть тебя здесь, и ведь ты только выиграешь, подчинившись неизбежному. Так лучше покончить с этим безумством и одеться и украситься для него. Ты не очень-то привлекательна с этими мокрыми волосами, а краска с твоих губ размазалась у тебя по всему лицу.
Эти замечания возымели действие, ибо она пощупала свои волосы и, смочив кончик пальца, вытерла им брови и губы. Потом она улыбнулась мне, — а личико у нее было маленькое и прелестное, — и кротко сказала:
— Меня зовут Минея, и ты сможешь называть меня так, когда заберешь меня отсюда и мы вместе убежим из этой злосчастной страны.
Я в раздражении воздел руки и, повернувшись, быстро пошел прочь, но ее лицо преследовало меня, и я вернулся и сказал:
— Минея, я попрошу за тебя у царя; большего я не могу сделать. Ты же пока оденься и успокойся. Если хочешь, я дам тебе успокоительное средство, и тебе будет безразлично, что с тобой произойдет.
— Ну попробуй, если посмеешь! Однако, раз ты на моей стороне, я отдам тебе этот нож, который до сих пор был мне защитой, ибо знаю, что, если уж я это сделаю, ты защитишь меня и не предашь и увезешь меня из этой страны.
Она улыбалась мне из-под мокрых волос, пока я не ушел, унося ее нож и испытывая горькую обиду. Ведь я понимал, что она перехитрила меня, отдав мне свой нож и связав этим наши судьбы, и я не мог ускользнуть от нее.
Бурнабуриаш встретил меня по пути из женских покоев и очень любопытствовал узнать, что же произошло.
— Твои евнухи плохо тебе услужили, — сказал я, — ибо Минея, девушка, которую купили для тебя, неистовствует и не подпустит к себе мужчину, потому что ее бог запрещает ей это. Так что лучше оставить ее в покое, пока она не одумается.
Но Бурнабуриаш только радостно рассмеялся.
— Поистине я жду от нее массу удовольствий, ибо знаю подобных девушек; на них лучше всего действует палка. Я еще юный и безбородый и часто устаю в объятиях женщин; для меня большое удовольствие смотреть на них и слушать их вопли, когда евнухи секут их прутьями. Так что эта упрямая девчонка очень мне по душе, раз уж есть повод высечь ее, и клянусь, в эту же ночь ее изобьют так, что ее кожа вздуется и она не сможет лежать на спине, и мне будет еще приятнее.
Уходя, он потер руки и захихикал, как девчонка. Стоя и глядя, как он уходит, я понял, что он уже не друг мне и что я уже не желаю ему добра. А нож Минеи все еще лежал в моей руке.
5
После этого я не мог присоединиться к общему веселью, хотя во дворце толпились люди, которые пили вино и пиво и горячо хлопали дурачествам Капта, ибо он уже позабыл о неприятности в женских покоях. Его подбитый глаз вылечили куском свежего сырого мяса, и боль прошла, но осталась сильная краснота. Однако со мной что-то было неладно.
Я размышлял о том, что мне многое еще нужно узнать в Вавилоне, поскольку я не завершил мои занятия, относящиеся к печени овцы, и не научился вливать масло в воду так искусно, как это делали жрецы. Кроме того, Бурнабуриаш многим был мне обязан как за мое врачебное искусство, так и за мою дружбу, и я знал, что, оставаясь его другом, получу перед отъездом щедрые подарки. Однако чем больше я размышлял над этим, тем настойчивее преследовало меня лицо Минеи. Я думал также и о Капта, который должен был умереть в этот вечер по дурацкой прихоти царя, без моего согласия, хотя он был моим слугой.
В итоге сердце мое ожесточилось против царя, который так оскорбил меня, что дал мне этим право ответить ему тем же, хотя сердце говорило мне, что даже самая мысль об этом была нарушением всех законов дружбы. Но я был одинокий чужеземец, не связанный здешними обычаями. Поэтому в тот же день я спустился к берегу реки и, наняв десятивесельное судно, сказал гребцам:
— Сегодня День Ложного Царя, и я знаю, что вы опьянели от веселья и от пива и вам неохота грести. Но я заплачу вам вдвое против обычного, ибо умер мой богатый дядюшка, а я должен забрать его тело и похоронить рядом с его предками, и мне надо поспешить, пока его дети или мой брат не заспорили о наследстве и не оставили меня без гроша. Так что я щедро заплачу вам, если вы поедете быстро, но путешествие будет долгим, ибо мои предки покоятся в нашем старом доме на границе Митанни.
Гребцы ворчали, но я купил им два кувшина пива и сказал, что они могут пить хоть до заката, лишь бы были готовы отплыть, как только стемнеет.
В ответ они шумно запротестовали:
— Ни за что на свете мы не тронемся после наступления темноты, ибо ночью полным-полно чертей, и больших, и маленьких, а также злых духов, которые кричат страшным голосом и могут опрокинуть нашу лодку или убить нас.
Но я ответил:
— Я принесу жертву в храме, чтобы с нами ничего не приключилось за время нашего путешествия, а звон серебра, которое я вам дам, когда мы доплывем, заглушит вопли всех чертей.
Я отправился к башне и там во дворе принес в жертву овцу; там было почти безлюдно, так как большинство горожан собралось во дворце на празднике в честь Ложного Царя. Я разглядывал печень овцы, но у меня мешались мысли, и из этого ничего не получилось. Я заметил только, что она была темнее, чем обычно, и издавала дурной запах, и это внушило мне дурные предчувствия. Я собрал кровь овцы в кожаную коробочку, которую под мышкой отнес во дворец. Когда я входил в женские покои, над моей головой пролетела ласточка, и это согрело мое сердце и вселило в меня храбрость, ибо это была птичка моей родины, и я счел это за доброе предзнаменование.
На женской половине я сказал евнухам:
— Оставьте меня наедине с той безумной женщиной, чтобы я мог изгнать из нее дьявола.
Они повиновались и отвели меня в ее комнату, где я растолковал Минее, что она должна сделать, и отдал ей нож и коробочку с кровью. Она обещала последовать моим указаниям, и я ушел, закрыв за собой дверь, приказал евнухам не беспокоить ее, ибо я дал ей лекарство, которое изгонит из нее демонов — таких, какие вселятся в первого, кто откроет дверь без моего разрешения. Других предостережений им не требовалось.
К этому времени заходящее солнце залило комнаты дворца красным светом. Капта опять ел и пил, тогда как Бурнабуриаш прислуживал ему, смеясь и хихикая, как девчонка. На полу в лужах вина спали пьяные. Я сказал Бурнабуриашу:
— Я хочу удостовериться, что Капта умрет легкой смертью, ибо он мой слуга, и ради него я должен сам в этом убедиться.
— Тогда поторопись, — сказал он, — ибо старик уже подмешивает яд в вино и твой слуга должен умереть на закате, как требует обычай.
Я разыскал старого царского врача. Когда я сказал ему, что меня послал царь, он поверил мне и предложил:
— Сам смешай яд, ибо от выпитого вина у меня дрожат руки, а глаза так затуманены, что я ничего не вижу, столько я хохотал сегодня над проделками твоего слуги.
Я вылил его смесь и влил в вино маковый сок, но не смертельную дозу. Затем, вручая кубок Капта, я сказал:
— Капта, может статься, что мы никогда больше не увидимся, ибо все эти почести ударили тебе в голову и ты не соизволишь узнать меня. Выпей поэтому из чаши, которую я предлагаю тебе, чтобы, вернувшись в Египет, я мог сказать, что властелин четырех частей света был моим другом. Выпив это, ты узнаешь, что я всегда желал тебе только добра, что бы там ни случилось. Помни также о нашем скарабее!
Капта сказал:
— Слова этого египтянина были бы как жужжание мух для моих ушей, если бы мои уши не гудели от вина так, что я не расслышал ничего из того, что он говорит. Но от кубка я никогда не отказываюсь, как всем известно и как я показал сегодня всем моим подданным, которыми очень доволен. Поэтому я осушу твой кубок, хотя и знаю, что завтра дикие ослы будут лягать меня в голову.
Он осушил кубок, и в эту минуту зашло солнце. Внесли факелы и зажгли светильники. Все поднялись и стояли в молчании, так что во всем дворце воцарилась тишина. Капта снял вавилонскую корону, сказав:
— Эта проклятая корона оттянула мне голову, и я устал от нее. Ноги мои тоже онемели, и веки мои тяжелы, как свинец. Лучше бы мне пойти спать.
Сказав это, он потянул на себя скатерть и улегся на пол. Вместе со скатертью на него полетели кувшины и винные чаши, так что он погрузился в вино по шею, как он и обещал еще утром. Царские слуги раздели его и облачили Бурнабуриаша в промокшую от вина одежду, водрузили ему на голову корону, дали ему в руки символы власти и подвели его к трону.
— Это был утомительный день, — сказал он. — Однако я не преминул заметить среди вас таких, кто не проявил ко мне должного почтения на празднестве, очевидно, в надежде, что я удавлюсь и никогда не вернусь на свой трон. Гоните отсюда плетьми всех дрыхнущих, выбросьте весь этот сброд из дворов дворца и посадите этого дурака навечно в кувшин, если он умер, ибо он мне надоел.
Капта перевернули на спину, и старый врач, ощупав его трясущимися руками и осмотрев затуманенными глазами, заявил:
— Он мертв, как навозный жук.
Слуги внесли огромную глиняную урну, какими вавилоняне пользуются для захоронения умерших, поместили в нее Капта и запечатали ее горлышко. Царь приказал отнести кувшин в подземелье, расположенное под дворцом, и поставить его среди предшествующих ложных царей.
В этот момент я вмешался, сказав:
— Этот человек египтянин, он обрезанный, как и я. Поэтому я должен забальзамировать его тело по египетскому обычаю и снабдить его всем необходимым для путешествия в Страну Запада, чтобы он мог есть, пить и наслаждаться и после смерти, не имея надобности трудиться. На это уходит тридцать или семьдесят дней в зависимости от звания, которое имел умерший, когда был жив. У Капта, я думаю, это займет всего тридцать дней, поскольку он был моим слугой. После этого я доставлю его назад, на его место среди его предшественников, бывших ложных царей, в подземелье под твоим дворцом.
Бурнабуриаш выслушал с любопытством и сказал:
— Пусть будет так. Делай с ним что хочешь, раз таков обычай твоей страны; я не буду спорить с обычаями, ибо тоже молюсь богам и не знаю, как умилостивить их за те грехи, которые совершил по неведению. Благоразумие — добродетель.
Я приказал слугам вынести Капта в его кувшине и положить на носилки, которые стояли, дожидаясь, у стен дворца. Перед тем как уйти, я сказал царю:
— Тридцать дней ты не увидишь меня, ибо, пока идет бальзамирование, я не могу показываться среди людей, иначе в них вселятся злые духи, окружающие труп.
Подойдя к носилкам, я проткнул дырку в глине, которой был запечатан кувшин, чтобы Капта мог дышать, а затем тайком вернулся во дворец в женские покои. Евнухи обрадовались мне, увидев меня, так как боялись, что вот-вот придет царь.
Но, открыв дверь комнаты, где я оставил Минею, я тотчас вернулся и стал рвать на себе волосы и причитать:
— Идите и посмотрите, что случилось, ибо она лежит здесь в собственной крови и рядом с ней испачканный кровью нож и волосы ее тоже окровавлены!
Прибежавшие евнухи были ошеломлены, ибо они очень боягся крови, и не посмели прикоснуться к ней, а начали рыдать и вопить, страшась гнева царя.
Я сказал им:
— Нас постигла одна и та же беда — вас и меня. Скорей принесите циновку, в которую я смогу завернуть тело; потом смойте кровь с пола, чтобы никто не узнал о том, что случилось. Ибо царь предвкушал большое наслаждение от этой девушки, и его гнев будет ужасен, если он узнает, что мы по глупости позволили ей умереть, как требовал ее бог. Поэтому поспешите доставить на ее место другую девушку, например, чужеземку, которая не говорит на вашем языке. Оденьте и украсьте ее для царя, а если она будет сопротивляться, поколотите ее палками у него на глазах, ибо это особенно приятно царю, и он щедро вас наградит.
Евнухи поняли мудрость моих слов, и, немного поторговавшись с ними, я дал им половину того серебра, которое они предназначили для покупки новой девушки. Они принесли мне циновку, в которую я завернул Минею, и помогли мне пронести ее по темным дворам к носилкам, где уже находился Капта в своем кувшине.
Когда мы достигли берега, я приказан носильщикам спустить кувшин в лодку, но циновку понес сам и спрятал ее под палубой. Потом я сказал носильщикам:
— Рабы и собачьи дети! В эту ночь вы ничего не видели гг не слышали, кто бы ни спрашивал вас. Чтобы напомнить вам об этом, я дам каждому из вас по серебряной монете.
Запрыгав от восторга, они воскликнули:
— Поистине мы служили прославленному господину, но наши уши и наши глаза слепы, и мы ничего не видели и не слышали в эту ночь.
Я отпустил их, хорошо зная, что они немедленно напьются по обычаю всех носильщиков во все века и за выпивкой выболтают все, что видели. Поскольку их было восемь человек и все они были здоровенными детинами, я не мог бы убить их и бросить в реку, как мне того хотелось.
Как только они ушли, я разбудил гребцов. При свете восходящей луны они спустили весла и поплыли прочь от города, зевая и проклиная свою судьбу, ибо головы у них кружились от выпитого пива.
Вот так я бежал из Вавилона, хотя что заставило меня так поступить, не могу сказать; несомненно, так предначертали звезды еще до моего рождения, и это было неизбежно.
Книга VII Минея
1
Нам удалось выбраться из города незамеченными стражей, ибо ночью можно было свободно подойти к реке, и я прокрался под палубу, чтобы преклонить мою усталую голову. Но пока там еще не было покоя, так как Минея вылезла из своей циновки и отмывала с себя кровь, зачерпывая руками речную воду, и лунный свет искрился в каплях, которые падали с ее пальцев.
Она без улыбки взглянула на меня и с упреком сказала:
— Благодаря твоему совету я осквернилась и от меня пахнет кровью, и я, конечно, никогда уже не очищусь, и это будет твоя вина. Более того, когда ты нес меня, то прижимал меня сильнее, чем нужно, так что я не могла вздохнуть.
Ее слова раздражили меня, я и так очень устал, поэтому я огрызнулся:
— Придержи язык, проклятая девчонка! Когда я думаю обо всем, что мне пришлось из-за тебя перенести, мне хочется бросить тебя в реку, где ты сможешь мыться, сколько тебе вздумается. Не будь тебя, сидел бы я сейчас по правую руку от царя Вавилона и жрецы из башни передали бы мне всю свою мудрость, ничего не утаив, и я был бы самым мудрым врачом на свете. Из-за тебя я лишился подарков, заработанных мною благодаря моему ремеслу. Мое золото истощается, а я не смею предъявить таблички, дающие мне право на получение денег в конторе храма. Все это из-за тебя, и я проклинаю день, когда увидел тебя; каждый год в этот день я буду одеваться в лохмотья и посыпать голову пеплом.
Она опустила руку в залитую лунным светом реку, и вода плескалась под ее рукой, как расплавленное серебро, потом она тихо заговорила, отвернув лицо:
— Если это так, позволь мне прыгнуть в реку, как ты того желаешь. Тогда ты освободишься от меня.
Она поднялась и уже собралась прыгать, но я схватил ее и удержал, сказав:
— Оставь эти глупости! Если ты прыгнешь, все то, что я задумал, пропадет зря. Ради всех богов, дай мне спокойно поспать, Минея, и не тревожь меня своими капризами, ибо я очень устал.
С этими словами я заполз под циновку и плотно закутался в нее, ибо ночь была прохладная, хотя уже пришла весна и в камышах кричали аисты. Она легла рядом со мной, прошептав:
— Если я ничего больше не могу сделать, то по крайней мере согрею тебя.
Я был слишком усталым для дальнейшего разговора и заснул и крепко спал, согретый ею, ибо она была молода и ее тело грело меня, как маленькая печка.
Когда я проснулся, мы уже ушли далеко вверх по течению и гребцы ворчали:
— У нас одеревенели плечи и болит спина. Ты хочешь нас уморить? Разве твой дом горит и мы должны мчаться, чтобы потушить его?
Я сказал скрепя сердце:
— Тот, кто будет мешать, отведает моей палки; вы отдохнете первый раз не раньше полудня. Тогда вы сможете поесть и попить, и я дам каждому из вас по глотку старого вина, чтобы подбодрить вас, и вы почувствуете себя легкими, как птицы. Но если кто-нибудь из вас станет роптать, я призову на ваши головы всех демонов, ибо вы должны знать, что я жрец и волшебник.
Я сказал это, чтобы испугать их, но солнце ярко сияло, и они не поверили мне. Они только сказали:
— Он один, а нас десятеро! — и ближайший из них попытался ударить меня веслом.
В это время с носа донесся оглушительный шум; это бился Капта в своем кувшине, ругаясь и крича. Лица гребцов посерели, и один за другим они попрыгали за борт в реку, уплыли и скрылись из виду. Лодка закачалась поперек течения, но я бросил якорный камень. Минея вышла из своего укрытия, причесывая волосы, и в это мгновение всякий страх покинул меня, ибо она была прекрасна, и солнце сияло, и аисты кричали в камышах. Я направился к похоронной урне и, сломав печать, громко сказал:
— Вставай, ты, человек, там внутри!
Капта высунул из кувшина свою взъерошенную голову, и я никогда не видел более растерянного лица. Он простонал:
— Что это за дурацкая шутка? Где я? Где моя царская корона и символы власти? Я голый и замерз, а еще у меня в голове жужжат осы и мои руки и ноги отяжелели, словно меня укусила ядовитая змея. Берегись шутить со мной, Синухе, ибо опасно смеяться над царями!
Я хотел наказать его за вчерашнее высокомерие, поэтому притворился озадаченным и сказал:
— Не понимаю, о чем ты говоришь, Капта; ты, должно быть, все еще отуманен винными парами. Тебе следует припомнить, что, когда мы покидали Вавилон, ты выпил слишком много и в лодке впал в такое неистовство и нес такую чепуху, что гребцам пришлось упрятать тебя в этот кувшин, чтобы ты их не избил. Ты болтал о царях и судьях и еще о многом.
Капта закрыл глаз и пытался вспомнить и наконец ответил:
— Господин, никогда больше не стану я пить вина, ибо вино и сновидения завлекли меня в ужасное приключение, приключение столь страшное, что я не могу и рассказать тебе. Но одно могу сказать: мне казалось, будто благодаря скарабею я был царем, вершил правосудие со своего трона, входил в женские покои и там получил огромное удовольствие от одной хорошенькой девочки. Случилось и многое другое, но сейчас я не смею об этом вспоминать.
Только теперь он увидел Минею. Быстро нырнув опять в свой кувшин, он жалобно сказал:
— Господин, я еще не совсем оправился или я все еще сплю, ибо мне кажется, что на корме лодки я вижу ту девушку, которую встретил в женских покоях дворца.
Он дотронулся до своего подбитого глаза и до распухшего носа и громко всхлипнул. Минея подошла к кувшину, вытащила оттуда за волосы его голову и сказала:
— Посмотри на меня! Та ли я женщина, с которой ты наслаждался прошлой ночью?
Капта в ужасе поглядел на нее, закрыл свой единственный глаз и простонал:
— Все вы, о боги Египта, сжальтесь надо мной и простите меня за то, что я поклонялся чужим богам и приносил им жертвы, но ты — это она! Прости меня, ибо это был только сон.
Я помог ему вылезти из кувшина и дал ему горькое лекарство, чтобы очистить желудок, затем, обвязав его веревкой, погрузил в реку, несмотря на его протесты, и подержал его в воде, чтобы его голова прояснилась после макового сока и вина. Но, снова втащив его в лодку, я смягчился и сказал:
— Пусть это послужит тебе уроком за твой бунт против меня, твоего хозяина. Все, что случилось с тобой, — правда, и, если бы не моя помощь, ты лежал бы теперь мертвый в кувшине среди других ложных царей.
Затем я рассказал ему обо всем, что произошло, и надо было повторить это много раз, прежде чем это дошло до него и он поверил мне. Наконец я сказал ему:
— Наша жизнь в опасности, и минувшее уже не кажется мне смешным, ибо то, что мы будем висеть вниз головой на стене, если царь найдет нас, так же верно, как и то, что сейчас мы сидим в этой лодке, а он может поступить еще хуже. Очень важно составить хороший план, и ты должен изыскать какой-нибудь способ спастись, убежав в землю Митанни.
Капта почесал голову и задумался. Наконец он сказал:
— Если я верно понял тебя, все, что случилось, — правда, а не пьяный бред. Раз это так, я благословляю этот день как добрый день, ибо могу теперь пить вино, не опасаясь за свою голову, а ведь я думал, что никогда в жизни не решусь снова попробовать его.
Он пробрался в каюту, сломал печать на кувшине с вином и сделал большой глоток, за который возблагодарил всех богов Египта и Вавилона поименно, а также восхвалил многих других богов, чьих имен не знал. Упоминая каждое божество, он каждый раз склонялся над кувшином с вином, пока наконец не опустился, задремав, на циновку и не захрапел, как гиппопотам.
Я был так взбешен его поведением, что хотел сбросить его в воду и утопить, но Минея сказала:
— Капта прав: у каждого дня свои неприятности. Так почему бы нам не пить вино и не быть счастливыми в этом месте, куда принесла нас река? Ибо это прекрасное место, и мы спрятаны в камышах. В них кричат аисты, и я вижу других, которые летят, вытянув шеи, чтобы свить себе гнезда, вода сияет, как изумруды и золото в лучах солнца, и мое сердце теперь легкое, как птица, ибо я свободна от рабства.
Я размышлял над ее словами, и они казались мне мудрыми.
— Поскольку уж ты сумасшедшая, почему бы и мне тоже не стать сумасшедшим? Поистине мне все равно, будет ли моя шкура сушиться на стене завтра или через десять лет, раз уж все это было предначертано звездами до нашего рождения, как учили меня жрецы из башни. Солнце сияет в славе своей, и на полях вдоль реки зеленеют хлеба. Поэтому я выкупаюсь в реке и постараюсь поймать руками рыбу, как делал это ребенком, ибо этот день так же хорош, как и любой другой.
Так что мы выкупались в реке и высушили на солнце наши одежды, поели и выпили вина. Минея принесла жертву своему богу и станцевала для меня в лодке свой танец, поэтому когда я смотрел на нее, моя грудь сжималась и я с трудом дышал.
Наконец я сказал ей:
— Только однажды в жизни я называл женщину сестрой, но ее объятия жгли огнем, а тело ее иссушало, как пустыня, и не освежало меня. Поэтому умоляю тебя, Минея, освободи меня от чар, в которые ввергло меня твое тело. Не смотри на меня глазами, которые напоминают лунные блики на реке, а то я назову тебя сестрой и ты доведешь меня до гибели и смерти, как это сделала другая женщина.
Минея внимательно посмотрела на меня.
— Должно быть, ты знал странных женщин, Синухе, но, может быть, они все такие в твоей стране. Не беспокойся из-за меня. Я не собираюсь обольщать тебя, чего, как мне кажется, ты боишься. Мой бог запрещает мне приближаться к мужчине под страхом смерти.
Она взяла в руки мою голову, положила ее к себе на колени и, поглаживая мне щеки и волосы, сказала:
— Эта глупая голова заставляет тебя говорить так дурно о женщинах, ибо, хотя и есть женщины, которые отравляют родники, но есть, конечно, и другие, которые сами, как родник в пустыне, как роса на спаленном лугу. Но, хотя голова у тебя глупая и непонятливая, а волосы черные и жесткие, мне приятно держать ее в руках. Что же до твоих глаз и твоих рук, я нахожу их милыми и привлекательными. Поэтому мне грустно, ибо я не могу дать тебе того, чего ты желаешь, грустно не только за тебя, но и за меня, если такое искреннее признание может порадовать тебя.
Вода вокруг нашей лодки отливала изумрудом и золотом, и я держал ее сильные прекрасные руки в своих. Я держался за них, как утопающий, и глядел в ее глаза, похожие на лунный свет на реке и такие же теплые и ласковые.
— Минея, сестра! — сказал я. — Я устал от всех идолов, которых люди воздвигли для себя самих из страха, как мне кажется. Отрекись же от своего бога, ибо его требование жестоко и бесполезно — и сегодня еще более жестоко, чем всегда. Я увезу тебя в страну, недосягаемую для его власти, хотя бы нам пришлось для этого дойти до края света и есть траву и сухую рыбу среди диких племен и спать в камышах до конца наших дней. Ибо где-нибудь должна же быть граница власти, положенной твоему богу.
Она крепко сжала мне руки и отвернула голову.
— Мой бог установил свои границы в моем сердце, так что, куда бы я ни пошла, он меня настигнет, и, если я отдамся какому-нибудь мужчине, я умру. Сегодня, когда я увидела тебя, мне показалось жестоким и глупым, что мой бог требует этого, но я не могу ничего сделать против его воли. Завтра все может измениться — я надоем тебе, и ты забудешь меня, ибо так обычно поступают мужчины.
— Ни один человек не знает, что будет завтра, — нетерпеливо возразил я, ибо я воспламенился, как иссушенный солнцем тростник воспламеняется от случайной искры. — То, что ты говоришь, только пустая увертка, чтобы помучить меня, как это любят делать все женщины, и тебе приятны мои муки.
Укоризненно взглянув на меня, она отдернула руки.
— Я не какая-нибудь невежда, ибо, кроме моего собственного языка, я говорю по-вавилонски и на твоем языке гоже и могу написать свое имя тремя видами иероглифов как на глине, так и на бумаге. Кроме того, я побывала во многих больших городах и танцевала перед многими различными людьми, которые дивились моему искусству, пока меня не украли купцы, когда наш корабль пошел ко дну. С самого детства я росла в служении богу и была посвящена в тайну его обрядов, так что ни могущество, ни колдовство не могут разлучить меня с ним. Если бы ты также танцевал перед быками и качался в танце между острыми рогами и, играя, щекотал ногой мычащую морду, ты понял бы. Но, думаю, ты никогда не видел юношей и девушек, танцующих перед быками.
— Я никогда и не слыхал об этом. Но если я должен щадить твою девственность для блага быков, то это выше моего понимания, хотя я слышал, что в Сирии жрецы, исполняющие тайные обряды матери-земли, приносят в жертву козлам девушек и этих девушек выбирают из народа.
Она отвесила мне две пощечины, глаза у нее засверкали, как сверкают в темноте глаза дикой кошки, и гневно воскликнула:
— Я не вижу никакой разницы между мужчиной и козлом, ибо твои мысли направлены только на телесное, поэтому и коза вполне могла бы удовлетворить твою похоть. Так провались ты и оставь меня в покое, не надоедай мне больше своим любовным томлением, ибо ты знаешь об этом столько же, сколько свинья о серебре.
Ее жестокие слова сильно ранили меня. Я оставил ее и ушел на корму. Чтобы скоротать время, я открыл свои врачебные ящики и стал чистить инструменты и развешивать лекарства. Она сидела на носу, раздраженно постукивая пятками по дну лодки; вдруг она в ярости сбросила с себя одежду, натерла тело маслом и начала так дико и неистово танцевать, что лодка закачалась. Я не мог удержаться, чтобы искоса не взглянуть на нее, ибо ее исполнение было верхом совершенства. Она без усилий изгибала спину, закидывая руки назад, выгибалась, как лук, а затем поднимала ноги прямо в воздух. Все мускулы ее тела трепетали под блестящей кожей, она задержала дыхание, и ее волосы развевались вокруг головы, ибо этот танец требовал такой степени искусства, равной которой я никогда не видел, хотя наблюдал в увеселительных заведениях танцующих девушек из разных стран.
Пока я смотрел на нее, моя злость улетучилась, и я уже не сожалел более о том, чего лишился, выкрав эту капризную неблагодарную девушку. Я также припомнил, что она готова была заколоть себя, защищая свою невинность, и я знал, как дурно поступал, требуя от нее того, что она не может дать. Она танцевала так долго, что пот заструился по ее телу, и каждый мускул дрожал от изнеможения; потом она с головой накрылась покрывалом, и я услышал, что она плачет. Тогда я забыл о своих лекарствах и инструментах. Поспешив к ней, я мягко коснулся ее плеча и спросил:
— Ты заболела?
Она не ответила, но оттолкнула мою руку и еще сильнее заплакала. Я сел около нее, и сердце мое преисполнилось печалью.
— Минея, сестра моя, не плачь. Не плачь по крайней мере из-за меня, ибо поистине я никогда не собирался коснуться тебя, никогда, никогда, даже если бы ты попросила меня об этом. Я хочу избавить тебя от боли и печали, и пусть все останется навсегда так, как есть.
Она подняла голову и вытерла слезы с жестом досады.
— Глупец, меня не пугает ни боль, ни горе. И я плачу не из-за тебя, а из-за своей судьбы, которая разлучила меня с моим богом и сделала меня слабой, как былинка, так что от взгляда какого-нибудь болвана подо мной подгибаются колени.
Я взял ее руки, и она не отдернула их, но наконец повернулась ко мне, сказав:
— Синухе, должно быть, я кажусь тебе неблагодарной и сварливой, но я ничего не могу поделать, ибо не знаю, что на меня нашло. Я бы рада была рассказать тебе о моем боге так, чтобы ты понял меня лучше, но говорить о нем с непосвященным запрещено. Я могу сказать тебе только, что это бог моря и живет он в темном доме, и ни один из тех, кто входит туда, не возвращается, но остается жить с ним навсегда. Но есть такие, которые говорят, что он похож на быка, хотя и живет в море. Мы, предназначенные служить ему, обучены танцевать перед быками. Говорят также, что он похож на человека, несмотря на бычью голову, но думаю, что это всего лишь сказка.
Я знаю только, что каждый год по жребию выбирают двенадцать посвященных, которые должны входить по одному в его дом во время полнолуния, и нет большей радости для посвященного, чем войти в этот дом. На меня уже пал жребий, но перед тем, как пришел мой черед, наш корабль пошел ко дну, как я рассказывала тебе. Купцы украли меня и продали на рынке рабов в Вавилоне. Всю свою юность я мечтала об удивительном дворце бога, о его ложе и о бессмертии. Хотя нам, посвященным, разрешается вернуться в этот мир по прошествии месяца, ни один еще не вернулся, поэтому я думаю, что этот мир — ничто для тех, кто однажды видел бога.
Пока она говорила, тучи закрыли солнце, все кругом потускнело у меня на глазах и приобрело мертвенный оттенок, и меня охватила дрожь, ибо я понял, что Минея — не для меня. Ее история была похожа на те, что рассказывают жрецы во всех странах — и она верила, что этим навсегда оградит себя от меня. Я не хотел сердить или огорчать ее.
Грея ее руки в своих, я только сказал:
— Я понимаю, что ты желаешь вернуться к своему богу, поэтому я отвезу тебя через море на Крит — ибо знаю теперь, что ты оттуда родом. Я догадался об этом, когда ты рассказывала о быках, но то, что ты сказала о боге в темном доме, убедило меня в этом. Это то, о чем говорили мне купцы и моряки в Смирне, хотя я никогда не верил им. Они рассказывали, что жрецы убивают всех, кто пытается вернуться из обители бога, дабы никто не узнал от них, на кого он похож. Так говорили только моряки и простые люди; ты же знаешь об этом лучше, раз ты посвящена.
— Я должна вернуться — ты знаешь это! — настаивала она. — Больше нигде на земле я не найду покоя. Я радуюсь каждому дню, который провожу с тобой, Синухе, и не потому, что ты избавил меня от ада, но потому, что никто никогда не заботился обо мне так, как ты. Я уже не так сильно, как прежде, стремлюсь к обители бога, но иду туда с печалью в сердце. Если бы мне позволили, я вернулась бы к тебе после назначенного срока. Все же я не думаю, что это возможно, ибо никто никогда еще не возвращался. У нас мало времени, и никто не знает, что случится завтра, как ты говоришь, так давай же радоваться каждому наступающему дню, Синухе, и не задумываться о днях грядущих. Это лучше всего.
Другой человек мог бы взять ее силой, увезти ее в свою страну и жить с ней там до конца дней своих. Я знал, что все рассказанное ею — правда и что у нее не будет ни одного счастливого дня, если она изменит своему богу; наверное, пришел бы день, когда она прокляла бы меня и убежала бы от меня. Таково могущество богов, когда люди верят в них, хотя над теми, кто не верит в них, они не властны.
Несомненно, все это было предначертано звездами до моего рождения и ничего нельзя было изменить. Поэтому мы поели и выпили в нашей лодке, спрятанной в камышах, и будущее казалось далеким. Минея склонила голову и, коснувшись волосами моего лица, улыбнулась. Выпив вина, она прильнула к моему рту своими пахнущими вином губами, и боль, причиненная ею моему сердцу, была сладкой, может быть, более сладкой, чем если бы я взял ее, хотя я и не думал тогда об этом.
2
В сумерках Капта проснулся и вылез из-под циновки, зевая и потирая глаз.
— Клянусь скарабеем, и не совсем позабыв Амона, моя голова не походит больше на наковальню. Я мог бы снова почувствовать себя в согласии с миром, если бы только чего-нибудь съел, ибо я голоден как лев.
Не спросив разрешения, он присоединился к нашей трапезе и стал похрустывать птицами, запеченными в глине, сплевывая за борт косточки. При виде его я вспомнил о нашем положении.
— Пьяная дубина! Ты должен был бы ободрить нас хорошим советом и помочь нам выпутаться, ибо скоро мы все трое будем висеть на стене вниз головой. Вместо этого ты напился до отупения и захрапел, уткнувшись, как свинья, лицом в грязь. Скорее скажи, что делать, ибо царские солдаты уже пустились в погоню, чтобы убить нас.
Капта почесал голову.
— Эта лодка, наверное, слишком велика, чтобы трое смогли грести вверх по течению. Честно говоря, я не люблю весел; от них у меня на руках образуются пузыри. Поэтому нам надо бы пойти на берег и украсть пару ослов, на которых мы погрузим наши пожитки. Давайте наденем потрепанные платья, чтобы не привлекать внимания, и мы должны спорить и торговаться на постоялых дворах. Тебе надо скрывать, что ты врач, и притвориться, что у тебя другое ремесло. Мы станем компанией фигляров, путешествующих из селения в селение, чтобы по вечерам развлекать земледельцев на току. Никто не преследует фокусников, а воры считают, что грабить их не стоит труда. Ты можешь предсказывать поселянам их судьбу, раз ты умеешь это делать; я могу рассказывать им потешные истории, а девушка может танцевать, чтобы заработать на хлеб. Не будет никакого толку, если мы украдем лодку у бедных лодочников, которые, несомненно, притаились где-нибудь в камышах и ждут только темноты, чтобы убить нас. Для нас было бы разумным немедленно пуститься в путь.
Уже приближался вечер, и нечего было терять время. Капта был, конечно, прав, предполагая, что лодочники преодолеют свой страх и вернутся, чтобы забрать свою лодку, а их было десятеро сильных мужчин. Мы вымазались их маслом, испачкали одежду и лицо грязью, потом разделили между собой остатки моего золота и серебра, спрятав их в наши пояса и другие части одежды. Мой медицинский ящик, который мне не хотелось оставлять, мы завернули в циновку и взвалили на спину Капта, несмотря на его протесты. Затем, бросив лодку в камышах, мы переправились на берег. В лодке мы оставили еду и пару кувшинов с вином, ибо Капта полагал, что эти люди задержатся, чтобы напиться, после чего махнут на нас рукой. Если бы они пытались обвинить нас перед судьями, когда были трезвы, то они противоречили бы друг другу и их рассказ был бы таким бестолковым, что судьи прогнали бы их палками, на что я и надеялся.
Так мы начали наши скитания и вовремя попали на караванный путь, по которому шли всю ночь, хотя Капта проклинал день, когда он родился, из-за тяжести узла, который криво висел у него на плечах. Утром мы подошли к селению, обитатели которого встретили нас тепло и с уважением, потому что мы осмелились путешествовать ночью, не боясь злых духов. Они накормили нас молочной кашей и продали нам двух ослов; когда мы уходили от них, они устроили праздник, ибо это были простые люди, которые не видели чеканного золота в течение многих месяцев и платили налоги зерном и скотом и жили в глиняных хижинах вместе со скотом.
День за днем мы тащились по дорогам Вавилона. Мы встречали купцов; мы сторонились носилок богачей и кланялись им, когда они проезжали. Солнце жгло нам спины, наша одежда превратилась в лохмотья, и мы привыкли показывать наши представления на хлебных токах.
Я лил масло в воду и предсказывал счастливые дни и обильные урожаи, рождение мальчиков и благоприятные браки, ибо жалел этих бедняков и не хотел предсказывать ничего, кроме хорошего. Они верили мне и очень радовались. Если бы я говорил им правду, мне пришлось бы сказать о безжалостных сборщиках налогов, о побоях, о продажных судьях, о лихорадке во время половодья, о саранче и мухах, о жестокой засухе и о том, что летом дурная вода, и о тяжелом труде, и о том, что после труда — смерть, ибо такова была их жизнь. Капта рассказывал им истории о волшебниках и принцессах и о чужих странах, где люди носят головы под мышкой и раз в году превращаются в волков. Они верили этим сказкам, почитали его и хорошо его кормили. Минея каждый день танцевала перед ними, чтобы упражняться для своего бога, и они восхищались ее искусством, говоря:
— Мы никогда ни видели ничего подобного!
Это путешествие было полезно мне, ибо научило меня тому, что если богатые и сильные везде одинаковы и одинаково думают, то точно так же схожи и бедняки во всем мире. У них были одни и те же мысли, несмотря на разные обычаи и на то, что у их богов были разные имена. Они смягчали мое сердце своим великим простодушием, и я не мог удержаться, чтобы не лечить больных, когда их видел, чтобы не вскрывать нарывы и не прочищать глаза, которые, я знал это, иначе скоро ослепнут — и все это я делал по своей собственной воле, ничего не прося взамен.
Но почему я подвергал себя опасности разоблачения, не знаю. Может быть, мое сердце смягчила Минея, которую я видел каждый день и чья юность согревала меня по ночам, когда мы лежали на земляном полу, пахнущем соломой и навозом. Может быть, я делал это ради нее, чтобы умилостивить богов добрыми делами; но также, быть может, я хотел испытать свое искусство, чтобы мои руки не утратили своих навыков, а глаза — остроты в распознавании болезни. Ибо чем дольше я живу, тем яснее вижу: то, что делает человек, ой делает по многим причинам, таким, о которых он, может быть, не подозревает; поэтому его поступки подобны пыли под ногами, поскольку я не могу узнать ни его побуждений, ни его намерений.
Мы перенесли много лишений. Мои руки стали мозолистыми, подошвы ног огрубели, и пыль слепила мне глаза. Однако, когда я вспоминаю это наше путешествие по пыльным дорогам Вавилона, оно кажется мне прекрасным, и я не могу позабыть его. Мало того, я отдал бы многое из того, что знал и чем владел в этом мире, если бы мог еще раз совершить это путешествие, чтобы юность, острые глаза и неутомимое тело были мне возвращены и Минея была подле меня с ее глазами, сияющими, как лунный свет на реке. Смерть шла по пятам за нами — смерть, которая была бы нелегкой, если бы нас обнаружили и предали в руки царя. Но в те далекие дни я никогда не думал о смерти и не боялся ее, хотя жизнь была мне дороже, чем когда-либо прежде, потому что я шел с Минеей и смотрел, как она танцует на хлебных токах. В ее обществе я забывал о преступлении и позоре моей юности, и каждое утро, когда я просыпался от блеяния козлят и мычания скота, мое сердце было легким, как птица; я выходил поглядеть, как солнце поднимается и плывет подобно золотой ладье в нежной лазури неба.
Наконец мы подошли к разоренной пограничной стране, а пастухи, приняв нас за бедняков, указали нам дорогу, так что мы вступили в землю Митанни и дошли до самой Нахарани, не заплатив дани и не столкнувшись со стражниками ни того, ни другого царя. Только войдя в большой город, где люди не знали друг друга, мы решились зайти на базар, где купили новую одежду, вымылись и оделись соответственно нашему положению, после чего остановились в лучшей гостинице. Поскольку мое золото быстро таяло, я задержался в этом городе, чтобы заняться практикой, нашел много пациентов, лечил многих больных, ибо народ Митанни был, как и все другие, любознателен и любил все необычное. Минея также привлекала внимание своей красотой, и многие предлагали купить ее у меня. Капта отдыхал после своих трудов и растолстел; ему попадалось много женщин, даривших его благосклонностью за его рассказы. Напиваясь в увеселительных заведениях, он рассказывал о том дне, когда был царем в Вавилоне, и все смеялись, шлепали его по коленям и кричали:
— Никогда не встречали мы такого лгуна! У него язык такой длинный и бойкий, как поток.
Так шло время, пока Минея не начала поглядывать на меня с опаской, и по ночам она лежала без сна и плакала. Тогда я сказал ей:
— Я знаю, что ты тоскуешь по своей стране и по своему богу, а у нас впереди еще долгий путь. Все же я должен сперва посетить страну Хатти, где живут хетты, по причинам, о которых я не могу рассказать тебе. Думаю, что из их страны можно доплыть до Крита, хотя и не уверен в этом, но, если хочешь, я отвезу тебя прямо на сирийское побережье, откуда идут корабли на Крит каждую неделю. Но я слыхал, что отсюда готов отправиться караван с ежегодными дарами от царя Митанни к царю хеттов, и с ним мы можем в безопасности путешествовать и увидеть и услышать много нового. Однако решать не мне, а тебе.
В душе я знал, что обманываю ее, ибо мое желание посетить страну Хатти было просто стремлением подольше удержать ее, перед тем как ей вернуться к своему боту.
Но она возразила:
— Кто я такая, чтобы вмешиваться в твои планы? Я охотно иду с тобой повсюду, поскольку ты обещал вернуть меня в мою страну. Куда пойдешь ты, пойду и я, и, если даже смерть нас настигнет, я буду оплакивать не свою участь, а твою.
Поэтому я решил присоединиться к каравану как врач и отправиться под покровительством царя Митанни в страну Хатти, которая также называлась Хета. Услышав об этом, Капта разразился проклятиями и призвал на помощь богов.
— Только что мы вырвались из пасти одной смерти, как мой хозяин жаждет нырнуть в пасть другой. Всем известно, что хетты — дикие звери и даже хуже. Клянусь скарабеем! Да будет проклят тот день, когда я родился на свет, чтобы страдать из-за капризов моего сумасшедшего хозяина!
Я вынужден был палкой призвать его к порядку, после чего сказал:
— Будь по-твоему! Я отправлю тебя вместе с какими-нибудь купцами в Смирну и оплачу твою дорогу. Присмотри за моим домом, пока я не вернусь, ибо мне до смерти надоели твои причитания.
Но Капта снова вскипел, говоря:
— А какой в этом смысл? Как я могу позволить моему господину одному отправиться в страну Хатти? Все равно что запустить ягненка в стаю гончих, и в душе я никогда не простил бы себе этого преступления. Задам только один вопрос: в страну Хатти едут морем?
Я сказал ему, что, насколько мне известно, между странами Хатти и Митанни моря нет.
— Да будет благословен мой скарабей, — отвечал Капта, — ибо если бы нужно было ехать морем, я не мог бы сопровождать тебя, поскольку поклялся богам, что никогда не ступлю ногой на морской корабль.
Затем он начал собирать наши пожитки и готовиться к отъезду, а я оставил все на его попечение, ибо в таких делах он был искуснее меня.
3
Путешествие с митаннийскими посланцами было небогато событиями, и мало что можно порассказать о нем, ибо хетты сопровождали нас всю дорогу в своих колесницах и присматривали за тем, чтобы мы получали на каждой остановке еду и питье. Хетты были выносливее, безразличные и к жаре, и к холоду, ибо они живут среди голых холмов и с детства приучены к трудностям и лишениям. Они бесстрашны и упорны в бою, презирают более слабые народы и покоряют их, вместе с тем почитают доблестных и ищут их дружбы.
Их народ делится на множество кланов, и селениями управляют принцы, облеченные неограниченной властью, но они, в свою очередь, подчиняются великому царю, живущему в городе Хаттушаш среди гор. Он их верховный жрец, главнокомандующий и высший судья. В нем соединена вся власть, которой подчиняются люди, как божественная, так и светская, и я не знаю другого царя, обладающего равным могуществом, хотя всякая царская власть считается абсолютной. В других странах, включая Египет, жрецы и судьи больше контролируют действия царя, чем это обычно полагают.
Говоря о великих городах мира, люди упоминают Фивы, Вавилон и иногда Ниневию, которую я не видел. Но я никогда не слышал, чтобы они говорили о Хаттушаш, великом городе хеттов, средоточии власти, расположенном в горах, как орлиное гнездо в самой середине охотничьих угодий. Все же этот город вполне схож с другими городами, и, вспоминая его гигантские строения из тесаного камня и его стены, неприступные и более массивные, чем я когда-либо видел, я должен признать этот город одним из величайших. Для мира остается тайной, почему царь закрыл его для чужеземцев. Только уполномоченные посланники допускались на аудиенцию к царю и вручали ему дары, и даже за этими людьми внимательно наблюдали, пока они оставались в Хаттушаш. Поэтому горожане неохотно говорят с чужеземцами, даже если и знают их язык. Если кто-нибудь обращается к ним с вопросом, они отвечают: «Я не понимаю» или «Я не знаю» и беспокойно озираются в страхе, что кто-нибудь увидит, как они разговаривают с чужеземцем. Они, однако, по природе не грубы, а дружелюбны, и им нравится рассматривать чужеземные одежды, если они красивы, и идти по улицам за теми, на ком они надеты.
У них нет наемников, как у цивилизованных народов, а только собственные воины, люди, разделенные на разряды соответственно их воинскому званию. Таким образом, самые выдающиеся — те, кто может позволить себе держать колесницу, и их положение определяется не происхождением, а умением владеть оружием. Все мужчины, годные по возрасту к службе, ежегодно собираются для военных упражнений под руководством своих командиров. Хаттушаш не торговый город, как другие большие города, но в нем полно кузниц и мастерских, из которых доносится равномерный стук молотков, ибо там куют наконечники для стрел и копий, колеса и остовы колесниц.
Ко времени моего прибытия в страну хеттов великий царь Шуббилулиума царствовал уже двадцать восемь лет. Его имя вселяло такой страх, что люди кланялись и поднимали руки, услышав его и воздавая ему хвалу за то, что он установил порядок в стране Хатти и покорил многие народы. Он жил в каменном дворце в центре города, и много рассказывали легенд о его рождении и героических деяниях, как обычно рассказывают обо всех великих правителях. Однако я никогда не видел его; даже посланники Митанни не видели его. Они должны были оставить свои дары на полу приемной залы под презрительные насмешки солдат.
Сначала казалось, что в Хаттушаш мало дел для врача, ибо, как я понял, хетты стыдились болезней и скрывали их, пока могли. Слабых и уродливых детей убивали при рождении и больных рабов тоже предавали смерти. Поэтому их врачи были мало искусны, невежественны и неграмотны, хотя и лечили раны и контузии довольно хорошо, а также имели неплохие средства для заболеваний, свойственных горным областям, средства, понижающие жар; о них я был рад узнать. Но, если кто-либо заболевал неизлечимой болезнью, он предпочитал смерть лекарству, чтобы не остаться искалеченным или хилым на всю остальную жизнь. Ибо хетты не боялись смерти, как боятся ее цивилизованные народы, но страшно опасались слабости.
Все же в основном все большие города похожи так же, как похожи богатые и знатные во всех странах. Когда моя известность распространилась среди людей, некоторые из них пришли в мою гостиницу, ища исцеления; их болезни были знакомы мне, и я мог вылечить их. Но они предпочитали приходить ко мне переодетыми, тайком и под покровом темноты, чтобы не умалять своего достоинства. По этой же причине они давали мне щедрые подарки, и в конце концов я получил в Хаттушаш много золота и серебра, хотя сначала боялся остаться нищим.
Манера поведения хеттов была строгая, и мужчины из высших классов не могли появиться пьяными на улице, не уронив себя, но, как и во всех других больших городах, они все-таки пили много вина, а также губительные смешанные вина. Я лечил спазмы, вызванные этим, и унимал дрожь в их руках, когда они должны были появиться перед царем. Я позволял Минее танцевать для их развлечения; они очень восхищались ею и дарили ей богатые подарки, не желая от нее ничего больше, ибо хетты были щедры, когда им что-то нравилось. Завоевав таким образом их доброе расположение, я решил расспросить их о многом таком, о чем не мог спрашивать открыто. Многое я узнал от хранителя царских архивов, который говорил и писал на разных языках, имея дело с иностранной перепиской царя, и не был связан обычаями. Я предоставил ему думать, что я был безвозвратно изгнан из Египта и что единственная цель моего путешествия за границу — приобрести богатство и знания. Он верил мне и охотно отвечал на мои вопросы в благодарность за хорошее вино и танцы Минеи.
— Почему Хаттушаш закрыт для чужеземцев? — спрашивал я его. — И почему караваны и купцы держатся определенных дорог, хотя ваша страна богата и ваш город может соперничать в чудесах с любым другим городом? Разве не было бы лучше, если бы другие узнали о вашем могуществе и восхваляли вас между собой, как того заслуживает ваша страна?
Он пригубил вино и ответил, жадно блуждая глазами по стройному телу Минеи:
— Шуббилулиума, наш великий царь, сказал при восшествии на трон: «Дайте мне тридцать лет, и я превращу землю хеттов в самую могущественную державу, какую когда-либо видел мир».
Эти тридцать лет вот-вот истекут, и я думаю, что вскоре мир услышит о земле хеттов больше, чем хотел бы знать.
— Но в Вавилоне я видел, как шестьдесят раз по шестьдесят на шестьдесят человек прошествовали мимо своего царя, и топот их ног походил на рев моря. Здесь, я, может быть, видел всего десять раз по десять воинов одновременно, и я не могу понять, что вы делаете со всеми колесницами, которые строят сейчас в мастерских города. Зачем нужны колесницы в горной стране? Они предназначены для сражений на равнинах.
Он рассмеялся.
— Для врача ты слишком любопытен, Синухе-египтянин! Может быть, мы зарабатываем свой хлеб, посылая колесницы царям равнинных стран. — Он многозначительно сузил глаза.
— В это я не верю, — смело сказал я. — Так же охотно волк ссудит зайцу свои клыки.
Он разразился хохотом, ударяя себя по коленям до тех пор, пока из его чаши не пролилось вино.
— Я должен рассказать об этом царю! Может быть, даже в течение твоей жизни тебе случится увидеть большую охоту на зайцев, ибо правосудие у хеттов не такое, как на равнинах. В твоей стране, я полагаю, богатые правят бедными, в нашей — сильные правят слабыми. Мир получит новый урок еще до того, как поседеют твои волосы, Синухе.
— Новый фараон в Египте также имеет нового бога, — сказал я с притворным простодушием.
— Я знаю это, потому что читаю всю переписку царя. Этот бог, большой любитель мира, заявляет, что любой спор между народами можно решить мирным путем. Мы ничего не имеем против этого бога, нет, он очень нравится нам — пока правит в Египте и на равнинах. Ваш фараон послал нашему великому царю египетский крест, который он называет символом жизни, и, конечно, у него будет мир в течение нескольких последующих лет при условии, что он пришлет нам много золота, дабы мы могли накопить больше меди, железа и зерна, построить новые мастерские и соорудить колесницы в большем количестве и более тяжелые, чем прежде. Для всего этого нужно много золота, и наш царь собрал здесь, в Хаттушаш, искуснейших оружейников из различных стран и щедро награждает их. Но почему он делает это, мне кажется, не может предугадать ни один врач!
— Будущее, которое ты предсказываешь, может быть, по душе воронам и шакалам, но меня оно не радует, и я не вижу в нем повода для смеха. В Митанни много рассказывают о великих преступлениях в этой пограничной стране — истории такие страшные, что я не стану повторять их, ибо все это не пристало культурному народу.
— А что такое культура? — спросил он, наполняя свою чашу. — Мы тоже умеем читать и писать и собирать пронумерованные глиняные таблички в наших архивах. Наша цель — вселить страх во все вражеские народы, чтобы они покорились нам без сопротивления, когда придет время, и таким образом спаслись от ненужного ущерба и потерь. Ибо мы не любим разрушения ради разрушения; мы предпочитаем присоединять страны и города в неповрежденном состоянии, насколько это возможно. Слабый враг — это враг наполовину побежденный.
— Значит, все ваши врага? Разве у вас вовсе нет друзей?
— Наши друзья все те, кто подчиняется нам и платит нам дань, — пояснил он. — Мы даем им возможность жить, как они хотят, не покушаемся на их обычаи и их богов, пока мы правим ими. Наши друзья также все те, кто не соседствует с ними, ибо тогда мы стремимся открыть в них черты агрессии, которые нарушают гармонию и вынуждают нас начать войну против них. Так это было до сих пор и, боюсь, так будет и впредь, поскольку я знаю нашего великого царя.
— А вашим богам нечего сказать на этот счет? В других странах они часто решают, что правильно и что неправильно.
— Правильно и неправильно? Правильно то, чего мы желаем, а неправильно то, чего желают наши соседи. Это очень простое правило для того, чтобы облегчить как жизнь, так и управление государством, и, по-моему, это мало отличается от того, чему учат боги на равнинах. Как я понимаю, эти бога считают правильным то, чего желают богатые, а неправильным то, чего желают бедные.
— Чем больше узнаю я о богах, тем грустнее мне становится, — удрученно признался я.
В этот вечер я сказал Минее:
— Я достаточно узнал о стране Хатти и нашел то, зачем пришел. Я готов уехать, ибо здесь пахнет трупами, и это душит меня. Смерть нависает надо мной, как зловещая тень, пока я остаюсь здесь, и не сомневаюсь, что царь посадил бы меня на кол, если бы узнал, что я обнаружил. Давай убежим от этого растления; я из-за этого чувствую, что предпочел бы родиться вороной, а не человеком.
С помощью некоторых моих наблюдений знатных пациентов я без труда получил разрешение проехать по предписанному маршруту к побережью и там сесть на корабль. Мои пациенты оплакивали мой отъезд и убеждали меня остаться, уверяя, что если я буду продолжать практику среди них, то через несколько лет разбогатею. Однако никто не старался помешать мне уехать, и я смеялся и шутил с ними и рассказывал им истории, которые веселили их, так что мы расстались друзьями и они щедро одарили меня на прощание. Мы покинули страшные крепостные стены Хаттушаш, за которыми затаился мир будущего, и поехали верхом на своих ослах мимо слепых рабов, вращающих громыхающие жернова, мимо трупов чародеев, посаженных на кол по обеим сторонам дороги. Я ехал как можно быстрее, и через двадцать дней мы достигли порта.
4
Мы задержались там на некоторое время, хотя это был шумный город, полный пороков и преступлений, ибо, видя корабль, идущий на Крит, Минея говорила:
— Он слишком мал и может затонуть, а я совсем не желаю второй раз попасть в кораблекрушение.
А видя корабль побольше, она замечала:
— Это сирийский корабль, и я не поплыву на нем.
Она протестовала и против третьего:
— У хозяина судна дурной глаз, и я боюсь, что он продаст нас в рабство в чужую страну.
Так что мы оставались в морском порту, и я, например, не жалел об этом. У меня там было много дела — чистить и зашивать глубокие раны и вскрывать разбитые черепа. Случалось, что ко мне приходил и сам хозяин порта, ибо он боялся сифилиса, а я знал эту болезнь еще по Смирне и мог лечить ее тем средством, которое применяли тамошние врачи.
Когда я вылечил его, он сказал:
— Что я должен тебе, Синухе, за твое великое искусство?
Я отвечал:
— Мне не нужно твоего золота. Дай мне тот нож, что у тебя на поясе, и долг будет уплачен; кроме того, у меня будет подарок, благодаря которому я долго буду помнить тебя.
Но он возразил:
— Это самый обыкновенный нож, вдоль его края нет бегущих волков, рукоятка его не отделана серебром.
Но так он говорил потому, что нож был из хеттского металла, который было запрещено дарить или продавать чужеземцам. Мне не удалось купить такое оружие, и я не мог настаивать, ибо боялся возбудить подозрение. В Митанни такие ножи можно было увидеть лишь у самых знатных особ, а цена их в десять раз превышала их вес в золоте, и даже при этом их не желали продавать, потому что во всем мире их было всего несколько штук. Но для хетта такой нож не представлял особой ценности, раз его было запрещено продавать чужеземцу.
Хозяин порта знал, что я скоро покину эту страну, и, рассудив, что он может лучше употребить свое золото, чем запросто отдать его врачу, он в конце концов подарил мне этот нож. Он был такой острый, что сбривал волосы легче самого лучшего кремневого лезвия и мог делать насечки на меди, не повреждая своего лезвия. Я был в восторге от него и решил посеребрить его и приделать к нему золотую рукоятку, как делали митаннийцы, приобретая такой нож. Хозяин порта не только не имел против меня зуба, но и остался моим другом, потому что я Провел ему длительное лечение.
В этом городе было поле, где держали диких быков, как это часто бывает в приморских городах, и у местной молодежи был обычай показывать свою гибкость и смелость в схватках с этими животными; они метали в них дротики и прыгали через них. Минея очень обрадовалась, увидев быков, и пожелала испытать свое мастерство. Таким образом, я впервые увидел, как она танцует среди диких быков; ничего подобного этому мне никогда еще видеть не приходилось, и у меня душа замирала, пока я смотрел на это. Ибо дикий бык — самое ужасное из всех животных, даже хуже слона, который смирен, пока его не разозлили, а рога у него длинные и острые, как шило. Одним ударом он пронзает человека или подбрасывает его высоко в воздух и топчет его ногами.
Но Минея танцевала перед быками в одном лишь тонком одеянии и легко отпрыгивала в сторону, когда они, нагнув голову, кидались на нее с ужасным ревом. С разгоревшимся лицом и со все возрастающим волнением она сбросила с головы серебряную сетку, так что ее волосы развевались на ветру. Она танцевала так стремительно, что глаз не мог уследить за всеми ее движениями, когда она подпрыгивала между рогами нападающего животного, крепко ухватившись за них, а затем, оттолкнувшись ногами от его лба, бросалась вверх, делая сальто, чтобы усесться к нему на спину. Я глядел как зачарованный на ее представление, и, наверно, она сознавала это и выделывала такие номера, которые казались бы мне прежде немыслимыми для человеческого существа. Глядя на это, я обливался потом и не мог усидеть спокойно, а занимавшие скамьи позади меня ругали меня и дергали меня за накидку.
Когда она возвращалась с поля, ей громко хлопали. На шею и на голову ей надели гирлянды, и другие молодые люди поднесли ей чашу с разрисованными изображениями красных и черных быков. Все восклицали:
— В жизни не видели мы ничего подобного!
А морские капитаны, побывавшие на Крите, сказали, выдыхая винные пары:
— Даже на Крите, пожалуй, такого не увидишь.
Но она подошла и прильнула ко мне, и ее тонкое платье было мокрым от пота. Она прильнула ко мне, и каждый мускул ее крепкого стройного тела дрожал от усталости и возбуждения. Я сказал:
— Я никогда не видел никого подобного тебе.
Мое сердце сжалось от скорби, ибо теперь, увидев ее танец перед быками, я понял, что они стоят между нами как некое заклятие.
Вскоре после этого в порт прибыл корабль с Крита; он не был ни слишком мал, ни слишком велик, и у капитана не было дурного глаза. Он говорил на родном языке Минеи, и она сказала мне:
— Этот корабль благополучно доставит меня домой, к моему богу, так что теперь ты охотно оставишь меня, потому что я принесла тебе много хлопот и потерь.
— Ты очень хорошо знаешь, Минея, что я поеду с тобой на Крит.
Она взглянула на меня глазами, подобными морю, залитому лунным светом; губы ее были накрашены, а глаза подведены, брови тонко начертаны черными полосками.
— Не знаю, зачем тебе ехать со мной, Синухе, ведь корабль благополучно доставит меня прямо домой, и больше ничего дурного со мной не случится.
— Ты знаешь это не хуже меня, Минея.
Она сжала мне руку своими длинными гибкими пальцами и вздохнула.
— Мы через многое прошли вместе, Синухе, и я видела такое множество людей, что моя родная страна померкла в моей памяти, как какой-то прекрасный сон, и я не тоскую о моем боге, как прежде. Поэтому я откладывала это путешествие под пустыми предлогами, как ты хорошо знаешь, но, снова танцуя перед быками, я поняла, что умерла бы, если бы мне пришлось тебе отдаться.
— Да-да, я знаю. Все мы прошли через это; это скучная, бессмысленная и часто повторяющаяся история. Я не собираюсь похитить твою невинность, ибо из-за этого не стоит досаждать твоему богу. Любая рабыня может дать мне то, в чем ты отказываешь мне, это не составляет никакой разницы, как говорит Капта.
Тут ее глаза засверкали, как кошачьи глаза в темноте; она впилась ногтями мне в руку и прошипела:
— Поспеши тогда найти свою рабыню, ибо мне тошно от тебя. Убирайся сейчас же к грязным портовым девкам, которых ты так желаешь, но помни, что после этого я знать тебя не захочу и, может быть, даже проткну тебя твоим собственным ножом. Ты тоже можешь воздержаться от того, от чего могу воздержаться я.
Я улыбнулся ей.
— Никакой бог не запрещал мне этого!
— Я запрещаю тебе это — и только посмей явиться ко мне потом!
— Успокойся, Минея, ибо, право же, мне это очень надоело. Нет ничего более однообразного, чем наслаждаться с женщиной, и, уже испытав это, я не чувствую никакого желания повторять этот опыт.
Но она снова вспыхнула и сказала:
— Твои слова оскорбляют во мне женщину, и я думаю, что некоторые не показались бы тебе однообразными.
Я убедился, что ничем не могу ей угодить, хотя старался изо всех сил. В ту ночь она не легла, как обычно, рядом со мной, а забрала свою циновку в другую комнату и укрылась с головой, чтобы уснуть.
Я позвал ее:
— Минея! Почему ты не греешь меня? Ты ведь моложе, чем я; ночь холодна, и я дрожу.
— Это неправда, потому что мое тело горит, как в лихорадке, и я не могу дышать в этой удушливой жаре. Я предпочитаю спать одна, а если тебе холодно, вели принести в свою комнату жаровню или положи рядом с собой кошку и не беспокой меня больше.
Я подошел и дотронулся до нее, тело ее горело, и она дрожала под шерстяным одеялом. Я сказал:
— Ты, может быть, больна. Позволь мне позаботиться о тебе.
Она ударила меня и оттолкнула, сказав:
— Убирайся сейчас же! Я не сомневаюсь, что мой бог вылечит меня.
Но немного погодя она сказала:
— Дай мне что-нибудь, Синухе, или сердце мое разобьется.
Я дал ей успокоительное средство, и она наконец заснула; но я бодрствовал, пока в порту на тусклом рассвете не залаяли собаки.
И вот наступил день отъезда, и я сказал Капта:
— Собери наши пожитки, ибо мы собираемся сесть на корабль, идущий к острову Кефтью — это остров Минеи.
— Я так и думал, но не рвал на себе одежду, потому что тогда мне пришлось бы чинить ее, и не стоит посыпать голову пеплом из-за такого вероломного человека, как ты! Разве ты не поклялся, когда мы покинули Митанни, что мы никогда не отправимся в море? Однако я покоряюсь и не скажу ничего; я не буду даже рыдать, чтобы мой единственный глаз не ослеп, так горько я уже рыдал из-за тебя в тех странах, куда нас завело твое безумие. Я только скажу сразу, чтобы избежать последующих ошибок, что это мое последнее путешествие — так говорит мой желудок. Но я не стану даже упрекать тебя, ибо мне внушает отвращение один твой вид и запах лекарств, исходящий от тебя. Я сложил вместе наши вещи и готов к отъезду, ибо без скарабея ты не сможешь решиться сесть на корабль, и без скарабея я не могу надеяться попасть сухим путем в Смирну и сохранить мою жизнь. Поэтому я отправлюсь со скарабеем и либо умру на борту, либо утону вместе с тобой в море.
Я дивился благоразумию Капта, пока не узнал, что он расспросил моряков в гавани насчет средств от морской болезни и купил у них волшебные талисманы. Перед нашим отплытием он привязал себе на шею эти предметы, туго затянул пояс и выпил возбуждающую травяную настойку, так что его глаз выкатился, как у вареной рыбы, когда он ступил на борт. Он хриплым голосом попросил жирной свинины, которая, как уверили его матросы, была самым лучшим средством от морской болезни, улегся на свою койку и заснул, зажав в одной руке свиную лопатку, а в другой — скарабея. Владелец порта, получив нашу глиняную табличку, попрощался с нами; затем гребцы взялись за весла и повезли нас из бухты.
Так началось наше путешествие на Крит. Капитан принес в своей каюте жертву богу моря и другим богам, затем отдал приказ поднять парус; судно накренилось и стало рассекать воду, а меня замутило, ибо берег скрылся из глаз. Впереди были только бесконечные катящиеся волны.
Книга VIII Обитель мрака
1
Перед нами простиралось безграничное море, но я ничего не боялся, ибо Минея была со мной, Минея, которая вдыхала морской воздух и снова была самою собой, с лунным светом в глазах. Она стояла на носу, наклонясь вперед так, словно хотела ускорить ход судна, и впивала морской воздух. Над нами было голубое небо и сияющее солнце; ветер был не слишком сильный, но свежий и ровный и дул с правого румба — капитан сказал что-то в этом роде. Привыкнув к движению корабля, я не страдал от тошноты, хотя страх перед неизведанным охватил мое сердце, когда к концу второго дня нашего путешествия последняя из белокрылых птиц, кружащихся над нами, покинула судно. Вместо этого стая дельфинов морского бога сопровождала нас, их гладкие спины блестели, когда они кувыркались в воде. Минея громко кричала и звала их на своем языке, ибо они принесли ей привет от ее бога.
В море мы были не одни; мы видели критский военный корабль, чей корпус был увешан медными щитами и который спустил свой вымпел, увидев, что мы не пиратское судно. Капта поднялся со своей койки, почувствовав, что он уже может стоять, и беседовал с матросами, хвастая своими путешествиями в разные страны. Он рассказывал о своей поездке из Египта в Смирну, о шторме, сорвавшем парус с мачты, и о том, как он и капитан были единственными людьми на борту, которые могли есть, тогда как остальные лежали на палубе, стонали и их выворачивало наизнанку. Он говорил также о страшных морских чудовищах, появляющихся в дельте Нила и заглатывающих любую рыбачью лодку, которая осмелилась зайти слишком далеко в море. Матросы отвечали ему тем же и описывали некие столбы на самом краю океана, поддерживающие небо, рассказывали о девушках с рыбьими хвостами, которые подстерегали мореходов, напускали на них чары и соблазняли их. Они говорили о морских чудовищах, от которых у Капта на голове волосы вставали дыбом, и он прибегал ко мне с посеревшим лицом и вцеплялся в мою накидку.
Минея с каждым днем становилась все радостнее. Ее волосы развевались на ветру, а глаза были подобны лунному свету на воде, и она была так стройна и прекрасна, что у меня ныло сердце, когда я смотрел на нее и вспоминал о том, что скоро уже мы расстанемся. Возвращение в Смирну или в Египет без нее казалось мне бессмысленным. Я чувствовал горечь во рту, думая о том времени, когда она не будет уже держать меня за руки или прижиматься ко мне и когда я уже не увижу ее больше. Капитан и команда стали относиться к ней с глубоким благоговением, узнав, что она танцевала перед быками и что ей выпал жребий вступить в обитель бога во время полнолуния, чему помешало кораблекрушение. Когда я пытался расспросить их об их боге, они ничего не отвечали; некоторые говорили: «Мы не знаем», а другие: «Нам непонятен твой язык, чужеземец». Я знал только, что критский бог был властелином моря и что с морских островов посылали юношей и девушек танцевать перед его быками.
Наступил день, когда Крит поднялся из моря подобно голубому облаку, и матросы издали крик радости, а капитан принес жертву богу моря, пославшему нам хорошую погоду и попутный ветер. Горы Крита и его крутые, поросшие оливами берега поднялись перед моими глазами, и я увидел чужую землю, о которой ничего не знал, хотя мне предстояло похоронить там мое сердце. Но для Минеи это была ее родина, и она плакала от радости при виде голых холмов и нежной зелени земли, окруженной морем. Потом спустили парус; гребцы подняли весла и повели корабль к причалу, мимо других судов из разных стран — как военных кораблей, так и купеческих, которые стояли на якоре. Там была, наверно, тысяча кораблей, и Капта, поглядев на них, сказал, что он не поверил бы, что их на свете так много. Здесь не было ни башен, ни стен, ни каких-либо других укреплений, и город примыкал к порту, настолько критяне были уверены в морском превосходстве Крита и так могуществен был его бог.
2
Теперь я расскажу о Крите и о том, что я видел там, но о том, что думаю об этой стране и ее боге, не скажу ничего; я запечатаю мое сердце, и пусть говорят мои глаза. Нигде в мире не видел я ничего столь необычайного и прекрасного, как Крит, хотя объехал все известные страны. Как сверкающая пена, разбивающаяся о берег, как пузыри, светящиеся всеми цветами радуги, как скорлупа мидии, блистающая перламутром, — таким ярким показался мне Крит. Нигде жажда наслаждений не бывает столь непосредственна, столь переменчива, как здесь. Все поступают только по мгновенному побуждению, и настроение людей меняется с каждым часом. Поэтому они неохотно дают обещания или заключают соглашения. Они красноречивы, очень обаятельны и упиваются музыкой слов; они не допускают разговоров о смерти, по-моему, они и не упоминают о ней. Все это скрыто, и когда кто-то умирает, его уносят тайком, чтобы никого не расстраивать. Думаю, что они сжигают тела умерших, хотя точно не знаю, ибо за все время моего пребывания там я не видел ни умерших и ни одной могилы, кроме могил прежних царей. Они построены из огромных камней еще в давние времена, а ныне люди старательно обходят их, будто если не думать о смерти, то она и не придет.
Их искусство также необычно и прихотливо. Каждый художник пишет так, как ему велит фантазия, не считаясь с правилами, и изображает только то, что ему самому представляется прекрасным. Чаши и кувшины блещут яркими красками; на их стенках плавают странные морские существа. На них растут цветы, порхают бабочки, так что человеку, привыкшему к искусству, ограниченному условностями, становится не по себе, когда он видит эту работу, и ему кажется, что это сон.
Здания не так внушительны, как храмы и дворцы в других странах, здесь удобство и роскошь важнее симметрии. Критяне любят воздух и чистоту; их решетчатые окна пропускают ветер; в их домах много ванных комнат, где из серебряных труб течет горячая и холодная вода в серебряные ванны, стоит только повернуть кран. В уборных вода с шумом бежит из бачков, и нигде больше не видел я такой утонченной роскоши. Так живут не только богатые и знатные, но все, кроме обитателей портовых кварталов, где находятся жилища чужеземцев и рабочих порта и деков.
Женщины уделяют очень много времени омовениям, удалению волос на теле, уходу за лицом, которое искусно раскрашивают, так что они никогда не бывают готовы к намеченному времени и приезжают на приемы, когда им это удобно. Но самое странное из всего — их одежды. Они носят платья, сотканные из золота или серебра, которые покрывают все тело, кроме рук и груди, ибо они гордятся своей прекрасной грудью. Их широкие складчатые юбки украшены множеством вышивок или разрисованы художниками. У них есть также платья, составленные из бесчисленных пластинок кованого золота в форме каракатиц, бабочек и пальмовых листьев, и сквозь них виден блеск их кожи. У них очень высокие сложные прически, на которые уходят целые дни, а на них надевают маленькие легкие шляпы, прикрепляя их к волосам золотыми шпильками, так что кажется, будто они парят в воздухе, как мотыльки. У них гибкие и стройные тела и узкие, как у мальчиков, бедра, так что им трудно рожать людей, и они по возможности избегают этого и не считают постыдным быть бездетными или иметь лишь одного-двух детей.
Мужчины носят разукрашенные сапожки до колен, но их набедренные повязки незатейливы, и они туго подпоясываются, гордясь своими тонкими талиями и широкими плечами. У них маленькие красивые головы, изящные руки и ноги, и, как и женщины, они удаляют волосы на теле. Лишь немногие из них говорят на иностранных языках, ибо они предпочитают свою родную страну всем другим, где живется не так легко и весело. Хотя они обогащаются за счет мореплавания и торговли, я встречал и таких, которые отказываются посещать порт из-за его дурных запахов и не способны делать простейших вычислений, а во всем полагаются на своих приказчиков. Поэтому умелые чужеземцы могут быстро разбогатеть, если они согласны жить в портовой части.
У критян есть инструменты, играющие сами по себе, и они утверждают, что музыку можно изобразить письменами, так что каждый может научиться играть, никогда не слышав исполнения какой-либо вещи. Музыканты Вавилона также утверждали, что могут это делать, и я не стану опровергать ни тех, ни других, поскольку ничего не смыслю в музыке, а инструменты в слишком многих странах испортили мой слух. Кроме того, я вполне понимаю поговорку, которую приходилось слышать в разных странах: «Он лжет, как критянин».
Здесь не видно никаких храмов, и критяне уделяют мало внимания богам, а довольствуются служением своим быкам. Эго они делают, однако, с большим воодушевлением, так что редко выпадает такой день, чтобы они не посетили поле. Я приписываю это не столько их благочестию, сколько возбуждению и удовольствию, которое доставляют им танцы.
Также не могу сказать, что критяне очень почитают своего царя, ибо он равен им, только что обитает во дворце во много раз большем, чем у его подданных. Они так же часто бывают в его обществе, как и в любом другом; они шутят с ним и рассказывают ему всякие истории, приходят к нему на прием в любое удобное им время и уходят, когда соскучатся или по любой прихоти. Вино они пьют умеренно, для веселья, и у них очень свободные нравы. Они, однако, никогда не напиваются, ибо считают это варварством; никогда не видел я, чтобы кого-нибудь рвало от выпитого за обедом вина, как это часто случается в Египте и в других местах. Кроме того, в них легко вспыхивает влечение друг к другу, и они сходятся с чужими женами и мужьями, как и когда им заблагорассудится. Женщины особенно благосклонны к юношам, танцующим перед быками. Многие известные люди изучают это искусство без всякого посвящения; они делают это для собственного удовольствия и порой достигают такой же ловкости, как и посвященные юноши, которым запрещены женщины, равно как и девушкам — мужчины. Последнего я не могу понять, ибо по их образу жизни нельзя было бы ожидать, чтобы они придавали такое большое значение этому делу.
Прибыв в порт, мы остановились в гостинице для иностранцев, которая была самой роскошной из всех, какие я когда-либо видел, хотя и небольшой. Обитель Радости Иштар в Вавилоне со всем ее пышным великолепием и грубыми слугами в сравнении с этой казалась совершенно варварским местом. В этой гостинице мы вымылись и оделись, Минея уложила волосы и купила новые одежцы, в которых могла показываться своим друзьям.
Я был поражен, увидев ее. У нее на голове была надета крошечная шапочка, похожая на светильник, а на ногах — башмачки на высоких каблуках, в которых неудобно было ходить. Я не стал раздражать ее своими замечаниями, а подарил ей серьги и ожерелье из разноцветных камней, о котором купец сказал, что это сейчас модно, хотя за завтрашний день он не ручается. Меня также удивила ее обнаженная грудь с выкрашенными в красный цвет сосками, которые выступали из серебряной ткани, покрывающей ее тело; она избегала моего взгляда и с вызовом говорила, что ей нечего стыдиться своей груди, которая выдержит сравнение с грудью любой критской женщины. Присмотревшись к ее груди, я не стал отрицать, что она была совершенно права.
Потом мы переехали в самый город. Со своими садами и изящными домами он казался иным миром после тесноты, шума, запахов рыбы и суеты в порту. Минея повела меня к пожилому человеку, довольно известному, который оказывал ей особое покровительство и дружбу; обычно он ставил на нее деньги в состязаниях перед быками, и Минея считала его дом своим собственным. Когда мы пришли, он просматривал список быков и на следующий день не собирался заключить ни одного пари.
Увидев Минею, он забыл от радости о своих бумагах, крепко обнял ее и воскликнул:
— Где ты скрывалась? Я не видел тебя так долго, что думал, будто ты уже вступила в обитель бога. Однако я не заменил тебя никем и твоя комната пустует, то есть если мои слуги позаботились об этом и если моя жена не велела устроить там бассейн; ей как раз сейчас пришла фантазия разводить разные сорта рыб, и она не может думать ни о чем другом.
— Гелея разводит рыб? — удивленно воскликнула Минея. Старик ответил несколько смущенно:
— Это уже не Гелея. У меня новая жена, и именно сейчас у нее один непосвященный юноша, которому она показывает своих рыб; наверно, ей не хотелось бы, чтобы ее беспокоили. Но представь же мне своего друга, чтобы он стал и моим другом, а этот дом — его домом.
— Мой друг — Синухе-египтянин, Тот, кто Одинок, а по профессии он врач, — сказала Минея.
— Интересно знать, долго ли он останется здесь одиноким, — пошутил старик. — Но ведь ты не больна, Минея, если пришла в обществе врача? Это меня огорчило бы, ибо я надеюсь, что завтра ты будешь танцевать перед быками и опять принесешь мне удачу. Мой приказчик в порту жалуется, что мои доходы уже не покрывают моих расходов, а может быть, наоборот? Я точно не помню, ибо никак не разберусь в сложных расчетах, которыми он мне вечно докучает.
— Я не больна, а этот мой друг не раз спасал меня от опасностей, и нам пришлось проделать долгий путь, чтобы вернуться ко мне на родину. Я потерпела кораблекрушение на пути в Сирию, где должна была танцевать перед быками.
— В самом деле? — с беспокойством спросил старик. — Надеюсь, дружба не помешала тебе сохранить девственность, иначе тебя не допустят к состязаниям, и, как тебе известно, могут быть и другие неприятности. Я и впрямь беспокоюсь, ибо заметил, что твоя грудь подозрительно развилась, а в твоих глазах влажный блеск. Минея, Минея! Не потерпела ли ты крушения?
— Нет! — гневно возразила Минея. — И если я отрицаю это, ты можешь верить моему слову и не проверять меня, как это делают в Вавилоне на невольничьем рынке. Вряд ли ты понимаешь, что благодаря вот этому моему другу я благополучно вернулась после стольких опасностей. Я думала, что мои друзья будут рады мне, но ты думаешь только о своих быках и о своих ставках! — Она заплакала от негодования, и слезы оставляли у нее на щеках черные полоски.
Старик был очень огорчен и расстроен; он сказал:
— Не сомневаюсь, что ты измучена после своих странствий, ибо в чужих странах ты, наверно, не могла даже ежедневно принимать ванну. Только не думаю, будто вавилонских быков можно сравнить с нашими, и это напоминает мне, что мне давно следовало бы побывать у Миноса, хотя это и не приходило мне в голову. Пожалуй, сейчас я и отправлюсь. Если придет моя жена, скажи ей, что я у Миноса и не хотел беспокоить ее и ее юного друга. Или я мог бы пойти спать, поскольку никто у Миноса не заметит, там я или нет. С другой стороны, если я пойду, то смогу по пути заглянуть в хлев и узнать, как выглядит новый бык — тот, что с пятном на боку. Может быть, в конце концов, мне лучше было бы пойти. В самом деле необыкновенное животное!
Он рассеянно попрощался с нами, но Минея сказала ему:
— Мы тоже пойдем к Миносу, чтобы я могла представить Синухе моим друзьям.
К дворцу Миноса мы отправились пешком, потому что старик не мог решить, стоит ли брать носилки на такое короткое расстояние. По дороге к дворцу я узнал, что Минос — царь и что их царей всегда называли Миносами, дабы отличать их от прочих людей. Но которым по порядку был Минос, было не ясно, ибо ни у кого не хватило терпения сосчитать и записать их.
Во дворце было бесчисленное множество покоев; на стенах приемной залы были изображены колеблющиеся морские водоросли, каракатицы и медузы, плавающие в прозрачной воде. Огромная комната была полна разодетых людей — один изысканней другого, они расхаживали, оживленно беседуя, громко смеясь и потягивая охлажденные вина и фруктовые соки из маленьких кубков, тогда как женщины соревновались в роскоши туалетов. Минея представила меня многим своим друзьям, проявившим ко мне рассеянную учтивость. Царь Минос сказал мне несколько дружелюбных слов на моем родном языке, поблагодарив меня за то, что я сохранил Минею для их бога и привез ее домой. Она должна теперь вступить в обитель бога при первой возможности, сказал он, хотя ее черед, по вытащенному ею жребию, уже прешел.
Минея ходила по дворцу так, будто он был ее собственностью, водила меня из комнаты в комнату, вскрикивая от удовольствия при виде хорошо знакомых ей предметов и здороваясь со слугами, которые отвечали на ее приветствия так, словно она никогда и не уезжала. Я узнал, что любой именитый критянин может поехать в свое поместье или отправиться в дальние края, когда ему вздумается, и если он забудет сообщить об этом своим друзьям, это никого не удивит. По возвращении он опять присоединится к остальным, словно вовсе и не уезжал. Этот обычай должен был смягчать для них чью-нибудь смерть, ибо когда кто-то исчезал, никто не справлялся о нем, и его забывали. Отсутствие кого-либо в дружеской компании или на приеме не вызывало никаких замечаний, ибо ему всегда могло взбрести на ум что угодно.
Наконец Минея повела меня в комнату, расположенную на скале, возвышавшейся над всем зданием. Из ее широких окон открывался вид на веселые поля и пахотные земли, оливковые рощи и плантации. Она сказала мне, что это ее комната; все ее имущество было здесь, как если бы она покинула комнату только вчера, хотя платья и драгоценности уже вышли из моды и больше не годились. Лишь теперь я узнал, что она была родственницей Миноса, хотя мог бы догадаться об этом по ее имени. Золото, серебро и дорогие подарки не имели для нее никакой цены, поскольку она привыкла еще с детства получать все, что пожелает. Кроме того, с детства она была предназначена богу, и ее воспитали в обители богов, где она и находилась, когда не жила во дворце, либо со своим старым покровителем, либо с друзьями. Они так же беспечны в отношении своих жилищ, как и во всем остальном.
Затем Минея отвела меня в помещение, где жили быки; оно само по себе составляло целый город со стойлами и аренами, лугами, выгонами, учебными зданиями и домами жрецов. Мы ходили от стойла к стойлу, вдыхая отвратительные запахи этих животных. Минее нравилось называть их ласкательными именами и приманивать их к себе, хотя они старались боднуть ее через прутья перегородок и разбрасывали песок своими острыми копытами.
Она встретила там знакомых юношей и девушек, которые в общем были не очень дружны между собой из-за взаимной зависти и из нежелания делиться друг с другом своими секретами. Но жрецы, которые тренировали и быков, и танцоров, приняли нас тепло и, услышав, что я врач, задали мне множество вопросов по поводу пищеварения быков, их диеты и состояния их шерсти, хотя обо всем этом они должны были бы знать больше, чем я. Они очень благоволили к Минее, и ей тотчас же был выделен бык и место в программе следующего дня; она горела желанием показать мне, на что способна при таких замечательных животных.
Наконец Минея привела меня к маленькому строению, где жил в одиночестве верховный жрец критского бога. Также, как Минос всегда назывался Миносом, главный жрец был всегда Минотавром, и по каким-то причинам на Крите его чтили и боялись как никого другого. Его имя упоминали неохотно и о нем говорили как о «человеке в маленьком доме быка». Даже Минея боялась посетить его и не хотела мне в этом признаться. Я видел это по ее глазам, каждый оттенок которых научился понимать.
Когда о нас доложили, он принял нас в темной комнате. Сперва я вообразил, что мы видим самого бога, и поверил всем сказкам, мною слышанным, ибо увидел человека с золотой головой быка. Когда мы склонились пред ним, он снял эту голову и открыл лицо, однако, несмотря на учтивую улыбку, он мне не понравился, ибо в его бесстрастном взгляде была какая-то суровость и жестокость. Я не мог определить, что именно, ибо он был красив, очень смугл и рожден повелевать. Минее не пришлось ничего ему рассказывать; он уже знал все о кораблекрушении и о ее странствиях. Он не задавал вопросов, но поблагодарил меня за доброжелательство к Минее и тем самым к Криту и его богу. Он сказал мне, что в гостинице меня ожидают богатые дары, которыми, как он надеется, я буду вполне доволен.
— Я равнодушен к подаркам, — сказал я. — Для меня знания драгоценнее золота, и, дабы умножить их, я путешествовал по многим странам, так что теперь знаю богов Вавилона и хеттов. Я надеюсь познакомиться и с критским богом, о котором слышал много удивительного и который любит девственниц и чистых юношей в отличие от сирийских богов, чьи храмы — дома удовольствий и которым служат кастрированные жрецы.
— У нас много богов, которых почитают люди, — ответил он. — В порту есть храмы в честь чужеземных богов, где можно принести жертву Амону или Ваалу, покровителям порта, если пожелаешь. Но я не хотел бы вводить тебя в заблуждение и признаю, что могущество Крита зависит от того бога, которому тайно поклоняются с самых отдаленных времен, какие нам известны. Одни только посвященные могут познать его, и то лишь тогда, когда встречаются с ним лицом к лицу. Но никто из них не вернулся, чтобы рассказать нам об его образе.
— Боги хеттов — небо и дождь, который падает с неба и оплодотворяет землю. Бог Крита, как я понимаю, — бог моря, поскольку богатство и могущество Криту приносит море.
— Быть может, ты прав, Синухе, — сказал он, странно улыбнувшись. — Знай, однако, что мы, критяне, поклоняемся живому богу, отличаясь в этом от людей материка, которые поклоняются мертвым богам и их деревянным изображениям. Наш бог — не идол, хотя и считается, что быки символизируют его, гг доколе он жив, дотоле сохраняется верховная власть Крита над морями. Так было предсказано, и мы уверены в этом, хотя мы также очень полагаемся на наши военные корабли, с которыми не могут соперничать корабли ни одной нации мореплавателей.
— Я слышал, что ваш бог обитает в лабиринтах мрачного дворца, — продолжал я. — Мне бы хотелось взглянуть на этот лабиринт, о котором так много говорят. Но я не понимаю, почему посвященные никогда не возвращаются оттуда, хотя им разрешено вернуться после того, как они проведут там лунный месяц.
— Самая высшая честь, глубочайшее блаженство, которое может выпасть посвященному, — это войти во дворец бога, — сказал Минотавр, повторяя слова, слышанные мною до этого бесчисленное множество раз. — Поэтому морские острова соперничают друг с другом, посылая красивейших девушек и цвет своего юношества танцевать перед быками и тем самым получить право тянуть жребий. Не знаю, слышал ли ты рассказы о дворцах морского бога? Тамошняя жизнь совершенно отличается от той, которую мы знаем, так что никто из вступивших туда не желает возвращаться к мирским страданиям и печалям. А что скажешь ты, Минея? Боишься ли ты войти туда?
Минея ничего не ответила, и я сказал:
— Я видел тела матросов, утонувших у берегов Смирны; их животы были раздуты и черты их лица не выражали никакой радости. Вот и все, что я знаю о дворцах морского бога, но я не сомневаюсь в твоих словах и желаю Минее всего хорошего.
Минотавр холодно сказал:
— Ты увидишь лабиринт, ибо ночь полнолуния близка, и под покровом этой ночи Минея войдет в обитель бога.
— А если она откажется? — горячо возразил я, ибо его слова возмутили меня и мое сердце сжалось от отчаяния.
— Такое никогда не случалось. Будь спокоен, Синухе-египтянин. Когда Минея станцует перед быками, она войдет в обитель бога по доброй воле.
Он снова надел свою золотую голову быка в знак того, что мы можем удалиться, и его лицо скрылось от нас. Минея взяла меня за руку и повела прочь; она не была больше счастлива.
3
Когда я вернулся, Капта был в гостинице; он сильно напился в портовой винной лавке. Он сказал мне:
— Господин, для слуг эта страна — Страна Запада; никто не бьет их и не вспоминает, сколько золота было у него в кошельке и какие у него были драгоценности. Если хозяин разгневается на слугу и прогонит его вон из дома, слуга должен лишь спрятаться и вернуться на следующий день, когда хозяин забудет про все это дело.
Это он сказал в своей обычной манере, так, словно он был пьян, но потом закрыл дверь и, убедившись, что никто не подслушивает, продолжал:
— Господин, странные дела ожидаются в этой стране. Моряки в винной лавке говорят, что критский бог умер и что жрецы в великом страхе ищут нового бога. Это опасные речи, за которые матросов уже сбрасывали с вершины утеса на съедение каракатицам, ибо было предсказано, что, когда умрет бог, падет и могущество Крита.
Безумная надежда вспыхнула в моем сердце. Я сказал Капта:
— В ночь полнолуния Минея должна войти в обитель этого бога. Если он действительно умер, — а это возможно, ибо люди в конце концов узнают обо всем, хотя никто и не говорит им, — тогда Минея, наверно, возвратится к нам из обители бога, откуда до сих пор не возвращался никто.
На следующий день я занял удобное место в огромном амфитеатре, где каменные скамьи поднимались как ступени одна над другой, так что каждый без труда мог видеть быков. Меня очень восхищало это искусное сооружение, никогда прежде не видел я ничего подобного; в Египте при шествиях и на выставках устанавливают высокие помосты, чтобы все могли видеть бога, жрецов и танцующих.
Быков выпускали на круг одного за другим, и каждый танцор поочередно выполнял положенные упражнения, сложные и изнуряющие. Они включали множество различных приемов, которые нужно было безупречно выполнить в установленном порядке. Труднее всего было прыгнуть между рогами, а затем сделать сальто в воздухе и закончить танцем на спине быка. Даже самые искусные не могли выполнить все это без некоторых погрешностей, ибо многое зависело от поведения животного, от того, как оно стояло, с поднятой или опущенной головой. Богатые и знатные критяне бились между собой об заклад при каждом номере, и каждый ставил на своего любимца. Мне была непонятна их горячность, ибо все быки казались мне одинаковыми, и я не мог отличить одно выступление от другого.
Минея тоже танцевала, и я боялся за ее жизнь, пока ее удивительная ловкость и мастерство не околдовали меня настолько, что я забыл об опасности и наслаждался вместе со всеми. Здесь и девушки, и юноши танцевали обнаженными, ибо этот спорт был так опасен, что любая одежда стесняла бы их движения и подвергала бы опасности их жизнь. Минея казалась мне прекраснее всех; когда она танцевала там, ее кожа блестела от масла, хотя я должен признать, что и среди остальных было несколько исключительно искусных девушек, которые заслужили шумные рукоплескания. Но я не мог смотреть ни на кого, кроме Минеи. В отличие от других она не упражнялась из-за своего долгого отсутствия и не завоевала ни одной гирлянды. Ее старый покровитель, который побился об заклад, что Минея одержит победу, кипел от возмущения и досады, пока не позабыл о потерянном серебре и не отправился к стойлам, чтобы снова побиться об заклад; как покровитель Минеи, он имел на это право.
Когда после состязания я встретил Минею в помещении для быков, она оглянулась кругом и холодно сказала мне:
— Синухе, я не увижу тебя больше, ибо друзья пригласили меня на пир; кроме того, я должна приготовиться для моего бога, поскольку полнолуние будет послезавтра. Поэтому, вероятно, мы не встретимся больше до того, как я войду в обитель бога, разве только ты захочешь сопровождать меня туда с остальными моими друзьями.
— Да будет так, — сказал я. — Я должен многое повидать на Крите; обычаи, а также женские наряды очень заинтересовали меня. Когда я смотрел на ваши состязания, несколько твоих подруг пригласили меня к себе домой, и я получил удовольствие, глядя на их лица и грудь, несмотря на то что эти женщины были немного полнее тебя и гораздо легкомысленнее, чем ты.
Она схватила меня в бешенстве за руки; ее глаза засверкали, и, задыхаясь, она проговорила:
— Я запрещаю тебе веселиться с моими друзьями, когда меня нет! Ради меня тебе следовало бы подождать, пока я уйду, Синухе. И хотя, несомненно, я кажусь тебе слишком худой, что мне прежде никогда не приходило в голову, все же сделай из дружбы ко мне то, о чем я прошу тебя.
— Я пошутил. Я не хочу нарушать твой покой, поскольку тебе, конечно, предстоит еще многое сделать перед тем, как ты вступишь в обитель бога. Поэтому я вернусь в гостиницу и займусь больными, ибо многие в порту нуждаются в моей помощи.
Я ушел от нее, и еще долгое время спустя запах рогатых животных преследовал меня. Никогда не забуду я запаха критских стойл, и по сей день, когда я вижу стадо и чувствую его запах, меня начинает тошнить, я не могу есть и у меня болит сердце. Однако я отправился от Минеи к моим пациентам в гостиницу; я лечил их и облегчал их страдания, пока не спустилась ночь и не зажглись светильники в портовых увеселительных заведениях. Сквозь стены доносились звуки музыки и смех, ибо даже рабы переняли беззаботные манеры своих хозяев; каждый жил так, словно ему никогда не суждено умереть и будто не существует ни боли, ни горя, ни утрат.
Было темно; я сидел в своей комнате, где Капта уже разложил для меня циновку, на которой я спал; я сидел в темноте, потому что мне не хотелось зажигать светильник. Взошла луна, большая и яркая, но все еще не совсем полная, и я ненавидел луну за то, что она должна была разлучить меня с той единственной, которая была мне сестрой. Я также ненавидел себя за слабость и робость, за неопределенность своих собственных желаний. В это время открылась дверь и осторожно вошла Минея. Она была одета уже не по критской моде, на ней было то самое простое платье, в котором она танцевала перед могущественными и простыми людьми разных стран, а ее волосы были перевязаны золотой лентой.
— Минея! — воскликнул я в изумлении. — Почему ты пришла? Я думал, ты готовишься для своего бога.
Она сказала:
— Говори тише, ибо я не хочу, чтобы кто-нибудь услышал нас.
Она села напротив меня и, пристально глядя на луну, продолжала странным голосом:
— Мне не нравится место, где я сплю, в жилище быков, и я не так счастлива среди моих друзей, как некогда. Но зачем я пришла посетить тебя в этой портовой гостинице, чего мне совсем не подобало делать, не могу тебе сказать. Однако, если ты хочешь спать, я не стану мешать тебе и уйду.
Я не могла спать и тосковала о прежнем запахе лекарств и трав; мне хотелось еще раз отодрать Капта за уши и за волосы за тот вздор, который он мелет. Странствия и чужеземцы настолько увлекли меня, что я больше не чувствую себя дома среди быков; меня не радуют рукоплескания на поле, и я не стремлюсь даже так страстно, как прежде, в обитель бога. Разговоры об этом вокруг меня напоминают мне речь неразумных детей, их веселье подобно морской пене, выброшенной на берег, и их радости — не мои радости. В моем сердце пустота и в голове то же; там нет ни одной мысли, которую я могу назвать своей собственной. От всего больно, и никогда в жизни я так не страдала. Поэтому я прошу тебя подержать снова мои руки, как ты это обычно делал. Мне не страшно никакое зло, даже смерть, пока ты держишь мои руки, Синухе, хотя я слишком хорошо знаю, что ты предпочел бы смотреть на более полных и более красивых женщин, чем я, и держать их руки.
Я сказал ей:
— Минея, сестра моя! Мое детство и юность походили на чистый, глубоководный ручей. Моя зрелость была полноводной рекой, которая растекалась все шире, пока не превратилась в грязную стоячую лужу. Но, когда ты пришла ко мне, Минея, воды вновь слились и радостно устремились в глубокое русло, очищая мою душу. Мир улыбнулся мне, а зло отошло само собой. Благодаря тебе я познал добро: я лечил больных, не ожидая подарков, и боги тьмы утратили власть надо мной. Вот что означал твой приход. Теперь, когда ты уходишь, с тобой уходит и свет, и в душе моей пустота. Я никому больше не желаю добра. Я ненавижу людей и ненавижу богов и не хочу больше слышать о них.
Так обстоит дело со мной, Минея, и поэтому я говорю тебе: на свете много стран, но река только одна. Позволь мне увезти тебя в Черную Землю на берегах этой реки, где в камышах кричат дикие утки и каждый день солнце плывет по небу в своей золотой ладье. Пойдем со мной, Минея; мы вместе разобьем кувшин и станем мужем и женой и никогда уже не разлучимся. Жизнь будет легка для нас, а когда мы умрем, наши тела сохранят так, что мы сможем встретиться в Стране Запада и жить там вместе вечно.
Но она сжимала мои руки, касалась моих век, губ и горла кончиками пальцев и говорила:
— Синухе, если бы я и хотела, я не смогла бы последовать за тобой, ибо ни один корабль не увезет нас с Крита и ни один капитан не посмеет укрыть нас на борту. Меня сторожат уже для моего бога, и я не позволю, чтобы тебя убили из-за меня. Я не могу уйти с тобой. После того как я танцевала перед быками, их воля сильнее моей воли, хотя я не могу объяснить тебе этого, потому что ты этого не испытал. Поэтому в ночь полнолуния я должна войти в обитель бога, и никакая сила на земле не сможет помешать мне. Отчею это так, не знаю и, быть может, не знает никто, кроме Минотавра.
Мое сердце было подобно пустой гробнице, и я сказал:
— Никто не знает, что будет завтра, и я не верю, что ты вернешься из этой обители. В золотом дворце бога моря ты сможешь испить вечной жизни из его источника, позабыв обо всем земном, позабыв даже меня, хотя я не верю ничему этому. Это только сказка, а после всего, что я повидал, я уже не верю сказкам. Поэтому знай, что, если ты не вернешься в положенное время, я сам войду в обитель бога и вызволю тебя. Я вызволю тебя, если даже ты не пожелаешь вернуться. Такова моя цель, Минея, если даже это и будет последним моим делом на земле.
Но она в ужасе закрыла мне рот рукой и, оглядевшись кругом, воскликнула:
— Тише! Ты никогда не должен говорить такое и даже думать о таком. Обитель бога темна, и ни один чужеземец не сможет найти туда дорогу. Ибо непосвященного подстерегает там страшная смерть. Ты даже не сможешь войти туда, ибо медные ворота охраняются. Я рада этому, зная, что в своем безумии ты мог бы и в самом деле поступить так, как говоришь, и броситься туда себе на погибель. Верь мне, я вернусь по своей воле, ибо мой бог не может быть таким злым, чтобы помешать моему возвращению к тебе, если я этого желаю. Это самый справедливый и прекрасный бог, охраняющий могущество Крита и ко всем доброжелательный; благодаря ему цветут оливы, и созревает зерно в полях, и корабли идут по морю под парусами. Он посылает нам благоприятные ветры и водит суда в тумане, и никакое зло не постигнет тех, кого он охраняет. Почему же тогда он должен желать мне зла?
С детства росла она под его сенью; она была слепа, и я не мог открыть ей глаза, хотя вылечивал слепых с помощью иглы и возвращал им свет. В бессильной ярости я схватил ее в объятия и целовал ее и ласкал ее ноги, и они были гладкими, как шелк, и она была для меня, как свежая вода в пустыне.
Она не сопротивлялась, только прижалась лицом к моей шее и дрожала, и ее слезы обжигали меня, и она говорила:
— Синухе, друг мой, если ты сомневаешься, что я вернусь, я ни в чем не откажу тебе. Делай со мной, что хочешь, если это может доставить тебе радость, и, хотя я должна умереть из-за этого, в твоих объятиях я не боюсь смерти; важно лишь то, что мой бог забирает меня от тебя.
Я спросил ее:
— Это было бы радостью для тебя?
Она нерешительно ответила:
— Не знаю. Знаю только, что мне неуютно и беспокойно вдали от тебя. Знаю только, что туман застилает мне глаза и колени мои слабеют, когда ты касаешься меня. Я всегда ненавидела себя за это и боялась твоих прикосновений. В то время все было просто, ничто не омрачало моей радости. Я гордилась только своим мастерством, и гибкостью, и непорочностью. Теперь я знаю, что твое прикосновение сладостно мне, хотя оно может причинить мне боль — сама не знаю, почему. Может быть, потом мне стало бы грустно. Но если бы ты был счастлив, тогда твоя радость — моя радость, и я не хочу ничего другого.
Разжав объятия, я гладил ее волосы, глаза, шею и говорил:
— Для меня достаточно того, что ты пришла сюда сегодня ночью, как ты делала, когда мы вместе бродили по дорогам Вавилона. Дай мне золотую ленту с твоих волос; я не прошу сейчас у тебя ничего большего.
Она с сомнением взглянула на меня и, поглаживая руками бедра, сказала:
— Наверно, я слишком худая, и это тебе не по душе. Несомненно, ты предпочел бы более веселую женщину, чем я. Но я была бы веселой, я сделала бы все, чего ты хочешь, чтобы не разочаровать тебя, и я дала бы тебе столько наслаждения, сколько могу.
Я улыбнулся ей, погладил ее нежные плечи и сказал:
— Минея, для меня нет женщины прекрасней, чем ты, и ни одна не может дать мне большей радости, но я не взял бы тебя ради своего удовольствия, чтобы ты мучилась из-за своего бога. Я знаю кое-что, что могло бы дать счастье нам обоим. По обычаю моей страны мы должны взять кувшин и разбить его. Сделав это, мы станем мужем и женой, хотя я и не обладал тобой и ни один жрец не был нашим свидетелем и не записал наши имена в книгу храма. Поэтому пусть Капта принесет нам кувшин, чтобы мы могли совершить этот обряд.
Ее глаза расширились и засияли в лунном свете, и она захлопала в ладоши и радостно улыбнулась. И тогда я пошел искать Капта и обнаружил, что он сидит на полу у моей двери, размазывая слезы рукой. Увидев меня, он зарыдал.
— Что случилось, Капта? — спросил я. — Почему ты плачешь?
Он, не смутившись, ответил:
— Господин, у меня нежное сердце, и я не мог сдержать слез, услышав все, о чем вы говорили с этой узкобедрой девушкой. Никогда в жизни не слышал я ничего более трогательного.
Я сердито пнул его ногой и сказал:
— Значит, ты подслушивал под дверью и слышал все, что мы говорили?
Он простодушно возразил:
— Это и есть то, что я разумею, ибо другие терлись у твоих дверей и подслушивали, не имея никакого отношения к тебе, а только чтобы шпионить за этой девушкой. Поэтому я угрозами прогнал их прочь и уселся у двери охранять ваш покой, считая, что тебе было бы неприятно, если бы прервали такой важный разговор. А сидя здесь, я, конечно, слышал то, что вы говорили, и это было так прекрасно, хотя и по-детски, что я поневоле заплакал.
Нельзя было сердиться на него за такое простодушие, и я ответил только:
— Если ты слышал это, то знаешь, что нам нужно. Поспеши принести мне кувшин.
— Какой должен быть кувшин, господин? — спросил он уклончиво. — Ты хочешь глиняный или каменный кувшин, раскрашенный или обыкновенный, высокий или низкий, широкий или узкий?
Я слегка ударил его палкой, ибо мое сердце было исполнено доброты, и сказал ему:
— Ты очень хорошо знаешь, что я имею в виду, и для моей цели подойдет любой кувшин. Перестань хитрить и принеси мне быстро первый кувшин, который попадется тебе под руку.
Он сказал:
— Я уже бегу и говорю эти слова, чтобы дать тебе время все обдумать. Разбить кувшин вместе с женщиной — это важный шаг в жизни мужчины, и здесь не следует спешить или поступать необдуманно. Но я, конечно, достану кувшин, раз ты этого хочешь, и не стану мешать этому делу.
Капта принес нам старый кувшин из-под масла с запахом рыбы, и мы вдребезги разбили его вместе, Минея и я. Капта был свидетелем свадьбы, он положил ногу Минеи себе на шею и сказал:
— С этой минуты ты моя госпожа и можешь повелевать мною так же, как и мой господин, или даже больше, но я надеюсь, что ты не будешь ошпаривать кипятком мои ноги, когда разозлишься. Кроме того, я надеюсь, что ты любишь мягкие туфли без каблуков. Я не люблю каблуков на туфлях, потому что они оставляют синяки и шишки на моей голове. Я собираюсь служить тебе так же преданно, как служу моему хозяину, так как неизвестно, почему я очень привязался к тебе, хотя ты худа и у тебя такая маленькая грудь и я не понимаю, что находит в тебе мой господам. Далее, я намерен воровать у тебя так же умеренно, как и у него, считаясь с твоей выгодой больше, чем со своей собственной.
Говоря это, он был так растроган, что снова расплакался и стал громко сокрушаться. Минея похлопала его по спине и по толстым щекам и утешала его, пока он не успокоился, после чего я велел ему убрать осколки кувшина и услал его из комнаты.
В эту ночь мы лежали так, как лежали обычно, Минея и я. Она спала в моих объятиях, и я чувствовал ее дыхание на своей шее, и ее волосы касались моей щеки. Но я не обладал ею, ибо то, что не было радостью для нее, не было радостью и для меня. Думаю, моя радость была сладостнее и глубже, чем если бы она принадлежала мне, хотя не уверен в этом. Знаю одно: я желал всем добра, и никакой злобы не осталось у меня в сердце; каждый мужчина был мне братом, каждая женщина — матерью и каждая девушка — сестрой, как в Черной Земле, так и в Красных Землях под одним и тем же небом, залитым лунным сиянием.
4
На следующий день Минея снова танцевала перед быками, и у меня замирала душа, хотя с ней не случилось ничего дурного. Но один юноша из числа танцующих поскользнулся и упал с головы животного, и бык проткнул его тело рогами и топтал его копытами, так что зрители, окружающие арену, повскакали и завопили от ужаса и восторга. Когда быка оттащили и тело танцора унесли в стойло, женщины побежали взглянуть на него. Они прикасались к его кровоточащему телу, часто дыша и восклицая:
— Ах, какое зрелище!
А мужчины говорили:
— Давно не видели мы таких превосходных состязаний, как нынче.
Они бились друг с другом об заклад, без сожаления отвешивая золото и серебро, и вместе распивали вино и веселились, вернувшись домой, и светильники горели у них допоздна. Женщины сбежали от своих мужей в чужие постели, но никто не был в обиде, ибо таков был их обычай.
Я лежал на своей циновке, так как в эту ночь Минея не могла прийти. Рано утром я послал в порт носилки и отправился сопровождать ее в обитель бога. Ее доставили туда в золотом экипаже, запряженном лошадьми с плюмажами, и друзья сопровождали се в носилках или пешком с шумом и смехом, забрасывая ее цветами и останавливаясь по пути, чтобы выпить вина.
Путь был долог, но у всех была еда, и они отламывали ветки и обмахивали друг друга, и обращали в бегство крестьянских овец, и проделывали много разных шалостей. Обитель бога находилась в пустынном месте у подножия прибрежной горы; приблизившись к ней, все притихли и заговорили шепотом, и смех прекратился.
Эту обитель трудно описать, ибо она походила на низкий холм, поросший травою и цветами и уходящий в глубь горы. Вход был прегражден высокими медными воротами, а перед ними располагался маленький храм, где происходило посвящение и жили сторожа. Когда сюда прибыла процессия, уже смеркалось. Друзья Минеи вышли из носилок, расположились на траве и начали есть и пить и подшучивать друг над другом, позабыв о всякой торжественности, ибо у критян короткая память. Когда стемнело, они зажгли факелы и стали гоняться друг за другом сквозь заросли, пока женский визг и мужской смех не замерли во тьме; а Минея сидела одна в храме, где никто не мог к ней приблизиться.
Я наблюдал за ней, пока она сидела. Она была разукрашена золотом, как статуя богини, и на голове у нее был большой позолоченный головной убор; она пыталась улыбнуться мне, но улыбка ее была безрадостной. Когда взошла луна, с нее сняли драгоценности и золото, надели на нее простую одежду и повязали ее волосы серебряной сеткой. Потом стражники отодвинули засовы на медных воротах, которые открылись с сильным грохочущим звуком; потребовалось десять мужчин, чтобы отодвинуть каждую створку. Вокруг зияла тьма. Царило глубокое молчание. Минотавр опоясался золотым поясом, повесил на бок меч и надел золотую голову быка, так что перестал походить на человека. В руку Минее дали зажженный факел; Минотавр повел ее в обитель мрака, где они и скрылись, и свет факела исчез. Потом медные ворота снова с грохотом закрыли и укрепили огромными засовами, отодвинуть которые могли только несколько сильных мужчин, и Минеи я больше не видел.
Меня охватила такая боль отчаяния, что сердце мое стало открытой раной, из которой по капле уходила жизнь. Я упал на колени и склонил голову к земле. В этот час я понял, что никогда больше не увижу Минеи, хотя она и обещала вернуться и жить со мной всю жизнь. Я знал, что она не вернется назад. Почему я убедился в этом именно тогда, не моту сказать, так как до тех пор колебался, и верил, и страшился, и надеялся, и пытался убедить себя, что критский бог не такой, как все прочие боги, и что он освободит Минею во имя любви, которая связала ее со мной. Теперь я больше не надеялся на это и лежал, уткнувшись лицом в землю, пока рядом со мной не сел Капта, сжав руками голову, раскачиваясь и причитая.
Цвет критского юношества пробежал мимо меня с факелами в руках; все исполняли замысловатые танцы и пели песни, слов которых я не понимал. Как только медные ворота закрылись, их обуяло такое неистовство, что они стали прыгать, и плясать, и бегать до упаду, и их голоса резали мне уши, как пронзительные крики ворон на городских стенах.
Немного погодя Капта перестал причитать и сказал:
— Если меня не обманывают глаза, а я не так напился, чтобы у меня двоилось в глазах, то Рогатоголовый вышел из горы. Я только не знаю, каким образом, ибо никто не открывал медных ворот.
Он говорил правду. Минотавр вернулся, и золотая голова быка сняла пугающим блеском при свете луны, когда он вместе с другими исполнял обрядовый танец. Увидев его, я не мог сдержать себя, вскочил, поспешил к нему, схватил его за рукав и спросил:
— Где Минея?
Он отбросил мои руки и качнул своей маской, но так как я не отошел, он снял ее и гневно сказал:
— Нарушать священный обряд запрещено, но поскольку ты чужеземец, ты, вероятно, не знаешь об этом, и я отвечу тебе при условии, что ты не поднимешь вновь на меня руку.
— Где Минея? — снова спросил я.
— Я покинул Минею во тьме обители бога, как это положено, и вернулся, чтобы танцевать обрядовый танец в честь бога. Чего еще хочешь ты от Минеи, раз уж тебя вознаградили за ее возвращение?
— Как мог ты вернуться, если она не вернулась? — настаивал я, протискиваясь к нему, но он оттолкнул меня, и танцоры встали между нами. Капта схватил меня за руку и оттащил в сторону. Он хорошо сделал, ибо кто знает, что могло произойти?
Капта сказал мне:
— Ты безрассудно поступаешь, привлекая так много внимания; лучше было бы танцевать вместе с остальными и смеяться и петь, как и они, иначе ты можешь погубить себя. Я знаю теперь, что Минотавр вышел через маленькую дверь неподалеку от медных ворот. Я ходил поглядеть на нее и видел, как сторож запер ее и унес ключ. А теперь выпей вина, господин, и успокойся. Лицо твое искажено, так у одержимого, и ты вращаешь глазами, как сова.
Он дал мне выпить вина, и я задремал там на траве при лунном свете, а пламя факелов колыхалось у меня перед глазами. Капта потихоньку подмешал в вино маковый сок. Так он был отмщен за то, что я сделал с ним в Вавилоне, чтобы спасти его жизнь, но он не упрятал меня в кувшин. Он накрыл меня одеялом и не позволил танцорам топтать меня ногами. В свою очередь, может быть, он спас мне жизнь, ибо в отчаянии я мог вонзить свой клинок в Минотавра и убить его. Он просидел подле меня всю ночь напролет, пока не опустел винный кувшин, после этого он заснул и дышал винными парами мне в ухо.
На следующий день я проснулся поздно. Лекарство было так сильно, что сначала я не понял, где я. Когда я вспомнил, то уже успокоился, и голова моя прояснилась, и благодаря принятой дозе я больше не безумствовал. Многие из тех, кто участвовал в процессии, вернулись в город, но некоторые еще спали среди кустов, мужчины вместе с женщинами с бесстыдно обнаженными телами, ибо они пили и танцевали до утра. Проснувшись, они надели чистые платья, и женщины снова спрятали волосы, недовольные тем, что не могли выкупаться; вода в реке была слишком холодна для тех, кто привык к горячей воде из серебряных кранов.
Но они сполоснули рты и намазали мазью лица, накрасили губы и брови и, позевывая, говорили друг другу:
— Кто остается ждать Минею, а кто возвращается в город?
Большинство из них устали от пирушки и вернулись в город в течение дня. Только самые молодые и ненасытные остались, чтобы продолжать развлекаться под предлогом ожидания Минеи; истинная же причина заключалась в возможности провести ночь с кем-то, кто им нравился. Жены использовали удобный случай отослать мужей в город, чтобы избавиться от них. Теперь я понял, почему единственное увеселительное заведение в городе находилось в порту. Наблюдая их игры в течение этой ночи и последующего дня, я думал, что девицам, для которых это было ремеслом, было бы трудно соперничать с критскими женщинами.
Перед тем как Минотавр ушел, я сказал ему:
— Могу ли я остаться ждать возвращения Минеи вместе с ее друзьями, несмотря на то что я чужеземец?
Он злобно посмотрел на меня и ответил:
— Ничто не может помешать тебе. Но полагаю, что именно сейчас в порту находится корабль, который отвезет тебя обратно в Египет, ибо ты ждешь тщетно. Ни один из посвященных богу никогда не возвращался.
Но я настаивал с деланным простодушием:
— Я действительно был немного увлечен Минеей, и мне было обидно отказаться от нее ради се бога. Но, по правде говоря, я не надеюсь на ее возвращение; как и для других, это повод остаться здесь, ибо здесь много очаровательных девушек, а также женщин, которым нравится заглядывать мне в глаза и прижиматься ко мне грудью, а это то, чего мне не приходилось еще испытать. Минея, в сущности, ужасно ревнивая и вздорная девушка, она мешала мне наслаждаться, хотя сама ничего не могла мне предложить. К тому же я должен попросить у тебя прощения за то, что был так пьян прошлой ночью и невольно оскорбил тебя. Я не могу как следует всего припомнить, так как все еще под хмельком.
Я говорил все невнятнее и моргал и стонал от головной боли, пока он не улыбнулся, сочтя меня идиотом, и не ответил:
— Если дело обстоит так, не стану мешать твоему удовольствию, ибо на Крите мы широко смотрим на вещи. Поэтому оставайся и жди Минею столько, сколько пожелаешь, но постарайся, чтобы от тебя никто не забеременел, ибо этого чужеземцу не полагается делать. Пусть этот совет не обижает тебя; я говорю это как мужчина мужчине, чтобы ты мог понять наши обычаи.
Я заверил его, что буду осторожен, и болтал о каком-то своем опыте с храмовыми девами в Сирии и Вавилоне, пока он не решил, что я еще глупее, чем ему казалось прежде, и притом весьма надоедлив. Он потрепал меня по плечу и повернулся, чтобы отправиться в город. Однако, думаю, он поручил сторожу продолжать следить за мной, и полагаю также, что он приказал критянам развлекать меня, ибо вскоре после его ухода ко мне подошла группа женщин. Они повесили мне на шею гирлянды, заглядывали мне в глаза и прижимались обнаженной грудью к моему плечу. Они увлекли меня с собой в лавровые кусты, чтобы поесть и выпить. Так я стал свидетелем их распутства, и они не стеснялись меня. Я много выпил и притворился пьяным, так что не доставил им никакого удовольствия и надоел им, и они вытолкали меня, обозвав свиньей и варваром.
Подошедший Капта вытащил меня за руки, громко понося за пьянство; он выразил готовность занять мое место, чтобы доставить им удовольствие. Они хихикали, глядя на него, и юноши насмехались над ним, показывая пальцами на его большое брюхо и лысину. Но он был чужеземцем, а женщин всегда привлекает все чужеземное. Вдоволь насмеявшись, они позволили ему присоединиться к их обществу, дали ему вина и набили ему рот фруктами и прислонялись к нему, называя его своим козлом, но их оскорблял исходящий от него запах, однако потом и этот запах стал казаться им соблазнительным.
Так проходил этот день, и я был пресыщен весельем и развратом и не мог представить себе более утомительной жизни, чем их жизнь, ибо безудержное распутство в конце концов более изнурительно, чем упорядоченная жизнь. Они проводили эту ночь также, как и предыдущую, и мои мучительные сны были прерваны криками женщин, притворявшихся, что они ускользают от преследующих их юношей, которые старались сорвать с них одежду. Но к утру они устали, пресытились и жаждали вымыться, и большая часть их вернулась в этот день в город. Только самые молодые и неутомимые остались у медных ворот.
На третий день ушли и эти, и я позволил им взять мои носилки, которые ожидали меня. Те, кто пришел пешком, не могли идти и шатались на ходу от неумеренного распутства и недосыпания; помимо всего, мне было нужно, чтобы никто меня не ждал. Каждый день я угощал стражников вином, и, когда я принес им в сумерках кувшин, они не удивились, а с радостью приняли его. Мало удовольствия было в их одиночестве, длившемся целый месяц, пока на смену одному посвященному приходил следующий. Если их что и удивляло, то лишь то, что я остался ждать Минею, но поскольку я был чужеземцем, они считали меня простаком и пили мое вино.
Увидев, что местный жрец придерживается такого же мнения, я сказал Капта:
— Боги определили ныне, что мы должны расстаться. Минея не вернулась, и не думаю, что она вернется, если я не приведу ее. Но никто из тех, кто вступает в эту обитель мрака, никогда не выходит оттуда, и нельзя надеяться, что я вернусь. Поэтому я написал для тебя глиняную табличку и удостоверил моей сирийской печатью, что ты можешь вернуться в Сирию и забрать мои деньги из торговых домов. Если хочешь, можешь продать мой дом. Сделав это, ты волен идти, куда захочешь. Если ты боишься, что в Египте тебя могут схватить как беглого раба, то оставайся в Смирне и живи в моем доме на мои деньги. Судя по тому, как обстоят дела, тебе не придется даже позаботиться о бальзамировании моего тела. Если я не найду Минею, мне все равно, сохранится мое тело или нет. Поэтому иди, и да хранит тебя скарабей; можешь оставить его себе, поскольку ты больше веришь в него, чем я. Не думаю, что он понадобится мне в путешествии, в которое я теперь отправляюсь.
Капта долго молчал и не смотрел на меня. Наконец он сказал:
— Господин, я не обижаюсь, что ты иногда поколачивая меня с излишней суровостью, ибо ты делал это с добрыми намерениями. Но еще чаще ты прислушивался к моим советам и говорил со мной скорее как с другом, нежели со слугой, так что иногда я даже беспокоился за твое достоинство, пока твоя палка не устанавливала вновь между нами предписанную богом границу. Теперешнее положение отличается тем, что я поставил себе на голову ножку Минеи и, таким образом, отвечаю за нее как ее слуга. И не могу допустить, чтобы ты вошел в обитель мрака один, так что если даже я не могу сопровождать тебя как твой слуга, — ведь ты приказал мне покинуть тебя, а я должен подчиняться твоим приказаниям, даже если они глупы, — все же как друг я пойду с тобой. Ибо я не могу оставить тебя одного и тем более без скарабея, хотя, как и ты, думаю, что даже скарабей вряд ли поможет нам в этом деле.
Он говорил так важно и глубокомысленно, что я с трудом узнавая его, он даже не хныкая, как обычно. Но, по-моему, было безумием рисковать жизнью двоих там, где и одного было достаточно. Я сказал ему это и снова приказал оставить меня.
Но он настаивал:
— Если ты не позволишь мне идти с тобой, я пойду за тобой. Но мне бы хотелось пойти вместе, ибо я так боюсь этой обители мрака, что обмираю при одной мысли об этом. Поэтому надеюсь, ты позволишь мне принести кувшин вина, чтобы я мог для храбрости время от времени делать глоток по дороге, а то я буду кричать от страха и беспокоить тебя.
Я прекратил спор, сказав:
— Перестань болтать и, если хочешь, принеси вина, но давай отправимся сейчас же, ибо я думаю, что стража спит, пьяная от зелья, которое я подмешал в вино.
Стражники крепко спали и жрец тоже, так что я мог без труда унести ключ из дома жреца, где я его заметил. Мы также взяли с собой блюдо с тлеющими угольками и несколько факелов, хотя и не зажгли их тогда, ибо луна ярко светила и маленькую дверь легко было отомкнуть. Мы вступили в обитель бога и закрыли за собой дверь. В темноте я слышал, как стучали зубы Капта о край кувшина с вином.
5
Подкрепившись для храбрости вином, Капта робко сказал:
— Господин, давай зажжем факел. Его свет не будет виден снаружи, а эта тьма хуже мрака смерти: тот мрак неизбежен, а сюда мы вошли по доброй воле.
Я раздул уголья и зажег факел, поняв, что мы находимся в большом склепе, вход в который закрыт медными воротами. Из этого склепа выходило десять проходов, ведущих в разных направлениях и отделенных друг от друга массивными кирпичными стенами. Я был готов к этому, так как слышал, что критский бог обитает в лабиринте, а жрецы Вавилона учили меня, что лабиринты сооружены по тому же плану, что и внутренности жертвенных животных. Поэтому я считал, что смогу найти дорогу, так как часто видел внутренности быков при жертвоприношениях и предполагал, что критский лабиринт построен так же.
Поэтому я указал на самый отдаленный проход с одной стороны и сказал:
— Мы пойдем туда.
Но Капта возразил:
— Нам нечего особенно спешить, и осторожность никогда не повредит. Давай постараемся не заблудиться и, главное, давай обеспечим себе путь назад, если мы когда-нибудь вернемся сюда, в чем я очень сомневаюсь.
Сказав это, он вынул из сумки клубок ниток и привязал его конец к костяной булавке, которую воткнул между кирпичами. Это была такая хитроумная выдумка при всей ее простоте, что я никогда не додумался бы до этого сам, хотя я и не сказал этого, чтобы не уронить себя в его глазах, а только резко велел ему поторапливаться. Так я вошел в лабиринты обители мрака с запечатлевшейся в моей памяти картиной бычьих внутренностей, а Капта следовал за мной, разматывая свой клубок.
Мы бесконечно блуждали в темноте, поскольку новые проходы то и дело открывались перед нами. Временами мы натыкались на стены и должны были поворачивать и идти другим путем. Наконец Капта остановился и понюхал воздух. При этом у него застучали зубы, факел задрожал в его руке, и он сказал:
— Хозяин, ты чувствуешь запах быков?
К этому моменту до меня тоже дошло омерзительное зловоние, похожее на запах быков, хотя еще более отвратительное, и казалось, что его источали сами стены, как будто весь лабиринт был гигантским стойлом для скота. Я приказал Каша идти, не принюхиваясь, и, после того как он сделал большой глоток из кувшина с вином, мы поспешили вперед, пока моя нога не поскользнулась о какой-то липкий предмет. Наклонившись, я обнаружил, что это гниющий череп женщины с прилипшими к нему волосами. Теперь я знал, что не увижу вновь Минею, но безумный порыв толкнул меня вперед. Я ударил Капта и запретил ему хныкать, и мы пошли, разматывая клубок по мере того, как продвигались вперед. Но вскоре мы наткнулись на другую стену, и нам пришлось обойти ее.
Внезапно Капта резко остановился, указывая на землю; его редкие, волосы встали дыбом, а лицо исказилось и побледнело. Я проследил за его взглядом и обнаружил на земле высохшую кучу навоза, но куча эта была высотой с человека, так что если ее оставил бык, то это животное должно было быть неимоверной величины.
Капта пришла та же мысль, ибо он сказал:
— Это не может быть от быка, потому что такому быку не войти в эти проходы. Думаю, это навоз чудовищного змея!
Сказав это, он сделал огромный глоток из кувшина, и его зубы стучали о край, а я размышлял, что этот лабиринт словно предназначен для передвижения такого змея, и меня охватил порыв повернуть назад. Но я вспомнил Минею и, подгоняемый безумным отчаянием, протиснулся вперед, таща за собой Капта и крепко сжимая свой нож влажной рукой, хотя и знал, что никакой нож не поможет мне.
По мере того как мы продвигались, зловоние проходов становилось все более ужасающим, напоминая миазмы какой-то огромной могилы, и нам было трудно дышать. Все же я радовался, зная, что мы близки к цели. Мы быстро двигались вперед, пока слабый свет был различим в проходах. Теперь мы оказались в самой горе; стены уже были не кирпичные, а из мягкой породы. Дорога вела вниз, и мы спотыкались о человеческие кости и кучи навоза, пока перед нами не открылась большая пещера. Мы ступили на каменистый выступ, нависающий над поверхностью воды, и окунулись в еще более смрадный и ядовитый воздух.
С моря в эту пещеру проникал свет, ужасный зеленоватый свет, который позволял нам обойтись без факела, и откуда-то издали до нас доносился грохот волн, разбивающихся о скалы. Перед нами на поверхности воды плавало что-то, напоминающее ряд огромных кожаных мешков, пока глаз не различил, что это одно мертвое животное — громаднее и страшнее, чем можно было вообразить; оно выделяло смрад разложения. Его голова была погружена в воду; это было что-то вроде гигантского быка. Его туша напоминала тело змеи; разлагаясь, она светилась, и ее омерзительные изгибы покачивались на воде. Я понял, что вижу критского бога, и понял также, что он давно умер. Где же Минея?
При мысли о ней я думал также и обо всех ее предшественниках. Думал о юношах, которым были запрещены женщины, и о девушках, которые должны были хранить непорочность, чтобы восприять блаженство и славу этого бога. Я думал о черепах и костях в проходах обители мрака. Я думал о чудовище, которое преследовало их в лабиринте и преграждало путь своим исполинским телом, так что ни прыжки, ни любые другие уловки не могли помочь им.
Громадина питалась человеческим мясом — единственная пища в течение месяца, пища, которую поставляли правители Крита в виде красивейших девушек и самых безупречных юношей, ибо эти правители верили, что, поступив так, могут сохранить владычество над морями. Когда-то давным-давно буря загнала эту тварь в пещеру из страшных глубин океана. Чтобы помешать ей вернуться туда, был прегражден выход и построен лабиринт, дабы тварь могла там передвигаться. Потом ее кормили жертвами до тех пор, пока она не сдохла, и нигде во всем мире не было другого такого чудовища. Где же тогда Минея?
Обезумев от отчаяния, я выкрикивал имя Минеи и будил эхо в пещере, пока Капта не указал мне на скалу, на которой мы стояли; она была в пятнах высохшей крови. Проследив глазами за этими пятнами до самой воды, я увидел тело Минеи, вернее, то, что от него осталось. Оно медленно шевелилось в глубине, его терзали морские крабы, хищно на него набросившиеся. Лица у нее не было, и я узнал ее только по серебряной сетке на волосах. Мне не надо было искать на ее груди раны от меча, ибо я знал, что Минотавр следовал за ней сюда, пронзил ее сзади мечом и сбросил в воду, чтобы никто не узнал, что критский бог мертв. То же самое он, должно быть, проделывал со многими девушками и юношами до Минеи.
Когда я увидел и понял все это, дикий крик вырвался из моей груди. Я упал в обморок и наверняка свалился бы с уступа, чтобы присоединиться к Минее, если бы Капта не оттащил меня в безопасное место, как он после рассказал мне. О том, что произошло потом, я ничего не знаю, не считая рассказов Капта, так, на счастье, глубок был обморок, последовавший за тревогой, мукой и отчаянием.
Капта сказал мне, что он долго горевал над моим телом, полагая, что я умер; он плакал также и о Минсе, пока здравый смысл не вернулся к нему. Ощупав меня и обнаружив, что я жив, он решил, что должен спасти по крайней мере меня, раз уж не может ничего сделать для нее. Он увидел тела других юношей и девушек, убитых Минотавром; крабы ободрали все мясо с их костей, так что они лежали гладкие и белые на песчаном морском дне.
Потом он стал задыхаться от смрада. Поняв, что не может нести меня и кувшин с вином, он решительно выпил остатки вина и бросил пустой кувшин в воду. Это так сильно поддержало его, что он, то волоча, то неся меня, достиг медных ворот с помощью клубка, который мы разматывали по пути туда. Немного поразмыслив, он решил, что, уходя, лучше всего снова смотать его, дабы не оставлять следов нашего посещения. Кажется, при свете факела он заметил на стенах тайные знаки, несомненно, оставленные здесь Минотавром, чтобы ему было легче находить дорогу. Капта сказал мне, что он бросил в воду винный кувшин, дабы заставить Минотавра немного поразмыслить над этим, когда в следующий раз он совершит свое кровавое дело.
Занимался день, когда он вынес меня наружу. Он запер за собой дверь и положил ключ на место в дом жреца, ибо жрец и стражники все еще спали, одурманенные вином, которое я приготовил для них. Затем он отнес меня в укромное место в зарослях на берегу реки. Там он обмыл мне лицо и растирал мои руки, пока я не пришел в себя. Я не помню ничего из этого. По-видимому, я совсем обезумел и не мог говорить, поэтому он дал мне снотворное. Сознание вернулось ко мне только гораздо позже, когда мы уже приближались к городу, а он вел и поддерживал меня. С этого момента я помню все.
Не припоминаю, чтобы я тогда страдал, и моя мысль нечасто возвращалась к Минее. Она была теперь далекой тенью в моей душе, как если бы я знал ее в какой-то другой жизни. Вместо этого я размышлял о том, что критский бог мертв и что могущество Крита должно теперь клониться к упадку согласно пророчеству. Это ничуть не повергло меня в уныние, хотя критяне проявляли ко мне доброту и их радость искрилась, как морские брызги на берегу. Когда мы подошли к городу, мне стало приятно думать, что эти воздушные, изящные здания будут некогда объяты пламенем, а сладострастные возгласы перейдут в предсмертные вопли, и что золотую маску Минотавра расплющат и разделят со всей прочей добычей, и что ничего не останется от блестящего великолепия Крита. Самый остров снова погрузится в море, из которого вместе с другими чудесами глубин он когда-то поднялся.
Я думал также и о Минотавре и без всякой злобы, ибо смерть Минеи была легкой и ей не пришлось, спасаясь от чудовища, применять все приемы, которым ее обучили; она умерла раньше, чем поняла, что с ней произошло. Я размышлял о том, что Минотавр был единственным, кто знал, что бог умер и что Крит должен пасть, и я понимал, что такая тайна должна быть для него тяжким бременем. Я думал, что его задача и прежде была трудной, даже тогда, когда чудовище было еще живо и он посылал цвет своей страны в эту обитель мрака месяц за месяцем, год за годом, зная, что с жертвами там произойдет.
Нет, я не чувствовал никакой злобы. Я пел и смеялся, как сумасшедший, и все шел, опираясь на Капта. Ему нетрудно было убедить встретившихся нам друзей Минеи в том, что я все еще пьян, так долго прождав ее возвращения. Им это казалось естественным, ведь я был чужеземцем, не способным понять, какое это варварство — появляться на улице в пьяном виде средь бела дня. Наконец ему удалось взять носилки, и он отвез меня в гостиницу, где, изрядно напившись, я погрузился в долгий и глубокий сон.
Я проснулся успокоенный и с ясной головой, и прошлое казалось далеким. Я снова думал о Минотавре. Должен ли я пойти и убить его? Ведь я знал, что это не принесет никакой пользы. Сказав правду, я мог сохранить жизнь всем тем, кто еще будет тянуть жребий или кто уже вытянул его, чтобы иметь привилегию вступить в обитель бога. Но я знал, что правда — обнаженный нож в руках ребенка и он легко может обернуться против его владельца.
Поэтому как чужеземец я полагал, что критский бог не имеет отношения ко мне, а Минеи уже не было. Крабы и лангусты съедят ее гонкие кости, и она навеки опочила на песчаном дне моря. Я говорил себе, что все это было предначертано на звездах задолго до моего рождения, и это приносило мне утешение. Я сказал об этом Капта, но он ответил, что я болен и должен отдохнуть, и он запретил кому бы то ни было видеться со мной.
В это время Капта досаждал мне, ибо упорно продолжал закармливать меня, хотя я вовсе не испытывал никакого голода и желал только вина. Я страдал от беспрерывной и неутолимой жажды и успокаивался только тогда, когда напивался до того, что мир преображался в моих глазах. В такие периоды я сознавал, что все может быть не таким, каким кажется. Ибо у пьяного все двоится в глазах. Для него это истинное восприятие, даже несмотря на то что в душе он сознает, что оно ложно. А что же это, как не сама суть истины? Когда я с настойчивостью и самообладанием пытался растолковать это Капта, он не слушал и просил меня лечь, закрыть глаза и успокоиться.
Я могу теперь оценить степень моего расстройства, хотя я забыл свои мысли, поскольку вино позаботилось о том, чтобы омрачить мое сознание и затемнить мой разум. Все же думаю, что хорошее вино спасло мой рассудок и избавило меня от худшего, когда я навсегда потерял Минею, а с нею и мою веру в богов и в человечность.
Что-то исчезло во мне имеете с винными парами. Я испытал нечто вроде этого прежде, в детстве, когда увидел, как в святилище жрец Амона плюнул в лицо бога и растер его своим рукавом. Река жизни была преграждена, а ее воды разлились — разлились широким озером, поверхность которого была прекрасна, отражая звездное небо. Воткни в него палку, и вода замутится, а на дне будут только слизь и грязь.
Как-то утром, проснувшись в гостинице, я увидел Капта, который сидел в углу комнаты, тихо плача, и качал головой, обхватив ее руками. Я склонился над винным кувшином и, сделав глоток, грубо спросил:
— Чего ты ревешь, пес?
Я сказал ему:
— Убирайся прочь на свой корабль, а то я изобью тебя. По крайней мере я избавлюсь от вида твоей невыносимой физиономии и твоих вечных жалоб и причитаний.
Сказав это, я устыдился и оттолкнул винный кувшин. Горькое утешение заключалось в мысли, что хоть одно существо зависит от меня, пусть даже это всего-навсего беглый раб.
Капта ответил:
— Действительно, господин, я тоже устал от твоего беспробудного пьянства. Мертвые — мертвы, и они не возвращаются. Давай уедем отсюда, пока можем. Свое золото и серебро — все, что ты скопил за время путешествия, — ты выбросил за окно. Я не верю, что ты с твоими трясущимися руками можешь хоть кого-то лечить; ты уже не способен даже держать винный кувшин. Сначала я думал, что тебе полезно пить для успокоения души; я убеждал тебя делать это, беспрестанно распечатывая все новые кувшины, и я пил также и сам. Более того, я хвалился этим перед другими: смотрите, какой у меня хозяин! Он пьет, как гиппопотам. Он утопил в вине и золото, и серебро, не рассуждая, и очень веселится. А теперь я больше не хвалюсь, а стыжусь за моего хозяина, ибо всему есть границы, и, по-моему, ты их переходишь.
Я никогда не осужу человека, который упивается до потери сознания, и скандалит на улице, и разбивает себе голову. Это разумный обычай, который облегчает душу при разных горестях, и я часто делал то же самое. Возникающие расстройства следует лечить осмотрительно пивом и соленой рыбой, после чего человек возобновляет свою работу, как предопределили боги и правила приличия. Но ты пьешь так, как если бы каждый день был твоим последним днем, и боюсь, что ты хочешь упиться до смерти. Если такова твоя цель, то тебе было бы лучше утопиться в ванне с вином, ибо это самый быстрый способ, а также и самый приятный и не бесчестный.
Я обдумывал его слова. Я рассматривал свои руки, руки целителя, которые теперь дрожали, словно они были сами по себе и я больше не владел ими. Я думал о знании, которое я приобрел во многих странах, и видел, что избыток его был ни к чему. Это было так же глупо, как неумеренно есть и пить, как доходить до крайностей в радости и в горе.
Поэтому я сказал Капта:
— Будь по-твоему, но знай, что я уже сам понял это и не твои слова убедили меня. Они нудны, как жужжание мух в моих ушах. Я брошу на время пить и не собираюсь открывать следующий кувшин. Я привел в порядок свои мысли и намерен вернуться в Смирну.
Капта запрыгал от радости по комнате и пошел приготовляться к нашему отъезду, и в тот же день мы взошли на корабль. Гребцы погрузили в воду свои весла, и мы вышли из порта мимо десятков и сотен судов, стоявших на якоре, и мимо увешанных медными щитами военных кораблей Крита. Как только мы выбрались из гавани, капитан принес в своей каюте жертву богу моря и другим богам и приказал поднять парус. Судно накренилось и быстро пошло своим путем. За кормой остров Крит таял, как голубое облачко… тень… сон, и мы были одни на волнующейся шири океана.
Книга IX «Хвост крокодила»
1
Итак, я вступил в пору зрелости, и, когда я вернулся в Смирну, я уже не был юным. За три года странствий я побывал во многих землях и познал в них добро и зло. Морские ветры выдули винные пары из моей головы, очистили мои глаза и вернули силу моему телу. Я ел, и пил, и вел себя, как все другие, только что говорил меньше, чем они, и был даже более одинок, чем прежде. Одиночество — удел некоторых людей, удел зрелых лет, но я был одинок с детства, чужой в мире с тех пор, как тростниковая лодка принесла меня к фиванскому берегу. Мне не нужно было приспосабливаться к одиночеству, как другим, поскольку с самого начала оно было для меня приютом и убежищем во тьме.
Но, когда я стоял на носу корабля среди зеленых катящихся волн и ветер очищал мою голову от безумия, я видел вдали два зеленых глаза, подобных лунным бликам на воде; я слышал звонкий смех Минеи и видел, как она танцует на хлебных токах вдоль дорог Вавилона в своем поношенном платье, юная и стройная, как тростинка. И ее образ не мучил меня, а скорее причинял мне сладостную боль, подобную той, которую испытывает человек, пробуждаясь ото сна более сладостного, чем жизнь. Думая о Минее, я радовался, что знал ее, и не хотел бы потерять ни одного отпущенного нам часа, понимая, что без нее я не был бы самим собой. Фигура на носу судна была из твердого раскрашенного дерева, но лицо у нее было женское. Когда я стоял рядом с ней, лицом к ветру, я сильно ощущал свою зрелость и ясно сознавал, что в моей жизни будет еще много женщин, поскольку одинокому человеку неуютно лежать одному каждую ночь. Все же я думал, что для меня все эти женщины будут всего лишь раскрашенными деревянными фигурками и что когда в темноте мы будем вместе, я стану искать в них только Минею — только сияние луны, теплоту стройного тела, благоухание кипарисов, которые напомнят мне Минею. Так, стоя у фигуры на носу корабля, я попрощался с ней. Мой дом в Смирне все еще стоял, хотя ставни разломали воры. Они забрали все, что стоило взять из тех пожитков, которые я не оставил на попечение купцов. Поскольку меня так долго не было, мои соседи стали использовать пространство перед моим домом как свалку для мусора и отхожее место, зловоние которого было весьма отвратительным. Крысы поспешно удирали по полу, когда я входил в мои комнаты и срывал паутину с дверных косяков.
Соседи не обрадовались мне. Они отводили глаза и говорили друг другу:
— Он египтянин, а все зло идет из Египта.
Поэтому я сначала пошел в гостиницу, приказав Капта привести дом в порядок, чтобы я вновь мог поселиться там; затем я посетил дома купцов, в которых оставил свои деньга. После трехлетнего путешествия я вернулся бедняком, ибо, кроме моих собственных денег, растратил и те, что дал мне Хоремхеб, — главным образом на жрецов Вавилона и ради Минеи.
Богатые судовладельцы удивились, увидев меня. У них даже вытянулись носы, и они задумчиво поглаживали свои бороды, ибо мое длительное отсутствие позволило им думать, что мое богатство принадлежит теперь им. Однако они дали мне полный отчет, и хотя некоторые корабли погибли и я потерял из-за этого свою долю, все же другие сделки оказались чрезвычайно выгодными. Когда были уплачены все подати, оказалось, что теперь я стал богаче, чем до отъезда, и мне не приходилось заботиться о средствах к существованию в Смирне.
Тем не менее судовладельцы приглашали меня к себе, угощали вином и медовыми пряниками и с грустным видом говорили:
— Синухе, доктор! Ты наш друг, но хотя мы рады торговать с Египтом, нам неприятно видеть, как египтяне проникают к нам. Народ ропщет и сильно недоволен данью, которую должен платить фараону. Недавно египтян закидывали камнями на улицах, дохлых свиней подкладывали в их храмы, и наши люди не хотят показываться в их обществе. Ты, Синухе, наш друг, и мы очень уважаем тебя за твое искусство исцелять, которое мы еще помним. Поэтому мы хотели бы все разъяснить тебе, чтобы ты, таким образом, мог действовать с осторожностью.
Их слова ошеломили меня, поскольку до моего отъезда люди соперничали между собой, стараясь снискать благосклонность египтян, и приглашали их в свои дома. Как сирийские обычаи были приняты в Фивах, так же и здесь, в Смирне, люди следовали египетской моде. Все же Капта подтвердил их слова, когда в величайшем негодовании пришел ко мне в гостиницу:
— Злой дух, несомненно, вселился в этих людей, ибо они ведут себя, как бешеные собаки, притворяясь, что не знают египетского языка. Увидев, что я египтянин, они выбросили меня из таверны, куда я зашел промочить пересохшую глотку. Они кричали мне вслед ругательства, и дети закидали меня дерьмом. Тогда я пошел в другую таверну, ибо моя глотка пересохла, как солома, и я жаждал крепкого сирийского пива. Но здесь я не проронил ни звука, что мне очень трудно, как тебе известно. Однако я был осторожен и вместе с другими погрузил в пиво свой тростник в молчании и слушал, о чем они говорили. Они говорили, что Смирна была единственным свободным городом, никому не платящим дани, и что они не желают больше, чтобы их дети рождались рабами фараона. Другие сирийские города тоже когда-то были свободными, и поэтому всех египтян нужно избить и прогнать прочь — это долг каждого, кто любит свободу и кому надоело быть рабом фараона. Таков был этот вздор, хотя хорошо известно, что покровительство Египта более выгодно для Сирии, чем для него самого. Если предоставить их самим себе, то города Сирии будут походить на диких кошек в мешке, которые рвут и царапают друг друга, к большому ущербу для земледелия и торговли. Эти люди хвалились своим могуществом и говорили о каком-то союзе между их городами. Так как я египтянин, их разговоры вызвали у меня отвращение, и, как только хозяин отвернулся, я вышел, не заплатив, и сломал тростинку для питья.
Мне не пришлось много ходить по городу, чтобы проверить правдивость слов Капта. Никто не досаждал мне, ибо я научился носить сирийские одежды, но те, кто знал меня прежде, отворачивались при встрече, а прочие египтяне ходили по городу под охраной. Даже несмотря на это, люди насмехались над ними и бросали в них гнилые фрукты и рыбу. Однако я не испытывал никакого беспокойства. Несомненно, жители Смирны были раздражены новыми налогами, и подобные беспорядки должны были скоро прекратиться, поскольку Сирии было столько же пользы от Египта, как и Египту от Сирии. Я не думал, что приморские города могли долго продержаться без египетского зерна.
В моем доме установился порядок, и я принимал пациентов и лечил их, как прежде. И, как прежде, они приходили ко мне, ибо больному и страдающему безразлична национальность врача, а важно лишь его искусство.
Однако они спорили со мной, говоря:
— Скажи нам, египтянин, справедливо ли, что Египет вымогает у нас дань, использует нас и жиреет на нашей нищете, как пиявка, высасывающая кровь? Справедливо ли, что мы не можем восстановить наши стены и башни, раз мы этого делаем и охотно берем на себя эти расходы? Наши собственные советники достаточно сведущи, чтобы править нами хорошо и справедливо, и Египту незачем вмешиваться в коронование наших правителей или в наше судопроизводство. Клянемся Ваалом, если бы не египтяне, мы бы процветали и преуспевали. Они для нас, как саранча, и ваш фараон навязывает нам теперь нового бога, чтобы мы лишились благосклонности нашего собственного.
Не желая перебраниваться с ними, я говорил:
— Против кого хотите вы воздвигать свои стены и башни, если не против Египта? Ведь несомненная истина, что ваш город был свободен без своих стен в пору ваших великих прадедов, но вы проливали кровь и довели себя до обнищания своими бесчисленными войнами с соседями, которых вы все еще ненавидите, тогда как ваши цари были известными деспотами и при них не были в безопасности ни богатые, ни бедные. Теперь вас защищают от врагов мечи и копья Египта, а египетские законы охраняют права как богатых, так и бедных.
Но это приводило их в ярость, их глаза краснели и ноздри трепетали, когда они возражали:
— Египетские законы гнусны нам, а их боги внушают нам отвращение. Что из того, что наши правители были деспотичны и несправедливы, чему мы не верим! Они были нашими собственными правителями, и наши сердца подсказывают нам, что несправедливость в свободной стране лучше, чем справедливость в стране порабощенной.
Я сказал:
— Я не вижу у вас никаких признаков рабства; скорее вы толстеете и хвалитесь богатством, нажитым благодаря египетской глупости. Будь вы свободны, вы грабили бы корабли друг друга и рубили бы друг у друга фруктовые деревья. При поездках в глубь страны ваша жизнь была бы в большей опасности.
Но они не желали слушать. Они бросали свои подарки и уходили, говоря:
— В душе ты египтянин, хотя и носишь сирийские одежды. Каждый египтянин — угнетатель и злодей, и хорош только мертвый египтянин.
Поэтому мне было теперь не по себе в Смирне. Я начал собирать все принадлежавшее мне, чтобы приготовиться к отъезду. Я должен был отправиться в Египет, согласно моему обещанию встретиться с Хоремхебом и рассказать ему обо всем, что видел. Но я не очень спешил, ибо душа моя замирала при мысли о том, что я вновь напьюсь воды из Нила, а время так и бежало.
Однажды вечером я возвращался в темноте из храма Иштар, который я иногда посещал, как страждущий от жажды человек напьется из любого источника, чтобы подкрепить свои силы. Вдоль стены навстречу мне шли какие-то люди, переговариваясь между собой:
— Да ведь это египтянин! Позволим ли мы обрезанному спать с нашими девушками и осквернять наш храм?
Я сказал:
— Ваших девушек, которых я бы назвал более подходящим именем, не интересует ни раса, ни человек. Они оценивают свои услуги на вес золота, которое водится в кошельке у мужчины. Я не ссорился с ними из-за этого, поскольку таков мой обычай наслаждаться с ними, и я намерен так поступать и впредь, когда мне захочется.
Тогда они закрыли лица плащами и бросились на меня, повалили меня на землю, били меня головой об стену, пока я не решил, что мне пришло время умереть. Но, когда они стали грабить меня и срывать с меня одежду, чтобы затем бросить меня в порт, один из них взглянул на мое лицо и сказал:
— Не Синухе ли это, египетский доктор и друг царя Азиру?
Я подтвердил это и поклялся, что убью их и кину их трупы собакам. У меня очень болела голова, и от злости я даже не испугался. Они освободили меня, отдали мою одежду и убежали, закрывая лица плащами. Я не мог понять, почему они так поступили, ибо при их силе они могли не обращать внимания на мои угрозы.
2
Спустя несколько дней к моей двери подъехал на коне гонец необычного вида, ибо египтянин никогда не путешествует верхом, а сириец — очень редко. Главным образом на лошадях ездят разбойники, совершающие набеги в пустыне; их кони — рослые непокорные создания, которые лягаются и кусаются, когда на них садятся, сбрасывают наездника и ведут себя совершенно по-другому, чем ослы, с которыми легко справиться. Этот человек подъехал верхом к моей двери на взмыленном, тяжело дышавшем животном, изо рта которого струилась кровь. Судя по одежде, он приехал с холмов, из страны овечьих пастбищ, и по лицу его было видно, что он очень возбужден.
Он бросился ко мне и, едва успев поздороваться, закричал мне в волнении:
— Вызови носилки, Синухе, и быстрее следуй за мной. Я приехал из страны Амурру, царь которой Азиру послал меня за тобой. Его сын болен, и никто не знает, что с мальчиком. Царь свирепствует, как лев в пустыне, и ломает кости каждому, кто приблизится. Поэтому возьми свой ящик с лекарствами и немедленно следуй за мной, или я отрежу тебе голову и вышвырну ее на улицу.
— Моя отрезанная голова мало помогла бы царю. Но я прощаю твою настойчивость и последую за тобой — не из-за твоих угроз, а потому, что царь Азиру мой друг и я должен помочь ему.
Я велел Капта сходить за носилками и последовал за гонцом, радуясь в душе. Я был так одинок, что мне приятно было встретить даже Азиру, которому я когда-то позолотил зубы. Но я уже не был больше так счастлив, когда мы подошли ко входу в ущелье, ибо тогда меня и мой ящик с лекарствами водрузили на повозку и помчали на диких лошадях. Мы неслись по камням и через скалы, и я боялся, что у меня будут переломаны руки и ноги, и пронзительно кричал от страха. Мой спутник на своем усталом коне остался далеко позади, и я надеялся, что он, может быть, сломает себе шею.
По другую сторону хребта меня перетащили из одной повозки в другую, запряженную свежими лошадьми. Я толком не мог разобрать, стою ли я на ногах или на голове, только покрикивал на возниц: «Мерзавцы! Негодяи! Навозные жуки!» и бил их по спине кулаками, когда мы выезжали на более ровное пространство; но я уже не так крепко цеплялся за края повозки. Они не обращали на меня внимания, только дергали вожжи и щелкали хлыстом так, что мы подскакивали на камнях, и я думал, что отлетят колеса.
Наше путешествие в Амурру было, таким образом, недолгим, и перед заходом солнца мы прибыли в город, окруженный заново построенными очень высокими стенами. Их охраняли солдаты со щитами, но ворота были открыты для нас. Мы проехали по городу, сопровождаемые ослиными криками и воплями женщин и детей, а корзины с фруктами взлетали в воздух и бесчисленные кувшины были раздавлены под колесами, ибо возницы по пути не обращали ни на что внимания.
Когда меня вытащили из повозки, я качался как пьяный. Возницы за руки втащили меня в дом, а рабы следовали за нами с моим медицинским ящиком. Мы только дошли до наружной стены, увешанной щитами, кирасами и копьями, и тут с нами столкнулся Азиру, ревущий, как раненый слон. Он разрывал свои одежды, посыпал голову пеплом и до крови царапал лицо ногтями.
Азиру горячо меня обнял, зарыдал и сказал:
— Исцели моего сына, Синухе, исцели его, и все, что принадлежит мне, станет твоим.
Я ответил:
— Позволь мне сначала взглянуть на твоего сына, чтобы выяснить, смогу ли я исцелить ею.
Он быстро повел меня в большую комнату, нагретую жаровней, несмотря на то что стояло лето. Внутри воздух был душный. Посреди комнаты стояла колыбель, а в ней лежал младенец, которому не было и года; он был закутан в шерстяные одеяла. Он так пронзительно кричал, что лицо его стало иссиня-черным и пот каплями выступил у него на лбу. Хотя он и был еще так мал, у него были густые черные волосы, как и у его отца. Я не видел, что ею так беспокоило. Если бы он умирал, он не мог бы орать так громко. На полу рядом с колыбелью лежала Кефтью, женщина, которую я некогда подарил Азиру. Она стола толще и белее, чем прежде, и ее огромное тело тряслось, когда она от горя билась головой об пол, и сетовала, и пронзительно кричала. Из углов комнаты доносились вопли рабов и кормилиц, лица которых распухли и посинели от побоев Азиру, поскольку они не могли вылечить его сына.
— Не падай духом, Азиру! — сказал я. — Твой сын не умирает, но я должен помыться перед тем, как обследовать его. И убери отсюда эту проклятую жаровню, пока мы все не задохнулись!
Кефтью быстро приподняла голову и сказала в испуге:
— Ребенок может простудиться! — Ее глаза задержались на мне. Тогда она улыбнулась, села, привела в порядок волосы и одежду и спросила: — Синухе, это ты?
Но Азиру ломал руки и стонал:
— Мальчик не может ничего есть, его рвет, и тело его горит. Уже три дня, как он ничего не ел, только плачет так, что мое сердце разрывается, когда я слышу его.
Я приказал ему прогнать кормилиц и рабынь, и он кротко подчинился мне, совершенно забыв о своем величии. Помывшись, я развернул шерстяные покрывала ребенка и вынул его, затем открыл ставни, так что комната освежилась прохладным вечерним воздухом. Ребенок тотчас же притих. Его крик прекратился, и он задрыгал своими толстыми ножками. Я щупал его тельце и животик, пока мне кое-что не пришло в голову, и я засунул ему в рот свой палец. Мое предположение оправдалось: первый зуб, как жемчужина, показался у него во рту.
Тогда я гневно воскликнул:
— Азиру! Стоило ли из-за этого твоим диким лошадям тащить сюда самого умного врача в Смирне? Твой ребенок ничем не болен — он только беспокойный и раздражительный, как и его отец. Может быть, у него и был небольшой жар, но сейчас он спал. Если его рвет, то потому, что у него есть здоровый инстинкт самосохранения, ибо его перекормили жирным молоком. Уже пришло время Кефтью отнять его от груди и приучить его к настоящей пище, или он скоро откусит соски своей матери. Вы должны знать, что ваш сын капризничает из-за того, что у него прорезался первый зуб, а если вы не верите мне, то посмотрите сами.
Я открыл рот ребенка и показал Азиру зуб. Он разразился диким ликованием, захлопал в ладоши и стал плясать по комнате, пока пол не задрожал под ним. Я показал зуб также и Кефтью, и она поклялась, что никогда не видала во рту ребенка такого прекрасного зуба. Когда она хотела снова закутать ребенка в шерстяные вещи, я запретил ей это и завернул его в легкое полотно, чтобы он не продрог от прохладного вечернего воздуха.
Азиру все плясал, топал ногами, пел своим хриплым голосом и вовсе не был смущен тем, что затащил меня в такую даль. Он настаивал, чтобы зуб его сына показали придворным и командирам. Даже стражников со стен позвали поглядеть на него. Они теснились возле колыбели, бряцая копьями и щитами, восхищались ребенком и старались запихнуть свои грязные пальцы ему в рот, чтобы пощупать зуб, пока я не выгнал их всех из комнаты, приказав Азиру помнить о своем достоинстве и сдерживать себя.
У Азиру был глуповатый вид; он сказал:
— В самом деле, я забылся и наделал лишнего шуму. Много ночей я лежал без сна с болящим сердцем у этой колыбели. Но ты должен понять, что это мой сын, мой первенец, мой принц, мое сокровище, зеница моего ока, мой львенок, который когда-нибудь наденет корону Амурру и будет править многими. По правде, я собираюсь сделать эту страну огромной, такой, какую стоит унаследовать, чтобы он принял ее и восхвалил имя своего отца. Синухе, Синухе, ты не знаешь, как я благодарен тебе за то, что ты снял этот камень с моего сердца! Ты должен признаться, что никогда не видел такого красивого ребенка, даже во всех твоих путешествиях. Взгляни на его волосы — на темную гриву льва — и скажи мне, видел ли ты когда-нибудь прежде такие волосы у такого маленького ребенка? Ты сам сказал, что его зуб, как жемчужина — прекрасная и сияющая, а посмотри на его руки и ноги!
Я так устал от его болтовни, что просил его убраться подальше вместе с его ребенком. Я сказал ему, что мои ноги болят от ужасной езды, так что даже теперь я не уверен, не стою ли я вниз головой. Но он успокаивал меня, обняв за плечи; он предложил мне самую разную пищу на серебряных блюдах, жареную баранину и рис, сваренный в жире, а также вино в золотом кубке. Я подкрепился и простил его.
Я остался погостить у него на несколько дней. Он дал мне щедрые подарки и много золота и серебра; его богатство очень увеличилось с тех пор, как мы не виделись. Каким образом разбогатела его бедная страна, он не сказал мне, но украдкой смеялся и говорил, что жена, которую я подарил ему, принесла ему счастье. Кефтью была тоже радушна и оказывала мне знаки уважения, безусловно, вспоминая палку, которой я так часто проверял прочность ее кожи. Она сопровождала меня повсюду, раскачиваясь, позвякивая своими безделушками, нежно поглядывая на меня и лаская меня улыбкой. Азиру пылал к ней такой горячей любовью, что редко посещал других своих жен, и то только из учтивости. Они были дочерьми вождей разных племен, с которыми таким образом он благоразумно обеспечил союз.
Я так много путешествовал и видел так много стран, что у него возникло желание похвастать своим могуществом. Он рассказывал мне много такого, о чем впоследствии мог бы пожалеть. Так я узнал, что люди, которые напали на меня в Смирне и хотели бросить меня в порт, были смутьянами, посланными им, и это они сообщили ему, что я снова в Смирне.
Он сожалел о том, что случилось, но добавил:
— Поистине много египетских черепов будет пробито и много египетских солдат будет брошено в смирненский порт, прежде чем Библос, Сидон и Газа узнают, что египтяне тоже уязвимы, что у них так же течет кровь и они умирают, когда им протыкают шкуру. Сирийские купцы слишком осторожны, правители трусливы, а люди медлительны, как быки. Нужен сильный человек, чтобы возглавить их и показать им, в чем их выгода.
Я спросил его:
— Зачем это нужно, Азиру, и за что ты так ненавидишь египтян?
Он погладил с хитрой улыбкой свою курчавую голову и ответил:
— Кто говорит, что я ненавижу их, Синухе? Я не питаю к тебе ненависти. Я вырос в золотом дворце фараона так же, как и мой отец, и все другие египетские принцы. Там я узнал, что в глазах образованных людей все люди равны. Нет народа, который был бы более храбр или малодушен, более жесток или сострадателен, порочен или добродетелен, чем другой. У всех наций есть герои и трусы, честные люди и обманщики — и это относится как к Сирии, так и к Египту. Правители поэтому ни к кому не испытывают ненависти и не делают никакого различия между народами, но ненависть — великая сила в руках правителя! Она обладает большим могуществом, чем оружие, ибо без ненависти ни одна рука не возьмется за оружие. Поэтому я делаю все возможное, чтобы разжечь ненависть между Сирией и Египтом, и я буду раздувать это пламя, пока оно не вспыхнет огнем, который истребит верховную власть Египта в Сирии. Все города, все народы Сирии должны узнать, что египтяне более низки, трусливы и жестоки, более развращены, жадны и неблагодарны, чем сирийцы. Они должны плеваться при упоминании о них, считать их узурпаторами, угнетателями, кровопийцами, мучителями и растлителями детей, — и тогда их ненависть сдвинет горы.
— Но ведь ты сам сказал, что все это ложь.
Пожав плечами, он простер руки и ответил:
— Что такое истина, Синухе? Когда эта истина прочно войдет в их кровь и плоть, тогда они поклянутся всеми своими богами, что это единственная истина, и не поверят никому, кто утверждает обратное. Они будут убеждены, что они сильнее, храбрее и справедливее всех людей на свете. Они будут считать, что их любовь к свободе сильнее страха смерти, голода и лишений, и они будут готовы заплатить за нее любую цену. Я научу их этому. Многие уже верят в это, и каждый, кто верит, обратит других в свою веру, пока новая истина не вспыхнет пожаром во всей Сирии. Истинно также и то, что Египет некогда добыл Сирию огнем и мечом.
— Что это за свобода, о которой ты говоришь? — спросил я, страшась его разговоров насчет Египта.
Он снова поднял руки и ласково улыбнулся.
— Свобода — слово, имеющее много значений; одни подразумевают под ней одно, другие — другое, но это совершенно неважно, поскольку она недостижима. Многое нужно, чтобы достичь свободы. Когда она завоевана, безопаснее не делиться ею, а хранить ее для себя. Думаю, что страну Амурру когда-нибудь назовут колыбелью свободы. Народ, верящий всему, что говорят, подобен гурту скота, который можно прогнать палкой через ворота, или стаду баранов, идущих за вожаком, не раздумывая о том, куда он бежит. И, может быть, именно я прогоню скот и поведу баранов.
— У тебя действительно бараньи мозги, раз ты говоришь такие рискованные вещи. Если бы фараон услышал это, он направил бы против тебя свои колесницы и копья. Он разрушит твои стены и повесит тебя и твоего сына вниз головой на носу своего военного корабля, когда вернется в Фивы.
Азиру только улыбнулся.
— Не думаю, что мне угрожает какая-то опасность со стороны фараона, ибо я получил символ жизни из его рук и воздвиг храм его богу. Он верит в меня больше, чем в кого-либо еще в Сирии, больше, чем в своих собственных посланников или начальников гарнизонов, которые поклоняются Амону. А теперь покажу тебе нечто очень занимательное.
Он повел меня к городским стенам и показал мне высохшее обнаженное тело, повешенное за пятки; на нем кишели мухи.
— Смотри внимательно, — сказал он, — и ты увидишь, что этот человек обрезан; он действительно египтянин. Он был у фараона сборщиком налогов, и у него хватило наглости явиться сюда, чтобы выяснить, почему я задолжал за год или за два с уплатой своей дани. Мои солдаты хорошо позабавились с ним перед тем, как повесить его на стене за его дерзость. Этим я добился того, что у египтян не стало охоты проезжать через страну Амурру даже большими группами, и купцы предпочитают платить пошлину мне, а не им. Ты поймешь смысл этого, когда я скажу тебе, что Мегиддо находится под моим владычеством, подчиняясь мне, а не египетскому гарнизону, который стоит, съежившись от страха, в своей крепости и не осмеливается выходить на улицы города.
— Да падет кровь этого несчастного на твою голову! — сказал я в ужасе. — Тебя ждет страшное возмездие, когда узнают об этом деянии, ибо в Египте можно шутить с кем угодно, кроме сборщиков налогов.
Я пытался объяснить ему, что у него ложное представление о богатстве и могуществе Египта, и предостерегал его от самодовольства. Даже кожаный мешок раздуется, если его наполнить воздухом, и, однако же, он сплющится, если его проколоть. Но Азиру только смеялся и сверкал своими золотыми зубами, затем приказал принести побольше жареной баранины на тяжелых серебряных блюдах, словно для того, чтобы показать свое богатство.
В его комнате было полно глиняных табличек, ибо гонцы доставляли ему сведения из всех городов Сирии. Он получал таблички также и от царя хеттов, и из Вавилона, чем он не мог не похвастать, хотя и не позволил мне взглянуть на их содержание. Ему было очень любопытно услышать от меня о стране хеттов, но я понимал, что он знает о ней столько же, сколько и я. Хеттские посланники посещали его и беседовали с его воинами и военачальниками.
Поняв это, я сказал:
— Лев и шакал могут заключить соглашение, чтобы охотиться за одной и той же добычей, но видел ли ты когда-нибудь, чтобы лучшие куски выпадали на долю шакала?
Он только смеялся.
— Велика моя жажда знания, и подобно тебе я пытаюсь узнать новое, хотя государственные дела мешают мне путешествовать, как это делаешь ты, ибо на тебе не лежит ответственность и ты свободен, как птица в небе. Поэтому что дурного, если хеттские командиры учат моих военачальников искусству войны? У них есть новое оружие и опыт, которого нам недостает. Это может быть только полезно для фараона, потому что если когда-нибудь начнется война, — ну что ж, Сирия долго была щитом для фараона, и часто окровавленным щитом. Вот это-то мы и припомним, когда дойдет до сведения счетов.
Когда он заговорил о войне, я вспомнил Хоремхеба и сказал:
— Я слишком долго пользовался твоим гостеприимством и должен теперь вернуться в Смирну, если ты предоставишь в мое распоряжение носилки. Никогда я не взойду вновь ни в одну из твоих ужасных повозок. Я предпочел бы, чтобы меня сразу забили до смерти палками. Смирна стала пустыней для меня, и, несомненно, я слишком долго сосал кровь из нищей, обездоленной Сирии. Я собираюсь отплыть в Египет. Мы, может быть, не скоро встретимся, возможно, никогда, ибо мне сладостна память о нильской воде. Кто знает, не останусь ли я пить ее, поскольку я видел достаточно зла в мире и также узнал кое-что об этом от тебя.
Азиру возразил:
— Никто не знает, что будет завтра. Катящиеся камни не обрастают мхом, а беспокойство, светящееся в твоих глазах, не даст тебе долго засидеться на одном месте.
Мы расстались друзьями; он дал мне носилки, и его воины сопровождали меня обратно в Сирию, чтобы я не подвергся насилию как египтянин.
У ворот Смирны над моей головой стрелой промчалась ласточка; я встревожился, и уличные камни обжигали мне ноги. Дойдя до дома, я сказал Капта:
— Собери наши пожитки и продай этот дом. Мы отправляемся в Египет.
3
Незачем описывать наше путешествие, которое теперь кажется мне тенью или беспокойным сном. Когда я наконец ступил на борт судна, которое должно было доставить меня в Фивы, город моего детства, такое сильное безграничное томление переполнило мою душу, что я не мог ни стоять, ни лежать, а шагал взад и вперед по переполненной палубе среди свернутых циновок и тюков с товарами. Запах Сирии преследовал меня, и каждый проходящий день усиливал мое нетерпение увидеть вместо скалистого побережья некую равнинную страну, зеленую от зарослей тростника. Когда наше судно простаивало целыми днями на пристанях прибрежных городов, я приходил в такое смятение, что не мог осматривать эти места и собирать сведения; рев ослов на берегу, выкрики рыбных торговцев и разноголосица чужеземной речи сливались в моих ушах в шум, неотличимый от шума моря.
Весна снова пришла в долины Сирии. Видимые на некотором расстоянии от берега холмы были красными, как вино, и по вечерам пенящийся у берегов прибой сиял жемчужной зеленью. Жрецы Ваала создавали назойливую суматоху в узких переулках. Они до крови резали себе лица кремневыми ножами, тогда как растрепанные женщины с горящими глазами следовали за жрецами, толкая перед собой деревянные тачки. Но все это я видел много раз прежде; их образ жизни, чуждый мне, и зверское неистовство были мне отвратительны, а перед моими глазами проплывал неясный образ моей родины. При этом я думал, что сердце мое закалилось, что я уже приспособился ко всяким обычаям и всяким религиям, что я понимаю людей с любым цветом лица и никого не презираю, и что моя цель — собирать знания. Однако сознание того, что я нахожусь на пути в Северную Землю, охватило живительным огнем мое сердце.
Я отбросил мысли о чужом так же, как и чужие одежды, и снова стал египтянином. Я тосковал о запахе жареной рыбы в сумерках на узких фиванских улицах, где женщины разводили огонь для приготовления еды перед глиняными хижинами. Я стосковался по вкусу египетского вина и по нильской воде с ее запахом плодородного ила. Я тосковал о шелесте папирусного тростника на легком вечернем ветру, о чашечке лотоса, раскрывающейся на берегу, о письменах в храмах, о цветных колоннах с их вечными идолами и о запахе курений между колоннами. Таким глупым было мое сердце.
Я был на пути домой, хотя у меня не было дома и я был чужим на всем белом свете. Я ехал домой, и воспоминания не терзали меня больше. Время и знания словно присыпали песком эту горечь. Я не чувствовал ни скорби, ни стыда; только безудержное томление сжимало мне сердце.
Позади нас оставалась сирийская земля, богатая, плодородная, кипящая ненавистью и беспокойством. Гребцы гнали вперед наше судно, оно проскользнуло мимо красных берегов Синая, и ветры пустыни обжигали и сушили наши лица, хотя была весна. Потом наступило утро, когда море стало желтым и вдали показалась земля, похожая на узкую зеленую ленту Матросы спустили кувшин и вытащили в нем воду уже не соленую; это была нильская вода, и у нее был привкус египетского ила. Ни одно вино не было так сладостно для меня, как эта грязная вода, зачерпнутая так далеко от земли.
Капта сказал:
— Вода всегда остается водой, даже в Ниле. Потерпи, господин, пока мы найдем настоящую таверну, где такое чистое и пенистое пиво, что человеку не нужно втягивать его через соломинку, дабы не проглотить шелуху от зерна. Тогда и только тогда я буду знать, что я дома.
Его безбожная болтовня действовала мне на нервы, и я сказал:
— Кто был рабом, тот рабом и останется, даже если его одежда из тонкой шерсти. Потерпи, Капта, пока я найду гибкий прут — такой, какой можно срезать только в тростниковых зарослях Нила, и тогда ты действительно поймешь, что ты дома.
Он не обиделся, но его глаз наполнился слезами, щеки задрожали, и он склонился передо мной, вытянув вперед руки.
— Поистине, господин, у тебя есть дар находить подходящее слово в нужный момент, ибо я уже позабыл, как сладостна ласка тонкого прута для ног и зада. Ах, господин мой Синухе, я бы желал, чтобы ты тоже мог испытать, как и я, это ощущение. Это лучше воды или пива, лучше курений, лучше дикой утки в камышах — это красноречиво говорит о жизни в Египте, где каждый занимает надлежащее ему место и ничего не изменяется. Не удивляйся, если я плачу от волнения, ибо лишь теперь я чувствую, что возвращаюсь домой после того, как увидел много чуждого, непонятного и достойного презрения. О, благословенный прут, ставящий каждого на свое место и разрешающий все проблемы, нет ничего, подобного тебе!
Он немного всплакнул, а затем отправился смазывать скарабея, но я заметил, что он больше не употребляет такого хорошего масла, как прежде. Земля приближалась, и он, несомненно, воображал, что теперь в Египте ему будет достаточно его собственной природной хитрости.
Когда мы стали на якорь в огромной гавани Нижнего Царства, я впервые понял, что устал от ярких красок, пышных одежд, курчавых бород и толстых тел. Узкие бедра носильщиков, их набедренные повязки, выбритые подбородки, их речь — речь Нижнего Царства, запах их пота, речного ила, тростника и порта — все отличалось от Сирии, все было привычным.
Сирийские одежды, которые я носил, начали раздражать и стеснять меня. Закончив дела с портовыми чиновниками и подписав свое имя на множестве бумаг, я тотчас же отправился покупать новую одежду. После такого обилия шерсти тонкое полотно было сладко для кожи. Но Капта решил остаться сирийцем, ибо опасался, что его имя все еще значится в списке беглых рабов, хотя он и получил от смирненских властей глиняную табличку, удостоверяющую, что он родился рабом в Сирии, где я законно купил его.
Потом мы погрузились вместе с нашими пожитками на речное судно, чтобы продолжить наше путешествие вверх по Нилу. Проходили дни, и мы все больше погружались в жизнь Египта. По обеим сторонам реки лежали подсыхающие поля, где медлительные быки тащили деревянные плуги и работники шли по борозде с опущенными головами, сея зерно. Ласточки носились, беспокойно щебеча, над медленно текущей водой и илом, в котором они вскоре должны были исчезнуть на время летнего зноя. Изогнутые пальмы тянулись вдоль берегов, и в тени высоких сикоморов теснились низкие сельские хижины. Судно приставало в больших и маленьких городах, и не было в порту таверны, куда не забегал бы Капта, чтобы промочить горло египетским пивом, похвастаться и рассказать фантастические истории о своих странствиях и моем искусстве, тогда как его аудитория, состоящая из портовых рабочих, слушала, хохотала, шутила и призывала богов.
Так я вновь увидел вершины трех холмов на фоне восточного неба — вечных стражей Фив. Дома стояли теперь ближе друг к другу, бедные селения уступили место богатым предместьям, пока городские стены не поднялись, как холмы. Я видел крышу огромного храма и его колонны, бесчисленные постройки вокруг него и священное озеро. Город Мертвых простирался к западу до холмов. Храм сиял белизной на фоне желтых склонов, и ряды колонн в храме великой царицы все еще сохраняли изображения цветущих деревьев. За холмами лежала запретная долина со змеями и скорпионами, где в песке, у входа в гробницу великого фараона, навеки упокоились высохшие тела моих родителей, Сенмута и Кипы. Еще дальше к югу вдоль берега поднимался воздушным золотом дворец фараона, смутно различимый среди его стен и садов. Я хотел знать, обитает ли здесь мой друг Хоремхеб.
Судно подошло к хорошо мне знакомому каменному причалу. Ничто не изменилось, и через несколько улиц находилось то место, где я провел детство, не представляя себе, что некогда мне предстоит погубить жизнь моих родителей. Песок времени, который занес эти горькие воспоминания, слегка зашевелился. Я жаждал спрятаться и закрыть лицо и не испытывал никакой радости, хотя снова слышал шум большого города, а торопливая и беспокойная людская суета доносила до меня лихорадочный пульс Фив. Я не строил никаких планов относительно моего возвращения, решив, что все будет зависеть от моей встречи с Хоремхебом и его положения при дворе. Но, едва мои ноги коснулись камней причала, в моей голове зародился план, не обещающий ни славы, ни богатства, ни щедрых даров за все накопленные мною знания, как это прежде бывало в моих мечтах, но безвестную, простую жизнь среди бедных пациентов. Все же я преисполнился странной безмятежности, увидев явственно свое будущее. Это решение, этот сокровенный плод опыта, невидимо созрело во мне Когда меня окружил шум Фив и мои ноги коснулись раскаленных камней верфи, я снова стал ребенком, наблюдающим с серьезностью и любопытством в глазах за работой моего отца Сенмута среди больных.
Я прогнал носильщиков, которые шумно докучали мне, ссорясь друг с другом, и сказал Капта.
— Оставь наши вещи на судне и поторопись купить мне дом, все равно какой, дом близ порта, в бедной части города, возле того места, где стоял дом моего отца до того, как его снесли. Поспеши, чтобы я мог сегодня же поселиться там, а завтра начать работать.
У Капта отвисла челюсть, и лицо его напоминало бессмысленную маску. Он воображал, что мы поселимся в лучшей гостинице и что рабы будут готовы к услугам. Все же на этот раз он не произнес ни слова протеста, только взглянул мне в лицо, закрыл рот и ушел с поникшей головой.
В этот вечер я вошел в дом в бедной части города, который прежде принадлежал медеплавильщику. Мои вещи перевезли туда же, и там я расстелил свою циновку на земляном полу. Огонь горел в очагах перед хижинами бедняков, и запах жареной рыбы плыл над грязными, несчастными, больными кварталами. Потом зажглись светильники над дверями увеселительных заведений, и сирийская музыка нестройными звуками полилась из таверн, сливаясь с криками подвыпивших матросов, и небо над Фивами сияло красными отблесками от бесчисленных светильников в центре города. Я прошел из конца в конец много чужих дорог, набираясь мудрости и вечно убегая от себя, и пришел домой.
4
На следующее утро я сказал Капта:
— Найди мне врачебную вывеску, чтобы поместить ее над моей дверью, простую вывеску без украшений и не раскрашенную. И кто бы ни спрашивал меня, не говори ничего о моей славе или дарованиях, но только что врач Синухе принимает пациентов, как богатых, так и бедных, и требует лишь такого вознаграждения, какое позволяют им средства.
— Бедный народ? — повторил Капта в искреннем ужасе. — Не болен ли ты, господин? Не пил ли ты болотную воду, не ужалил ли тебя скорпион?
— Делай так, как я приказал, если желаешь остаться со мной. Если этот простой дом тебе не по душе и если запах бедности оскорбляет твой нежный сирийский нос, ты волен уйти и отправиться куда тебе вздумается. Полагаю, ты украл у меня достаточно для того, чтобы купить себе собственный дом и взять жену, если ты этого пожелаешь. Я не буду препятствовать тебе.
— Жену? — воскликнул Капта с еще большим ужасом. — Поистине, господин, ты болен и у тебя лихорадка. Зачем мне брать жену, которая станет притеснять меня и принюхиваться, не пахнет ли от меня, когда я возвращаюсь из города, и которая утром, когда я проснусь с головной болью, будет стоять возле меня с палкой в руке и дурными словами на языке? Зачем жениться, когда самая простая рабыня может дать мне все то же самое? Я уже обсуждал с тобой это дело. Но ты — мой господин, твоя дорога — моя дорога, и твое наказание — мое, хотя я думал, что наконец достиг спокойствия и мира после всех ужасных испытаний, которые ты навлек на меня. Если тебе вполне удобно спать на тростнике, тогда он хорош и для меня. Несчастные вокруг нас пользуются тем преимуществом, что есть таверны и увеселительные заведения, доступные им. Таверна под названием «Хвост крокодила», о которой я рассказывал, находится недалеко отсюда. Надеюсь, ты извинишь меня, если я сегодня пойду туда и напьюсь. Все это сильно потрясло меня, и я должен прийти в себя. В такое я никогда не поверил бы! Только безумец прячет бриллиант в навозной куче, так же и ты хоронишь свое искусство и свои знания.
— Капта, — сказал я, — каждый человек появляется на свет голым, и болезнь не различает богатых и бедных, египтян и сирийцев.
— Может быть, но между подарками, которые они приносят врачу, большая разница, — нравоучительно заметил Капта. — Твоя мысль прекрасна, и я ничего не имел бы против нее, если бы некоторые другие лица претворили ее в жизнь, чтобы мы наконец после всех наших невзгод имели возможность хоть повеситься на золотом суку. Такое намерение, как твое, больше подходит тому, кто рожден в рабстве; у меня самого были такие мысли, когда я был помоложе, пока палка не вбила в меня здравый смысл.
— Чтобы ты мог понять мою окончательную цель, — продолжал я, — скажу тебе, что, если когда-нибудь я найду подкинутого ребенка, я усыновлю его и приму как своего собственного.
— А почему? — допытывался Капта, сбитый с толку. — Для подкидышей есть дом в храме. Некоторых из них воспитывают, чтобы сделать из них жрецов низшей ступени, тогда как другие, превращенные в евнухов, ведут в женских покоях фараонов и знати жизнь такую блестящую, о которой их матери не могли и мечтать. Если ты хочешь сына, что весьма понятно, нет ничего проще. Если ты не хочешь купить рабыню, то всегда можешь соблазнить какую-нибудь бедную девушку, которая будет счастлива и благодарна тебе за заботу о ее ребенке и за то, что ты избавишь ее от позора. Но дети — обуза, и радость, доставляемая ими, конечно, преувеличена, хотя я и мало могу сказать об этом, поскольку никогда не видел никого из моих детей, а их, должно быть, много здесь и там, в разных местах света. Ты поступил бы умнее, если бы сегодня же купил какую-нибудь молодую рабыню. Она также помогала бы мне, ибо мои ноги не гнутся и руки у меня дрожат после всех наших испытаний, особенно по утрам. Смотреть за домом и готовить тебе пищу слишком трудно для меня, поскольку я должен также наблюдать за помещением твоих денег.
— Я не думал об этом, Капта. Все же я не куплю рабыню. Ты можешь нанять служанку, если хочешь, ибо большего ты не заслуживаешь. Если ты останешься в моем доме, то волен приходить и уходить, когда тебе вздумается, как заслуживает твоя верность, и полагаю, что благодаря твоей неутолимой жажде ты сможешь получить много ценных для меня сведений. Поэтому делай, как я сказал, и не задавай мне больше вопросов, ибо мое решение созрело из чего-то внутри меня, из чего-то, что сильнее меня и чему нельзя противоречить.
После этого я пошел разузнать о своих друзьях. В «Сирийском кувшине» я спрашивал о Тутмесе, но там был новый хозяин, и он не мог сказать мне ничего о каком-то бедном художнике, который жил тем, что рисовал кошек в книжках с картинками для детей богатых. Тогда я отправился в казармы, чтобы расспросить о Хоремхебе, но и это место опустело. Во дворе не было ни. борцов, ни копьеносцев, наносящих удары по мешку, набитому тростником, не было там и огромных котлов, дымящихся, как прежде, под кухонными навесами. Все было пусто.
Неразговорчивый шарданский сержант уставился на меня, ковыряя пальцами песок. У него было костлявое, не смазанное маслом лицо, но он поклонился, когда я спросил о Хоремхебе, военачальнике фараона, который несколько лет назад вел войну с кабирами в Сирии. Он все еще военачальник, сказал мне этот человек на ломаном египетском языке, но уже несколько месяцев он находится в земле Куш, где расформировывает гарнизоны и освобождает от службы отряды. Никто не знает, когда он вернется. Я дал этому человеку серебряную монету, потому что он казался таким удрученным, и после этого он позабыл о своем шарданском достоинстве, улыбнулся и в восторженном изумлении поклялся именами каких-то неизвестных богов. Когда я собрался уходить, он удержал меня, невозмутимо указав рукой на двор.
— Хоремхеб — великий начальник, который понимает солдат и сам не знает страха, — сказал он. — Хоремхеб — лев, а фараон — безрогий козел. В казармах пусто: ни денег, ни пищи. Мои товарищи попрошайничают по всей стране. Не знаю, что будет. Амон благословит тебя за твое серебро, ты хороший человек. Я не пил вина уже несколько месяцев и чувствую только страх. Я покинул свою страну, ибо мне многое сулили. Египетские командиры, набиравшие рекрутов, ходили от палатки к палатке и обещали много серебра, много женщин, много вина. А теперь? Ни серебра, ни вина, ни женщин!
Он сплюнул, чтобы показать свое отвращение, и растер плевок в пыли мозолистой ногой. Он был очень печальный, этот шардан, и я огорчился за него, поняв из сказанного, что фараон распустил солдат и расформировывает отряды, которые были набраны за границей его отцом. Мои мысли вернулись к старому Птагору, и, чтобы узнать, где он может быть, я набрался храбрости и отправился в Обитель Жизни в храм Амона поискать в тамошних архивах его имя. Но хранитель архивов сказал мне, что царский черепной хирург покоится в Городе Мертвых уже с год или больше. Так что я не нашел в Фивах ни одного друга.
Уже войдя в храм, я прошел в огромную залу с колоннами, в священные сумерки Амона. Благовоние курений плыло вокруг разноцветных каменных колонн с их разнообразными священными надписями, и далеко вверху мелькали ласточки, влетая и вылетая сквозь каменные решетки окон. Но храм был почти пуст и наружный двор тоже, а в бесчисленных лавках и мастерских было меньше споров и суматохи, чем в прежние дни. Бритые жрецы в белых одеяниях с намазанными маслом головами недоверчиво смотрели на меня, и люди во дворе тихо беседовали, часто поглядывая по сторонам, словно боясь соглядатаев. Оживленный шум этого двора, так хорошо знакомый мне в дни, когда я учился и когда он походил на вздохи ветра в тростниках, сменился тишиной. Я не испытывал никакой любви к Амону, но вопреки себе самому был охвачен грустью как человек, который вспоминает свою юность, какая бы она ни была, веселая или печальная.
Когда я ходил между колоннами и огромными статуями фараонов, я заметил, что рядом со старым храмом вырос новый, огромных размеров и чрезвычайно странного вида. Вокруг него не было стен, и, войдя, я обнаружил, что колоннада окружала открытый двор, а на алтаре лежали жертвоприношения в виде зерна, цветов и плодов. Большой резной рельеф изображал Атона, изливающего свои лучи на фараона, который приносил жертву, и каждый луч оканчивался благословляющей рукой: она держала крест жизни. Головы облаченных в белые одеяния жрецов не были выбриты, большинство из них были юноши. Их лица горели в экстазе, когда они пели священную песнь, слова которой, как я вспомнил, я уже слышал когда-то прежде, в далеком Иерусалиме. Но еще большее впечатление, чем жрецы, производили сорок колоссальных колонн, с каждой из которых взирал новый фараон, вырезанный в натуральную величину, с плотно скрещенными на груди руками; в руках он держал жезл и плеть — символы власти.
То, что эти скульптурные колонны были изображениями фараона, я видел отчетливо, ибо узнал это страстное лицо, эти широкие бедра и тонкие руки и ноги. Меня охватил благоговейный восторг, ибо художник был достаточно искусен и достаточно смел, чтобы вырезать эти статуи, ведь свободное искусство, которого некогда страстно желал мой друг Тутмес, воплотилось здесь в зловещем искажении. Все неправильности тела фараона были неестественно подчеркнуты — непомерно широкие бедра, тощие лодыжки и тонкая шея изувера, как если бы они были наделены каким-то тайным смыслом. Ужаснее всего было лицо фараона — это странное длинное лицо с разлетающимися бровями и выдающимися скулами, с таинственной иронической улыбкой сновидца и богохульника, блуждающей на тонких губах. В храме Амона каменные фараоны восседали по обе стороны пилонов — величественные, богоподобные гиганты. Здесь это разбухшее жилистое существо в образе человека, который видел дальше других, пристально глядело с сорока колонн на алтари Атона. Вся его заключенная в камень фигура воплощала интуицию и напряженный фанатизм.
Я весь дрожал, когда смотрел на эти колонны, потому что в первый раз увидел Аменхотепа IV таким, каким он сам себе казался. Я повстречал его однажды, когда он был хрупким тщедушным юношей, изнуренным священной болезнью. Наблюдая его глазами врача, хотя и неопытного, я принял его слова за бред исступленного. Теперь я видел его таким, каким видел его скульптор со смешанным чувством любви и ненависти — скульптор, смелость которого была непревзойденной в Египте. Ибо если какой-нибудь его предшественник осмелился бы создать такое подобие фараона, его изувечили бы и повесили бы вниз головой на стене за измену.
В храме было всего несколько человек. Некоторые из них, судя по царскому полотну, тяжелым воротникам и драгоценностям, на них надетым, были знатью и членами царской семьи. Простой народ слушал песнопения жрецов с унылыми тупыми лицами, ибо слова были новыми и заметно отличались от старинных заклинаний, которые переходили к людям в течение двух тысяч лет, начиная со строительства пирамид. Уши верующих с детства были приучены к этим старинным молитвам. Люди понимали их сердцем, хотя, может быть, и не очень-то задумывались над их смыслом.
Все же, когда гимн кончился, какой-то старик, который, судя по одежде, казался сельским жителем, почтительно вышел вперед, чтобы поговорить со жрецами и купить подходящий талисман, или что-нибудь от дурного глаза, или клочок бумага с начертанным на нем магическим текстом, если это можно было купить за сходную цену. Жрецы сказали ему, что такие предметы не продаются у них в храме, поскольку Атон не нуждается ни в каком волшебстве, ни в дарах, ни в жертвоприношениях, но свободно приходит к каждому, кто верит в него. Оскорбленный старик пошел своей дорогой, недовольный ложью и дурачеством, и я видел, как он вошел в старые, хорошо знакомые врата Амона.
Затем к жрецам подошла еще более старая торговка рыбой и, благожелательно взглянув на них, спросила:
— Разве никто не приносит Атону в жертву баранов или быков, чтобы вы, бедные, тощие парнишки, могли время от времени получать немного мяса? Если ваш бог так силен и могуществен, как про него говорят, даже сильнее, чем Амон, хотя в это я не могу вполне поверить, его жрецы должны быть жирными и лосниться от хорошей жизни. Я всего-навсего простая женщина и плохо в этом разбираюсь, но от всего сердца могу пожелать вам побольше мяса и жира.
Жрецы рассмеялись и стали шептаться, как озорные мальчишки. Старший из них снова стал серьезным и сказал женщине:
— Атон не желает крови от жертвоприношений, и не следует тебе говорить в его храме об Амоне, ибо Амон — ложный бог, чей трон скоро падет и чей храм превратится в развалины.
Женщина поспешно отступила назад, плюнула на пол, сделала священный знак Амона и воскликнула:
— Это сказал ты, а не я! Пусть проклятие обрушится на тебя!
Она заторопилась прочь, а вместе с ней ушли и другие, через плечо оглянувшись с тревогой на жрецов. Но те только смеялись и в один голос кричали людям вдогонку:
— Ступайте, маловерные, но Амон — ложный бог! Амон — идол, и его власть падет, как трава под серпом.
Затем один из уходивших взял камень и швырнул его, и он попал одному из жрецов, в лицо, так что потекла кровь. Он закрыл лицо руками, горестно причитая, тогда как другие жрецы стали звать стражников. Но зачинщик уже улепетывал и смешался с толпой перед пилонами храма Амона.
Все это заставило меня о многом задуматься. Подойдя к жрецам, я сказал им:
— Я, конечно, египтянин, но долго жил в Сирии и не знаю этого нового бога, которого вы называете Атоном. Не будете ли вы добры рассеять мое невежество и объяснить мне, кто он такой, чего требует и как ему нужно поклоняться?
Они колебались и изучали мое лицо, подозревая насмешку, но наконец ответили:
— Атон — единственный бог. Он создал землю и реки, человеческий род и животных и все, что есть на земле. Он вечен, и ему поклонялись, как Ра в его прежних проявлениях, но в наше время он открылся как Атон своему сыну фараону, который живет по правде. Он — единственный бог, а все другие — идолы. Он не отвергает никого из тех, кто обращается к нему. Богатые и бедные равны перед ним. И каждое утро мы приветствуем его в диске солнца. Он благословляет землю своими лучами; он светит одинаково добрым и злым и предлагает каждому крест жизни. Приняв его, ты станешь его слугой, ибо сущность его есть любовь. Он бессмертен и вечен и присутствует повсюду; ничто не происходит помимо его воли. Благодаря могуществу Атона фараон может заглядывать в сердца всех людей и проникать даже в самые сокровенные их мысли.
Но я возразил:
— Тогда он не человек, ибо ни один человек не властен заглядывать в сердца других.
Они посовещались между собой и ответили:
— Хотя сам фараон, возможно, желает быть только человеком, все же мы не сомневаемся в его божественной сущности, и это показывают его видения, благодаря которым он может прожить много жизней в короткий промежуток времени. Но лишь те, кого он любит, могут узнать, почему художник изобразил его на этих колоннах одновременно мужчиной и женщиной, поскольку Атон — живая сила, которая оживляет семя мужчины и выводит ребенка из чрева женщины.
Тогда я поднял руки в притворном отчаянии и, сжимая голову, воскликнул:
— Я всего-навсего простой человек, такой же простой, как давешняя женщина, и я не могу полностью понять эту вашу премудрость. Более того, это кажется неясным даже вам самим, поскольку вы должны были посоветоваться друг с другом, прежде чем смогли ответить мне.
Они громко возражали:
— Атон так же совершенен, как совершенен солнечный диск, и все, что существует, живет и дышит в нем, — совершенно. Человеческая мысль несовершенна и подобна туману, и поэтому мы не можем по-настоящему просветить тебя, поскольку сами всего не знаем, но должны узнавать его волю день за днем. Одному только фараону полностью открылась его воля — фараону, его сыну, который живет по правде.
Эти слова попали в цель, ибо показали мне, что сердца этих жрецов были непоколебимы, несмотря даже на то, что они одевались в тонкое полотно, умащивали волосы маслом, наслаждались восхищением женщин и насмехались над простыми людьми. Та часть души моей, которая созрела независимо от моей воли или знания, отозвалась на эти слова. Впервые я задумался о том, что человеческая мысль, конечно, может быть несовершенна и за ее пределами могут существовать такие вещи, которых не видит глаз, не слышит ухо и их нельзя взять рукой. Возможно ли, что фараон и его жрецы нашли эту конечную истину и назвали ее Атоном?
5
Были сумерки, когда я вернулся домой. Над моей дверью висела простая вывеска, а во дворе сидели на корточках несколько грязных людей, терпеливо ожидая меня. Капта с недовольным видом расположился на крыльце, отгоняя мух от лица и ног пальмовым листом. Мух занесли пациенты, но он утешался свежепочатым кувшином пива.
Я велел ему первой привести ко мне мать, державшую на руках истощенного ребенка. Лекарством для нее было несколько медных монет, на которые она могла купить себе пищу, чтобы иметь возможность кормить грудью свое дитя. Затем я осмотрел раба, которому раздавили на мельнице несколько пальцев, так что сплющились кости и суставы; я успокоил его глотком вина, чтобы он мог забыть о боли. Потом пришел старый писец с опухолью на шее; она была величиной с голову ребенка, так что глаза его были выпучены и он держал голову набок и с трудом дышал. Я дал ему экстракт из морских водорослей, о которых узнал в Смирне, хотя и не верил в то, что это ему теперь поможет. Он вынул из чистого лоскута две медные монетки и предложил их мне, умоляюще глядя на меня и стыдясь своей бедности. Я не взял их, сказав, что прибегну к его услугам, как только мне нужно будет что-нибудь написать. Он ушел, радуясь, что сберег свои деньги.
Девушка из близлежащего увеселительного заведения также просила моей помощи, ибо у нее на глазах были такие болячки, что это мешало ей заниматься ее ремеслом. Я очистил ее глаза и смешал для нее примочки. Она застенчиво стала передо мной обнаженная, предлагая мне то единственное, что могла предложить. Не желая оскорблять ее резким отказом, я сказал, что должен воздерживаться от женщин из-за серьезного лечения, которое я собирался кому-то назначить. Этому она поверила и восхитилась моему воздержанию. Более того, чтобы не обидеть ее, я удалил несколько уродующих ее бородавок с ее бока и живота, предварительно втерев обезболивающую мазь, чтобы сделать операцию нечувствительной, и она, довольная, ушла.
Таким образом, за первый день работы я не получил и на щепотку соли, и Капта ухмылялся, подавая мне жареного гуся, приготовленного по-фивански, — блюдо, которому нигде на свете нет равных. Он принес его из самой лучшей в городе винной лавки и сохранил горячим в нагретой печи. Он налил цветной стеклянный кубок самого лучшего вина из виноградников Амона, насмехаясь между тем над моей прибыльной работой. Но у меня на сердце было легко, и я был счастливее от этой работы, чем если бы лечил богатого купца и получил бы золотую цепь. И я добавил бы, что раб с мельницы вернулся через несколько дней, чтобы показать мне свои пальцы, которые хорошо заживали, и дал мне целый горшок муки, украденный им для меня, так что первый день моей работы все же был оплачен.
Но Капта сказал:
— Полагаю, что с сегодняшнего дня слава о тебе разнесется по всему кварталу и на рассвете в твоем дворце будет полно пациентов. Мне кажется, будто я слышу попрошаек, бормочущих друг другу: «Спеши в дом медеплавильщика, тот, что на углу, ибо туда пришел врач, который бесплатно лечит больных, не причиняя боли и очень искусно, и он дает медяки бедным матерям и делает косметические операции бедным девушкам из увеселительных заведений, не требуя никаких подарков. Идемте туда! Тот, кто придет первым, получит больше, ибо этому человеку скоро придется продать свой дом и уйти куда-нибудь еще».
Но эти болваны ошибаются. По счастливому случаю, ты — обладатель золота, которое я ловко пущу в оборот для тебя. Никогда в жизни не придется тебе страдать от нужды, но ты сможешь каждый день есть гуся, если пожелаешь, и пить лучшее вино и при этом процветать при условии, что согласишься остаться в этом скромном доме. Но, поскольку ты никогда не вел себя, как другие, я не удивлюсь, если однажды утром мне придется посыпать голову пеплом из-за того, что ты продал дом, а вместе с ним и меня — так непредсказуемы твои поступки. Право, это не удивило бы меня; поэтому, хозяин, хорошо бы записать на бумаге, что я волен приходить и уходить, когда пожелаю, и отправить эту бумагу в царские архивы. Сказанное забывается и пропадает, а бумага сохранится навсегда, если на нее поставить твою печать и если ты предложишь царским писцам подходящие подарки. У меня есть особые причины для этой просьбы, но я не стану сейчас забивать тебе голову и отнимать у тебя на это время.
Был тихий весенний вечер; уголь в жаровнях потрескивал перед глиняными хижинами, а ветер из порта нес запах кедрового дерева и сирийских благовоний. Аромат акаций сладко смешивался с запахом жареной рыбы. Я поел приготовленного по-фивански гуся, выпил вина и был очень доволен.
Я велел, чтобы Капта налил также и себе вина в глиняную чашу, и сказал:
— Ты свободен, Капта, и свободен давно, как тебе известно, ибо, несмотря на твою дерзость, ты был мне скорее другом, чем рабом, с того дня, когда дал мне серебро и медь, считая, что никогда больше их не увидишь. Будь свободен, Капта, и будь счастлив! Завтра царский писец составит положенные бумаги, которые я скреплю как египетской, так и сирийской печатью. Но скажи мне теперь, каким образом ты поместил мое состояние так, что оно приносит мне доход, хотя я ничего не зарабатываю? Отнес ли ты мое золото в казну храма, как я тебе приказал?
— Нет, господин, — отвечал Капта, глядя мне прямо в лицо своим единственным глазом. — Я не выполнил твоего приказания, поскольку оно глупо, и я никогда не подчинялся твоим глупым приказаниям, а поступал по своему собственному разумению. Я могу теперь спокойно сказать тебе это, поскольку я свободен, а ты выпил немного вина и не станешь гневаться. Более того, зная поспешность и порывистость твоего характера, которых еще не смягчил возраст, я предусмотрительно спрятал твою палку. Я говорю тебе это для того, чтобы ты не пытался найти ее, когда я начну рассказывать о том, что сделал. Только простаки помещают свои деньги в храм на хранение, ибо храм ничего не выплачивает им за них, а только вымогает подарки за то, что прячет их в своих подвалах и держит возле них стражу. Это глупо также и по другой причине: налоговому управлению известно тогда, сколько у тебя золота, и в результате оно быстро утекает оттуда, где лежит, пока ничего не останется. Единственно разумный способ накопить золото — пустить его в оборот, так, чтобы сидеть сложа руки и жевать жаренные с солью семена лотоса, дабы возбудить приятную жажду. Я бегал весь день по городу на своих окостеневших ногах, чтобы разузнать, как бы получше поместить твои капиталы, пока ты разгуливал по городу. Так как мне всегда хочется выпить, я разузнал очень много и среди прочего то, что Амон раздает землю.
— Вот здесь ты врешь! — воскликнул я, ибо даже мысль эта была абсурдна. — Амон никогда не продает — он покупает. Амон всегда покупал, и сейчас ему принадлежит четвертая часть всех земель в стране. И он никогда не откажется от того, что получил однажды.
— Конечно, конечно, — примирительно проговорил Капта, подливая еще вина в мой стеклянный кубок и не так заметно в свой глиняный. — Каждый благоразумный человек знает, что земля — единственная надежная собственность, которая не теряет своей ценности при условии, что ты сохраняешь хорошие отношения с землемерами и у тебя хватает ума одаривать их после каждого половодья. Тем не менее, правда, что Амон продает землю срочно и тайно каждому верующему, у кого есть деньги. Я тоже был совершенно обескуражен, услышав об этом, и разузнал об этом еще подробнее. Амон действительно продает землю, и по дешевке. Ты знаешь, что он владеет самыми плодородными участками земли, и если дела обстоят, как прежде, ничто не было бы столь заманчивым, как такая покупка, ибо выгода — несомненная и быстрая. Амон продал очень большие площади земли и скопил в своих погребах все наличное золото Египта, так что цена недвижимости упала в значительной мере. Но все эти дела секретны, и я не услышал бы ничего о них, если бы мое желание выпить не привело меня к тем людям, которые в курсе дела.
— Не говори, что ты купил землю, Капта! — вскричал я с тревогой, но он успокоил меня.
— Я не так глуп, господин, ибо тебе следует знать, что я родился не у навозной кучи, хоть я и раб, а на мощеной улице среди высоких домов. Я ничего не знаю о земле. Предложение Амона так необычайно соблазнительно, что в нем, должно быть, таится какой-нибудь подвох, а это подтверждается подозрениями богатых людей насчет храмовых сокровищ. Считаю, что все это дело из-за нового бога фараона. Но, сообразуясь лишь с твоей выгодой, я купил для тебя несколько доходных построек в городе: магазины и жилые дома, ибо они приносят значительный ежегодный доход. Нужна только твоя печать и подпись, чтобы завершить сделки. Верь мне, я купил их по дешевке, и если продавцы сделают мне потом подарки, это тебя не касается, а касается лишь меня и их собственной глупости. В этих сделках я ничего не украл у тебя. Но я не возражал бы, если бы ты предложил мне подарок или что-нибудь в этом роде за то, что я так удачно провел это дело.
Я немного подумал и ответил:
— Нет, Капта, я не сделаю тебе никаких подарков, потому что ты явно решил взять себе часть арендной платы и устроить собственные дела со строителями и осуществить свои собственные планы.
Капта, не смущаясь, охотно согласился с моими словами.
— Вот точно так и я смотрел на это дело, ибо твое богатство — мое богатство, а твоя выгода должна быть моей. Но действительно, услышав о сделках Амона, я очень заинтересовался сельским хозяйством. Я пошел на хлебную биржу и бродил там из таверны в таверну, слушая и поучаясь. С твоим золотом и с твоего разрешения, господин, я скупил бы запасы пшеницы — из урожая будущего года — и это самый выгодный путь, и цены все еще очень умеренные. Я предлагаю держать это про запас и тщательно охранять, ибо чую, что цены на зерно будут расти и дальше. Теперь, когда Амон продает и каждый дурак станет землевладельцем, урожай не может быть таким же прибыльным, как прежде. Поэтому я купил амбары для зерна — сухие и солидные постройки. Когда они нам будут больше не нужны, мы сможем сдать их в аренду торговцам зерном на выгодных условиях.
На мой взгляд, Капта взвалил на себя излишние заботы и хлопоты, но планы эти развлекали его, и я не имел ничего против того, чтобы так поместить деньги, поскольку сам не умел управляться с ними. Так я ему и сказал.
Стараясь скрыть свое торжество, он продолжал, прикидываясь раздраженным:
— Было еще более выгодное дельце, которым я хотел заняться для твоей пользы. Продавалась одна из самых больших контор по торговле рабами, а думается мне, можно сказать, что я знаю о рабах все нужное, поскольку сам всю жизнь был рабом. Я знаю, как скрыть недостатки и дефекты у раба, и могу с большой пользой применять палку — то, чего ты, господин, делать не умеешь, если мне позволено упомянуть сейчас о том, что твоя палка спрятана. Все же меня гнетут опасения, что этот превосходный случай будет упущен и ты не согласишься на мой план. Прав ли я?
— Ты совершенно прав, Капта. Работорговля — нечто такое, во что мы не можем пускаться, ибо это грязное и низкое занятие, хотя почему это так, не знаю, поскольку все покупают рабов, пользуются рабами и нуждаются в рабах. Так всегда было и будет, и все же что-то говорит мне, что я не могу быть работорговцем, хотя у меня и есть раб.
Капта облегченно вздохнул и сказал:
— Я верно читаю в твоем сердце, господин, и, значит, мы избежим этого зла, ибо, поразмыслив хорошенько, я заподозрил, что могу уделить чрезмерное внимание женщинам, когда буду их оценивать, и зря растрачу свои силы. Я не могу больше позволить себе этого, поскольку становлюсь стар; мои ноги плохо гнутся, а руки плачевно дрожат, особенно по утрам, когда я просыпаюсь и еще не успел глотнуть пива. Познав таким образом самого себя, я спешу заверить тебя, что я купил только солидные дома, которые принесут скромный, но надежный доход. Я не купил ни увеселительного заведения, ни трущоб, где разваливающиеся лачуги приносят больше дохода, чем уютные дома зажиточных людей.
Вдруг Капта оробел и посмотрел на меня испытующе своим единственным глазом, оценивая, насколько милостиво я расположен. Я налил вина в его чашу, побудив его высказаться, ибо никогда не видел, чтобы он сомневался в себе, и это подстрекнуло мое любопытство.
Наконец он сказал:
— Моя просьба дерзка и нахальна, но, поскольку, согласно твоему решению, я свободен, я осмеливаюсь произнести ее в надежде, что ты не рассердишься. Я хочу, чтобы ты пошел со мной в винную лавку в порту под названием «Хвост крокодила», о которой я так часто говорил тебе; мы могли бы вместе насладиться вином, и ты сам увидишь, что это за место, о котором я мечтал, когда сосал через тростинку мутное пиво в Сирии и Вавилоне.
Я разразился хохотом и не обиделся, ибо вино привело меня в хорошее настроение. Весенние сумерки наводили грусть, и я был очень одинок. Хотя господину было неприлично идти со слугой в жалкую портовую таверну и пить напиток, который за свою крепость назывался «крокодильим хвостом», я все же вспомнил, что Капта по доброй воле вступил со мной в некие мрачные врата, хорошо зная, что никто еще не выходил оттуда живым. Я положил руку ему на плечо и сказал:
— Сердце говорит мне, что «Хвост крокодила» — самое подходящее место, чтобы завершить этот день. Пойдем.
Капта запрыгал от радости, как это любят делать рабы, забыв, что ноги у него окостенели. Он побежал и принес запрятанную им мою палку и накинул мне на плечи плащ. И мы отправились в порт и в «Хвост крокодила», а ветер приносил с реки запах кедра и поросшей зеленью земли.
6
«Хвост крокодила» находился в центре портовой части, в темном переулке между огромными товарными складами. Стены ею из глиняного кирпича были неимоверной толщины, так что летом там было прохладно, а зимой сохранялось тепло. Над дверью рядом с кувшином пива и кувшином вина красовался огромный высушенный крокодил с блестящими стеклянными глазами, в его широко раскрытой пасти виднелись ряды зубов. Капта нетерпеливо втащил меня внутрь, позвал хозяина, и мы прошли к сиденьям, покрытым подушками. Его там хорошо знали, и он чувствовал себя как дома; другие завсегдатаи, подозрительно поглядывая на меня, продолжали беседовать. К своему удивлению, я обнаружил, что пол был деревянным и стены тоже обшиты панелями. На стенах висели трофеи из многих далеких стран: негритянские копья и перья, раковины с морских островов и разрисованные критские чаши.
Капта с гордостью проследил за моим взглядом и сказал:
— Тебя, конечно, удивляет, что стены деревянные, как в домах богатых людей. Знай же, что все эти доски взяты со старых разбившихся кораблей, и хотя я стараюсь не думать о морских путешествиях, все же должен упомянуть, что эта пожелтевшая избитая морем доска плавала в страну Пунт, а эта коричневая терлась о причалы морских островов. Но, с твоего позволения, давай насладимся «хвостом», который сам хозяин приготовил для нас.
Мне вручили прекрасный кубок, отлитый в виде раковины мидии — такой формы, что его приходилось держать на ладони. Я не взглянул на него, устремив глаза только на женщину, которая подала его мне. Она была уже не так молода, как большинство служанок, и не прохаживалась вокруг полуобнаженная, чтобы привлекать взгляды и возбуждать посетителей. Она была пристойно одета, с серебряным кольцом в одном ухе и с серебряными браслетами вокруг тонких запястий. Она бесстрашно встретила мой взгляд и не потупила глаза, как обычно делают большинство женщин. Ее брови были красиво вь щипаны, и в глазах проглядывала грусть и улыбка. Это были теплые карие живые глаза, и сердце радовалось, глядя на нее. Я взял чашу, предложенную мне ею, на ладонь, и Капта сделал то же самое.
Все еще глядя в ее глаза, я невольно сказал:
— Как тебя зовут, красавица?
Она ответила низким голосом:
— Меня зовут Мерит, и не подобает называть меня красавицей, как делают застенчивые мальчики, пытаясь в первый раз погладить бедра служанки. Надеюсь, что ты запомнишь это, если когда-нибудь еще окажешь честь нашему дому, Синухе-врач, Тот, кто Одинок.
Устыдившись, я ответил:
— У меня нет ни малейшего желания гладить твои бедра, прекрасная Мерит. Но откуда ты знаешь мое имя?
Она улыбнулась, и улыбка была прекрасной на ее смуглом лице, и она насмешливо ответила:
— Твоя слава опередила тебя, Сын Дикого Осла, и, увидев тебя, я поняла, что слава не лжет, а говорит правду во всех деталях.
В глубине ее глаз чудилось, как мираж, какое-то затаенное горе; оно проникало в мое сердце сквозь ее улыбку, и я не мог сердиться на нее.
— Если под славой ты имеешь в виду Капта — моего бывшего раба, которого я сегодня отпустил на свободу, то ты очень хорошо знаешь, что его словам нельзя доверять. С самого рождения его язык не способен отличать правду от лжи, но одинаково привержен тому и другому, конечно, если это не его пристрастие ко лжи. Я не мог отучить его от этого ни лечением, ни побоями.
Она сказала:
— Ложь может быть слаще правды, когда кто-то одинок и весна его жизни миновала. Мне приятно верить твоим словам, когда ты говоришь «прекрасная Мерит», и я верю всему, что говорит мне твое лицо. Но не попробуешь ли ты «крокодильего хвоста», который я принесла тебе? Мне интересно знать, можно ли сравнить его с каким-нибудь другим напитком в чужих странах, которые ты посетил.
Все еще не сводя с нее глаз, я поднял кубок и выпил. Потом я уже не смотрел на нее больше. Кровь прилила к моей голове, я стал задыхаться, и горло мое горело.
Наконец, овладев собой, я произнес, задыхаясь:
— Беру назад свои слова о Капта, ибо по крайней мере в этом он не солгал. Твой напиток сильнее всех, какие я пробовал, и обжигает больше, чем нефть вавилонян, которая горит в их светильниках. Не сомневаюсь, что этот напиток свалит даже сильного мужчину, как удар хвоста крокодила.
Мое тело пылало, а во рту держался привкус пряностей. Сердце мое окрылилось, и я сказал:
— Клянусь Сетом и всеми демонами, не представляю, как смешивают такое питье, и даже не знаю, оно околдовало меня или твои глаза, Мерит. Волшебство разлилось во мне, и моя душа снова помолодела. Будет ли удивительно, если я положу руку на твои бедра, ибо в этом виноват кубок, а не я?
Она застенчиво отступила и насмешливо подняла руки. Стройная и длинноногая, она с улыбкой сказала:
— Тебе не подобает клясться. Это пристойная таверна, а я еще не так стара и не так уж давно была девицей, хотя ты, может быть, этому не поверишь. А что до этого питья, это все приданое, которое припас мне отец; потому-то этот твой раб усердно ухаживал за мной, надеясь выведать у меня задаром секрет. Но он одноглазый, старый и жирный, и не представляю, чтобы зрелая женщина могла найти в нем какое-нибудь удовольствие. Так что вместо этого ему пришлось купить таверну, и он надеется приобрести в придачу и рецепт, хотя поистине придется отвесить много золота, прежде чем мы сможем согласиться на это.
Капта строил отчаянные рожи, чтобы заставить ее замолчать.
Я снова отведал напитка и, когда его огонь прошел по моему телу, заметил:
— По правде сказать, я верю, что Капта хотел бы разбить с тобой кувшин ради этого напитка, хотя он и знает, что вскоре после свадьбы ты начнешь ошпаривать ему кипятком ноги. Даже без этого я хорошо могу понять его чувства, когда гляжу в твои глаза, хотя ты должна помнить, что как раз сейчас во мне говорит «крокодилий хвост», а завтра я не буду отвечать за свои слова. Так это правда, что Капта приобрел эту винную лавку?
— Убирайся, нахалка! — заорал Капта, добавляя имена богов, которые узнал в Сирии. Затем, повернувшись ко мне, продолжал умоляющим голосом:
— Господин, это произошло слишком внезапно. Я собирался подготовить тебя к этому постепенно и просить твоего одобрения, когда был еще твоим слугой. Но это правда, что я купил дом этого хозяина, и я также собираюсь выведать секрет этого напитка у его дочери. Он сделал знаменитым это место в верховьях и низовьях реки — повсюду, где собираются веселые люди, и я вспоминал его ежедневно, когда был далеко отсюда. Как ты знаешь, я воровал у тебя все эти годы так ловко и умно, как только мог, и прилагал некоторые усилия, чтобы поместить собственное серебро и золото, ибо должен подумать о своей старости.
— Даже в юности профессия хозяина таверны была для меня самой завидной и привлекательной, — продолжал он, ибо «крокодилий хвост» заставил его расчувствоваться. — В те дни я, правда, воображал, что хозяин таверны может бесплатно пить столько пива, сколько влезет. Теперь я знаю, что он должен воздерживаться от этого и никогда не напиваться, и это будет лучше всего; слишком много пива действует на меня подчас так странно, что мне кажется, будто я вижу гиппопотамов или другие удивительные вещи. Владелец таверны постоянно встречает людей, которые могут быть полезны ему, и слышит все, что происходит, а это очень прельщает меня, поскольку с самой юности я всегда был чрезвычайно любопытен. Мой язык сослужит мне большую службу, и полагаю, своими рассказами я буду так развлекать гостей, что они станут невольно опустошать чашу за чашей и изумляться, когда придет время расплачиваться. По зрелом размышлении кажется, будто боги предназначили мне стать владельцем таверны и я по какому-то недоразумению родился рабом. Однако даже это теперь преимущество, ибо поистине нет такой хитрости или уловки, на которые не пустился бы завсегдатай, чтобы ускользнуть тайком, и которой я не знал бы или не применил сам в свое время.
Капта осушил свою чашу и, улыбаясь, положил голову на руки.
— Кроме того, — продолжал он, — дело это — самое надежное и верное из всех, ибо все что угодно может пройти, но жажда остается. Даже если бы пошатнулась власть фараона или боги попадали со своих тронов, все же таверны и винные лавки никогда не будут покинуты их посетителями. Человек пьет вино в радости и в горе. Он пьет, когда преуспевает, и в вине топит свои неудачи. Это место уже мое, но, поскольку прежний хозяин управляет им с помощью этой ведьмы Мерит, мы должны делить доходы, пока я не поселюсь здесь на старости лет. Мы заключили соглашение по этому делу и поклялись всеми богами Египта. Не думаю, что он станет надувать меня больше, чем допустимо, ибо он набожный человек и ходит в храм на все празднества, чтобы принести жертву, хотя полагаю, он делает это отчасти потому, что некоторые жрецы приходят сюда. Но я не сомневаюсь в его благочестии; его не больше, чем полагается, и мудрый человек всегда будет сочетать свои коммерческие и духовные дела. Нет-нет, я не забыл, где нахожусь и что собираюсь сказать, ибо это день большой радости для меня и больше всего я рад тому, что ты не обиделся на меня, и все еще видишь во мне своего слугу, хотя я хозяин таверны, а это дело не каждый считает достойным…
После этой речи Капта начал нести чепуху и рыдать, уткнувшись головой мне в колени и с чувством обнимая их руками.
Взяв его за плечи, я толкнул его на место и сказал:
— Поистине не думаю, чтобы ты мог найти более подходящее и более надежное занятие для своей старости, и все же есть один пункт, которого я не понимаю. Если хозяин знает, что его таверна настолько прибыльна, и обладает секретом «крокодильего хвоста», отчего же он согласился продать ее тебе, а не владеет ею сам?
Капта укоризненно посмотрел на меня со слезой в своем единственном глазу и сказал:
— Разве я не говорил тысячу раз, что ты обладаешь особым даром отравлять всякую мою радость своим здравым смыслом, который горше Польши? Скажу, как он говорит, что мы были друзьями с самой юности, любили друг друга, как братья, и желали делить наше счастье и удачу! Вижу по твоему взгляду, что этого тебе мало, и признаюсь, что в этой сделке таится какой-то подвох. Ходят слухи, что будут большие волнения, когда Амон и бог фараона станут бороться между собой за власть. Как ты знаешь, в такие дни таверны страдают в первую очередь; их ставни разбивают, их хозяев порют и бросают в реку, кувшины опрокидывают, мебель разносят в щепки, а бывает и похуже — место сухое, и его поджигают. Это еще более вероятно, если хозяин из враждебного лагеря, а этот человек — приверженец Амона, и каждый это знает. Он едва ли сможет изменить свою внешность в это время. Он стал сомневаться в Амоне, услышав, что Амон начал продавать свои земли, а я, конечно, счел за лучшее раздуть эти сомнения. Ты забыл, господин, что у нас есть скарабей. Я убежден, что он сможет оказать некоторое покровительство «Хвосту крокодила», хотя он, конечно, занят разными твоими делами.
Я подумал немного и наконец сказал:
— Во всяком случае, Капта, я должен признать, что ты многого достиг за один день.
Он пропустил мимо ушей мою похвалу и ответил:
— Ты забыл, господин, что мы только вчера приехали. Но я и в самом деле действую быстро и энергично. Тебе это может показаться невероятным, но даже мой язык устал, так что даже заплетается от обыкновенного «крокодильего хвоста».
Мы поднялись, чтобы уйти, попрощались с хозяином, и Мерит подошла с нами к дверям; серебряные браслеты позвякивали на ее запястьях и лодыжках. В темноте у выхода я положил руку ей на бедро и почувствовал ее близость. Она решительно отодвинула мою руку и, оттолкнув меня от себя, сказала:
— Твое прикосновение может быть приятно мне, но я не хочу его, пока «крокодилий хвост» управляет твоими руками.
Смущенный, я поднял руки и посмотрел на них, и они очень живо напомнили мне лапы крокодила. Мы пошли к дому самым коротким путем, расстелили наши циновки и очень крепко спали этой ночью.
7
Так началась моя жизнь в бедном квартале Фив. Как и предсказал Капта, у меня было много пациентов, и денег я тратил больше, чем зарабатывал. Мне нужно было много дорогих лекарств, и не имело смысла лечить голодающих, если они не могли купить достаточно пищи и жира, чтобы восстановить силы. Подарки, которые я получал, были дешевыми, хотя они доставляли мне радость, а еще большей радостью было знать, что бедняки стали благословлять мое имя. Каждый вечер небо над Фивами озарялось огнями центральной части города. Я уставал после дневной работы и даже по ночам думал о страданиях моих пациентов. Я размышлял также и об Атоне — боге фараона.
Капта нанял старуху присматривать за домом — женщину, которая не беспокоила меня и которая, как показывало ее лицо, устала от жизни и от мужчин. Она хорошо стряпала и была спокойная. Стоя у порога, она не поносила бедняков за их дурной запах и не гнала их от меня бранью. Я скоро стал привыкать к ней, и она мне не мешала. Она была как тень, и я перестал ее замечать. Ее звали Мути.
Так шел месяц за месяцем. Волнение в Фивах усиливалось, и ничего не было слышно о возвращении Хоремхеба. Сады пожелтели от палящего солнца, и приближалась самая жаркая пора лета. Временами я жаждал разнообразия и шел с Капта в «Хвост крокодила», чтобы пошутить с Мерит и заглянуть в ее глаза, хотя она оставалась далекой мне и томила меня. Я прислушивался к разговорам других завсегдатаев и скоро обнаружил, что не для всякого в этом доме находилось место и кубок. Сюда допускали только избранных, и хотя иные из них промышляли ограблением могил или шантажом, они забывали о своем ремесле, приходя в таверну, и вели себя прилично. Я поверил Капта, когда он сказал мне, что в этом доме встречаются лишь такие люди, которые нужны друг другу. Ни один из них не был полезен мне, и здесь я тоже был чужим, хотя меня терпели и люди не сторонились меня, поскольку я был приятелем Капта.
Я многое услышал здесь; я слышал, как фараона проклинали и превозносили, однако его нового бога большей частью высмеивали. Но однажды вечером торговец благовониями пришел в таверну в изорванных одеждах и с посыпанной пеплом головой.
Он пришел утопить свое горе в «крокодильем хвосте» и закричал:
— Да будет проклят вовеки этот лжефараон, этот ублюдок, узурпатор, который делает все по прихоти к ущербу моего священного призвания! До сих пор я извлекал самую большую прибыль из сырья, которое получал из земли Пунт, и путешествия в Восточное море вовсе не были опасными. Каждое лето отправлялись корабли по торговым путям, и в течение следующего года по крайней мере два из десяти возвращались с небольшим запозданием. Так что я всегда мог точно оценить свои вклады и свою прибыль. А теперь? Видано ли большее безумие? Когда последний раз снаряжались корабли, фараон сам спустился в порт, чтобы произвести смотр флота. Он видел матросов, плачущих на борту кораблей, и их жен и детей, рыдающих на берегу и царапающих лица острыми камнями, как приличествует такому случаю, ибо хорошо известно, как много отплывает и как мало возвращается. Так было всегда со времен великой царицы. Тем не менее, верьте или нет, этот капризный мальчишка, этот проклятый фараон запретил судам плыть, чтобы ни один корабль не снаряжался в землю Пунт. Да спасет нас Амон! Каждый честный купец знает, что это значит. Это означает разорение бесчисленного количества людей, нищету и голод для жен и детей моряков. Примите во внимание состояния, вложенные в корабли и товарные склады, в стеклянные бусы и глиняные кувшины! Подумайте о египетских посредниках, которые должны теперь вечно томиться в соломенных лачугах земли Пунт, покинутые своими богами.
Только когда торговцу благовониями дали третью порцию «крокодильего хвоста», он немного успокоился.
После этого он поспешил извиниться за то, что в своем горе и негодовании выказал неуважение к фараону.
— Однако, — продолжал он, — я считаю, что царица Тайя, умная и проницательная женщина, должна бы лучше руководить своим сыном. Я думал, что жрец Эйе тоже разумный человек, но они все пытаются свергнуть Амона и не обуздывают безумного фараона. Бедный Амон! Мужчина обычно: берется за ум, когда разбивает с женщиной кувшин и женится, но эта Нефертити, царская супруга, думает только о своих нарядах и красках для лица. Верите или нет, но женщины во дворце теперь обводят глаза зеленой краской, похожей на малахит, и ходят в платьях, открытых от пупка до самого низу, на виду у мужчин.
Капта заинтересовался этим и сказал:
— Я никогда не видел такой моды ни в одной стране, хотя встречал множество любопытных вещей, особенно в отношении женских нарядов. Ты хочешь сказать, что женщины теперь расхаживают со срамными частями наружу и царица тоже?
Торговец благовониями обиделся и возразил:
— Я приличный человек, у меня есть жена и дети. Я не глядел ниже ее пупка и не считаю себя способным сделать что-нибудь столь непристойное.
Туг вмешалась Мерит, сердито говоря:
— Это твой собственный язык бесстыжий, а не новые летние наряды, которые так удивительно прохладны и отдают должное женской красоте, если только у женщины изящная фигура и пупок, не изуродованный неумелой повитухой. Ты можешь с полной безопасностью позволить своим глазам опускаться ниже, ибо под открытым платьем есть узкие набедренные повязки из тончайшего льна, которые не оскорбят ничьих глаз.
Торговец благовониями собрался было ответить на это, но третья порция «крокодильего хвоста» оказалась сильнее его языка. Поэтому он положил голову на руки и горько заплакал из-за платьев придворных женщин и над участью египтян, покинутых в земле Пунт.
Когда мы с Капта собрали уходить, я сказал Мерит у двери:
— Ты знаешь, что я одинок, твои глаза говорят мне, что ты тоже одинока. Я обдумал слова, которые ты однажды сказала мне, и верю, что иногда ложь может быть слаще правды для одинокого человека, чья первая весна миновала. Мне хотелось бы, чтобы ты носила такое же новое летнее платье, как те, о которых ты говорила, ибо ты хорошо сложена, у тебя длинные нош, и я думаю, что тебе нечего стыдиться твоего живота, если я пройдусь с тобой по улице Рамс.
На этот раз она не оттолкнула мою руку, но нежно сжала ее и ответила:
— Может быть, я сделаю гак, как ты предлагаешь. Когда я оказался на душной вечерней улице, ее обещание уже не радовало меня, скорее я исполнился грусти. Издали с реки доносились одинокие звуки тростниковой свирели.
На следующий день Хоремхеб вернулся в Фивы и вместе с ним войска. Но, чтобы рассказать об этом и обо всем, что еще произошло, я должен начать новую книгу. Все же мне следует сначала упомянуть, что за время моей практики мне дважды представился случай вскрывать черепа; один из пациентов был важной персоной, вторая была бедная женщина, которая считала себя великой царицей Хатшепсут. Оба выздоровели и были излечены, хотя полагаю, что старуха была счастливее, когда мнила себя царицей, чем тогда, когда к ней вернулся рассудок.
Книга X Небесный город
1
Летний зной был в самом разгаре, когда Хоремхеб вернулся из земли Куш. Ласточки надолго скрылись в речном иле; вода в городских водоемах зацвела, а саранча и вредители нападали на посевы. Но в Фивах сады богачей зеленели, были прохладны и роскошны, и по обеим сторонам улицы Рамс расцветали цветы, яркие, как радуга. Только бедняки нуждались в воде, и их скудная пища была загрязнена пылью, которая оседала повсюду, покрывая пленкой листья акаций и сикоморов в тех частях города, где они росли. К югу, на дальнем берегу, золотой дворец фараона с его стенами и садами возникал сквозь дымку зноя в голубом неясном сиянии, как сон. Хотя самое жаркое время уже наступило, фараон не уехал в свой летний дворец в Нижнем Царстве, а остался в Фивах. Поэтому каждый знал: что-то должно произойти. Как небо темнеет перед песчаной бурей, так и сердца людей были омрачены страхом.
Никто не удивился, увидев, как солдаты входили на рассвете в Фивы по всем южным дорогам. С запыленными щитами, блестящими медными наконечниками копий и натянутыми луками черные отряды шли маршем вдоль улиц и удивленно озирались по сторонам; белки глаз сверкали на их потных лицах. Они шли под своими варварскими знаменами в пустые казармы, где на кухне скоро вспыхнул огонь и были накалены камни, чтобы вложить их в большие глиняные котлы. Между тем корабли в заливе стояли на якоре у причала, а колесницы и кони командиров с плюмажами были высажены с судов на берег. Не было видно египтян среди этих отрядов, которые большей частью состояли из нубийцев с юга и шарданов из северо-западной пустыни. Они заняли город; сторожевые огни были зажжены на углах улиц, и река была перекрыта. Постепенно в течение дня прекратилась работа в мастерских и на мельницах, в конторах и пакгаузах. Торговцы уносили с улицы свой товар и запирали ставни на засовы, а владельцы таверн и увеселительных заведений спешили нанять сильных парней с дубинками, чтобы охранять свои владения. Люди одевались в белое и устремлялись из всех кварталов города к великому храму Амона, пока его дворцы не заполнились так, что многие собравшиеся остались за стенами.
Между тем пронесся слух, что ночью храм Амона был осквернен. Разлагающийся труп собаки был брошен на алтарь, а сторожа нашли с перерезанным горлом. Слыша это, люди со страхом косились друг на друга, но многие не могли сдержать тайного ликования.
— Почисть свои инструменты, господин, — мрачно сказал Капта. — Думаю, что до наступления ночи тебе придется много поработать. Если не ошибаюсь, тебе придется также вскрывать и черепа.
Однако до вечера не произошло ничего заслуживающего внимания, только несколько пьяных нубийцев ограбили магазины и изнасиловали двух женщин. Стражники схватили их и выпороли на виду у людей, что принесло мало утешения как купцам, так и женщинам. Услышав, что Хоремхеб находится на борту флагмана, я пошел в порт, хотя и не надеялся поговорить с ним. Стражник равнодушно выслушал меня и пошел доложить о моем приходе, а затем, к моему удивлению, вернулся и позвал меня в капитанскую каюту. Так я впервые ступил на военный корабль и оглядывался вокруг с большим любопытством; все же лишь оружием и большей численностью команды отличался он от прочих кораблей, поскольку купцы тоже украшали нос корабля и раскрашивали паруса.
Так вновь я встретился с Хорсмхебом. Он показался мне выше и гораздо осанистее, чем прежде; он был широкоплеч и мускулист. Но у него на лице появились морщинки, а усталые глаза были налиты кровью. Я низко склонился перед ним, вытянув руки вперед.
Он воскликнул с горьким смехом:
— Смотрите, это Синухе, Сын Дикого Осла! Поистине ты явился в благоприятный час!
Его положение не позволило ему обнять меня, но он обернулся к пухлому пучеглазому маленькому командиру, который стоял рядом с ним, задыхаясь от жары. Хоремхеб вручил ему золотую плеть — символ власти, проговорив:
— Вот она, принимай команду! — Сняв свой расшитый золотом воротник, он надел его на шею толстяка и добавил: — Принимай команду, и пусть кровь народа течет по твоим грязным рукам.
Потом он резко обернулся ко мне:
— Синухе, друг мой, я свободен и готов идти с тобой куда пожелаешь, и надеюсь, в твоем доме найдется циновка, где я смогу распрямить кости, ибо, клянусь Сетом и всеми демонами, я смертельно устал от споров с маньяками.
Затем он положил руки на плечи коротышки-командира, который был на голову ниже его самого, и сказал:
— Посмотри на него хорошенько, друг Синухе, и запомни все, что увидишь, ибо это человек, в чьих руках сегодня находится судьба Фив. Фараон поставил его на мое место, когда я назвал фараона безумцем. И, увидев его, ты можешь легко догадаться, что я скоро вновь понадоблюсь фараону!
Он рассмеялся и ударил себя по коленям, но смех его был невеселым; он испугал меня. Маленький командир робко взглянул на него, его глаза выкатывались от жары, и пот стекал по его лицу, шее и жирной груди.
— Не сердись на меня, Хоремхеб, — сказал он пронзительным голосом. — Ты знаешь, что я не домогался твоей плети — символа власти; я предпочитаю своих кошек и тишину моего сада грохоту войны. Но кто я такой, чтобы противиться приказам фараона? И он объявил, что войн больше не будет, но что ложный бог падет без кровопролития.
— Он выдает желаемое за действительное, — отвечал Хоремхеб. — Его сердце опережает его разум, как птица опережает улитку, так что его слова не имеют значения. Ты должен думать сам и проливать поменьше крови, будь очень осмотрителен, даже если это будет кровь египтян. Клянусь моим Соколом, я выпорю тебя собственными руками, если ты оставил свой здравый смысл в клетке с твоими породистыми котами, ибо во времена покойного фараона ты был, как я слышал, отличным воином, и, несомненно, именно поэтому фараон поручил тебе эту скучную работу.
Он стукнул нового командира по спине так, что коротышка задохнулся и слова, которые он собирался произнести, застряли у нею в глотке. Хоремхеб в два прыжка выскочил на палубу, и солдаты вытянулись и приветствовали его поднятыми копьями.
Он помахал им рукой, крикнув:
— Прощайте, мерзавцы! Подчиняйтесь этому маленькому породистому коту, который теперь носит плеть командующего. Подчиняйтесь ему так, словно он ребенок, и следите за тем, чтобы он не свалился с колесницы и не поранился своим ножом.
Солдаты рассмеялись и стали восхвалять Хоремхеба, но он рассердился и погрозил им кулаком, сказав:
— Я не прошу вас прощаться со мной! Мы скоро встретимся снова, ибо я вижу по вашим глазам, чего вы хотите. Говорю вам: ведите себя хорошо и помните мои слова, иначе я исполосую вашу шкуру, когда вернусь.
Он спросил, где я живу, и сказал это вахтенному командиру, но запретил ему отправлять свой багаж в мой дом, полагая, что он будет в большей безопасности на борту военного корабля. Затем, как в прежние дни, он обвил рукой мою шею и вздохнул:
— Клянусь, Синухе, если сегодня кто-нибудь заслужил настоящую попойку, так это я.
Я сказал ему о «Хвосте крокодила», и он так заинтересовался им, что я отважился попросить, чтобы у таверны Капта поставили особую охрану. Он сделал необходимые распоряжения вахтенному командиру, и тот обещал отобрать для этой цели несколько надежных, испытанных людей. Так я сослужил Капта службу, которая мне ничего не стоила.
Я знал к тому времени, что в «Хвосте крокодила» есть несколько маленьких уединенных комнат, где грабители могил и укрыватели краденого добра имеют обыкновение улаживать свои дела и куда иногда знатные дамы приходят на свидание с мускулистыми портовыми грузчиками. В такую комнату я и привел Хоремхеба. Мерит принесла ему в раковине «крокодилий хвост»; он проглотил его залпом, немного закашлялся и сказал: «О-о!» Он попросил еще один кубок и, когда Мерит пошла за ним, заметил, что она красивая женщина, и спросил, если ли что-нибудь между нами. Я уверил его, что ничего нет, однако был рад, что Мерит еще не купила себе открытого спереди платья. Но Хоремхеб не любезничал с ней; он почтительно поблагодарил ее и, поставив чашу на ладонь, осторожно пригубил напиток.
С глубоким вздохом он сказал:
— Синухе, завтра по улицам Фив потечет кровь, и я не могу ничего сделать, чтобы предотвратить это. Фараон — мой друг, и я люблю его, несмотря на его безумие; я когда-то укрыл его своим плащом, и тогда же мой Сокол связал наши судьбы. Может быть, я и люблю его за его безумие, но я не хочу быть втянутым в эту борьбу, ибо мне надо подумать о своем собственном будущем, и я не хочу, чтобы люди возненавидели меня. О, Синухе, друг мой! Много воды утекло в Ниле со дня нашей последней встречи с тобой в этой вонючей Сирии. Я только что вернулся из земли Куш, где по приказу фараона распустил гарнизоны и привез негритянские отряды назад в Фивы, так что юг страны не защищен. Если так пойдет и дальше, то лишь вопрос времени, когда в Сирии начнутся беспорядки. Мятеж может привести фараона в чувство, а между тем страна обнищала. Со времени его коронации в рудниках работало очень мало людей, и они не принесли прибыли. Подгонять ленивых при помощи палки больше не разрешается, вместо этого их сажают на скудный рацион. Поистине у меня душа трепещет из-за фараона, из-за Египта и из-за его бога, хотя о богах я как воин не знаю ничего. Скажу только, что многие, очень-очень многие погибнут из-за этого бога. Это безумие, ибо, несомненно, бога существуют для того, чтобы успокаивать людей, а не сеять смуту среди них.
Помолчав, он продолжал:
— Завтра Амон будет свергнут, и никто не пожалеет о нем, ибо он был слишком могуществен, чтобы делить Египет с фараоном. Фараон поступает как государственный муж, низвергая его, ибо тогда он сможет конфисковать его огромные владения, которые еще могут оказаться нашим спасением. Жрецы других богов обделены Амоном и завистливы, но они не любят и Атона, а ведь жрецы владеют душами людей. По этой причине должна произойти беда.
— Но, — сказал я, — Амон — ненавистный бог, и его жрецы держали людей в невежестве слишком долгое время и душили каждую живую мысль, так что теперь никто не осмеливается сказать слова без разрешения Амона. Между тем Атон предлагает свет и свободную жизнь, жизнь без страха, а это великое дело, самое главное дело, мой друг Хоремхеб.
— Не знаю, что ты подразумеваешь под страхом, — ответил он. — Народ должно сдерживать страхом. Если им правят боги, то для поддержки трона не нужно никакого оружия. Если бы Амон согласился служить фараону, он бы полностью сохранил свое положение, ибо нет народа, которым можно было бы управлять без помощи страха. Вот почему Атон со своей кротостью и крестом любви — очень опасный бог.
— Он более великий бог, чем ты полагаешь, — сказал я спокойно, едва сознавая, почему я это сказал. — Быть может, он в тебе, хоть ты сам того не ведаешь, и во мне. Если бы люди его поняли, он мог бы спасти их всех от страха и невежества. Но более вероятно, что многим придется погибнуть из-за него, как ты говоришь, ибо обычным людям можно только силой навязать вечную истину.
Хоремхеб смотрел на меня нетерпеливо, как на лепечущего младенца. Потом, вдохновясь «крокодильим хвостом», он снова обрел чувство юмора и заметил:
— По крайней мере мы согласны, что пришло время изгнать Амона, и если это будет сделано, это должно быть сделано внезапно, ночью и тайком, и по всей стране в одно и то же время. Жрецов высших ступеней нужно немедленно казнить, а других отправить в рудники и каменоломни. Но фараон по своему недомыслию желает все делать открыто, ничего не скрывая от народа и при свете своего бога, ибо солнечный диск — это его бог; совсем не новое учение, кстати. Эта затея безумна и будет стоить много крови. Я не хотел это выполнить, поскольку мне не сказали заранее о его планах. Клянусь Сетом и всеми демонами, если бы я знал об этом деле, я бы хорошо его организовал и сверг Амона так быстро, что сам едва ли понял бы, что случилось. Но сейчас каждый уличный мальчишка в Фивах знает про этот план; жрецы подстрекают народ во дворах храма, мужчины ломают ветки в своих садах, чтобы превратить их в оружие, а женщины идут в храм со стиральными вальками, спрятанными под платьями. Клянусь моим Соколом, я готов заплакать от безумия фараона.
Он положил голову на руки и проливал слезы над испытаниями, которые предстояли Фивам. Мерит принесла ему третий кубок «крокодильего хвоста» и смотрела с таким восхищением на его широкую спицу и крепкие мышцы, что я резко приказал ей уйти и оставить нас одних. Я пытался рассказать Хоремхебу о том, что видел в Вавилоне и земле Хатти и на Крите, пока не заметил, что «крокодил» уже ударил его по голове своим хвостом и что он забылся тяжелым сном, уронив голову на руки. Он провел эту ночь рядом со мной, и я сторожил его сон, слушая всю ночь, как пируют в таверне солдаты. Капта с хозяином считали себя обязанными угощать их, дабы они охотнее защищали дом, когда начнутся беспорядки. Но мне было невесело, ибо я размышлял о том, что в каждом доме Фив точат ножи, острят колья и обивают медью пестики от ступок. Я думал о том, что в городе немногие спят в эту ночь — и, конечно же, фараон не был среди них, но Хоремхеб, прирожденный воин, спал крепко.
2
Всю ночь напролет толпы бодрствовали перед храмом. Бедные лежали на прохладных лужайках цветочных садов, между тем как жрецы приносили беспрерывные и обильные жертвы Амону и раздавали жертвенное мясо, хлеб и вино народу. Они взывали к Амону громкими голосами и сулили вечную жизнь всем, кто верит в него и отдаст ради него жизнь.
Жрецы могли бы предотвратить кровопролитие, если бы захотели. Они должны были только покориться, и фараон отпустил бы их с миром и не стал бы их преследовать, поскольку его бог питает отвращение к гонениям и ненависти. Но богатство и власть ударили им в голову, так что даже смерть не страшила их. Они знали, что ни народ, ни малочисленные стражники Амона не могут противостоять армии, обученной и окрепшей в боях, но что такая армия сметет все на своем пути, как половодье сметает сухую солому. Они желали кровопролития между Амоном и Атоном, так, чтобы изобразить убийцей и преступником фараона, который тогда позволит грязным неграм проливать чистую кровь египтян. Они жаждали, чтобы Амону была принесена такая жертва, которая выдержала бы пробу вечности, даже если бы его изображение было свергнуто, а храм закрыт.
После этой долгой ночи диск Атона поднялся наконец над тремя восточными холмами, и прохладная тьма уступила место палящему зною дня. На каждой улице и во всех людных местах трубили в рога, и глашатаи громко читали воззвание, в котором фараон подтверждал, что Амон — ложный бог, и что теперь он должен быть свергнут и проклят во веки веков, и имя его должно быть стерто со всех надписей и монументов, а также и с могил. Все храмы Амона как в Верхнем, так и в Нижнем Царствах, все его земли, скот, рабы, строения, золото, серебро и медь были конфискованы в пользу фараона и его бога. Фараон обещал превратить храмы в открытые аллеи, сады, общественные парки, а священные озера сделать общедоступными, так чтобы бедные могли купаться там и свободно брать воду. Он обещал разделить землю Амона среди безземельных, чтобы они обрабатывали ее во имя Атона.
Люди слушали это воззвание в молчании, как требовал того обычай. Затем везде — на улицах и площадях и перед храмами — поднялся громовой рев: «Амон! Амон!» Таким страшным был этот крик, что даже камни и стены, казалось, обрели дар слова. И теперь черные отряды заколебались. Лица воинов, раскрашенные красной и белой краской, посерели, глаза блуждали; оглядевшись вокруг, они увидели, что их очень мало в этом могущественном городе, в котором они находились впервые. Из-за сильного шума немногие слышали, что фараон, отделив свое имя от имени Амона, принял имя Эхнатона — любимца Атона.
Крик разбудил даже Хоремхеба, который потянулся и пробормотал, улыбаясь и не открывая глаз:
— Это ты, Бакет, возлюбленная Амона, моя принцесса? Ты звала меня?
Но, когда я слегка толкнул его в бок, он открыл глаза и улыбка сбежала с его лица. Он ощупал голову и сказал:
— Клянусь Сетом и всеми демонами, твой напиток был крепким, Синухе. Я спал, мне кажется.
Я сказал:
— Народ призывает Амона.
Тогда он вспомнил все и заторопился уходить. Мы прошли через винную лавку, спотыкаясь о голые нош девушек и солдат. Хоремхеб схватил с полки хлеб и опустошил кувшин с пивом, и мы вместе поспешили в храм по пустым, как никогда прежде, улицам. По дороге он умылся у фонтана, окуная голову в воду, сильно пыхтя и отдуваясь, ибо «крокодилий хвост» все еще бился у него в голове.
Толстый маленький «кот» по имени Пепитамон расположил свои отряды и колесницы перед храмом. Получив известие, что все готово и что все люди ждут его приказаний, он поднялся в своих золоченых носилках и крикнул пронзительным голосом:
— Солдаты Египта! Смельчаки земли Куш! Доблестные шарданы! Ступайте и свергните изображение Амона, проклятого по приказу фараона, и велика будет ваша награда!
Сказав это, он почувствовал, что сделал все, что от него требовалось, и снова с удовлетворением уселся на мягкие подушки своих носилок и велел рабам обмахивать его, ибо уже было очень жарко.
Но перед храмом стояла бесчисленная толпа людей в белых одеждах, мужчин и женщин, стариков и детей, и они не отступали перед надвигающимися отрядами и колесницами. С громким криком они бросались наземь, так что лошади топтали их и колеса катились по их телам. Командиры увидели, что они не могут продвигаться без кровопролития, и приказали своим людям отступить до получения дальнейших приказаний, ибо фараон запретил проливать кровь. Но кровь уже текла по камням площади, где раненые стонали и пронзительно кричали и люди сильно заволновались, увидев отступающих солдат. Они считали, что победа за ними.
Меж тем Пепитамон вспомнил, что в своем воззвании фараон изменил свое имя, назвавшись Эхнатоном, внезапно решил изменить также и свое, дабы снискать расположение фараона. Когда командиры подошли посоветоваться с ним, потные и сбитые с толку, он претворился, что не слышат их, широко раскрыл глаза и сказал:
— Я не знаю никакого Пепитамона. Меня зовут Пепитатон. Пепи, благословенный Атоном.
Командиры, у каждого из которых была оплетенная золотом плеть, а под командой тысяча людей, были чрезвычайно раздражены, и начальник колесниц воскликнул:
— В преисподнюю этого Атона! Что за глупости? Дай нам приказание!
Тогда Пепитатон стал насмехаться над ними и сказал:
— Вы воины или бабы? Разгоните людей, но не проливайте крови, ибо это решительно запрещено фараоном.
Услышав это, командиры переглянулись и плюнули на землю. Потом, поскольку делать больше было нечего, они вернулись к своим людям.
Пока командиры совещались между собой, люди напирали на отступающих негров, выворачивали уличные камни и швыряли их, размахивая своими пестиками и сломанными сучьями, и вопили. Толпа была огромная, и люди подбадривали друг друга пронзительными криками. Многие негры, поверженные камнями, лежали на земле в своей собственной крови. Кони пугливо шарахались от громких криков людей, становились на дыбы и бросались в сторону, так что возницам стоило большого труда удержать их. Когда командующий колесницами вернулся к своему отряду, он обнаружил, что ударом камня у лучшего и самого дорогого коня выбит глаз и искалечена нога.
От этого он так рассвирепел, что завыл от ярости и воскликнул:
— Моя золотая стрела, моя косуля, мой солнечный луч! Они выбили твой глаз и сломали твою ногу, но, клянусь, ты дороже моему сердцу, чем все эти люди и боги вместе взятые. Поэтому я буду мстить, но не будем проливать кровь, ибо это решительно запрещено фараоном!
Во главе своих колесниц он врезался в толпу, и каждый возничий втаскивал в свою колесницу самых крикливых мятежников, тогда как лошади топтали старых и малых, и вопли сменялись стонами. А те, кого подхватывали солдаты, были задушены вожжами, так что не пролилось ни капли крови; после этого возницы повернули и помчались назад, волоча за собой трупы, чтобы поселить ужас в сердцах людей. Нубийцы сняли с луков тетиву, набросились на людей и душили их тетивами, снятыми с луков. Они душили и детей и оборонялись щитами от камней и ударов. Но каждого разрисованного негра, оторвавшегося от своих товарищей, толпа топтала ногами и разрывала в клочья. Людям удалось стащить с колесницы одного возничего, и они раздробили ему голову о камни мостовой под бешеные вопли толпы.
Царский главнокомандующий Пепитатон начал тревожиться по мере того, как время шло и вода вытекала из водяных часов, стоявших подле него, а рев толпы доходил до его ушей, как шум стремительного потока. Он созвал своих командиров, задал им взбучку за медлительность и сказал:
— Моя суданская кошка Мимо должна сегодня окотиться; я беспокоюсь о ней, потому что не могу быть рядом, чтобы ей помочь. Во имя Атона прорвитесь туда и сбросьте эту проклятую статую, чтобы все мы могли вернуться по домам, иначе, клянусь Сетом и всеми демонами, я сорву цепи с вашей груди и изломаю ваши плети, клянусь вам!
Услышав это, командиры поняли, что, каков бы ни был исход, они обречены, и решили спасти хотя бы свою воинскую честь. Они перестроили своих солдат и пошли в атаку, разбрасывая людей, как половодье смывает щепки. Копья негров стали красными, вся площадь была в крови, и сотни сотен мужчин, женщин и детей погибли в это утро во имя Атона. Ибо, когда жрецы увидели, что солдаты атакуют не на шутку, они заперли главные врата, и люди метались беспорядочно, как перепуганные овцы. Опьяневшие от крови негры преследовали их и убивали их стрелами, меж тем как возницы мчались по улицам, пронзая беглецов копьями. Но беглецы силой пробились в храм Атона, опрокинули алтари, убили попавшихся под руку жрецов, а преследующие их колесницы ворвались за ними. И так каменные плиты храма Атона вскоре были залиты кровью и усеяны телами умирающих.
Но стены храма Амона преграждали путь черным отрядам Пепитатона, не привыкшим штурмовать такие твердыни, а их мощные тараны не могли пробить медные врата. Солдатам оставалось только окружить храм, а со стен жрецы посылали им проклятия, и храмовая стража осыпала их стрелами и метала в них копья, так что пало множество негров, но дело не двигалось. С открытого пространства перед храмом поднимались густые испарения от крови, и мухи со всего города собрались там в клубящейся пыли. Прибыл Пепитатон в своих золоченых носилках и побледнел от ужасающего смрада; он приказал рабам жечь вокруг него благовония, и стенал, и раздирал свои одежды, глядя на бесчисленное множество погибших.
И все же он был полон беспокойства из-за Мимо, своей суданской кошки, поэтому он обратился к своим хомандирам со словами:
— Боюсь, что гнев фараона будет ужасен, ибо вы не повергли изображения Амона, а тем временем кровь бежит потоками по канавам. Я должен спешить, чтобы доложить фараону о происшедшем, и я попробую заступиться за вас. И вместе с тем я смогу побывать у себя дома, взглянуть на мою кошку и переодеться, ибо этот страшный смрад прямо впитывается в кожу. Сегодня мы не можем штурмовать стены храма. Фараон должен сам решить, что надлежит делать.
В этот день больше ничего не произошло. Командиры отозвали тех своих людей, кто был у стен, и убрали мертвых, и распорядились подвезти тележки с продовольствием, чтобы нубийцы могли поесть.
В последовавшие за этим ночи в городе бушевали пожары, дома были разграблены, разрисованные негры пили вино из золотых чаш, а шарданы покоились в мягких постелях под пологом. Повылезало все отребье города: воры, грабители гробниц, разбойники, не боявшиеся никаких богов, даже Амона. Они благочестиво призывали Атона и входили в его храм, который уже был поспешно приведен в порядок, и получали крест жизни из рук тех жрецов, которым удалось избегнуть смерти. Они вешали его на шею как спасительный талисман, который позволял им воровать, убивать и вволю мародерствовать под покровом ночи. Многие годы должны были миновать, прежде чем Фивы снова стали такими, как прежде, ибо за эти дни они лишились богатства и могущества, как тело, из которого вытекла кровь.
3
Хоремхеб находился в моем доме, истощенный и не знающий сна. Его глаза становились мрачнее с каждым днем, и у него не было никакого вкуса к еде, которую Мути постоянно ставила перед ним. Мути, как и многим другим женщинам, Хоремхеб очень нравился, и она питала к нему больше почтения, чем ко мне; ученый или не ученый, я был всего лишь мужчиной со слабыми мышцами.
Хоремхеб сказал:
— Что мне до Амона или Атона? Но из-за них мои люди одичали, так что мс ей плети придется пройтись по многим спинам и много голов упадет прежде, чем я приведу их в чувство. И это очень жаль, ибо они хорошие бойцы, когда подчиняются дисциплине.
Капта богател с каждым днем, и лицо его лоснилось от жира. Теперь он проводил ночи в «Хвосте крокодила», ибо командиры и сержанты шарданов платили за выпивку золотом, а в задних комнатах таверны все росли груды краденого добра — драгоценностей, сундуков, циновок, которыми посетители расплачивались за вино, не спрашивая о цене. Никто не нападал на этот дом и воры его обходили, ибо его охраняли люди Хоремхеба.
На третий день мой запас лекарств иссяк, а достать другие было невозможно даже за золото. Мое искусство было бессильно перед болезнью, которая распространилась в бедных кварталах от трупов и нечистой воды. Я был измучен, и сердце в моей груди было подобно ране, а глаза от бессонницы налились кровью. Мне было тошно от всего — от бедняков, от ран, от Атона, и я отправился в «Хвост крокодила», где пил смешанное вино, пока не заснул.
Утром Мерит разбудила меня; я лежал подле нее на циновке. Глубоко пристыженный, я сказал:
— Жизнь подобна холодной ночи, но поистине приятно, когда двое одиноких смертных согревают друг друга, даже если их руки и глаза лгут во имя дружбы.
Она сонно зевнула.
— Откуда ты знаешь, что мои руки и глаза лгут? Мне надоело бить солдат по рукам и отпихивать их ногой; здесь, возле тебя, Синухе, единственное безопасное место в городе — место, где никто меня не тронет. Почему это так получилось, не знаю, и мне немного обидно, потому что, как говорят, я красива и живот у меня недурен, хоть ты и не соизволил взглянуть на него.
Я выпил предложенное ею пиво, чтобы облегчить мою болящую голову, и не нашелся, что ей ответить. Она посмотрела мне в глаза с улыбкой, хотя в глубине ее карих глаз все еще таилась грусть, как темная вода на дне колодца.
— Синухе, — сказала она, — я хотела бы помочь тебе, если смогу, и я знаю в этом городе женщину, долг которой тебе неисчислим. Ныне все перевернулось вверх дном, двери распахнуты настежь, а на улицах многие требуют уплаты по старым долгам. Может быть, и тебе стоило бы потребовать возврата долга, и тогда ты поверишь, что не все женщины распутны.
Я сказал, что никогда так о ней и не думал, но я ушел, а слова ее остались со мной, ибо я был всего-навсего человек. Но меня душило воспоминание о резне, и я вкусил безумие ненависти, так что стал бояться самого себя. Я вспомнил храм кошки и дом подле него, хотя время словно занесло песком эти воспоминания. Но в эти дни ужасов мертвые восстали из своих могил, и я вспомнил моего отца Сенмута с его добротой и мою милую мать Кипу; при мысли о них я почувствовал во рту вкус крови.
В это время в Фивах уже не было богатых или знатных, которым было опасно ходить по улицам, и мне понадобилось бы только нанять нескольких солдат, чтобы осуществить мою цель, но я пока еще не знал, какова моя цель.
На пятый день среди командиров Пепитатона началось замешательство, ибо солдаты больше не повиновались звукам рогов и оскорбляли на улице своих начальников, выхватывая у них их золотые бичи и ударяя их по коленям. Командиры отправились к Пепитатону, которому надоела солдатская жизнь и не хватало его кошек, и уговорили его просить аудиенции у фараона, сказать ему всю правду и снять с себя воротник военачальника. Так что на пятый день посланцы фараона прибыли ко мне в дом, чтобы призвать к фараону Хоремхеба. Хоремхеб подобно льву поднялся со своего ложа, умылся и оделся и пошел с посланными, ворча про себя и заранее обдумывая все, что он выскажет фараону. Теперь даже власть фараона поколебалась, и никто не знал, что произойдет завтра.
Фараон спросил его:
— Ты низвергнешь Амона?
Хоремхеб ответил:
— Поистине ты одержимый. Но после всего, что произошло, Амон должен пасть, чтобы спасти величие фараона. Поэтому я низвергну его, но только не спрашивай, как это будет сделано.
Фараон сказал:
— Ты не причинишь зла его жрецам, ибо они не ведают, что творят.
Хоремхеб ответил ему так:
— Поистине надо бы вскрыть тебе череп, ибо ясно, что ничто другое тебя не исцелит. И все же я исполню твое приказание ради того часа, когда я прикрыл твое ослабшее тело своим плащом.
Тогда фараон заплакал и отдал ему свою плеть и свой жезл на трехдневный срок. Как все это было, я знаю только со слов Хоремхеба, а он по солдатскому обыкновению был склонен преувеличивать. Как бы то ни было, он вернулся в город в позолоченной колеснице фараона и проехал по всем улицам, окликая солдат по имени. Он отобрал из них самых надежных и приказал протрубить сбор, созывая людей под их знамена: у одних — соколов, у других — львиных хвостов. Вопли и завывания доносились с мест постоя, и дюжины палок изломались в щепы в руках истязателей, которые жаловались потом, что у них заболели плечи и что они никогда еще не знали такой работы. Хоремхеб послал своих лучших людей патрулировать улицы, хватать каждого не подчинившегося сигналу труб и тащить его на порку; многим, чьи руки и одежда были в крови, отрубали головы в присутствии их товарищей. Когда взошел день, все отребье Фив разбежалось по своим норам, как крысы, ибо каждого застигнутого при краже или грабеже пронзали копьем на месте.
Хоремхеб созвал также всех строителей города и повелел им снести дома богачей и сломать корабли, чтобы добыть брусья, и послал рабочих готовить тараны и осадные башни, так что стук молотков раздавался всю ночь Но все шумы заглушались воплями нубийцев и шарданов, которых пороли плетью, и этот звук был сладок жителям Фив.
Хоремхеб не терял времени попусту на переговоры со жрецами, но, как только рассвело, он отдал распоряжение своим командирам. Осадные башни были размещены в пяти местах вокруг стен храма, одновременно тараны загрохотали по храмовым воротам. Никто не был ранен, ибо солдаты накрылись своими щитами. Жрецы и храмовая стража не могли устоять против решительной и хорошо организованной атаки. Они распылили свои силы и в панике бегали у стен туда и сюда, тогда как снизу со дворов храма доносились крики испуганных людей, собравшихся там. Когда верховные жрецы увидели, что врата поддаются и что негры взбираются на стены, они велели трубачам протрубить перемирие, чтобы спасти жизнь людей. Они полагали, что Амону было принесено достаточно жертв, и хотели сохранить уцелевших верующих на будущее. Так что врата отворились, и солдаты дали скопищу людей возможность спастись, как было приказано Хоремхебом. Люди бежали, призывая Амона, и рады были укрыться по домам, ибо возбуждение улеглось и они поистине устали, оставаясь так долго во дворах храма под палящим солнцем.
Таким образом Хоремхеб овладел внешними дворами, кладовыми, конюшнями и мастерскими храма без больших потерь. Обитель Жизни и Обитель Смерти тоже перешли под его контроль, и он послал врачей из Обители Жизни в город оказать помощь больным, но не стал вмешиваться в дела Обители Смерти, ибо все находящиеся там стоят особняком и неприкосновенны, что бы ни происходило во внешнем мире. В большом храме жрецы и стража сопротивлялись до последнего, защищая святая святых; жрецы чарами и зельями укрепили стражей, чтобы они бились насмерть, не чувствуя боли.
В большом храме сражение продолжалось до ночи. К этому времени околдованная стража уже была вся убита вместе с теми жрецами, которые оказывали вооруженное сопротивление, и остались только жрецы высшей ступени, собравшиеся в святилище вокруг своего бога. Хоремхеб отдал приказ остановить сражение и послал людей подобрать убитых и бросить их в реку.
И тогда, подойдя к жрецу Амона, он сказал:
— Я не веду войну против Амона, ибо поклоняюсь Гору, моему Соколу. Тем не менее я должен подчиниться приказу фараона и свергнуть вашего бога. Не будет ли лучше для вас и для меня, если в святилище совсем не окажется изображения, над которым могли бы надругаться солдаты? Ибо я не хочу совершить святотатства, хотя моя присяга обязывает меня служить фараону. Подумайте над моими словами; я предоставляю вам время по водяным часам. После этого вы сможете уйти с миром, и никто не поднимет на вас руку, ведь я не ищу вашей смерти.
Эти слова были приятны жрецам, которые только что были готовы умереть за Амона. Они оставались в святилище все отмеренное водой время. А затем Хоремхеб своей рукой сорвал занавес, закрывающий святилище, и выпустил жрецов. Когда они ушли, святилище было пусто, изображение Амона исчезло. Жрецы поспешили разбить его и унесли обломки под своими плащами, чтобы иметь возможность потом объявить о чуде и утверждать, что Амон все еще жив. Хоремхеб повелел опечатать все кладовые и собственноручно опечатал подвалы, где было спрятано золото и серебро. В этот же вечер каменщики принялись стирать имя Амона на всех статуях и надписях. В течение ночи Хоремхеб очистил площадь от трупов и расчлененных тел и разослал людей тушить пожары, которые все еще пылали в некоторых кварталах города.
Когда самые богатые и знатные фиванцы узнали, что Амон свергнут и что восстановлены мир и порядок, они облеклись в лучшие одежды, зажгли светильники перед своими домами и вышли на улицы праздновать победу Атона. Придворных, которые прятались в золотом дворце фараона, теперь переправили через реку в город. Вскоре небо над Фивами зарделось от праздничных факелов и светильников, а люди разбрасывали на улицах цветы и кричали, и смеялись, и обнимались. Хоремхеб не мог ни запретить им потчевать вином шарданов, ни помешать знатным дамам обнимать нубийцев, несших на концах своих копий бритые головы убитых ими жрецов. В эту ночь Фивы ликовали во имя Атона. Во имя Атона все было дозволено, и не было различий между египтянами и неграми. Об этом свидетельствовало то, что придворные дамы приводили нубийцев к себе домой, сбрасывали свои новые летние наряды и упивались мужественной силой черных и терпким запахом крови от их тел. А когда раненый храмовый сторож отполз от стены на открытое место, призывая в бреду Амона, ему размозжили голову о камни мостовой, и дамы радостно плясали вокруг его трупа.
Все это я видел воочию и, видя это, стиснул голову руками, безразличный ко всему происходящему. Я думал о том, что никакой бог не исцелит людей от их безумия. Я побежал в «Хвост крокодила» и со словами Мерит, запечатленными в моем сердце, позвал солдат, стоявших там на страже. Они повиновались мне, ибо видели меня в обществе Хоремхеба, и я повел их сквозь эту бредовую ночь, мимо веселых людей, пляшущих на улицах, к дому Нефернефернефер. И там тоже горели факелы и светильники, и из этого дома, не тронутого грабителями, на улицу доносился шум пьяного веселья. Остановившись там, я ощутил дрожь в коленях и дурноту.
Я сказал солдатам:
— Таков приказ Хоремхеба, моего друга и царского военачальника. Войдите в дом, и там вы увидите женщину, у которой надменная осанка и глаза, подобные зеленым камням. Приведите ее ко мне, а если она будет сопротивляться, ударьте ее по голове древком копья, но не причиняйте ей вреда.
Солдаты бодро вошли в дом. Вскоре оттуда, пошатываясь, вышли испуганные гости, а слуги стали звать стражу. Мои люди быстро вернулись с фруктами, медовыми пряниками и кувшинами вина в руках и привели с собой Нефернефернефер. Она вырывалась, и они ударили ее древком копья, так что ее гладкая голова была окровавлена, а парик соскользнул с нее. Я положил руку ей на грудь, и кожа ее была гладкой, как теплый бархат, но мне казалось, что я трогаю змею. Я ощутил биение ее сердца и понял, что она невредима, но все же я закутал ее в темный плащ, как заворачивают тела, и поднял ее в носилки. Стражники не стали вмешиваться, видя, что со мной солдаты. Они проводили меня до входа в Обитель Смерти, а я покачивался в носилках, держа в объятиях бесчувственное тело Нефернефернефер. Она была все еще прекрасна, но мне казалась отвратительнее змеи. Так мы продвигались сквозь разгульную ночь к Обители Смерти, а там я дал солдатам золота и отпустил их, а также отослал и носилки.
Держа на руках Нефернефернефер, я вошел в Обитель и сказал мойщикам трупов, встретившим меня:
— Я принес вам тело женщины, которое я нашел на улице; не знаю ни имени ее, ни семьи, но полагаю, что ее драгоценности вознаградят вас за труды, если вы навечно сохраните ее тело.
Эти люди стали ругать меня:
— Безумец, неужели ты думаешь, что у нас в эти дни мало возни с падалью? И кто вознаградит нас за наши труды?
Но, развернув черный плащ, они обнаружили, что тело еще теплое, и, когда они сняли с нее платье и драгоценности, они увидели, что она прекрасна, прекраснее всех женщин, которых когда-либо доставляли в Обитель Смерти. Они больше ничего не сказали мне, но положили руки ей на грудь и почувствовали, что у нее бьется сердце. Они вновь поспешно укрыли ее черным плащом, гримасничая и подмигивая друг другу и радостно смеясь.
Потом они сказали мне:
— Ступай, чужеземец, и пусть будет благословенно это твое деяние. Мы сделаем все, чтобы сохранить навсегда ее тело, и если бы это зависело от нас, мы держали бы ее при себе семьдесят раз по семьдесят дней, чтобы сохранить по-настоящему ее тело.
Так я все же вынудил Нефернефернефер вернуть мне долг, который она должна была заплатить мне за моих родителей. Я желал бы знать, что она почувствует, когда очнется в потаенных углах Обители Смерти, лишившись богатства и оказавшись во власти мойщиков трупов и бальзамировщиков. Насколько я знал их, они никогда не выпустят ее на белый свет. Такова была моя месть, ибо из-за Нефернефернефер я когда-то познакомился с Обителью Смерти. Но моя месть была наивна, как мне пришлось впоследствии убедиться.
В «Хвосте крокодила» я увидел Мерит и сказал ей:
— Я заставил ее выполнить мои требования, притом самым страшным образом. Но месть не принесла мне облегчения, моя душа еще более пуста, чем прежде, и я озяб, несмотря на теплую ночь.
Я пил вино, и оно было горше полыни. Я сказал:
— Пропади все пропадом, если еще когда-нибудь я коснусь женщины, ибо чем больше я думаю о женщине, тем больше боюсь ее; ее плоть погибельна, а душа — западня для смертных.
Она гладила мои руки и, пристально глядя на меня своими карими глазами, ответила:
— Синухе, ты никогда не знал женщины, которая желала бы тебе добра.
Но я возразил:
— Да спасут меня все боги Египта от женщины, которая пожелает мне добра. Фараон тоже желает только добра, а в реке полно трупов, которые качаются там из-за его благих намерений.
Я пил вино и плакал, говоря:
— Мерит, твои щеки гладки, как шелк, и у тебя теплые руки. Дай мне коснуться губами твоей щеки этой ночью, согреться твоим теплом и заснуть без сновидений, а я дам тебе все что пожелаешь.
Она грустно улыбнулась и сказала:
— «Крокодилий хвост» говорит твоими устами, но я привыкла к этому и не обижаюсь. Поэтому знай, Синухе, что я ничего не требую от тебя и никогда в жизни не требовала ничего от мужчины; ни от кого не брала я никаких подарков. То, что я даю, я даю от души, и тебе тоже я дам то, чего ты просишь, ибо я так же одинока, как и ты.
Она взяла чашу с вином из моих дрожащих рук и, постелив для меня циновку, легла рядом со мной, согревая мне руки. Я касался губами ее гладких щек и вдыхал аромат кедра, исходящий от ее кожи, и я наслаждался с ней. Она была для меня и отцом, и матерью, она была как очаг в зимнюю ночь, как маяк на берегу, который ведет моряка домой сквозь бурную ночь. Когда я уснул, она стала для меня Минеей — Минеей, которую я потерял навсегда, и я лежал с ней, словно лежал с Минеей на дне моря. Мне не снились кошмары, и я крепко спал, а она нашептывала мне на ухо такие слова, какие шепчут матери, чьи дети боятся темноты. С этой ночи она стала моим другом, ибо в ее объятиях я снова поверил: есть нечто непостижимое, более важное, чем я сам, ради чего стоит жить.
Утром я сказал ей:
— Мерит, я разбил кувшин с женщиной, которой теперь нет в живых, и я все еще храню серебряную ленту, которой я завязывал ее длинные волосы. И все же ради нашей дружбы, Мерит, я готов разбить с тобой кувшин, если ты этого хочешь.
Она зевнула, прикрывая рот рукой, и ответила:
— Тебе больше не следует пить «крокодилий хвост», Синухе, поскольку он заставляет тебя говорить такие глупости на следующий день. Вспомни, что я выросла в таверне и что я уже не невинная девочка, которая может поймать тебя на слове — и горько разочароваться!
— Когда я смотрю в твои глаза, Мерит, я верю, что на свете есть хорошие женщины, — сказал я и коснулся губами ее гладких щек. — Я сказал это для того, чтобы ты поняла, как много ты для меня значишь.
Она улыбнулась.
— Ты заметил, что я запретила тебе пить «крокодилий хвост», ведь женщины прежде всего проявляют свою любовь к мужчине, запрещая ему что-то, дабы почувствовать свою власть. Давай не говорить о кувшинах, Синухе. Ты знаешь, что моя циновка к твоим услугам, когда тебе одиноко или грустно. Но не обижайся, если узнаешь, что и кроме тебя есть одинокие и грустные, ибо, как и всякий человек, я тоже вольна выбирать себе друзей, и ты тоже ничем не связан. Итак, несмотря ни на что, я сама дам тебе «крокодилий хвост.
Ум человеческий столь непостижим и так мало знает человек свое сердце, что моя душа в этот момент ощущала себя свободной и легкой, и я не вспомнил ничего о том дурном, что произошло в те дни. Я был доволен и не пробовал больше в этот день «крокодильих хвостов».
4
На следующее утро я зашел за Мерит, чтобы пойти на праздничную процессию фараона. Несмотря на то что она воспитывалась в таверне, Мерит выглядела очень привлекательно в летнем платье, сшитом по новой моде, и мне было совсем не стыдно стоять рядом с ней в месте, приготовленном для приближенных фараона.
Улица Рамс пестрела знаменами, а вдоль нее стояли огромные толпы, пришедшие поглядеть на фараона. Мальчишки вскарабкались на деревья в садах по обе стороны улицы, и Пепитатон приказал выставить вдоль дороги бесчисленные корзины цветов, чтобы согласно обычаю зрители могли усыпать цветами путь фараона. Во мне забрезжила надежда, ибо мне казалось, что я вижу проблески свободы и света для египетской земли. Я получил золотой кубок из дворца фараона и был назначен черепным хирургом его семьи. Рядом со мной стояла зрелая красивая женщина, которая была моим другом, и вокруг нас на почетных местах мы видели только счастливых, улыбающихся людей. Однако царило глубокое молчание, только с крыши храма доносилось карканье ворон, ибо вороны и стервятники поселились в Фивах и так разжирели, что не могли подняться и улететь назад к своим холмам.
Ошибкой фараона было то, что он позволил разрисованным неграм идти за своими носилками. Один их вид возбудил ярость толпы. Мало было таких, кто не пострадал в предшествующие дни. Многие потеряли из-за пожаров свои дома, слезы жен все еще не высохли, раны мужчин все еще болели под повязками, и их ушибленные и разбитые рты не могли улыбаться. Но появился фараон Эхнатон, высоко покачиваясь в своих носилках над головами людей, и все видели его. На голове его была двойная корона Двух Царств — лилия и папирус. В скрещенных на груди руках он крепко сжимал жезл и царскую плеть. Он сидел неподвижно, как изваяние, как сидели фараоны во все века на виду у людей, и, когда он приблизился, наступила гнетущая тишина, как будто от его вида люди онемели. Солдаты, охраняющие дорогу, с приветственными возгласами подняли свои копья, и наиболее знатные из зрителей тоже начали кричать и бросать цветы перед царскими носилками. Но по сравнению с угрожающим молчанием толпы их крики казались слабыми и жалкими, как жужжание одинокого комара в зимнюю ночь, так что вскоре они замолчали и удивленно поглядывали друг на друга.
Теперь, вопреки обычаю, фараон пошевелился. В восторженном приветствии он поднял жезл и плеть. Толпа отхлынула назад, и вдруг из множества глоток вырвался ужасающий крик, подобный грохоту морских валов, ударяющихся о скалы:
— Амон! Амон! Верни нам Амона, царя всех богов!
Когда чернь заволновалась и задвигалась и крик прокатился, все нарастая, вороны и стервятники взлетели с крыши храма и захлопали своими черными крыльями над носилками фараона. А толпа кричала:
— Прочь, лжефараон! Прочь!
Крик испугал носильщиков, и носилки приостановились. Когда они снова двинулись вперед, подгоняемые взволнованными командирами из охраны, люди хлынули непреодолимым потоком через улицу Рамс, сметая цепи солдат и очертя голову бросаясь перед носилками, чтобы задержать их движение.
Больше было невозможно следить за происходящим. Солдаты начали избивать людей своими дубинками, чтобы расчистить путь, но скоро в самозащите они пустили в ход копья и кинжалы. Палки и камни свистели в воздухе, кровь лилась по улице, и над всеобщим ревом поднимались предсмертные вопли. Ни один камень не был брошен в фараона, ибо он был сыном солнца, как и все фараоны до него. Его особа была священна, и ни один из толпы не посмел бы даже в мыслях поднять на него руку, хотя в душе все ненавидели его. Думаю, что даже жрецы не совершили бы подобного дела. Фараон взирал на все невозмутимо. Затем он поднялся, забыв о своем достоинстве, и крикнул, чтобы остановили солдат, но никто во всем этом шуме не услышал его крика.
Чернь швыряла камни в стражу, а стражники, защищаясь, убили множество людей, которые, не переставая, кричали:
— Убирайся, лжефараон! Долой! Фивам ты не нужен!
Камни швыряли также и в знать, и народ угрожающе наступал на огражденные места, так что женщины побросали свои цветы, уронили пузырьки с духами и пустились в бегство.
По команде Хоремхеба зазвучали рога. Из дворов и боковых улиц прибыли колесницы, которые он спрятал там, дабы их вид не возбуждал людей. Многие были раздавлены копытами и колесами. Но Хоремхеб приказал убрать с колесниц кривые клинки во избежание напрасного кровопролития. Они ехали медленно и в установленном порядке, окружив носилки фараона, охраняя также царскую семью и прочих участников процессии, и так сопровождали их отъезд. Но толпы не желали расходиться до тех пор, пока были видны царские баржи, переправляющиеся через реку. Потом их охватило ликование, но радость их была еще ужаснее, чем их ярость. Головорезы из толпы осаждали дома богачей, пока солдаты не восстановили порядок и не разогнали народ по домам. Приближался вечер, и вороны кружились, разрывая тела, лежавшие на улице Рамс.
Так фараон Эхнатон впервые столкнулся со своим неистовым народом и увидал кровь, льющуюся из-за его бога. Он навсегда запомнил это зрелище. Ненависть заронила яд в его любовь, и его фанатизм нарастал, пока наконец он не постановил, чтобы каждый, кто произнесет вслух имя Амона или сокроет его имя на изображениях или кораблях, был отправлен в рудники.
Рассказав об этих событиях, перехожу к тому, что они повлекли за собой. В тот же самый вечер меня поспешно вызвали в золотой дворец, ибо у фараона был приступ его болезни. Врачи опасались за его жизнь и пытались разделить бремя ответственности, ибо он говорил обо мне. Он долго лежал как мертвый; члены его окоченели, и его пульс более не прощупывался. После бреда, во время которого он до крови искусал губы и прикусил язык, он пришел в себя. Он отпустил всех прочих врачей, ибо не выносил их присутствия.
— Позови лодочников, — сказал он мне, — и подними красные паруса на моем корабле. Пусть мои друзья отправляются со мной, ибо я собираюсь в путешествие, и пусть моя мечта ведет меня, пока я не найду землю, которая не принадлежит ни богам, ни людям. Эту землю я посвящу Атону и построю там город, который станет городом Атона. Я никогда более не вернусь в Фивы.
Он сказал также:
— Поведение фиванцев для меня ненавистнее, чем все то, что произошло прежде, отвратительнее и презреннее, чем все, что когда-либо видели мои предки в чужих странах. Поэтому я с презрением отвергаю Фивы, а они пусть прозябают в своем невежестве.
В своем неистовом возбуждении он потребовал, чтобы его перенесли на корабль, несмотря на его болезнь, и даже я, его врач, не мог помешать ему.
Хоремхеб заметил:
— Так оно и лучше. Фиванский народ пойдет своим путем, а Эхнатон — своим; и тот, и другой будут довольны, и в стране снова воцарится мир.
Я сопровождал фараона вниз по реке. Он был столь нетерпелив, что не стал ожидать даже царскую семью, и отплыл первым. Хоремхеб приказал эскорту из военных кораблей сопровождать судно, дабы с ним не случилось ничего дурного.
Итак, под своими красными парусами корабль фараона скользил по реке, и Фивы остались позади. Исчезли также крыши храма, позолоченные верхушки обелисков скрылись за горизонт, наконец исчезли и три холма, вечные стражи Фив. Но память о Фивах осталась с нами на много дней, ибо река была полна жирных крокодилов, чьи хвосты разбрызгивали грязную воду, и сотни раз сотни распухших тел плыли по течению. Не было ни одной рыбьей стаи и ни одной заросли тростников без человеческого тела, крепко зацепившегося одеждой или волосами; причиной же всему был бог фараона Эхнатон. Но фараон ничего не знал об этом, лежа в своей каюте на мягких циновках, где слуги умащали его ароматическими маслами и курили вокруг него благовония, чтобы он не чувствовал запах своего бога.
На десятый день плавания река снова была чиста, и фараон вышел на нос корабля, чтобы оглядеться вокруг. Земля была по-летнему желтой; земледельцы собирали урожай, и по вечерам скот гнали на водопой к берегу реки и пастухи дули в свирель.
Увидев корабль фараона, люди одевались в белое и бежали на берег, крича приветствия и размахивая пальмовыми ветвями. Вид этих довольных людей фараону был полезнее всяких лекарств. Время от времени он приказывал бросить якорь и сам выходил на берег поговорить с людьми, коснуться их и возложением рук благословить женщин и детей. Овцы также подходили пугливо, принюхиваясь и пощипывая кромку его одежды, и он смеялся от радости. В ночной тьме он стоял на носу корабля, вглядываясь в сияющие звезды, и говорил мне:
— Я разделю всю землю ложного бога меж теми, кто довольствуется малым и трудится, чтобы они были счастливы и благословляли имя Атона. Я разделю между ними всю землю, ибо моя душа радуется при виде здоровых детей и смеющихся женщин и мужчин, которые трудятся во имя Атона без страха или ненависти к кому-либо.
Он говорил также:
— Чужая душа — потемки; я не поверил бы этому, если бы не видел собственными глазами. Ибо так призрачна моя собственная чистота, что я не воспринимаю тьмы, и, когда свет проливается в мою душу, я забываю о душах темных и лживых. Должно быть, многие не постигают Атона, хотя видят его и чувствуют его любовь, так как они прожили свою жизнь во тьме и их глаза не различают света, даже если видят его. Они называют его злом и говорят, что он вредит их зрению. Поэтому я покинул их и оставил их в покое, но жить среди них я не стану. Я возьму с собой тех, кто мне дороже всего, и останусь с ними, чтобы никогда не разлучаться, чтобы не мучиться этими ужасными головными болями от всего, что удручает мой дух и что ненавистно Атону.
Подняв глаза к звездам, он продолжал:
— Ночь внушает мне отвращение. Я не люблю темноты, я боюсь ее. Я не люблю звезд, ибо когда они светят, шакалы выползают из своих нор, львы покидают свои логовища и рычат, жаждая крови. Для меня Фивы — это ночь, поэтому я отвергаю их, поистине я отвергаю все косное и извращенное и надеюсь только на детей и на юных. Они принесут миру весну. Тот, кто с детства посвятит себя учению Атона, очистится, и так очистится весь мир. Школы преобразятся, старых учителей изгонят, и дети будут переписывать новые тексты. Более того, я упрощу теперешнее письмо, нам не нужны картинки, чтобы понять его; я велю перейти на такое письмо, которому быстро научится даже самый тупой. Пропасть между писцами и народом исчезнет; люди научатся писать, так что в каждом селении, даже в самом маленьком, найдется человек, который сможет прочесть то, что я буду им писать. Ибо я буду часто писать им о многом, что им следует знать.
Речь фараона встревожила меня. Я знал это новое письмо, которое легко было учить и читать; это не были священные письмена; оно не было и так красиво, и так богато содержанием, как старое, и каждый уважающий себя писец презирал его.
Поэтому я возразил:
— Упрощенное письмо уродливо и грубо, и это не священные письмена. Что станется с Египтом, если все сделаются грамотными? Такого никогда не было. Никто тогда не согласится работать руками; земля останется невозделанной, и людям ничего не даст умение писать, если они будут умирать с голоду.
Мне бы не следовало говорить этого, ибо он закричал в сильнейшем негодовании:
— Значит, невежество рядом со мной. Оно стоит возле меня, в твоем лице, Синухе. Ты воздвигаешь препятствия и сомнения на моем пути, но истина огнем горит во мне. Мои глаза проникают сквозь все преграды, так как если бы эти преграды были из чистой воды; и я вижу мир таким, каким он будет после меня. В этом мире не будет ни ненависти, ни страха; люди станут трудиться вместе, и не будет меж них ни богатых, ни бедных, все будут равны, все смогут прочесть то, что я напишу им. Ни один человек не скажет другому «грязный сириец» или «несчастный негр». Все — братья, и мир не будет больше знать войны. И предвкушение этого придает мне силы; моя радость столь велика, что сердце готово разорваться.
Я еще раз убедился в его безумии. Я отвел его на его ложе и дал ему успокоительное. Его слова мучили меня и терзали мое сердце, ибо во мне созрело что-то, чтобы восприять его откровение.
Я сказал себе:
— Его рассудок совершенно расстроен болезнью, тем не менее это расстройство и благотворно, и заразительно. Я желал бы, чтобы его предвидение подтвердилось, хотя разум говорит мне, что такой мир не может существовать нигде, кроме Страны Запада. И все же моя душа вопиет, что его истина выше всех других истин, которые когда-либо возвещались, и что большей истины не выскажут и после него, хотя следом за ним идут кровь и погибель. Если он проживет достаточно долго, он ниспровергнет свое собственное царство.
Взирая из мрака на звезды, я размышлял, что я, Синухе, чужой в этом мире, даже не знаю, кто произвел меня на свет. Я добровольно стал врачом бедняков в Фивах, и золото мало что значит для меня, хотя я предпочитаю жирного гуся и вино черствому хлебу и воде. Все это не так уж важно для меня, чтобы я не мог без этого обойтись. Раз мне нечего терять, кроме жизни, почему мне не стать опорой его слабости, быть рядом и поддерживать его без колебаний? Но он же фараон! У него власть, и нет в целом мире более богатой и более изобильной страны, чем Египет, и как знать, может быть, Египет выдержит это испытание? Если бы это случилось, то действительно мир обновился бы: люди стали бы братьями, и не было бы ни богатых, ни бедных. Никогда прежде не предоставлялась человеку такая возможность претворить свою мечту в жизнь, ибо этот человек рожден фараоном, и такой возможности больше не будет. Вот то единственное мгновение за все века, когда его мечта может осуществиться.
Таковы были мои грезы наяву на борту покачивающегося корабля, а ночной ветер доносил до меня свежесть спелого зерна и хлебных токов. Но этот ветер охладил меня, и я уныло сказал себе:
— Если бы только Капта был здесь и слышал его слова! Ибо, хотя врач и умный человек и может лечить многие болезни, все же болезнь и страдание мира столь велики, что и все врачи на земле не исцелят их, даже если бы они были очень знающими, ведь есть болезни, перед которыми врачи бессильны. Поэтому Эхнатон мог бы быть врачом для души человеческой, но его не хватит на всех. Есть сердца настолько черствые, что даже его истина не исцелит их. Капта сказал бы: «Если даже наступит время, когда не будет ни богатых, ни бедных, все же всегда будут мудрые и глупые, хитрые и простодушные, ибо так всегда было и так будет и впредь. Сильный наступает на горло слабому; ловкач сбегает с кошельком простака и заставляет тупицу работать на себя. Человек — причудливое создание, и даже его добродетель несовершенна. Вполне хорош лишь тот, кто ложится с тем, чтобы больше уже не встать. Ты мог уже видеть плоды этой истины, и те, у кого больше всего причин благословлять ее, — это речные крокодилы и пресыщенные вороны с крыши храма».
Фараон Эхнатон говорил со мной, а я говорил со своим слабым и колеблющимся сердцем. На пятнадцатый день мы подошли к земле, которая не принадлежала ни богу, ни какому-нибудь знатному человеку. Цвет холмов на берегу менялся от золотисто-желтого к голубому. Земля была не возделана, и лишь несколько пастухов охраняли там стада, и жили они в тростниковых хижинах на берегу реки. Здесь фараон Эхнатон сошел на берег и посвятил эту землю Атону, для того чтобы основать здесь город; этот будущий город он назвал Ахетатон. Небесный Город.
Корабли прибывали один за другим, и он собрал строителей и зодчих и указал им, где должны проходить главные улицы и где должен стоять его золотой дворец и храм Атона. Когда его приверженцы присоединились к нему, он показал каждому местоположение его дома. Строители прогнали пастухов с их овцами, снесли их тростниковые хижины и построили вдоль берега причалы. Этим строителям фараон отвел место, чтобы они возвели за пределами города свой собственный город, где перед началом предстоящей работы им позволили построить себе глиняные хижины. Пять улиц шли на север и юг, пять — на восток и запад; дома, которые тянулись вдоль них, были одинаковой высоты, и каждый состоял из двух одинаковых комнат. Очаг в каждом доме был расположен в одном и том же месте так же, как каждая циновка и кувшин. Фараон доброжелательно относился ко всем своим рабочим и желал, чтобы они разделяли те же самые блага и могли жить счастливо на своем месте за городом фараона и благословлять имя Атона.
Потом пришла зима, и наступило половодье. Фараон не вернулся в Фивы, как обычно, а остался на борту своего корабля, который стал теперь местопребыванием двора. По мере того как клали камень за камнем и воздвигали колонну за колонной, возрастала его радость. Часто он разражался злобным смехом, когда видел красивые изысканные дома, поднимавшиеся на улицах, ибо мысль о Фивах, как яд, разъедала его душу. На этот город Ахетатон он истратил все деньги, которые захватил у Амона, и он разделил землю Амона среди беднейших.
У меня было очень много работы, ибо хотя сам фараон окреп и телом, и духом при виде того, как восстает из земли его город на своих разноцветных колоннах, однако болезни свирепствовали среди рабочих еще до того, как осушили землю; кроме того, при строительстве было много несчастных случаев, так как рабочих подгоняли.
Как только река спала, Хоремхеб высадился в Ахетатоне вместе с придворными, хотя он намеревался задержаться здесь лишь для того, чтобы убедить фараона переменить свое решение о роспуске армии. Фараон приказал ему освободить от службы нубийцев и шарданов и отправить их по домам, но Хоремхеб откладывал выполнение приказа под всеми предлогами, имея основания опасаться, что скоро вспыхнет восстание в Сирии и ему придется вести войска в эту страну.
Но фараон Эхнатон был непоколебим в своем решении, и Хоремхеб зря терял время в Ахетатоне. Каждый день они вели одни и тс же разговоры.
Хоремхеб говорил:
— В Сирии серьезное волнение, а египетские колонии там слабы. Царь Азиру разжигает ненависть к Египту. Не сомневаюсь, что, когда придет время, он поднимет мятеж.
Фараон Эхнатон отвечал:
— А ты видел полы в моем дворце, на которых художники как раз сейчас рисуют тростниковые заросли и плывущих уток на критский лад? А что до мятежа в Сирии, я считаю его маловероятным, ибо отправил всем их принцам крест жизни. Царь Азиру особенно дружен со мной, получив от меня крест жизни; он воздвиг храм Атону в земле Амурру. Не сомневаюсь, что ты уже видел здесь колоннаду зала Атона рядом с моим дворцом. Это стоит посмотреть, хотя колонны только из кирпича, чтобы сэкономить время; кроме того, мысль о рабах, которые надрываются в каменоломнях, невыносима для меня. Но, возвращаясь к Азиру, у тебя нет никаких оснований сомневаться в его верности; я получил от него множество глиняных табличек, в которых он горячо стремится узнать новости об Атоне. Если хочешь, мои писцы могут показать тебе эти таблички, как только приведут в порядок наши архивы.
Хоремхеб заявил:
— Плевал я на его глиняные таблички, они грязны и лживы, как и он сам. Но, если ты твердо решил распустить армию, дай мне хотя бы усилить пограничные части, ибо южные племена уже гонят свои стада, не считаясь с нашими пограничными камнями, из земли Куш и Сирии. Они жгут селения наших черных союзников, что совсем не трудно, поскольку они сделаны из соломы.
Эхнатон говорил:
— Я верю, что это не по злой воле, а от бедности. Наши союзники должны поделить свои пастбища с южными племенами, им я тоже пошлю крест жизни. И не верю я, что они намеренно жгут эти селения. По твоим словам, они легко воспламеняются, и нельзя обвинять все племя из-за нескольких селений. Но если хочешь, всеми средствами укрепляй пограничную охрану в земле Куш и в Сирии, поскольку ты отвечаешь за безопасность государства, однако присмотри за тем, чтобы это была только пограничная охрана, а не постоянная армия.
Хоремхеб отвечал:
— Эхнатон, мой безумный друг, ты должен позволить мне переформировать гарнизоны по всей стране, ибо расформированные воины из-за своей бедности грабят направо и налево и крадут у крестьян шкуры, которые они должны сдавать государству, и избивают их палками.
Фараон Эхнатон наставительно возражал:
— Смотри, что получается из-за того, что ты отказываешься послушать меня! Если бы ты больше говорил с этими людьми об Атоне, они теперь не поступили бы так, но они невежественны, рубцы от твоей плети горят на их спинах, и они не ведают, что творят. И, кстати, заметил ли ты, что обе мои дочери научились теперь ходить? Меритатон заботится о младшей, и у них есть очаровательная маленькая газель, товарищ их детских игр. Так вот, ничто не мешает тебе нанять расформированных людей в качестве охраны в Верхнем и Нижнем Царстве, если только они останутся стражей и не превратятся в постоянную армию для ведения войны. И, по-моему, лучше разломать все колесницы, ибо подозрение порождает подозрение, а мы должны убедить наших солдат в том, что в любом случае Египет никогда не прибегнет к войне.
— Не проще было бы продать колесницы Азиру или хеттам? Они хорошо платят за колесницы и лошадей, — усмехнулся Хоремхеб. — Содержание регулярной армии ничем не окупится, когда ты утопишь все богатство Египта в болоте или наделаешь из него кирпичей.
Так они спорили день за днем, и только благодаря упорству Хоремхеб добился положения главнокомандующего пограничными отрядами и всеми гарнизонами.
А фараон решал, как их надо вооружить, а именно деревянными копьями. Хоремхебу было предоставлено определить их количество. Тогда Хоремхеб призвал всех командующих округами в Мемфис, так как он находился в центре страны и на границе Двух Царств. Он только собрался отправиться на корабле в этот город, когда по реке из Сирии прибыл гонец с кипой писем и глиняных табличек, полных тревожных новостей. Его надежды оживились. Эти сообщения бесспорно подтверждали, что царь Азиру, узнав о беспорядках в Фивах, счел этот момент благоприятным для присоединения некоторых городов за пределами его границ. Мегиддо, ключ к Сирии, был тоже охвачен волнениями, и войска Азиру осаждали крепость, в которой укрылся египетский гарнизон, взывающий теперь оттуда к фараону о быстрой помощи.
Но фараон Эхнатон говорил:
— Думаю, что царь Азиру имел веские причины для своих действий. Он вспыльчивый человек, и, может быть, мой посол обидел его. Не стану судить его, пока у него нет возможности объясниться. Но одно могу сделать, и плохо, что я раньше не подумал об этом. Теперь, когда в Черной Земле воздвигается город Атона, я должен построить другие в Красной Земле — в Сирии и в земле Куш. Мегиддо — это узел караванных путей, а потому самое подходящее место, но подозреваю, что сейчас там слишком беспокойно, чтобы вести строительство.
Но ты говорил мне об Иерусалиме, где строил храм Атону во время войны с кабирами, войны, за которую я никогда не прощу себя. Это не такой центр, как Мегиддо, поскольку он находится южнее; тем не менее я приму незамедлительные меры, чтобы построить город Атона в Иерусалиме, чтобы в будущем это был центр Сирии, хотя сейчас это всего лишь полуразрушенное селение.
Услышав это, Хоремхеб сломал свою плеть, швырнул ее к ногам фараона и пошел садиться на корабль. Так он поплыл в Мемфис, чтобы реорганизовать гарнизоны по всей стране. Все же его пребывание в Ахетатоне принесло некоторую пользу; я имел возможность спокойно рассказать ему на досуге все, что видел и слышал в Вавилоне, Митанни, в стране хеттов и на Крите. Он слушал молча, кивая время от времени головой, словно то, о чем я рассказывал, было ему отчасти известно, и он вертел в руках нож, который дал мне хозяин порта. Все, что я рассказал ему о дорогах, мостах и реках, он заставил меня изложить письменно, а также записать некоторые из имен, что я упоминал. В заключение я сказал ему, чтобы он посоветовался с Капта по этому вопросу, ибо Капта был так же ребячлив, как и он сам, в своей манере запоминать всякого рода безделицы.
Он покидал Ахетатон в гневе, а фараон радовался, что он уезжает. Разговоры с Хоремхебом очень досаждали ему, так что даже вид этого человека вызывал у него головную боль.
Он говорил мне задумчиво:
— быть может, воля Атона в том, чтобы мы потеряли Сирию, а если это так, то кто я такой, чтобы противиться ей, поскольку это должно быть ко благу Египта. Ибо богатство Сирии не дает покоя Египту. Все излишества, вся изнеженность, пороки и дурные привычки пришли оттуда. Если мы потеряем Сирию, Египет вернется к более простому образу жизни — к пути истинному, и это самое лучшее, что может с ним произойти. Здесь должна начаться и распространиться среди всех народов новая жизнь.
Моя душа противилась его речам, и я возразил:
— У командующего гарнизоном Смирны есть сын по имени Рамзее, живой мальчик с большими карими глазами, который любит играть с красивыми камушками. Я однажды лечил его от ветряной Оспы. А в Мегиддо живет одна египтянка, которая, прослышав о моем искусстве, посетила меня в Смирне. Ее живот был раздут; я вскрыл его ножом, и она ожила. Кожа у нее была мягкая, как шелк, и походка красивая, как у всех египтянок, несмотря даже на то, что живот ее был раздут и глаза лихорадочно горели.
— Не понимаю, почему ты рассказываешь мне об этом? — сказал Эхнатон и начал рисовать эскиз храма, который представлялся его мысленному взору. Он то и дело беспокоил своих архитекторов и строителей рисунками и указаниями, хотя они понимали в этом деле лучше, чем он.
— Мне представляется, будто я вижу маленького Рамзеса с рассеченным ртом и в кровоподтеках и слипшиеся от крови волосы на его виске. Я вижу женщину из Мегиддо: она лежит нагая, истекая кровью во дворе крепости, а солдаты Амурру насилуют ее. Однако признаю, что мои мысли мелки по сравнению с твоими и что правитель не может помнить о каждом Рамзесе и о каждой нежной женщине.
Фараон сжал кулаки, его глаза потемнели, и он закричал:
— Синухе, неужели ты не можешь понять, что если я должен предпочесть смерть жизни, то предпочту гибель сотни египтян гибели тысячи сирийцев? Если бы я дал сражение в Сирии, чтобы освободить там всех египтян, тогда в этой войне погибло бы множество сирийцев и египтян. Если я отвечу злом на зло, то из этого получится только зло. Но если я отвечу на зло добром, то зла будет меньше. Я не предпочту смерть жизни и потому останусь глух к твоим словам. Не говори мне больше о Сирии, если любишь меня и если тебе дорога моя жизнь. Думая об этом, я чувствую все страдания тех, кто должен умереть по моей воле, а один человек не может долго терпеть страдания многих. Оставь меня в покос во имя Атона и во имя моей правды.
Он скорбно опустил голову, и его глаза распухли и налились кровью, а полные губы дрожали. Я оставил его успокоившимся, но в моих ушах стояли грохот таранов у стен Мегиддо и крики поруганных женщин в шатрах аморитян. Я постарался заглушить эти звуки, ибо любил фараона при всем его. безумии, а, быть может, именно из-за этого я любил его еще больше, ибо его безумие было прекраснее мудрости других людей.
5
Основание нового города внесло разлад в царскую семью, ибо царица-мать отказалась следовать за сыном в пустыню. Ее городом были Фивы, где у реки, подернутой переливчатой дымкой, сиял среди садов золотой дворец фараона, построенный Аменхотепом для своей любимой. Тайя, царица-мать, была дочерью бедного птицелова и выросла в тростниковых болотах Нижнего Царства. Она не хотела покидать Фивы, а принцесса Бакетатон осталась с ней. Жрец Эйе, правая рука фараона, правил там и вершил правосудие на царском троне, держа перед собой кожаные свитки. Жизнь в Фивах шла по-прежнему; только не было лжефараона — и об этом никто не сожалел.
Царица Нефертити вернулась в Фивы, ибо ей предстояли роды, и она искала помощи у фиванских лекарей и негритянских колдунов. Здесь она родила свою третью дочь, нареченную Анксенатон, которой в будущем предстояло стать царицей. Чтобы облегчить роды, колдуны сузили голову ребенка и удлинили ее, как они делали это и с другими принцессами. Когда девочка подросла, все придворные дамы и все те, кто желал следовать моде двора, начали прикреплять к голове искусственные затылки. Но сами принцессы брили свои головы наголо, чтобы подчеркнуть их изысканную форму. Художники тоже восхищались этим, и рисовали их, и писали с них бесчисленные портреты, не подозревая, что эти отличительные черты были всего-навсего следствием волшебства.
Родив дитя, Нефертити вернулась в Ахетатон и стала жить во дворце, который тем временем был приведен в порядок. Она оставила остальных жен в Фивах, так как ей было досадно, что она родила трех дочерей, и она не желала, чтобы фараон расточал свои ласки другим. Фараон был этим доволен, ибо устал выполнять свои обязанности в женских покоях и не желал никого, кроме Нефертити, что было вполне понятно всем, кто видел ее красоту. Ее очарование не потускнело даже после третьих родов. Она казалась моложе и лучезарнее, чем прежде, но была ли эта перемена в ней вызвана городом Ахетатоном или колдовством чернокожих, не могу сказать.
Так Ахетатон поднялся в пустыне за один год; величественно покачивались пальмы вдоль великолепных улиц, в садах созревали и наливались гранаты, и в бассейнах с рыбой плавали розовые цветы лотоса. Весь город был цветущим садом, ибо дома были из дерева, воздушные и хрупкие, как беседки, а их колонны из пальм были легкими и ярко раскрашенными. Сады вторгались в самые дома, ибо картины на стенах — пальмы и сикоморы — качались под легким ветром вечной весны. На стенах были изображены тростники, разноцветные плавающие рыбки и летящие утки с блестящими крыльями. В этом городе было все, чтобы радовать сердце человека. Ручные газели бродили по садам, а по улицам двигались легчайшие экипажи, запряженные горячими лошадьми с плюмажами из страусовых перьев. Кухни благоухали пряностями, привезенными со всех частей света.
Итак, строительство Небесного Города было завершено, и когда вернулась осень и ласточки появились из ила и заметались беспокойными стаями над поднявшимися водами, фараон Эхнатон посвятил город и эту землю Атону. Он освятил пограничные камни севера, юга, востока и запада, и на каждом из этих камней было изображение Атона, льющего свои благословенные лучи на фараона и на дом фараона. Надписи на камнях содержал клятвы фараона никогда вновь не ступать ногой за эти границы. Для этой церемонии рабочие вымостили дороги на все четыре стороны, чтобы фараон мог проехать к границам в своем позолоченном экипаже, сопровождаемый семьей в экипажах и носилках и придворными, которые усыпали путь цветами, а флейты и струнные инструменты своей музыкой благословляли Атона.
Даже после смерти не собирался фараон Эхнатон покидать город Атона. Когда строительство его завершилось, он послал рабочих к восточным холмам освященной земли, чтобы они высекли в камнях место вечного упокоения. Они поняли, что работы хватит на всю их жизнь и что они никогда не смогут вернуться в родные места. Им не очень-то этого хотелось, но они привыкли к жизни в построенном ими городе, в тени фараона, ибо получали зерно полной мерой, в их кувшинах всегда было масло и их жены рожали здоровых детей.
Когда фараон решил построить гробницы для себя и своих придворных и подарить гробницу каждому из своих приверженцев, тем, кто будет жить с ним в Небесном Городе и кто веровал в Атона, он вознамерился также возвести Обитель Смерти за пределами города, дабы тела тех, кто умер в Ахетатоне, можно было сохранить навсегда. Для этой цели он вызвал из Фив самых искусных бальзамировщиков и мойщиков трупов. Они прибыли по реке на черном судне, и ветер разносил смрад, идущий от них, так что люди прятались по домам, повесив головы и вознося молитвы Атону. Многие также молились прежним богам и творили священные знаки Амона, ибо, когда они ощущали смрад, разносящийся от мойщиков трупов, Атон казался им слишком далеким и их помыслы обращались к прежним божествам.
Бальзамировщики сошли с судна на берег со всеми своими принадлежностями, мигая глазами, привыкшими к темноте, и проклиная свет, который был им неприятен. Они поспешно вошли в новую Обитель Смерти, унося с собой свой смрад, и это место стало их домом, они его уже никогда не покидали. Меж ними был старый Рамос, специалист, извлекавший мозг. Я встретил его в Обители Смерти, ибо жрецы Атона испытывали ужас перед этим местом и фараон передал его в мое ведение. Присмотревшись ко мне, Рамос узнал меня и удивился. Я помог ему вспомнить меня, чтобы завоевать его доверие, поскольку сомнение, как червь, точило мое сердце и я хотел узнать, насколько удалась моя месть в фиванской Обители Смерти.
Когда мы немного поговорили о его работе, я спросил:
— Рамос, друг мой, не проходила ли через твои руки красивая женщина, которую доставили в Обитель Смерти во время беспорядков и имя которой, как мне кажется, было Нефернефернефер?
Он посмотрел на меня, откинулся назад и, мигая, как черепаха, сказал:
— Сказать по правде, Синухе, ты первый из известных мне людей, кто когда-либо называл мойщика трупов своим другом. Я очень тронут, и, конечно, это очень важные сведения, раз ты так обращаешься ко мне. Ведь это не ты ли доставил ее к нам однажды темной ночью, закутанную в черный плащ как покойницу? Ибо если это был ты, то мойщикам трупов ты не друг, и если они прослышат об этом, они проткнут тебя отравленным ножом, и тогда ты умрешь самой ужасной смертью.
Я содрогнулся от его слов и сказал:
— Кто бы ни доставил ее к вам, она заслужила свою участь. Однако, судя по твоим словам, я полагаю, что она не была мертва, а очнулась в руках мойщиков.
Рамос отвечал:
— Наверняка эту ужасную женщину вернули к жизни, хотя, почему это известно тебе, мне лучше не думать. Она очнулась, ибо такие женщины никогда не умирают, а если уж и умрут, их надо сжигать, чтобы они никогда и не возвращались. Узнав се, мы дали ей имя Сетнефер: дьявольская красота.
Мною овладело страшное подозрение, и я спросил:
— Почему ты говоришь о ней так, словно ее больше нет? Разве ее нет уже больше в Обители Смерти? Мойщики поклялись, что будут держать ее там семьдесят раз по семьдесят дней.
Рамос загремел своими ножами и пинцетами, и я понял, что он ударил бы меня, если бы я не принес ему кувшин самого лучшего вина из погреба фараона. Он только ощупал пальцем запылившуюся печать и сказал:
— Мы не питаем к тебе злобы, Синухе; ты для меня как родной сын, и я хотел бы, чтобы ты провел всю жизнь в Обители Смерти и перенял бы мое искусство. Мы бальзамировали тела твоих родителей, как бальзамируют лишь тела знатных людей, и не пожалели лучших масел и бальзамов. Почему же тогда ты так дурно поступил с нами, доставив к нам живой эту ужасную женщину? Знай же, что до ее появления мы вели простую, полную трудов жизнь, наслаждаясь пивом, и обогащались, воруя у умерших драгоценности независимо от их пола и положения, а также продавая чародеям органы, нужные им для колдовства. Но с появлением этой женщины Обитель Смерти стала подобна хаосу в преисподней. Мужчины резали друг друга ножами и дрались, как бешеные псы. Она украла у нас все наше состояние — все золото и серебро, которое мы накопили за годы и спрятали в Обители Смерти; она не пренебрегала и медью. Она забрала даже нашу одежду, ибо, лишив молодых людей всего, что они имели, она заставила их грабить таких стариков, как я, чью похоть уже нельзя было возбудить. Миновало всего тридцать раз по тридцать дней, и она дочиста обобрала нас. После этого она учила, забрав с собой все свое богатство, а мы не могли помешать ей, ибо если бы кто-то стал на ее пути, ему воспротивился бы другой ради ее улыбки или прикосновения ее пальцев. Так она лишила нас и нашего достояния, и нашего покоя. У нее было к тому времени не менее трехсот дебенов золота, не говоря о серебре и меди, полотне и бальзамах, которые мы годами по обычаю крали у мертвых. Она пообещала вернуться к нам через год, чтобы посмотреть, много ли мы успели накопить за это время. Теперь в Обители Смерти крадут больше, чем когда бы то ни было; сверх того, мойщики научились воровать друг у друга, а не только у трупов, так что мы совсем лишились покоя. Надеюсь, ты понял, почему мы прозвали ее Сетнефер, ибо она необычайно прекрасна, хотя ее красота от Сета.
Только теперь я понял, каким ребячеством была моя месть, поскольку Нефернефернефер вернулась невредимой из Обители Смерти, еще богаче, чем была, и, как я полагаю, не испытала никаких дурных последствий от своего пребывания там, кроме запаха, пропитавшего ее тело и некоторое время мешавшего ей заниматься ее ремеслом. Моя месть разъела мою собственную душу, а ее оставила невредимой. Узнав это, я понял также, что месть не дает никакого удовлетворения. Ее сладость коротка, и она оборачивается против мстителя, пожирая его сердце как пламя.
Книга XI Мерит
1
Каждый видел, как утекает вода из водяных часов. Точно так же иссякает человеческая жизнь, хотя меру ее определяет не вода, а события. Эту глубокую мысль постигают лишь в старости, когда время для человека уходит в никуда в своем однообразии. Один-единственный день в насыщенное событиями время оставляет на человеке свой след и может казаться дольше, чем год однообразного труда, который не задевает его сердца. Я познал эту истину в Ахетатоне, где мое время текло спокойно, как воды Нила, и моя жизнь казалась кратким сном — прекрасной, ускользающей песнью. Десять лет, проведенные мною под сенью фараона Эхнатона в золотом дворце нового города, были короче любого года моей юности, всегда насыщенного путешествиями и переменами.
В Ахетатоне я не почерпнул ни мудрости, ни знаний; точнее, я пользовался тем, что приобрел в стольких странах; так выживает зимой пчела благодаря припасенному ей меду. И все же, как бегущая вода меняет форму камня, так и время, может быть, изменило мое сердце, впрочем, это мне неизвестно. Я был менее одинок, чем прежде. Вероятно, я стал спокойнее, не так доволен собой и своими талантами, хотя и не требую, чтобы этому поверили; это объясняется тем, что Капта уже не жил со мной, а был в далеких Фивах, где управлял моим имуществом и «Хвостом крокодила».
Город Ахетатон, погруженный в грезы и видения фараона, был равнодушен к внешнему миру. Все, что происходило за каменной оградой города, казалось ненастоящим и иллюзорным, как лунные блики на воде. Единственно реальным было то, что происходило в самом городе Ахетатоне. И все же, оглядываясь теперь назад, замечу, что истина крылась в ином: это Ахетатон и его жизнь были призрачны и обманчивы, а реальны — голод, страдания и смерть за его пределами. Поскольку все неприятное скрывали от Эхнатона, то любое дело, непреложно требующее его участия, представляли ему не таким, каким оно было, а в смягченном и подслащенном виде, при этом проявляли особую деликатность, опасаясь, как бы он снова не заболел.
Все это время жрец Эйе правил в Фивах как правая рука царя. Полностью полагаясь на Эйе, своего тестя и человека с непомерным честолюбием, фараон забывал о скучных и неприятных обязанностях. Эйе был истинным правителем Двух Царств, так как все, что касалось жизни простых людей — крестьян или горожан, зависело от него. Поскольку Амон был свергнут и, кроме Эйе, у фараона больше не было, соперников, всем распоряжался Эйе, который полагал, что волнения скоро улягутся. Для него ничего не могло быть лучше города Ахетатона, державшего фараона так далеко от Фив. Он делал все возможное, собирая средства, чтобы построить и украсить его, и постоянно посылал туда щедрые дары, стремясь сделать Ахетатон еще привлекательнее для фараона. Мир мог бы снова воцариться и все вернулось бы на крути своя — только не для Амона, — не будь фараон камнем преткновения для Эйе.
С Эйе делил власть Хоремхеб; он находился в Мемфисе и отвечал за безопасность и надлежащий порядок во всей стране. По сути дела ему принадлежала власть, державшаяся на палках сборщиков налогов и на молотках, которые уничтожали имя Амона на всех изображениях и надписях, проникая для этого даже в гробницы. Фараон Эхнатон разрешил открыть гробницу своего отца, чтобы имя Амона можно было истребить и там. И Эйе не противился ему, пока тот довольствовался такими невинными развлечениями. Он предпочитал, чтобы мысли фараона были заняты религиозными вопросами, далекими от повседневной жизни людей.
Некоторое время спустя после кровопролития в Фивах Египет притих, как озеро летом. Эйе передал налоговое ведомство в руки своих высших чиновников, что избавило его от многих хлопот. Те же передали право взимать налоги сборщикам податей в городах и селениях, и это приносило им солидные доходы. Испокон века бедняки проклинали свой жребий и посыпали головы пеплом при вице сборщика податей.
В Ахетатоне рождение четвертой дочери восприняли как бо́льшую беду, чем падение Смирны. Царица Нефертити, заподозрив, что стала жертвой злых чар, отправилась в Фивы к своей матери искать помощи у ее чернокожих колдунов. Удивляло, конечно, что женщина родила четырех дочерей и не произвела на свет ни одного мальчика. Однако так предопределила ей судьба: дать фараону Эхнатону шесть дочерей и не родить сына — оба они были обречены роком.
Время шло, а из Сирии доходили все более тревожные вести. Когда бы ни прибывало специально присланное оттуда судно, я тут же отправлялся в царский архив читать только что полученные таблички со все новыми призывами о помощи. Читая их, я, казалось, слышал жужжание стрел и чуял запах гари. За почтительными словами я различал пронзительные вопли умирающих и крики искалеченных детей. Люди Амурру были жестоки, а военному делу их обучили хеттские командиры. Ни один гарнизон в Смирне не мог противостоять им. Я читал послания от царя Вавилона и правителя Иерусалима. В своих мольбах о помощи они ссылались на свой возраст и выражали свою преданность, взывали к памяти покойного фараона и дружбе Эхнатона до тех пор, пока фараону не надоели их просьбы и он не отослал их письма в архив непрочитанными.
Когда Иерусалим пал, последние верные нам города, включая Иоппию, капитулировали и заключили союз с царем Азиру. Тогда Хоремхеб совершил поездку из Мемфиса в Ахетатон, встретился с фараоном и потребовал у него армию, чтобы организовать сопротивление в Сирии. До сих пор он только вел тайную войну с помощью писем и денег, чтобы спасти хотя бы один аванпост в стране.
Он сказал фараону Эхнатону:
— Позволь мне нанять хотя бы десять тысяч копьеносцев и лучников и сотню колесниц, и я отвоюю для тебя Сирию. Теперь, когда Иоппия сдалась, египетское владычество над Сирией утрачено.
Фараон Эхнатон впал в великое уныние, услышав о падении Иерусалима, ибо он уже предпринял шаги, чтобы сделать его городом Атона и умиротворить Сирию. Он сказал:
— Этот старик в Иерусалиме — не могу сейчас вспомнить его имя — был другом моего отца. Мальчиком я видел его в золотом дворце в Фивах; у него была длинная борода. Чтобы вознаградить его, я назначу ему пособие из египетской казны, хотя доходные статьи заметно уменьшились, поскольку торговля с Сирией прекратилась.
— Он едва ли сможет воспользоваться пособием, — сухо возразил Хоремхеб. — По приказанию Азиру из его черепа была сработана изысканная чаша, украшенная золотом, и послана им в дар царю Шуббилулиума в Хаттушаш, если только мои шпионы не ошибаются.
Лицо фараона посерело, а глаза налились кровью, но, овладев своими чувствами, он спокойно сказал:
— По-моему, трудно поверить в подобный поступок царя Азиру, которого я считал своим другом и который так охотно принял крест жизни из моих рук. Но, вероятно, я ошибся в нем и его душа чернее, чем я ожидал. Но, Хоремхеб, ты хочешь от меня невозможного, прося копья и колесницы, ибо народ уже недоволен податями, а урожай скуднее, чем я предполагал.
— Во имя твоего Атона, дай под мое командование хотя бы десять колесниц и сотню копьеносцев, чтобы я мог взять их в Сирию и спасти то, что можно спасти.
Но фараон Эхнатон ответил:
— Я не могу вести войну во имя Атона, ибо кровопролитие отвратительно ему. Я бы скорее оставил Сирию. Пусть Сирия будет свободна и создаст свое собственное союзное государство, и мы будем торговать с нею, как прежде, ибо Сирия не может обойтись без египетского зерна.
— Не полагаешь ли ты, что она удовольствуется этим, Эхнатон? — воскликнул ошеломленный Хоремхеб. — Каждый убитый египтянин, каждая брешь в стене, каждый захваченный город увеличивают самомнение сирийцев и все более разжигают их аппетит. Потом Сирия захватит медные копи на Синае, без которых мы более не сможем ковать копья и наконечники для стрел.
— Я уже говорил, что с гвардии хватит и деревянных копий, — раздраженно ответил фараон. — Зачем ты терзаешь меня беспрестанными разговорами о копьях и наконечниках для стрел, так что эти слова крутятся и вертятся в моей голове, когда я пытаюсь сочинить гимн Атону?
— После Синая придет черед Нижнего Царства, — с горечью продолжал Хоремхеб. — Как ты сам сказал, Сирия не может обойтись без египетского зерна, хотя я слыхал, что она теперь получает его из Вавилона. Но если ты не боишься Сирии, так страшись по крайней мере хеттов, чьи притязания на власть безграничны.
Фараон Эхнатон снисходительно рассмеялся, как рассмеялся бы каждый разумный египтянин, услышав подобные речи, и сказал:
— Насколько мы помним, ни единый враг не переступал наших границ, да никто и не осмелился бы. Египет — самое богатое и самое могущественное царство на земле. Я послал крест жизни также и царю Шуббилулиума и по его собственной просьбе золото, так что он может воздвигнуть мою статую в полный рост в своем храме. Он не нарушит покой Египта, поскольку может получить от меня золото, как только пожелает.
Жилы на лбу Хоремхеба вздулись, но, уже научившись владеть своими чувствами, он промолчал. Я сказал ему, что как врач не могу более позволить ему утомлять фараона, после чего он повернулся и вышел за мной.
Когда мы подошли к моему дому, он резко ударил себя по бедру своей золотой плетью, сказав:
— Клянусь Сетом и всеми демонами! Лепешка навоза на дороге гораздо нужнее, чем его крест жизни. Но самое непостижимое вот что: когда он смотрит мне в глаза, кладет мне руку на плечо и называет меня своим другом, я верю в его правду, хотя мне слишком хорошо известно, что я прав, а не он! Эта его странная сила всегда возобновляется в этом городе, крикливом, как шлюха, и с тем же запахом. Если бы было возможно привести к нему каждого человека на свете, чтобы фараон поговорил с ним, коснулся его своими нежными пальцами и вдохнул в него свою силу, я верю, что он мог бы изменить мир, но это невозможно. Тьфу! Если бы я остался дольше в этом месте, я начал бы отращивать груди, как придворные, и кончил бы тем, что кормил бы кого-то молоком!
2
Когда Хоремхеб вернулся в Мемфис, его слова остались во мне, преследовали меня, и я укорял себя за то, что я такой плохой друг для него и плохой советчик для фараона. Однако мое ложе под пологом было мягким, мои повара подавали мне птичек, приправленных медом, я имел достаточно жаркого из антилопы, и вода быстро утекала из моих часов.
Вторая дочь фараона Мекетатон занемогла изнурительной болезнью; се щечки пылали от лихорадки и ключицы стали выступать под кожей. Я пытался подкрепить ее тонизирующим средством, давал ей пить растворенное золото и оплакивал мою судьбу, поскольку не успели прекратиться приступы у фараона, как заболела его дочь, так что я не знал покоя ни ночью, ни днем. Фараон тоже встревожился, ибо нежно любил своих дочерей. Две старшие — Меритатон и Мекетатон — сопровождали его на балкон в дни приемов и бросали золотые цепи и другие подарки тем, кого фараон желал удостоить этой чести.
Как это обычно бывает у мужчин, фараон стал нежнее к этой больной дочери, чем к трем другим. Он подарил ей шары из слоновой кости и серебра и маленькую собачку, которая следовала за ней повсюду и спала в ногах ее постели. Он похудел и потерял сон из-за своей тревога, поднимаясь по нескольку раз каждую ночь послушать, как дышит ребенок; всякий раз, как она кашляла, у него разрывалось сердце.
И для меня эта маленькая девочка значила больше всего, чем я владел в Фивах, больше, чем Капта, больше, чем голодный год или чем все люди, голодавшие и умиравшие в Сирии по вине Атона. Я окружил ее величайшей заботой и самым тщательным уходом, пренебрегая другими знатными пациентами, страдавшими от обжорства и скуки, а более всего от головных болей, поскольку это был недуг фараона. Делая вид, что лечу их от головных болей, я приобрел много золота, но мне надоело и золото, и мое пресмыкательство.
Часто я бывал так нетерпелив с моими пациентами, что они говорили: «Положение придворного врача вскружило ему голову! Он воображает, что фараон прислушивается к нему, и знать не желает, что хотят сказать ему все прочие».
Но, когда я думал о Фивах, Капта и «Хвосте крокодила», меня одолевала грусть, а мое сердце изнемогало от неутолимой жажды. Я уже лысел под своим париком, и бывали дни, когда, забывая о своих обязанностях, я погружался в грезы и снова брел по дорогам Вавилона, вдыхая запах подсушенного зерна на глиняных токах. Я заметил, что растолстел, мой сон стал тяжелым, и мне понадобились носилки, поскольку даже от короткой прогулки пешком у меня начиналась одышка, хотя прежде самые длинные расстояния были мне нипочем.
Но, когда снова пришла осень и вода поднялась, а ласточки, покинув прибрежный ил, стремительно замелькали в вышине, дочь фараона начала выздоравливать. Она улыбалась и больше не чувствовала болей в груди. Душой я летел за быстрыми ласточками и с позволения фараона сел на корабль, направляющийся в Фивы. Он поручил мне приветствовать от его имени всех прибрежных поселян, между которыми он разделил земли ложного бога, и также послал приветствия учрежденным им школам и надеялся услышать о них хорошие вести по моем возвращении.
Я посетил много селений и собирал старцев для разговора. Путешествие было более спокойным, чем я ожидал, ибо флаг фараона развевался на топ-мачте, моя постель была мягкой, а на реке не было мух. Мой повар следовал за мной в специальной лодке, и из всех поселений ему доставляли дары, так что я не испытывал недостатка в свежей пище. Но, когда поселенцы приходили ко мне, я видел, что это сущие скелеты, их жены озирались вокруг глазами, полными страха, пугаясь каждого звука, а дети были болезненными и кривоногими. Эти люди показывали мне свои хлебные закрома, пустые больше чем наполовину; зерно в них было испещрено красными пятнышками, словно побывало под кровавым дождем.
Они сказали мне:
— Сначала мы думали, что наши неудачи от незнания, поскольку мы никогда прежде не возделывали землю. Но теперь мы знаем, что земля, которую фараон разделил между нами, проклята и тот, кто возделывает ее, тоже проклят. По ночам невидимые ноги топчут наши посевы, невидимые руки ломают посаженные нами деревья. Наш скот гибнет без причины, наши оросительные каналы засоряются, и мы находим падаль в наших колодцах, так что лишены даже питьевой воды. Многие покинули свою землю и вернулись в города еще беднее, чем были, понося имя фараона и его бога. Но мы еще держимся, полагаясь на наш магический крест и на письма, которые посылает нам фараон. Мы развешиваем их на столбах у себя на полях для защиты от саранчи. Но чары Амона сильнее волшебства фараона. Наша вера покидает нас, и мы хотим оставить эту ужасную землю, прежде чем перемрем, ибо уже у многих умерли жены и дети.
Я посетил также их школы, и, видя крест Атона на моей одежде, учителя прятали розги и делали знак Атона, тогда как дети сидели на току, скрестив ноги и уставившись на меня так пристально, что забывали утереть носы.
Учителя сказали:
— Мы знаем, что это чистое безумие — обучать каждого ребенка чтению и письму, но чего только мы не сделаем для нашего любимого фараона, который нам и отец, и мать и коего мы чтим как сыновья его бога. Но мы — ученые люди, и не подобает нам с нашим знанием сидеть на току, утирать носы чумазым ребятишкам и чертить уродливые знаки на песке, ибо у нас нет ни табличек, ни тростниковых перьев и, более того, эти новые буквы никогда не смогут передать всю ту мудрость и знания, которые мы приобрели с великим трудом и великой ценой. Наше жалованье подолгу не выплачивают нам, а родители вознаграждают нас очень скупо; их пиво слабое и прокисшее, и масло в наших кувшинах прогоркло. Все же мы проявляем настойчивость, показывая фараону, что невозможно научить всех детей читать и писать, ибо лишь лучшие ученики, чьи головы податливы и восприимчивы, могут учиться.
Я проверил их познания, которые отнюдь не удовлетворили меня. Еще менее понравились мне их опухшие лица и бегающие глаза, ибо эти учителя были разжалованными переписчиками, которых никто не взял бы на работу. Они приняли крест Атона ради пропитания.
Поселенцы и старцы в селениях отчаянно ругались во имя Атона и говорили:
— Синухе, господин наш, замолви за нас словечко перед фараоном и попроси его снять наконец с наших плеч груз этих школ, ведь нам больше не выдержать. Наши мальчики возвращаются домой все в синяках от побоев, с выдранными волосами, а эти ужасные учителя ненасытны, как крокодилы. Они разоряют нас, вымогают наши последние деньги и сдирают шкуру с нашего скота, чтобы купить себе вина. Когда мы в поле, они входят в наши дома и развлекаются с нашими женами, утверждая, что такова воля Атона, для которого все мужчины равны и все женщины равны. Поистине мы не хотели никаких перемен в нашей жизни, ибо хотя мы и бедствовали в юродах, но все же не были обделены счастьем. Здесь мы не видим ничего, кроме грязных канав и мычащего скота. Правы были те, кто предупреждал нас: «Остерегайтесь перемен: у бедных всегда все получается к худшему. Как бы ни менялся мир, знайте, что от этого у бедняка станет только меньше зерна в мешке и масла в кувшине».
Сердце мне подсказывало, что правда на их стороне, и я не вступал в споры, а продолжал свой путь. Меня переполняла грусть из-за фараона, и я поражался, что он губит все, к чему ни прикоснется, так что усердный от его даров становится ленивым, и только все самое никчемное льнет к Атону, как мухи к трупу. А потом меня охватило ужасное подозрение: что если фараон и праздная знать, да и я сам в последние несколько лет, не больше чем паразиты, блохи в собачьей шерсти? Может, блохи считают, что собака существует только для их пользы и пропитания. Фараон и его бог, возможно, и есть такие блохи, — от них одни неприятности и никакой пользы. Ведь собакам только лучше, если они свободны от паразитов.
Так моя душа пробудилась от долгой спячки и с презрением отринула город Ахетатон. Я взглянул на все новыми глазами и не увидел ничего хорошего. Но, возможно, мои глаза были под действием чар Амона, который втайне правил всем Египтом, за исключением Небесного Города, куда его власть не простиралась. Где была истина, не могу сказать, ибо хотя и есть люди, которые никогда не меняют своих взглядов и прячутся от нового, как черепаха в панцирь, но на меня всегда очень влияло то, что я видел и слышал. Поэтому многое определяло мой образ мыслей, порой даже безотчетно.
Я вновь увидел на горизонте три холма — вечных стражей Фив. Передо мной высились крыша храма и его стены, но острия обелисков не сияли более в солнечном свете, ибо их позолоту никогда не обновляли. Все же вид их освежил мою душу, и я вылил вино в воды Нила, как делают матросы, возвратившись из долгого плавания, хотя они совершают возлияние пивом, поскольку предпочитают держать вино, если оно есть, для себя. Я снова увидел огромные каменные причалы Фив и уловил запах гавани: запах гниющего зерна и грязной воды, пряностей, трав и смолы.
В бедном квартале я прошел мимо дома, принадлежавшего медеплавильщику; он показался мне очень убогим, а дорожка перед ним — грязной, полной мух и зловония. И я не обрадовался даже сикомору во дворе, хотя сам посадил его и он сильно вырос, пока меня не было, — так испортили меня богатство и роскошь Ахетатон а. Мне было грустно и стыдно, что мой дом оставил меня таким равнодушным.
Капта не было там, а только моя кухарка Мути, которая горестно воскликнула:
— Благословен день, когда мой господин вернулся домой, но комнаты не убраны, а белье в стирке, и твой приезд доставляет мне много хлопот и неприятностей, хотя и вообще я жду от жизни мало хорошего. Но меня нисколько не удивляет твое внезапное появление, ибо так поступают мужчины, от которых нечего ждать добра.
Я успокоил ее, сказав, что этой ночью буду спать на корабле. Расспросив ее о Капта, я ушел и был доставлен в «Хвост крокодила». Мерит встретила меня у двери и не узнала из-за моей нарядной одежды и носилок.
Она спросила:
— Ты заказал здесь место на этот вечер? Ведь если нет, то я не могу впустить тебя.
Она немного располнела, и ее скулы меньше выступали, но глаза были все те же, только возле них появились морщинки.
У меня на сердце потеплело, и, обняв рукой ее талию, я сказал:
— Понятно, что ты забыла меня, ведь, наверно, много одиноких, грустных мужчин грелось на твоей циновке, и все же надеюсь, в твоем доме найдется и для меня местечко и кружка охлажденного пива, хотя я и не претендую на эту самую циновку.
Она вскрикнула в изумлении:
— Синухе, это ты? Благословен день, когда мой господин вернулся домой!
Она положила свои сильные прекрасные руки мне на плечи и, пристально вглядываясь в мое лицо, продолжала:
— Синухе, чем ты занимался? Если когда-то ты был одинок, как лев, то сейчас одинок, как комнатная собачка, и теперь ты на привязи.
Она сняла мой парик, нежно погладила мою голову и сказала:
— Так садись, Синухе, и я принесу тебе охлажденного вина, ты же вспотел и запыхался после своего утомительного путешествия.
Я испуганно ответил:
— Ни в коем случае не приноси мне «крокодильего хвоста», ибо у меня уже не тот желудок, да и голова не та.
Погладив мое колено, она поддразнила меня, сказав:
— Разве я уже так стара, жирна и уродлива, что, встретив меня через столько лет, ты думаешь только о своем желудке? А ведь прежде, как я помню, ты не боялся головной боли, ведь ты так рвался к этим «крокодильим хвостам», что мне приходилось тебя удерживать.
Меня смутили ее слова, ибо она говорила правду, а от правды часто бывает стыдно.
Поэтому я ответил ей:
— О, Мерит, друг мой, я уже старый и конченый человек.
Но она возразила:
— Тебе так кажется, но, когда ты смотришь на меня, у тебя молодые глаза, и я рада этому.
— Мерит, во имя нашей дружбы, принеси мне поскорее «крокодилий хвост», не то я буду груб с тобой, а придворному врачу не подобает так себя вести, тем более в портовой таверне.
Она принесла мне питье в раковине и поставила ее мне на ладонь. Питье обожгло мне горло, привыкшее к сладким винам, но это жжение было сладостно мне, ибо другая моя рука лежала на ее бедре.
— Мерит, — сказал я, — как-то ты сказала мне, что ложь может быть слаще правды для того, кто одинок и чья первая весна миновала. А я говорю тебе, что мое сердце все еще цветет и молодеет при виде тебя; долгие годы были мы в разлуке, но не проходило дня, чтобы я не нашептывал твоего имени; я посылал тебе привет с ласточками, когда они неслись вверх по течению, и каждое утро я просыпался с твоим именем на устах.
Она взглянула на меня, и для меня она была все еще стройной и прекрасной. В глубине ее глаз таились печаль и улыбка, как в водах бездонного колодца. Она погладила меня рукой по щеке и сказала:
— Ты прекрасно говоришь, Синухе, так почему бы и мне не признаться, что мое сердце томилось по тебе, а мои руки искали тебя по ночам, когда я лежала одна на моей циновке? Когда же под действием «крокодильего хвоста» мужчины несли мне всякий вздор, я с грустью вспоминала тебя. Но в золотом дворце фараона, должно быть, много красивых женщин, и не сомневаюсь, что как врач ты добросовестно отдавал им часы досуга.
Правда, я развлекался с некоторыми из придворных дам, если они скуки ради приходили за моими врачебными советами. Их кожа была гладкой как персик и мягкой как пух, и зимой было теплее лежать в постели вдвоем, чем одному. Но это было пустое, и я не трудился заносить это в мою книгу. Я ответил:
— Мерит, если я и не всегда спал один, то истина в том, что из всех женщин ты мой единственный друг.
«Крокодилий хвост» все больше разбирал меня. Я чувствовал, что мое тело молодеет, как и моя душа, и сладкий огонь пробежал по моим жилам, когда я сказал:
— Конечно, многие мужчины делами с тобой циновку за это время, но тебе следует предупредить их, что, пока я остаюсь в Фивах, я буду у тебя, ибо, если меня выводят из себя, я прихожу в ярость! Когда я сражался против кабиров, солдаты Хоремхеба прозвали меня Сыном Дикого Осла.
Она воздела руки в притворном испуге и сказала:
— Вот чего я так сильно боялась, ибо Капта рассказывал мне о многих страшных схватках и стычках, куда тебя вовлекала твоя горячность и ты спасался только благодаря его преданности и решительности.
Услышав имя Капта, я представил себе всю бесстыдную ложь, которую он, наверно, рассказал ей обо мне и моей жизни в чужих землях. У меня упало сердце, слезы потекли из глаз, и я воскликнул:
— Где же Капта, мой бывший раб и слуга, которого я хочу обнять? Ибо мое сердце сильно тоскует о нем, хотя и не подобает мне так говорить о рабе.
Мерит пыталась утихомирить меня:
— И вправду видно, что ты не привык к «крокодильему хвосту», а мой отец сердится из-за шума и смотрит сюда из-за твоего крика. Ты не увидишь Капта до вечера, ибо он занят важными делами на хлебной бирже и в таверне. Ты будешь поражен, когда увидишь его, ибо он вряд ли помнит, что когда-то был рабом и носил твои сандалии на палке, перекинутой через плечо. Я поведу тебя подышать свежим воздухом до его прихода Ты, конечно, захочешь посмотреть, как изменились Фивы после твоего отъезда, и мы с тобой будем только вдвоем.
Она пошла переодеться, подкраситься и надеть золотые и серебряные украшения. Только руки и ноги отличали ее от знатной дамы, хотя немногие дамы имели такой ясный и спокойный взгляд, как у нее, или такой горделивый рот. Я приказал рабам нести нас по улице Рамс, и мы сидели в носилках так близко, что я вдыхал аромат ее помады, который был запахом Фив, более острым и пьянящим, чем все редкие притирания Ахетатона. Я держал ее руку в своей, и ни одной дурной мысли не осталось в моей голове. После долгого путешествия я вернулся домой.
Мы приблизились к храму, где над опустевшими дворами кружились и пронзительно кричали черные птицы; они никогда не возвращались к своим холмам и обитали в их окрестностях. Эти места были прокляты и отвратительны людям. Мы сошли с носилок и бродили по безлюдным внешним дворам, не встречая ни души, кроме тех, кто состоял при Обители Жизни или Обители Смерти. Содержать эти заведения было крайне дорого и хлопотливо. Мерит сказала мне, что люди избегают также и Обитель Жизни, поэтому врачи в большинстве перебрались в город и теперь практикуют там. Мы прошли в храмовый сад, но тропинки заросли травой, а деревья были вырублены и разворованы. Фараон превратил этот сад в общественный парк, но мы встретили там только парочку грязных бродяг, которые бросали на нас косые взгляды.
Мерит сказала:
— Ты надорвал мое сердце, приведя меня в это дурное место. Несомненно, крест Атона защитит нас, хотя я бы предпочла, чтобы ты снял его, а не то тебя побьют камнями. Фивы все еще охвачены ненавистью.
Она была права. Когда мы вернулись на площадь перед храмом, люди плевались, завидя мой крест. Меня удивило, что какой-то жрец Амона смело идет сквозь толпу; он был одет во все белое, и голова его была выбрита вопреки приказу фараона. Его лицо блестело, одежда была из лучшего полотна, и он, казалось, не страдал от лишений. Народ безмолвно расступался перед ним. Благоразумие побудило меня прикрыть рукой крест Атона, ибо мне не хотелось поднимать ненужного шума.
Мы задержались у стены, где сидел на своей циновке сказитель с пустой чашей перед ним. Слушатели стояли вокруг него, а самые бедные из них сидели на земле, не заботясь о своей одежде. Историю, которую он рассказывал, я никогда прежде не слышал, ибо он говорил о лжефараоне, жившем много-много лет назад, и о его матери — черной колдунье. По воле Сета, эта колдунья добилась любви доброго фараона и родила лже-фараона, который старался погубить египтян и превратить их в рабов нубийцев и дикарей. Он уничтожил статуи Ра, так что Ра проклял страну, и она стала бесплодной. Люди погибали от ужасных наводнений, саранча пожирала созревший урожай, а водоемы превратились в зловонные кровавые лужи. Но дни лжефараона были сочтены, ибо власть Ра была могущественнее Сета. Лже-фараон умер страшной смертью, как и его колдунья-мать, а Ра изничтожил всех отрекшихся от него и разделил их дома, имущество и земли между теми, кто остался верен ему во всех испытаниях и ждал его возвращения.
Этот рассказ был очень длинным и очень волнующим, и люди перебирали ногами и поднимали руки, нетерпеливо желая услышать окончание. Я тоже слушал с открытым ртом. Когда рассказ закончился и лжефараон был наказан и брошен в бездонную яму, когда его имя было проклято, а Ра вознаградил тех, кто был ему верен, слушатели запрыгали и закричали от восторга и стали бросать монеты в чашу сказителя.
Я был очень озадачен и сказал Мерит:
— Это новый рассказ, которого я никогда прежде не слышал, хотя мне казалось, что я выучил их все еще ребенком, поскольку моя мать Кипа страстно любила и весьма благоволила к сказителям — настолько, что мой отец Сенмут иногда угрожал им палкой, когда она кормила их у нас на кухне. Да, эта история новая. Хотя это и невероятно, я сказал бы, что она имеет отношение к фараону Эхнатону и тому ложному богу, чье имя мы не осмеливаемся произносить вслух. Следовало бы запретить рассказывать подобные истории!
Мерит улыбнулась.
— Как можно это запретить? Это слушают с удовольствием в обоих царствах в каждой подворотне и у каждой стены в самых маленьких селениях. Когда стражники угрожают сказителям, те утверждают, что это старинное сказание и они могут это доказать, ибо жрецы обнаружили его в очень древних записях. Так что стражники остаются ни с чем. Однако я слыхала, что Хоремхеб, — а он жестокий человек, и ему наплевать на всякие доказательства и письмена, — приказал повесить нескольких сказителей на стене и бросить их тела крокодилам.
Мерит взяла мою руку и, улыбаясь, продолжала:
— В Фивах много говорят о предсказаниях. Как только двое сойдутся, тут же рассказывают друг другу об услышанных ими пророчествах и дурных предзнаменованиях. Тебе известно, что на полях чахнут злаки, бедняки мрут от голода, а подати давят и на богатых, и на бедных. Предрекают, что будет еще хуже, и я трепещу, думая обо всех бедах, которыми угрожают нам эти пророчества.
Я отнял у нее мою руку, а заодно и мое сердце. «Крокодилий хвост» давно выветрился из моей головы, и теперь она болела. Я упал духом, и ее тупое упрямство нисколько не ободрило меня.
Так что мы вернулись в таверну не в духе, и я знал, что слова Эхнатона были правдивы: «Атон разлучит ребенка с матерью и мужчину с сестрой его сердца, доколе его царство не утвердится на земле».
Но я совсем не хотел разлучаться с Мерит из-за Атона, поэтому пребывал в чрезвычайно дурном настроении, пока не увидел вечером Капта.
3
Никто не смог бы долго предаваться унынию при виде Капта, который появился в таверне огромный и увесистый, как беременная свинья, столь тучный, что только боком ему удалось протиснуться в дверь. Лицо его, круглое, как луна, блестело от пота и дорогих мазей; на нем был прекрасный голубой парик, а его пустой глаз был прикрыт золотым диском. Он больше не носил сирийское одеяние, а был облачен по египетской моде в самую лучшую одежду, какую только могли сшить фиванские портные, на его запястьях и толстых лодыжках позвякивали золотые браслеты.
Увидев меня, он вскрикнул и в изумлении воздел руки, затем простер их перед собой, низко склонившись передо мной, что при его брюхе было не так просто.
— Благословен день, когда мой господин вернулся домой!
Чувства одолевали его, и он плакал, бросаясь на колени, чтобы обнять мои ноги, и издавая такие вопли, что я узнал моего старого Капта, несмотря на царское полотно и золотые браслеты, дорогие мази и голубой парик. Я поднял его за руки и обнял, и мне казалось, что у меня в объятиях тучный бык, от которого пахнет свежим хлебом, так сильно пропитался он запахом хлебной биржи.
Он тоже учтиво понюхал мои плечи, утер слезу и засмеялся.
— Эго для меня такой радостный день, что я хочу бесплатно поднести каждому завсегдатаю моего заведения по кубку «крокодильего хвоста». Если кто-то пожелает второй, пусть платит за него сам.
Он повел меня во внутренние покои дома и усадил на мягкие циновки. Он позволил Мерит сесть рядом со мной, а тем временем слуга и рабы принесли мне лучшее, что было в доме. Его вина были не хуже вин фараона, а его жареный гусь был фиванским гусем, которому нет равных во всем Египте, ибо его кормят тухлой рыбой и она придает мясу самый изысканный, самый тонкий аромат.
Когда мы кончили есть и пить, он сказал:
— Синухе, мой господин и хозяин, полагаю, что ты внимательно проверил все отчеты и счета, подготовленные для тебя писцами по моему приказу и отправленные тебе в Ахетатон за все эти годы. Может быть, ты позволишь мне включить этот обед в счет наших расходов, а также и «крокодильи хвосты», которыми по случаю моей большой радости я одарил посетителей? Все это будет к твоей выгоде, ибо стоит больших трудов обмануть налоговое ведомство фараона ради твоей пользы.
Я ответил ему:
— Это все для меня, как Мумбо Юмбо; я не понял ни слова. Поступай так, как лучше, ибо ты знаешь, что я вполне на тебя полагаюсь. Я прочитал твои отчеты и счета, но должен признаться, что понял из них очень мало, поскольку они содержат чрезмерное количество цифр, и у меня разболелась голова задолго до того, как я добрался до итогов.
Капта радостно засмеялся, и смех донесся из его утробы, как из-под мягких подушек. Мерит тоже рассмеялась, ибо она вместе со мной пила вино и теперь откинулась, заложив руки за голову, так что я мог заметить, как все еще прекрасна округлость ее груди под платьем.
Капта сказал:
— О, Синухе, мой господин и хозяин, я рад видеть, что ты сохранил свой беспечный нрав и разбираешься в повседневной жизни не больше, чем свинья в жемчугах, хотя я далек от намерения сравнивать тебя со свиньей. Лучше я от твоего имени воздам благодарение и хвалу всем богам Египта, поскольку они вполне могли бы дать тебе в услужение какого-нибудь вора или бездельника, тогда как я сделал тебя богатым.
Я указал, что ему надо благодарить за это не богов, а скорее мой здравый смысл, поскольку я сам купил его на невольничьем рынке, причем и дешево, так как он потерял один глаз во время драки в таверне. Вспомнив обо всем этом, я растрогался и сказал:
— Поистине никогда не забуду, как впервые увидел тебя — привязанного за лодыжки к невольничьему столбу и кричащего бесстыдные слова проходящим женщинам или просящего пива у мужчин. Все же я поступил мудро, купив тебя, хотя тогда не был в этом уверен.
Лицо Капта потемнело и сильно сморщилось, когда он ответил:
— Я не люблю, когда мне напоминают о таких старых и скучных делах, не отвечающих моему достоинству.
Он стал восторженно восхвалять скарабея, говоря:
— Как мудро было с твоей стороны оставить мне скарабея, чтобы заниматься твоими делами, ибо ты никогда и мечтать не мог о таком богатстве, какое он тебе принес, несмотря на сборщиков податей, которые кишели вокруг меня как мухи. Мне пришлось нанять двух сирийских конторщиков, чтобы вести особые книги для их же пользы, ибо никто, даже сам Сет, ничего не мог бы понять в сирийском счетоводстве. А говоря о Сете, я вспомнил нашего старого друга Хоремхеба, которому, как ты знаешь, я дал взаймы от твоего имени. Сейчас я буду говорить не о нем, но только о твоем имуществе, как бы мало ты ни разбирался в таких делах. Благодаря мне ты теперь богаче многих знатных египтян. Богатство означает обладание не золотом, но домами, складами, кораблями, причалами, скотом, землей, фруктовыми садами и рабами. Ты владеешь всем этим, хотя, быть может, ты об этом не подозреваешь, поскольку я был вынужден внести много пунктов в список слуг и писцов, чтобы избежать обложения налогом. Налоги фараона тяжелы для богатых, которые должны платить больше, чем бедные, так что если бедный отдает одну пятую своего зерна, то богатый обязан отдать треть или. даже половину. Такое беззаконие — самое безбожное из всего, что натворил фараон. Именно это и разорило страну, да еще и утрата Сирии. Но удивительнее всего то, что, когда национальное богатство убывает, бедные становятся еще беднее, а богатые — богаче. Даже и фараону этого не изменить.
Отхлебнув еще вина, Капта начал хвастать своими зерновыми сделками:
— У нашего скарабея, господин, есть такая странность, что в первый же день, как мы вернулись из путешествия, он привел меня в винную лавку, которой заправляют торговцы зерном. Я тут же начал закупать зерно от твоего имени и в первый же год получил прибыль с Ам — я имею в виду такие большие участки земли, лежащие под паром и незасеянные. Зерно — замечательный товар, поскольку его можно купить и продать еще до того, как оно посеяно, а также потому, что его цена растет из года в год как по волшебству, так что покупатель всегда останется с прибылью. По этой причине я не намерен продавать зерно, а буду и дальше покупать его и хранить в моих закромах, пока за меру зерна не начнут брать золотом, как оно и будет, если сохранятся нынешние порядки.
Внимательно посмотрев на меня, Капта налил еще вина нам троим и серьезно продолжал:
— Однако никто не ставит все состояние на карту, так что я поровну разделил твои доходы между несколькими рискованными предприятиями, как если бы ты сам несколько раз играл в кости, мой дорогой господин. Я украл у тебя не больше, чем прежде, даже не половину того, что заработал для тебя благодаря моей ловкости, нет, даже и не треть, хотя я не знаю никого, у кого было бы сподручнее воровать, мой дорогой и благословенный господин Синухе.
Мерит улыбалась, сидя на своей циновке, и расхохоталась, видя, в какую растерянность привели меня совершенно непонятные мне речи Капта. Он продолжал свои объяснения:
— Ты должен понять, господин, что, когда я говорю о прибылях, я разумею чистую прибыль — значит, все, что осталось после уплаты налогов. Надо также вычесть издержки на подарки налоговым чиновникам в связи с моим сирийским счетоводством и на большое количество вина, которым нужно было потчевать их, чтобы они смотрели сквозь пальцы на цифры в моих отчетах. Уже одно это было немалой статьей расходов, ибо они пронырливы и невероятно настойчивы; они собаку съели в этих делах. Не раз раздавал я зерно бедным, чтобы они могли благословлять мое имя. В неспокойные времена хорошо жить в согласии с бедными. Эта раздача зерна — отличный деловой ход, поскольку полоумный фараон снижает налог на все зерно, распределенное таким образом. Когда я даю меру зерна бедняку, я заставляю его клятвенно подтвердить с помощью отпечатка большого пальца, что он получил пять мер, ибо бедные не умеют читать, а если бы и умели, то были бы так благодарны и за одну меру, что благословляли бы мое имя и прижимали бы палец под любым документом, какой им ни подсунь.
Выложив все это, Капта вызывающе скрестил руки, выпятил грудь и ожидал моих похвал. Но его слова заставили меня шевелить мозгами, и некоторое время я усердно размышлял. Наконец я спросил:
— Так у нас большие запасы зерна?
Капта энергично кивнул, все еще ожидая моих похвал, но я продолжал:
— В таком случае ты должен поспешить к поселенцам, которые возделывают проклятую землю, и распределить зерно между ними для посева, ибо у них его нет. А то, что у них есть, — крапчатое, словно полито кровавым дождем. Река спала, пришло время пахоты и сева; ты должен поспешить.
Капта жалостливо посмотрел на меня, покачал головой и сказал:
— Мой дорогой господин, тебе не следует утруждать свою драгоценную голову непонятными для тебя делами, но позволь мне обмозговать это за тебя. Дело обстоит так: мы, торговцы, получили первый доход от поселенцев, ссудив их зерном, ибо бедность вынудила их за каждую меру, взятую в долг, отдавать две. Если они не могли заплатить, мы заставляли их резать скот и брали шкуры в уплату за долг. Когда зерно дорожало, сделка становилась невыгодной, а этой весной нам выгодно оставить побольше незасеянной земли, чтобы цена на зерно подскочила. Мы ведь все-таки не сумасшедшие, чтобы дать поселенцам зерно для посева, ибо это было бы для нас очень убыточно, а все торговцы зерном стали бы моими врагами.
Но тут я проявил твердость и резко сказал:
— Делай, как я приказываю, Капта, ибо зерно мое, а я думаю сейчас не о выгодах, а о людях, у которых ребра торчат из-под кожи, как у рудокопов, о женщинах, чьи груди висят, как пустые мешки, о кривоногих детях на берегу реки, по глазам которых ползают мухи. Я приказываю разделить это зерно между ними для сева и любым способом помочь им провести сев. Сделай это ради Атона и ради фараона Эхнатона, которого я люблю. Не давай им это даром, ибо я видел, как даровое порождает лень, недоброжелательство, праздность и алчность. Разве им не дали землю и скот даром? И все же у них ничего не вышло. Пусти в ход свою палку, Капта, если это будет необходимо. Присмотри за тем, чтобы зерно было посеяно и сжато. А когда ты придешь требовать то, что тебе положено, не вздумай брать ничего для себя, возьми у них только меру за меру.
Услышав это, Капта стал рвать на себе одежду и причитать:
— Мера за меру, господин? Это безумие, ибо где же мне и красть, как не из твоей прибыли? Во всем остальном твои речи так же глупы и безбожны. Кроме торговцев зерном, против меня ополчатся и жрецы Амона, а сейчас я могу без опаски произнести его имя вслух, сидя в закрытой комнате, и никто не услышит меня и не донесет. Я произношу его имя вслух, господин, ибо он все еще жив и его могущество сильнее, чем когда-либо прежде. Он проклинает наши дома, наши склады и магазины и эту таверну он тоже проклинает, так что, пожалуй, стоит перевести ее на имя Мерит, если она согласится, и я так доволен, что твое имущество значится под разными именами, стало быть, жрецы не могут пронюхать о нем и призвать на него проклятие.
Капта продолжал болтать, выгадывая время, в надежде, что я откажусь от своих намерений. Увидев, что мое решение твердо, он крепко выругался и сказал:
— Может, тебя укусила бешеная собака, господин? Или скорпион ужалил? Сперва я подумал, что это просто глупая шутка. Твой план приведет нас к нищете; но, может быть, скарабей поможет нам. По правде говоря, я и сам не люблю смотреть на тощих людей и отвожу от них глаза. Хорошо бы и ты так поступал, ибо чего человек не видит, того он и не знает. Я успокоил свою совесть, распределяя зерно между бедняками, поскольку это было выгодно. Что мне более всего не нравится в твоем плане, так это то, что я должен отважиться на затруднительное путешествие и таскаться по грязи, где я, конечно, оступлюсь и свалюсь в оросительную канаву, и тогда моя жизнь будет на твоей совести, господин, ибо я старый и усталый человек и руки и ноги мои уже не гнутся. А как я буду без моего мягкого ложа и без супов и жаркого Мути. Да к тому же от ходьбы я задыхаюсь.
Но я был безжалостен.
— Ты врешь как никогда, Капта, ибо за эти годы ты не постарел, а помолодел. Руки твои не дрожат, как прежде, и твой глаз сначала, когда ты вошел, не был красным, а покраснел только сейчас, когда ты выпил так много вина. Предписываю тебе это трудное путешествие как врач — из-за любви, которую питаю к тебе. Ты слишком толст, и это вредно твоему сердцу и нарушает дыхание. Надеюсь, ты похудеешь за время поездки и снова станешь достойным человеком, так что мне не придется краснеть за тучность моего слуги. Помнишь, как мы радовались, шагая по пыльным дорогам Вавилона, с каким восторгом ты ехал на осле среди Ливанских гор и даже с еще большим восторгом слезал с этого животного в Кадеш? Право, будь я помоложе, то есть не имей я столько важных поручений, которые должен исполнить в интересах фараона, я бы отправился с тобой и сам, ибо много благословений принесет тебе это путешествие.
Мы больше не спорили, и Капта покорился мне. Поздней ночью мы сели выпить. Мерит пила с нами; она обнажила свою смуглую кожу, чтобы я мог касаться ее губами. Капта вернулся к своим воспоминаниям о дорогах и хлебных токах Вавилона. Если он совершил все, о чем рассказывал, значит, моя любовь к Минее сделала меня тогда слепым и глухим. Ибо я не забыл Минею, хотя и провел эту ночь на циновке Мерит и наслаждался с ней, так что мое сердце отогрелось, а одиночество мое улетучилось. И все же я не называл ее моей сестрой, но лежал с ней, потому что она была моим другом и она дала мне все, что женщина может дать мужчине. Я охотно разбил бы с нею кувшин, но она не хотела этого, говоря, что выросла в таверне, а я слишком богат и знатен для нее. Но думаю, она хотела остаться независимой и сохранить нашу дружбу.
4
На следующий день я должен был посетить золотой дворец и встретиться с царицей-матерью, которую теперь все Фивы называли черной ведьмой. Полагаю, что при всех своих дарованиях и мудрости эта безжалостная старая интриганка заслужила такое прозвище. Большая власть, сосредоточенная в ее руках, сводила на нет все ее достоинства.
Когда я вернулся на корабль, переодевшись в царское полотно и в регалиях, соответствующих моему званию, моя кухарка Мути пришла из дома медеплавильщика очень разгневанная и сказала:
— Благословен день, когда ты вернулся домой, господин, но куда это годится, что ты кутишь всю ночь в увеселительном заведении и даже не зайдешь домой позавтракать, хотя я положила много труда, чтобы приготовить твои любимые блюда. К тому же я простояла всю ночь — пекла и жарила и била бездельников-рабов, чтобы поторопить их с уборкой дома, пока моя правая рука не заныла от усталости. Я теперь старуха и потеряла веру в мужчин, и ты ничего не сделал, чтобы поднять мое мнение о них. Теперь иди домой и приступай к завтраку, который я приготовила тебе, и приводи свою шлюху, уж если ты не можешь и дня без нее прожить.
Таковы были ее слова, хотя она и была высокого мнения о Мерит и восхищалась ею. Такая была у нее манера, и я к этому уже привык. Ее резкости звучали как музыка для меня, заставляя ощущать, что я вернулся домой. Послав весточку Мерит в «Хвост крокодила», я охотно пошел с Мути.
Она плелась, волоча ноги, рядом с моими носилками и непрерывно бормотала:
— Я надеялась, что ты уже перебесился и научился достойно себя вести, пробыв столько времени при царском дворе, но ясно, что ничего такого не случилось и ты остался таким же непослушным, как был. Все же вчера мне показалось, что лицо у тебя стало спокойнее. Я была также рада заметить, что твои щеки несколько округлились, ибо когда человек полнеет, он. становится миролюбивее. Уж конечно, не я буду виновата, если ты похудеешь здесь, в Фивах, виной тому твое собственное непристойное поведение. Все мужчины одинаковы, и все зло в мире происходит от той штучки, которую они прячут под набедренными повязками, потому что стыдятся ее, какими бы хорошими они ни были.
Ее непрестанная воркотня напомнила мне мою мать Кипу. Я, конечно, был тронут до слез, но тут же огрызнулся на нее:
— Замолчи, женщина, ибо твоя болтовня мешает мне думать и напоминает жужжание мух в моих ушах.
Она сразу же замолчала, довольная тем, что довела меня до крика, который дал ей почувствовать, что хозяин и вправду вернулся домой.
Она очень тщательно приготовила дом к моему приходу. Букеты цветов были привязаны к притолокам, двор выметен, а дохлая кошка, которая лежала возле моей двери, теперь переместилась к двери соседа. Она заплатила ребятишкам, чтобы они стояли на улице и кричали: «Благословен день, когда наш господин вернулся домой!» Она сделала это, негодуя, что у меня нет собственных детей; ей хотелось бы, чтобы они у меня были, но предпочтительно без жены. Я дал детям мелочь, а Мути одарила их медовыми пряниками, и они ушли обрадованные.
Потом пришла Мерит, очень нарядно одетая, с цветами в волосах; ее волосы блестели от душистой помады, так что Мути сопела и утирала нос, поливая воду нам на руки. Еда, которую она приготовила нам, была сладостна мне, ибо это была фиванская еда. В Ахетатоне я позабыл, что нигде в мире не найдешь такой еды, как в Фивах.
Я благодарил Мути и превозносил ее искусство, чем очень обрадовал ее, хотя она и пыталась хмуриться и фыркать, и Мерит тоже похвалила ее. Был ли этот завтрак в доме медеплавильщика чем-то памятен или достоин внимания, не знаю. Я упомянул об этом для себя самого, ибо тогда я чувствовал себя счастливым, и я сказал:
— Остановитесь, водяные часы, ибо этот час — добрый час. Пусть он никогда не проходит.
Пока мы ели, люди из бедного квартала собрались в моем дворе. Они надели свои лучшие одежды и пришли приветствовать меня и плакаться на свои боли и страдания.
Они сказали:
— Нам так не хватало тебя, Синухе. Пока ты жил среди нас, мы не ценили тебя по заслугам. И только когда ты покинул нас, мы ощутили, как много хорошего ты сделал нам и сколько мы потеряли, лишившись тебя.
Они принесли мне очень скромные подарки, ибо из-за Атона были беднее, чем когда-нибудь. Среди них был старый писец, он держал голову набок из-за опухоли на шее; я удивился, увидев, что он все еще жив. Там был также раб, которому я вылечил пальцы на руке; он гордо выставлял их и шевелил ими перед моими глазами. Мать показала мне своего сына, выросшего красивым и крепким; у него были черные глаза и шрамы на ногах, и он сказал мне, что нет в округе мальчика его роста, которого он не мог бы победить.
А еще там была девушка, чьи глаза я вылечил; она оказала мне дурную услугу, посылая ко мне всех других девушек из дома удовольствия, чтобы я удалял безобразные родимые пятна и бородавки с их кожи. Она преуспела настолько, что смогла купить общественную баню возле рынка, где еще и торговала духами, и снабжала купцов адресами юных девиц легкого поведения.
Все пришли с подарками, говоря:
— Не презирай наши подарки, Синухе, хотя ты царский врач и живешь в золотом дворце фараона, ибо наши сердца радуются при виде тебя, пока ты не говоришь с нами об Атоне.
Я и не говорил, но принимал их одного за другим сообразно их болезням. Я выслушивал их жалобы, давал предписания и назначал лечение. Мерит сняла свое нарядное платье, чтобы помогать мне. Она обмывала их раны, очищала мой нож над огнем и приготовляла наркотическое питье для тех, кому предстояло удалить зуб. Поглядывая на нее, я радовался и смотрел на нее часто, пока мы работали, ибо она была красива и стройна. Ее осанка была изящна, и она не постеснялась снять с себя платье на время работы, как это делают простые женщины, да и мои пациенты не удивлялись этому, слишком озабоченные своими собственными бедами.
День медленно тянулся, пока я принимал больных и беседовал с ними, как в прежние времена, радуясь моим познаниям, когда я мог помочь им. Часто я вздыхал полной грудью и говорил: «Остановитесь, водяные часы, вода, приостанови свой бег, ибо немногие из моих часов будут так прекрасны». Я совсем позабыл о визите, который должен был нанести царице-матери, извещенной о моем прибытии. Забыл, наверное, потому, что не хотел помнить, ибо был счастлив.
К тому времени тени удлинились, последний из моих больных покинул двор. Мерит полила воду мне на руки и помогла мне почиститься. С радостью я сделал то же самое и для нее, и мы оделись.
Когда я погладил ее щеку и коснулся ее губ своими, она оттолкнула меня, сказав:
— Спеши посетить свою ведьму, Синухе, и не теряй времени, а то не успеешь вернуться домой до наступления ночи. Моя циновка ждет тебя с нетерпением. Да, я чувствую, что циновка в моей комнате ждет тебя страстно, хотя почему это так, не знаю. У тебя слабые руки и ноги, Синухе, а тело дряблое и твои ласки не возбуждают. При всем том для меня ты не такой, как все другие мужчины, и мне вполне понятны чувства моей циновки.
Она повесила мне на шею мои регалии и водрузила докторский парик мне на голову, погладив по своему обыкновению мои щеки, так что, хотя я и страшился гнева царицы-матери, мне не хотелось покидать Мерит и отправляться в золотой дворец. Но я подгонял своих носильщиков и гребцов, пока мы не оказались рядом с дворцовыми стенами. Моя лодка коснулась причала в тот самый миг, когда солнце опустилось за западными холмами и появились первые звезды.
Перед тем как рассказать о моей беседе с царицей-матерью, я должен упомянуть, что лишь дважды за эти годы она посетила своего сына в городе Ахетатоне. Каждый раз она укоряла его за безумие, чем очень его тревожила, ибо он любил свою мать и закрывал глаза на ее нрав, как часто случается с сыновьями, пока они не женятся и жены не откроют им глаза. Но ради своего отца Нефертити не открыла глаза фараону Эхнатону. Царица Тайя и Эйе открыто жили вместе в это время, уже не думая скрывать свою страсть, и не знаю, был ли когда-либо прежде царский дом свидетелем столь откровенного бесстыдства. Но я не хочу бросить тень на происхождение фараона Эхнатона, ибо верю, что оно было божественным. Если бы в его жилах не текла кровь покойного фараона, в нем вообще не было бы царской крови. Тогда он был бы лжефараоном, как и утверждали жрецы, и все, что произошло, было бы еще более беззаконно, бессмысленно и безумно. Я же предпочитаю верить тому, что говорят мне сердце и разум.
Царица-мать приняла меня в уединенных покоях, где щебетало и прыгало в клетках множество птичек с подрезанными крыльями. Она никогда не забывала привычек своей юности и все еще любила ловить птиц в дворцовом саду — сетью или смазывая ветви деревьев птичьим клеем. Когда я вошел, она плела циновку из раскрашенного тростника. Она резко обратилась ко мне и упрекнула меня за опоздание.
Затем сказала:
— Ну что, мой сын совсем оправился от безумия или пришло время вскрыть ему череп? Он поднял слишком много суеты вокруг этого своего Атона и возбуждает народ, а в этом более нет нужды, поскольку ложный бог свергнут и никто не может превзойти фараона в могуществе.
Я рассказал ей о его жизни, о маленьких принцессах и их играх, газелях и собаках, и о том, как они катаются на лодке по священному озеру Ахетатона. Она смягчилась и, приказав мне сесть у ее ног, велела подать мне пива. Она поступила так не из скаредности, а потому, что сама предпочитала пиво вину.
Потягивая пиво, она говорила со мной откровенно и полностью доверилась мне, что было вполне понятно, поскольку я врач. Женщины рассказывают своим врачам много такого, в чем никогда не признались бы никому другому. В этом царица Тайя не отличалась от прочих женщин.
Когда пиво развязало ей язык, она заговорила так:
— Синухе, ты, кому мой сын по своей глупой прихоти дал имя Одинокий, хотя, на мой взгляд, ты не таков, ты спокойный человек и, несомненно, хороший человек в душе. Правда, не знаю, какая выгода быть хорошим; как я замечала, добры одни лишь тупицы, ни к чему не пригодные. Как бы то ни было, твое присутствие почему-то успокаивает меня. Этот Атон, которому я, по своей глупости, позволила достичь могущества, теперь очень беспокоит меня. Я и не думала, что дело зайдет так далеко. Я выдумала Атона, желая свергнуть Амона, чтобы заодно усилить и мою власть, и власть моего сына. Точнее сказать, выдумал его Эйе — это мой муж, как тебе известно, но по своей простоте, может, ты и этого не знаешь. Однако он мой муж, хотя нам нельзя было вместе разбить кувшин. Так вот, этот ничтожный Эйе, в ком столько же мужества, сколько в коровьем вымени, привез Атона из Гелиополиса и забил им мальчишке голову.
Понятия не имею, какие там фантазии у моего сына насчет Атона. Еще совсем ребенком он жил в мечтах, и я могу только подозревать, что он не в себе и что следовало бы вскрыть его череп. Ведь ему и дела нет, что его жена, прекрасная дочь Эйе, рожает ему девчонку за девчонкой, хотя все мои лучшие колдуны делали все возможное, чтобы помочь ей.
И за что только люди ненавидят моих колдунов? Им и цены нет, пусть они и черные, и толстогубые, и продевают в нос булавки из слоновой кости, и удлиняют своим детям голову. Ведь я знаю, как люди ненавидят их, и мне приходится прятать их в потаенных углах дворца. Я не могу обойтись без них, ибо никто не умеет чесать мне пятки так, как они, или приготовлять мне питье, которое позволяет мне все еще радоваться жизни и наслаждаться. Но если ты полагаешь, что для этого мне все еще нужен Эйе, то очень ошибаешься; я и сама толком не понимаю, почему так держусь за него, уж лучше было бы не препятствовать его падению. То есть лучше для меня. Теперь милые негры — моя единственная отрада.
Великая царица-мать захихикала себе под нос, как старые прачки в порту, когда они сидят за кружкой пива, и продолжала:
— Эти мои негры — искуснейшие лекари, Синухе, хотя по своему невежеству народ называет их чародеями. Даже ты мог бы у них поучиться. Поскольку ты врач и не предашь меня, скажу тебе, что время от времени я забавляюсь с ними, ибо они предписывают это для моего здоровья — сверх того, такой старой женщине, как я, иногда нужно поразвлечься. Я предаюсь удовольствиям не ради острых ощущений, как делают знатные женщины; они так порочны, что наслаждаются с неграми как распутницы, которые уже все перепробовали, истаскались и считают, что тухлое мясо — самое вкусное. Я люблю моих негров совсем по-другому, ведь у меня кровь молодая и алая и мне незачем распалять себя. Для меня они — тайна; которая приближает меня к горячим истокам жизни — к солнцу, почве и животным.
Она помрачнела. Она больше не пила пива и снова взялась за плетение яркого тростника. Не смея встретиться с ней глазами, я пристально смотрел на ее темные ловкие пальцы.
Поскольку я хранил молчание, она продолжала:
— Доброта ничего не дает, одна лишь власть что-то значит в мире. Тот, кто рожден знатным, не знает ей цены, а знают те, кто, как я, родился в дерьме. Да, Синухе, я знаю цену власти. Я сделала все ради нее, чтобы сохранить ее для моего сына и для сына моего сына, чтобы моя кровь текла в жилах тех, кто будет наследовать золотой трон фараонов. Я не останавливалась ни перед чем, чтобы достичь этого. В глазах богов мой поступки, быть может, грешны, но, по правде говоря, я не слишком озабочена этим, поскольку фараоны выше богов. Когда все сказано и сделано, уже нет ни добра, ни зла: добро — это когда успех, а зло — когда провал и разоблачение. И все же сердце мое порой содрогается и все обрывается внутри, когда я размышляю над своими поступками. Но я всего-навсего женщина, а все женщины суеверны. Однако надеюсь, что в этом деле мои негры смогут помочь мне. То, что Нефертити рожает одну дочь за другой, терзает мне сердце. Каждый раз получается так, будто забрасываю камень за спину, иду дальше, а он передо мной на дороге, как неотвязное проклятие.
Ее толстые губы шептали заклинания, и она беспокойно двигала ногами, но все это время ее проворные пальцы связывали яркий тростник, плетя циновку. Когда я взглянул на узлы, у меня сердце замерло. Ибо узлы, которые она вязала, были узлами птицелова, такими знакомыми мне. Да, я узнал их; такие плели только в Нижнем Царстве. Ребенком я видел их в закопченной тростниковой лодке, висящей над моей постелью.
Когда это воспоминание вдруг вспыхнуло во мне, у меня онемел язык, а руки и ноги оцепенели. В ночь моего рождения дул слабый западный ветер, неся лодку вниз по течению, и она остановилась на берегу возле дома моего отца. Мысль, которая озарила меня, когда я наблюдал за пальцами царицы-матери, была столь чудовищна и ужасна, что я старался отогнать ее, говоря себе, что кто угодно мог бы вязать узлы птицелова, изготовляя тростниковую лодку. Но ведь птицеловы занимались своим ремеслом в Нижнем Царстве, и я никогда не видал, чтобы такие узлы вязали в Фивах. Мальчиком я часто рассматривал закопченную лодку со сломанными стренгами и восхищался узлами, которые соединяли их, хотя тогда я не знал, что они связаны с моей собственной судьбой.
Но царица-мать и не заметила, как я вдруг впал в оцепенение. Не дожидаясь моего ответа, она погрузилась в свои собственные думы и воспоминания. Потом сказала:
— Возможно, я кажусь тебе бесчестной и омерзительной, Синухе, после того как я говорила столь откровенно. Не суди меня слишком сурово за мои проступки, но постарайся понять. Нелегко юной дочери птицелова войти в женские покои фараона, где все презирают ее за темную кожу и широкие ступни, где она получает тысячи уколов со всех сторон и спасти ее может только прихоть фараона и красота ее юного тела. Так неудивительно, что я была не очень разборчива в способах и средствах, какими старалась завоевать сердце фараона; ночь за ночью я посвящала его в необычные таинства любовных игр чернокожих, пока он уже не мог больше обходиться без моих ласк и пока я не стала править Египтом, прикрываясь его именем. Это позволило мне расстроить все интриги в золотом дворце, избежать ловушек и разорвать раскинутые вокруг меня сети; я и мстила, не задумываясь, если на то была причина. Страх передо мной сковал все языки, и я правила золотым дворцом по своей воле, а юля моя состояла в том, чтобы ни одна жена не родила фараону сына, пока не рожу я. Поэтому ни одна жена и не родила ему сына, а дочерей, которые рождались, я выдавала замуж за знатных людей, — так сильна была моя воля. Все же сначала я боялась рожать детей, чтобы не испортить фигуру, ведь тогда только мое тело удерживало его и я еще не опутала его сердце тысячью сетей. Более того, он старел, и объятия, которые давали мне власть над ним, отнимали у него силы, так что когда наконец я решила, что пришло время родить, я, к моему ужасу, произвела на свет дочь. Эта дочь — Бакетатон, которую я все еще не выдала замуж; она — еще одна стрела в моем колчане. В колчане у мудрого всегда много стрел, и он никогда не полагается на одну-единственную. Время шло, и я была в ужасном смятении, пока наконец не родила сына. Он принес мне меньше радости, чем я ожидала, ибо он безумен; поэтому я сосредоточила все мои помыслы на его сыне, хотя он все еще не появился на свет. Так велика моя сила, что ни одна из жен фараона не родила ему сына, и за все эти годы рождались только девочки. Можешь ли ты, Синухе, как врач не признать, что мой магический дар поразителен?
Трепеща, я посмотрел ей в глаза и сказал:
— Невысокого полета и подлая эта твоя магия, великая царица-мать: каждый может увидеть, как ты вплетаешь ее в этот пестрый тростник.
Словно ужаленная, она выронила свою работу, ее красные от выпитого пива глаза вылезли из орбит, и она воскликнула:
— Ты тоже чародей, Синухе, или об этом деле знают все?
Я ответил ей:
— Когда-нибудь все выходит наружу. Быть может, у тебя и не было свидетелей, но тебя видела ночь, а ночной ветер многим нашептал о твоих делах. Правда, ты смогла укоротить людям языки, но не смогла заглушить шепот ночною ветра. Тем не менее циновка, которую ты плетешь, необычайно красива, и я был бы рад получить ее в подарок. Я высоко ценил бы его, конечно, выше, чем любой другой, получивший такой дар.
Пока я говорил, она понемногу успокоилась. Дрожащими пальцами она продолжала свою работу и снова пила пиво. Когда я замолчал, она бросила на меня хитрый взгляд и сказала:
— Пожалуй, я дам тебе эту циновку, если когда-нибудь закончу ее, Синухе. Это прекрасная циновка — и драгоценная, поскольку я сплела ее собственными руками. Этот подарок заслуживает ответного. А что ты предложишь мне, Синухе?
Я рассмеялся и равнодушно ответил:
— Уж раз я должен отдарить тебя, царица-мать, я дам тебе мой язык, хотя был бы рад, если бы ты оставила его на месте. Я не воспользуюсь им против тебя, ибо он уже принадлежит тебе.
Бормоча что-то про себя, она метнула на меня косой взгляд, а затем сказала:
— Зачем же мне принимать как дар то, что и так принадлежит мне? Никто не помешает мне укоротить твой язык. Заодно я могла бы отрезать тебе и руки, так что ты не сумел бы и написать то, чего уже не сможешь сказать. К тому же я могу отправить тебя в мои подземелья к моим дорогим неграм, откуда ты, вероятно, никогда не выберешься, поскольку они любят приносить человеческие жертвы.
Но я ответил ей:
— Видно, что ты выпила слишком много пива, царица-мать. Не пей больше сегодня, не то тебе приснятся гиппопотамы. Мой язык принадлежит тебе, и я надеюсь получить твою циновку, когда ты ее закончишь.
Я встал, чтобы уйти, а она захихикала, как это делают захмелевшие старухи.
— Ты очень позабавил меня, Синухе, очень позабавил меня!
Я оставил ее и вернулся в город невредимым, а Мерит разделила со мной циновку. Я не был уже вполне счастлив. Мои мысли постоянно возвращались к дочерна закопченной тростниковой лодке, которая висела над моей постелью, к смуглым пальцам, что связывали тростник узлами птицелова, к ночному ветру, который нес утлую лодку вниз по течению — от стен золотого дворца к фиванскому берегу. Я уже не был вполне счастлив, ибо во многой мудрости много печали, а это та печаль, без которой я мог легко обойтись, поскольку уже не был молодым.
5
Внешним предлогом моего путешествия в Фивы было посещение Обители Жизни. Годы прошли с тех пор, как я вошел туда, хотя мое положение черепного хирурга фараона обязывало к таким посещениям. Я также опасался утратить что-то из моего искусства, поскольку за все время моего пребывания в Ахетатоне я не вскрыл ни единого черепа. Так что я отправился в Обитель Жизни, где беседовал с учениками и обучал тех, кто специализировался в этой области. Поскольку более не требовалось готовить учеников к низшей жреческой ступени перед вступлением в Обитель Жизни, я полагал, что знания тоже освободились от пут условности и продвинулись вперед, так как уже не было запрета спрашивать «почему?».
Но тут меня ждало разочарование. Эти мальчики еще не дозрели и не испытывали ни малейшего желания спросить «почему?». Самым большим их стремлением было приобрести готовые знания, почерпнутые от их учителей, и видеть свои имена занесенными в Книгу Жизни, так, чтобы они могли тотчас же заняться практикой и зарабатывать деньги.
Теперь пациентов было мало, и прошли недели, прежде чем мне удалось вскрыть три черепа; я сделал это сам, чтобы испытать свое искусство. Эта операции снискали мне большое уважение; и врачи, и ученики льстили мне и восхваляли твердость и ловкость моих рук. Однако меня удручало подозрение, что эти руки уже не так искусны, как бывало. Мое зрение притупилось, так что я не мог установить болезнь с обычной для меня легкостью и уверенностью, и был вынужден задавать бесчисленные вопросы и проводить очень долгие осмотры, чтобы определить заболевание. По этой причине я ежедневно принимал пациентов у себя дома и лечил их бесплатно с единственной целью вернуть мою былую сноровку.
Из трех черепов, которыми я занимался в Обители Жизни, один я вскрыл из жалости, ибо больной был неизлечим и страдал от нестерпимых болей. Два других случая были интересны, и мне потребовалось призвать на помощь все мои познания и опыт.
Один больной примерно год назад свалился вниз головой с крыши, где развлекался с чужой женой. Он упал, спасаясь от мужа, но позднее очнулся без заметного повреждения. Некоторое время спустя он заболел священной болезнью и страдал от последующих приступов, которые неизменно следовали за выпивкой. Его не преследовали никакие видения, но он неистово кричал, брыкался, прикусывал язык и непроизвольно мочился. Страх перед этими приступами был столь велик, что он просил подвергнуть его операции. Я полностью обнажил поверхность его мозга, который местами почернел от запекшейся крови, и потребовалось много времени, чтобы ее удалить, а это не обошлось без повреждений. Однако этот человек больше не страдал от приступов, ибо умер на третий день после операции, как это обычно бывает. Тем не менее эту операцию провозгласили исключительно успешной; меня хватили за мастерство, и ученики тщательно следили за всем, что я делал.
Другой случай оказался простым: пациент был юношей, которого стражники нашли на улице — лежащим без чувств и ограбленным. Его голова была проломлена, и он был на грани смерти. Когда его принесли, я случайно оказался в Обители Жизни и увидел, что ничем не рискую, оперируя его, так как врачи отказались лечить его, уверенные в неизбежности его смерти. Я вскрыл раздробленный череп с возможной быстротой, убрал осколки кости с поверхности мозга и закрыл отверстие пластинкой из чистого серебра. Он выздоровел и был все еще жив две недели спустя, перед моим отъездом из Фив, хотя с трудом двигал руками и ничего не чувствовал, когда его ладони и подошвы ног щекотали пером. Я полагал, что со временем он будет совершенно исцелен. Случай был примечателен тем, что из-за спешки я не успел побрить его голову перед операцией, и, когда я сшил кожу головы поверх серебряной пластинки, волосы продолжали расти, как и прежде, и полностью закрыли рубец.
Хотя в Обители Жизни благодаря моему званию обходились со мной почтительно, врачи постарше избегали меня и не доверяли мне, ибо я был из Ахетатона, тогда как они все еще боялись своего ложного бога. Я никогда не говорил с ними об Атоне и обсуждал с ними только медицинские вопросы. День за днем они пытались прочесть мои мысли и разнюхивали обо мне все, как собаки, взявшие след, тогда как я удивлялся их поведению.
Наконец после третьей черепной операции один врач, необычайно мудрый и опытный, приблизился ко мне и сказал:
— Царственный Синухе, ты, должно быть, заметил, что Обитель Жизни опустела в сравнении с прежними днями и что к нашему знанию прибегают меньше, чем это было когда-то, хотя в Фивах так же много больных и даже больше. Ты путешествовал по многим странам, Синухе, и видел много способов лечения, но вряд ли ты видел такой метод, который тайно практикуется теперь в Фивах. Это лечение не требует ни ножа, ни огня, ни лекарств, ни перевязок. Мне поручили сказать тебе об этом и предложить взглянуть на это самому. Ты должен дать обещание не разглашать о том, что увидишь, и поз юлить завязать тебе глаза, когда тебя поведут в тайное святилище, дабы ты не знал, где оно находится.
Его слова не понравились мне, ибо я опасался неприятностей с фараоном, но все же они возбудили мое любопытство. Я сказал:
— Я, конечно, слыхал, что в Фивах творятся странные дела. Мужчины распространяют всякие слухи, а у женщин бывают видения, но о лечении я ничего не слышал. Как врач я очень сомневаюсь, что лечение можно осуществлять без ножа, огня, лекарств и перевязок, и предпочитаю не впутываться в обман, дабы меня не сочли свидетелем того, что не существует и не может происходить.
Он горячо возразил:
— Мы полагали, что у тебя нет предрассудков, царственный Синухе, поскольку ты много путешествовал и изучил многое, что неизвестно в Египте. Кровотечение можно остановить без щипцов и раскаленного железа, почему же лечение нельзя осуществить без ножа и огня? Твое имя не будет упомянуто в связи с этим делом, за это мы тебе ручаемся, но у нас есть свои причины желать, чтобы именно ты увидел вес это и убедился сам, что здесь нет обмана. Один только ты, Синухе, беспристрастный свидетель, и нам больше ничего не нужно.
Его слова удивили меня и возбудили мое любопытство. Как врач я всегда страстно желал узнать новое и согласился идти. Когда стемнело, он остановился у моего дома с носилками. Я вошел в них, и он завязал мне глаза куском ткани так, чтобы я не видел, куда мы направляемся. По прибытии он повел меня по коридорам, вверх и вниз по многим ступеням, пока я не устал и не сказал, что он меня уже достаточно дурачил. Он успокоил меня, снял повязку с моих глаз и провел меня в каменное помещение, где горело множество светильников.
Трое больных лежали на носилках на полу, а ко мне подошел жрец, бритоголовый и блестевший от масла. Он обратился ко мне по имени и пригласил тщательно осмотреть больных и убедиться, что здесь нет обмана. Голос его был ровным и мягким, а взгляд мудрым. Я подошел к больным в сопровождении хирурга из Обители Жизни.
Я увидел, что эти люди действительно больны и не могут подняться. Одна была молодая женщина с чахлыми, сморщенными, безжизненными конечностями; только темные испуганные глаза жили на этот изнуренном лице. Вторым был мальчик, у которого все тело было покрыто ужасной сыпью и множеством кровоточащих струпьев. Третьим был старик с парализованными ногами; его болезнь не вызывала сомнений; когда я уколол его ногу иголкой, он не почувствовал боли.
Наконец я сказал жрецу:
— Я обследовал этих пациентов с величайшим вниманием. Будь я их врачом, все, что я мог бы сделать, это отправить их в Обитель Жизни. Женщину и старика едва ли вылечат даже там, хотя страдания мальчика можно было бы облегчить ежедневными серными ваннами.
Жрец улыбнулся и предложил нам обоим занять места в конце комнаты, в полутьме, и терпеливо ждать там. Затем он позвал рабов, которые подняли носилки с больными и поместили их на алтаре; тогда он возжег дурманящие благовония. Из перехода донеслось пение, и вошла группа жрецов, распевающих гимны Амону. Окружив больных, они начали молиться, прыгать и кричать. Это продолжалось, пока пот не заструился по их лицам; они сбросили с плеч накидки, звенели колокольчиками и резали себе грудь острыми камнями.
Я видел подобные обряды в Сирии и наблюдал за их исступлением с невозмутимостью врача. Их крики становились все громче, и они колотили кулаками по каменным стенам. Стена раздвинулась, и священная статуя Амона замаячила над ними в сиянии светильников. В тот же миг жрецы умолкли, и после грохота внезапная тишина ошеломляла. Лик Амона светился перед нами в темной нише, излучая небесный свет.
Внезапно главный жрец шагнул к больным и, назвав каждого из них по имени, воскликнул:
— Встаньте и идите, ибо великий Амон благословил вас за то, что вы верите в него!
Своими собственными глазами я увидел, как трое больных неуверенно поднимаются со своего ложа, не отрывая глаз от изображения Амона. Дрожа с головы до ног, они встали на колени и недоверчиво ощупывали свои руки и ноги, пока не разразились рыданиями, молясь и благословляя имя Амона. Каменные стены сдвинулись; жрецы ушли, тогда как рабы унесли благовония и зажгли много ярких светильников, чтобы мы вторично обследовали больных. Теперь молодая женщина могла двигаться и сделала несколько шагов с посторонней помощью. Старик мог передвигаться сам, и сыпь исчезла с кожи мальчика, теперь уже чистой и гладкой. Все это произошло в короткое время. Я никогда не поверил бы в это, если бы не увидел этого собственными глазами.
Жрец, который приветствовал нас у входа, подошел с торжествующей улыбкой и проговорил:
— Что скажешь ты теперь, царственный Синухе?
Я бесстрашно посмотрел ему в глаза и ответил:
— Я понимаю, что женщина и старик были под воздействием неких чар, которые сковали их волю, а чары снимаются чарами, если воля чародея сильнее, чем у тех, кто околдован. Но сыпь — это сыпь, она поддается не заклинаниям, а длительному лечению и целебным ваннам. Поэтому я должен признать, что не видел ничего подобного этому.
Глядя на меня сверкающими глазами, он вопросил:
— Так ты признаешь, Синухе, что Амон все еще царь всех богов?
Но я сказал:
— Я хотел бы, чтобы ты не произносил вслух имя ложного бога, ибо фараон запретил это, а я слуга фараона.
Я видел, что он разгневан моими словами, но он был жрецом высшей ступени и умел смирять сердце разумом.
Совладав со своими чувствами, он сказал, улыбаясь.
— Меня зовут Хрихор; ты можешь сообщить мое имя стражникам. Но я не страшусь ни стражи лжефараона, ни его рудников. Я исцеляю всех, кто обращается ко мне во имя Амона. Не будем обсуждать это; побеседуем как ученые люди. Позволь пригласить тебя ко мне выпить немного вина; ты, конечно, устал, проведя так много времени на жестком сиденье.
Он повел меня к себе по каменным переходам. По спертому воздуху я понял, что мы под землей, и предположил, что это были подземелья Амона, о которых рассказывают много небылиц, но полагают, что никто из непосвященных не видел их. Хрихор простился с врачом из Обители Жизни, и мы вдвоем вошли к нему — в жилище, где было все нужное, чтобы доставить радость душе человека. Его постель была под пологом, сундуки и ящики — из слоновой кости и черного дерева, ковры — мягкие, и вся комната благоухала редкими пряностями. Он учтиво полил ароматную воду на мои руки, попросил меня сесть и предложил мне медовые пряники, фрукты и выдержанное вино в пузатых бутылках из виноградников Амона, приправленное миррой.
Мы оба выпили, и он сказал:
— Синухе, мы знаем тебя; мы следили за каждым твоим шагом и осведомлены, что ты питаешь большую любовь к лжефараону, так что его ложный бог ближе тебе, чем нам хотелось бы. Но уверяю тебя, что в его боге нет ничего нового в сравнении с Амоном. Ненависть фараона и преследования только очищают Амона и придают ему силы. Однако не буду касаться богословских вопросов, а просто обращаюсь к тебе как к человеку, который бескорыстно лечил больных, и как к египтянину, любящему Черные Земли больше Красных. Фараон Эхнатон — проклятие для бедных и погибель для всего Египта, и его надо свергнуть прежде, чем зло, посеянное им, разрастется так, что нас уже не спасет даже кровопролитие.
Я отпил его вина и сказал:
— С меня хватит богов; мне они неинтересны. Но бог фараона Эхнатона отличается от всех бывших прежде. У него нет зримого образа, и перед ним все равны, будь они бедняки, рабы или даже чужеземцы — ему это безразлично. Думается, один круг завершается, а новый начинается; в такие времена и невозможное возможно — вопреки разуму. Никогда, ни в какие времена не возникала такая благоприятная возможность обновить мир и сделать всех людей братьями.
Хрихор поднял руку в знак протеста и, улыбаясь, сказал:
— Мне кажется, ты грезишь наяву, Синухе, а я считал тебя рассудительным. Мои цели не так честолюбивы. Я хочу только, чтобы все было как было, чтобы бедняки могли получить полную меру, а законы обрели силу. Я хочу только, чтобы каждому предоставили возможность мирно заниматься своим делом и исповедовать ту веру, которую он избрал. Я хочу, чтобы раб был рабом, а господин — господином и слуга был слугой, а хозяин — хозяином. Я хочу, чтобы сохранились слава и верховенство Египта, страны, где дети рождаются каждый в своем сословии и остаются в нем до конца жизни и где напрасная тревога не гложет сердце человека. Я страстно желаю этого — и потому Эхнатон должен пасть.
Он мягко коснулся моей руки и, наклонившись вперед, продолжал:
— Ты, Синухе, человек сдержанный и спокойный и не хочешь никому зла. Мы живем в такое время, когда каждый из нас должен сделать свой выбор. Кто не с нами, тот против нас, и для него придет день расплаты. Ведь ты совсем не глуп и не думаешь, что правление фараона может продержаться долго? Мне совершенно безразлично, какому богу ты служишь; Амон обойдется без твоей веры. Но в твоей власти, Синухе, отвести беду от Египта. В твоей власти вернуть Египту его былое величие.
Его слова взволновали меня. Я выпил еще вина и вдохнул дивное благоухание мирры.
Принужденно засмеявшись, я сказал:
— Тебя, должно быть, укусила бешеная собака или ужалил скорпион, ибо какая же у меня может быть власть — я не могу даже исцелять больных так, как ты.
Он поднялся.
— Я покажу тебе кое-что.
Взяв светильник, он вывел меня в проход, где открыл дверь, запертую на множество замков. Он поднял светильник, чтобы осветить помещение, сверкавшее золотом, серебром и драгоценными камнями.
Потом сказал:
— Не бойся. Я не стану искушать тебя золотом. Я не так глуп. Но тебе не мешает увидеть, что Амон все еще богаче фараона. Я покажу тебе сейчас кое-что еще.
Открыв другую массивную медную дверь, он осветил маленькое помещение, где на каменной полке стояла восковая фигура, увенчанная двумя коронами; ее грудь и виски были пронзены костяными булавками. Я невольно воздел руки и повторил молитвы, защищающие от колдовства, — те, что выучил перед посвящением в жрецы первой ступени. Хрихор смотрел на меня с улыбкой, и светильник в его руке не дрогнул.
— Веришь ли ты теперь, что дни фараона сочтены? Мы закляли это изображение именем Амона и пронзили его голову и сердце священными булавками. Но колдовство действует медленно и может произойти еще много зла. Кроме того, его бог может чем-то помочь ему против нашего волшебства. Поскольку ты теперь видел это, я хотел бы поговорить с тобой еще.
Он вновь тщательно запер дверь и повел меня назад в свою комнату, где снова налил в мою чашу вина. Вино струилось по моему подбородку и зубы стучали о края чаши, ибо я понимал, что своими собственными глазами видел волшебство — самое могущественное из всех возможных, против которого до сих пор еще никто не устоял.
— По всему этому ты можешь видеть, что власть Амона простирается до самого Ахетатона. Не спрашивай меня, как мы достали волосы с его головы и обрезки его ногтей, чтобы смешать их с воском. Скажу только, что мы не купили их за золото, а получили во имя Амона.
Пристально глядя на меня и осторожно взвешивая свои слова, он продолжал:
— Могущество Амона возрастает с каждым днем, как ты видел, когда я исцелил больных во имя его. Бедствия, насланные на Египет, становятся все ужаснее; чем дольше живет фараон, тем больше должны страдать из-за него люди, а колдовство действует медленно. Что бы ты сказал, Синухе, если бы я дал тебе для фараона средство от головной боли — такое, которое навсегда исцелит его от страданий?
— Люди всегда подвержены боли, — ответил я. — Только мертвым никогда не бывает больно.
Его горящие глаза остановились на мне и его воля приковала меня к месту. Я не мог даже поднять руку, когда он сказал:
— Может, это и так, но это лекарство не оставляет следа. Никто не заподозрит тебя, и даже бальзамировщики не заметят ничего необычного в его внутренностях. Тебе незачем вникать во все это; дай только фараону дозу лекарства, чтобы облегчить его головные боли. Приняв это, он заснет и никогда более не будет страдать от боли или печали.
Он поднял руку, не дав мне возразить, и продолжал:
— Я не предлагаю тебе золота, но если ты сделаешь это, твое имя будет благословенно во веки и твое тело никогда не разрушится, но сохранится вечно. Невидимые руки будут охранять тебя во все дни твоей жизни и любое твое желание будет исполнено. Я обещаю тебе это, облеченный высшей властью.
Он поднял руки. Ею горящие глаза приковывали меня, и я не мог уклониться от его взгляда. Я не мог ни двинуться, ни встать, ни даже поднять руки. Он сказал:
— Если я скажу тебе: «Встань!», ты сделаешь это. Если я скажу: «Подними руки!», ты их поднимешь. Но я не могу ни заставить тебя склониться пред Амоном против твоей воли, ни принудить тебя совершить то, что противно твоему сердцу. Это ограничивает мою власть над тобой. Взываю к тебе, Синухе, ради Египта дай ему это лекарство и излечи его навсегда от головных болей.
Его руки опустились. Я мог снова двигаться и поднести чашу с вином к губам и не дрожал более. Я вдохнул аромат мирры и сказал ему:
— Хрихор, я ничего не обещаю тебе, но дай мне снадобье. Дай мне это благодетельное лекарство, ибо, вероятно, это лучше, чем маковый сок, и может прийти время, когда сам фараон пожелает уснуть и не проснуться.
Он дал мне дозу лекарства в сосуде из цветного стекла и сказал:
— Будущее Египта в твоих руках, Синухе. Никому не должно поднять руку на фараона, но страдания людей очень горестны и может наступить день, когда они вспомнят, что даже фараон смертен, и тогда нож обагрится его кровью. Этого нельзя допустить, ибо это подорвет власть фараонов. Судьба Египта в твоих руках, Синухе.
Я спрятал лекарство в свой пояс и насмешливо сказал:
— В день моего рождения судьба Египта была в чьих-то смуглых пальцах, которые сплетали тростник. Но это то, чего ты не знаешь, Хрихор, хотя и считаешь себя всеведущим. Снадобье у меня, но помни, что я ничего не обещаю тебе.
Он улыбнулся, поднял руки в прощальном приветствии и сказал согласно обычаю:
— Да будет велика твоя награда!
Затем он проводил меня по переходам, уже не завязывая мне глаза. Ему были открыты людские сердца, и он знал, что я не предам его. Я могу подтвердить, что подземелья Амона находятся под высоким храмом, но не хочу разглашать, каким путем туда входят, поскольку эта тайна принадлежит не мне.
6
Несколько дней спустя умерла Тайя, царица-мать. Она погибла от укуса гадюки, натягивая сети для птиц в дворцовых садах. Ее врача не было под рукой, как это часто случается с врачами, когда они особенно нужны, и меня вызвали из Фив. Но, прибыв в золотой дворец, я мог лишь удостоверить ее смерть, в которой меня нельзя было винить, ибо укус гадюки всегда смертелен, если рану не иссекли до того, как пульс ударил сто раз, а вены над ним закрылись.
Обычай требовал, чтобы я остался в золотом дворце, пока из Обители Смерти не прибудут носильщики, чтобы унести тело. Там я и встретил угрюмого жреца Эйе возле погребальных носилок.
Он дотронулся до распухшей щеки царицы-матери и сказал:
— Ей было пора умереть, ибо она была мерзкой старухой и строила мне всяческие козни. И поделом ей за все, что она натворила; надеюсь, что теперь, когда она мертва, волнение среди людей уляжется.
Не думаю, что Эйе убил ее, ибо он вряд ли осмелился бы на это: соучастие в преступлениях и общие тайны связывают сильнее, чем узы любви.
Новость о ее смерти разнеслась по Фивам. Горожане надели свои лучшие наряды и весело толпились на улицах и площадях. Дабы снискать их расположение, Эйе велел прогнать плетьми из подземелий золотого дворца черных колдунов царицы Тайи. Их там было четверо, да еще одна ведьма, жирная и уродливая, как гиппопотам. Стражники гнали их прочь через Ворота Папируса, где толпа накинулась на них и разорвала их в клочья. Значит, все их колдовство не помогло им спастись. Эйе сжег на месте все орудия колдовства, их снадобья, а также обломки священного дерева, о чем я сожалел, ибо мне очень хотелось исследовать эти вещи.
Никто во дворце не оплакивал ни смерть царицы, ни судьбу ее колдунов. Лишь принцесса Бакетатон приблизилась к телу матери и, положив свои красивые ладони на ее темные руки, сказала:
— Твой муж дурно поступил, мать, позволив людям разорвать на куски твоих негров.
А мне она сказала:
— Эти чародеи совсем не были дурными людьми и жили здесь не по своей воле. Они мечтали вернуться в джунгли, в свои соломенные хижины. Нельзя было вымещать на них грехи моей матери.
Так состоялась моя встреча с принцессой Бакетатон. Она говорила со мной, и мне запомнились ее гордая осанка и прелестная головка. Осведомившись о Хоремхебе, она насмешливо заметила:
— Хоремхеб низкого происхождения, и его речь груба, но женившись, он мог бы дать прекрасное потомство. Можешь ли ты сказать мне, Синухе, почему он этого не сделал?
Я сказал ей:
— Ты не первая спрашиваешь об этом, царственная Бакетатон, но ты прекрасна и я скажу тебе то, чего никогда не решился бы сказать никому. Когда Хоремхеб мальчиком пришел во дворец, он однажды увидел луну. С той поры уже ни одна женщина не вызывала в нем желания разбить с ней кувшин. А что ты скажешь о себе, Бакетатон? Ни одно дерево не цветет вечно, ведь оно должно приносить плоды. Как врач я был бы рад увидеть, что в твоем чреве зреет плод.
Она надменно вскинула голову и проговорила:
— Ты прекрасно знаешь, Синухе, что моя кровь слишком священна, чтобы смешивать ее даже с чистейшей кровью в Египте. Лучше бы мой брат взял меня в жены согласно обычаю, и, несомненно, я уже давно родила бы ему сына. Будь моя воля, я бы велела выколоть Хоремхебу глаза, так противно мне думать, что он посмел поднять глаза на луну. Откровенно говоря, Синухе, самая мысль о мужчинах претит мне, ибо их прикосновения грубы, а их жесткие руки оставляют синяки у хрупкой женщины. По-моему, очень преувеличивают то удовольствие, которое они доставляют нам.
Но глаза ее заблестели от возбуждения и дыхание прерывалось. Поняв, что этот разговор очень нравится ей, я сказал:
— Я видел, как мой друг Хоремхеб разорвал медный браслет одним только напряжением мышц. У него длинные и красивые руки и ноги, а его грудная клетка гудит, как барабан, когда он в ярости ударяет по ней кулаком. Придворные дамы бегают за ним, как кошки, и с любой из них он может сделать все что угодно.
Принцесса Бакетатон взглянула на меня. Ее накрашенные губы дрожали, и, сверкнув глазами, она гневно воскликнула:
— Синухе, твои слова мне очень неприятны, и не знаю, зачем ты досаждаешь мне с этим Хоремхебом. Он родился в дерьме, и даже имя его мне гадко. Да и как ты можешь говорить подобное у изголовья усопшей?
Я не стал напоминать ей о том, кто первый завел речь о Хоремхебе, а изобразил раскаяние и сказал:
— О, Бакетатон, оставайся цветущим деревом, ибо тело твое не стареет и ты будешь цвести еще много лет. Неужели у твоей матери не было доверенной служанки, которая могла бы оплакать ее, пока из Обители Смерти не пришлют за телом? Я и сам мог бы плакать, но я врач и мои слезы давно иссякли, ибо я постоянно вижу смерть. Жизнь — это знойный день, а смерть — это, пожалуй, холодная ночь. Жизнь — мелководье, Бакетатон, а смерть — чистые, глубокие воды.
Она отвечала:
— Не говори о смерти, Синухе, ибо жизнь все еще мила мне. Стыдно, что некому оплакать мою мать. Мне нельзя плакать, ибо это несовместимо с моим титулом, но я пошлю за какой-нибудь служанкой, чтобы она поплакала вместе с тобой, Синухе.
Я пошутил:
— Божественная Бакетатон, твоя красота волнует меня, а твои речи подлили масла в огонь. Пришли сюда какую-нибудь старую ведьму, чтобы я не польстился на нее и не осквернил место скорби.
Она с упреком покачала головой.
— Синухе, Синухе! У тебя совсем нет стыда. Если уж ты не боишься богов, как о тебе говорят, то хоть уважай смерть.
Все-таки она была женщиной и не обиделась на мои слова; она отправилась за служанкой, чтобы та оплакивала покойную до прибытия носильщиков из Обители Смерти.
У меня были причины для кощунственных разговоров, и теперь я нетерпеливо ожидал появления плакальщицы. Она пришла и оказалась еще старее и уродливее, чем я мог вообразить. Вдовы покойного мужа Тайи все еще жили в женских покоях, как и жены фараона Эхнатона, вместе с кормилицами и прислужницами.
Эту старуху звали Мехунефер, и по ее лицу я понял, что она любит мужчин и вино. Как положено, она начала плакать, рыдать и рвать на себе волосы возле мертвой царицы.
Я принес вина, и, поплакав некоторое время, она согласилась отведать его. Я утверждал как врач, что оно поддержит ее в великой печали. Затем я пошел дальше и стал восхвалять ее былую красоту. Я говорил также о детях и о маленьких дочерях фараона Эхнатона.
Наконец я спросил с притворным простодушием:
— Правда ли, что царица-мать была единственной из жен великого фараона, родившей ему сына?
Мехунефер метнула испуганный взгляд на умершую и подала мне знак замолчать. Я снова пустил в ход красноречие и лесть, расхваливая ее волосы, наряд и драгоценности, а также ее глаза и губы. Наконец она совсем перестала плакать и глядела на меня как зачарованная.
Женщине всегда приятны такие речи, даже если она знает, что они неискренни. Чем она старше и уродливее, тем охотнее выслушивает их, потому что хочет им верить. Так что мы стали добрыми друзьями. Когда прибыли носильщики из Обители Смерти и унесли тело, она стала очень настойчиво приглашать меня к себе и выпила еще вина. Мало-помалу ее язык развязался; она гладила мои щеки, называла меня красавчиком и рассказывала мне множество самых бесстыдных дворцовых сплетен, чтобы распалить меня.
Она терлась о мои плечи, но я отстранил ее, сказав:
— Великая царица Тайя искусно связывала тростник, верно ли? Не мастерила ли она из него лодочки и не сплавляла ли их ночью вниз по течению?
Эти мои слова ужасно ее насторожили, и она спросила, как я узнал об этом. Но вино притупило ее осторожность, и, желая показать свою осведомленность, она сказала:
— Мне известно больше, чем тебе! Я знаю по крайней мере трех новорожденных мальчиков, сплавленных вниз по течению подобно детям бедняков. До появления Эйе старая ведьма боялась богов и не желала марать руки кровью. Это Эйе научил ее пользоваться ядом, так что принцесса Митанни Тадукипа умирала, рыдая и призывая своего сына, и хотела бежать из дворца, чтобы разыскать его.
— О прекрасная Мехунефер! — сказал я, погладив ее отвисшие размалеванные щеки. — Ты пользуешься моей молодостью и неопытностью и забиваешь мне голову всякими небылицами. У принцессы Митанни не было никакого сына. А если и был, то когда же он родился?
— Ты не так уж молод и неопытен, врач Синухе! — хихикнула она. — Напротив, у тебя хитрые и лживые руки, а лживее всего твой язык, который изрыгает бесстыдное вранье мне в лицо. И все же такая ложь ласкает слух старухи, и я не могу не рассказать тебе о принцессе Митанни, которая могла бы стать царской супругой. Знай же, Синухе, что принцесса Тадукипа была совсем маленькой девочкой, когда вступила в женские покои фараона Аменхотепа. Она играла в куклы и росла в женских покоях точно так же, как та другая маленькая принцесса, которую выдали за Эхнатона и которая тоже умерла. Фараон Аменхотеп не обладал ею, но любил ее, как ребенка, и играл с ней, и дарил ей золотые игрушки.
Но Тадукипа созрела, и в четырнадцать лет ее руки и ноги были изящными и кожа светлой, как у всех женщин Митанни, а взгляд ее темных глаз был устремлен куда-то вдаль. Тогда фараон исполнил свой супружеский долг, как это бывало уже и с другими женами, несмотря на происки Тайн, ибо в таких делах трудно ограничить мужчину, пока не иссякнет его сила. Так что семя пошло в рост в Тадукипе, а скоро и в Тайе, которая возрадовалась, ибо уже родила фараону дочь, а именно эту гордячку Бакетатон.
Она подкрепилась вином и словоохотливо продолжала:
— Хорошо известно, что Тайя родом из Гелиополиса, но лучше об этом не говорить. Она ужасно терзалась во время беременности Тадукипы и сделала все возможное, чтобы вызвать выкидыш, как она поступала со многими другими в женских покоях, с помощью своих черных колдунов. За последние несколько лет она отправила двух новорожденных мальчиков вниз по реке, но они были не в счет как сыновья младших жен, которые очень боялись Тайю; она дала им много подарков, и они примирились с тем, что возле них вместо мальчиков оказались девочки. Но принцесса Митанни была более опасной соперницей, ибо в ней текла царская кровь и она имела могущественных друзей; она надеялась стать царской супругой вместо Тайи, если бы только ей удалось родить сына. И все же влияние Тайи было так велико и так неистов стал ее нрав, когда плод зрел в ней, что никто не осмелился ей перечить. К тому же ее поддерживал Эйе, которого она привезла с собой из Гелиополиса.
Когда принцессе пришло время родить, ее друзей отослали прочь, а ее окружили чернокожими колдунами — как говорили, чтобы облегчить ее страдания. Когда она умоляла показать ей сына, они показали ей мертвую девочку. Но она не верила тому, что говорила Тайя, и я, Мехунефер, знаю, что она родила мальчика, и он остался жив, и в ту же самую ночь его отправили вниз по реке в тростниковой лодке.
Я громко засмеялся и спросил:
— Почему же об этом никто не знает, прекрасная Мехунефер?
Она вспыхнула, и вино из чаши струйкой потекло по ее подбородку.
— Клянусь всеми богами! Я собирала тростник своими собственными руками, поскольку Тайя не хотела идти вброд из-за беременности.
Я вскочил, потрясенный ее словами, вылил вино из кубка на пол, ногой втоптал пролитое вино в циновку, чтобы показать мой ужас.
Мехунефер схватила меня за руки и, силой усадив рядом с собой, сказала:
— У меня и в мыслях не было рассказывать тебе об этом, и я только навредила этим себе самой. В тебе есть что-то непонятное для меня, Синухе, и это так сильно действует на меня, что в моей душе уже нет от тебя тайн. Признаюсь: я резала тростник, а Тайя мастерила из него лодку, ибо она не хотела довериться слугам, а меня она подчинила себе колдовством и моими собственными делишками. Я вышла из воды и резала тростник, который она связывала в темноте, смеясь про себя, изрыгая богохульства и радуясь, что одержала победу над принцессой Митанни.
Я успокаивала свою совесть, внушая себе, что кто-нибудь обязательно найдет ребенка, хотя и знала, что этого никогда не будет. Дети, которых пускают вниз по течению, либо погибают от жаркого солнца, либо становятся пищей крокодилов или хищных птиц. Но принцесса Митанни не хотела молчать. Цвет кожи мертвого ребенка отличался от ее собственного; форма головы тоже была другой. И она не хотела верить, что он рожден ею. У женщин Метан ни кожа гладкая, как персик, пепельного цвета, а головы у них — маленькие и красивые. Она начала плакать и горевать, рвала на себе волосы и поносила Тайю и ее колдунов; тогда Тайя приказала дать ей наркотик и объявила, что Тадукипа потеряла рассудок, оттого что ее ребенок родился мертвым. Как это бывает у мужчин, фараон поверил Тайе больше, чем Тадукипе. С тех пор Тадукипа стала чахнуть и в конце концов умерла. Перед смертью она несколько раз пыталась убежать из золотого дворца, чтобы искать своего сына, из-за чего вообще-то полагали, что у нее помрачен рассудок.
Я взглянул на свои руки: они были светлыми в сравнении с обезьяньими лапами Мехунефер; кожа была пепельного цвета. Я пришел в такое неистовство, что у меня сжалось горло, и я спросил сдавленным голосом:
— Прекрасная Мехунефер, не можешь ли сказать мне, когда все это произошло?
Она погладила меня по затылку своими темными пальцами и сказала льстивым тоном:
— О красавчик, зачем ты тратишь драгоценные минуты на разговоры о минувших днях, когда ты мог бы использовать свое время получше? Поскольку я не могу тебе ни в чем отказать, скажу тебе, что это случилось, когда великий фараон правил уже двадцать два года, осенью, в разгар половодья. Если тебя удивляет моя точность, так знай, что фараон Эхнатон родился в тот же самый год, правда, уже следующей весной, в сезон сева. Вот почему я помню.
При ее словах я так оцепенел от ужаса, что даже не мог оттолкнуть ее и не почувствовал ее мокрых от вина губ на моей щеке. Она обвила меня руками и прижала к себе, называя своим буйволенком и голубком. Я старался не подпустить ее, а между тем у меня путались мысли и все мое существо восставало против этого ужасного открытия. Если она не лгала, то в моих жилах текла кровь великого фараона. Я был единокровным братом фараона Эхнатона и мог бы стать фараоном раньше, чем он, если бы вероломство Тайи не погубило мою покойную мать. Я уставился перед собой, внезапно осознав свое одиночество: царская кровь всегда одинока в этом мире.
Но домогательства Мехунефер вернули меня к действительности. Мне пришлось напрячь все свои силы, чтобы избежать ее невыносимых приставаний. Я вынудил ее выпить еще вина, надеясь, что, окончательно опьянев, она забудет о своих россказнях. Тут она стала совсем уже омерзительной, и я был вынужден подмешать к ее вину маковый сок, усыпить ее и хоть таким образом от нее отделаться.
Когда наконец я вышел из ее комнаты, расположенной в женских покоях, уже спустилась ночь, и дворцовая стража и слуги показывали на меня пальцами и перешептывались. Наверное, оттого, что я шел пошатываясь и моя одежда была измята. Дома меня поджидала Мерит, обеспокоенная моим долгим отсутствием и желавшая знать подробности о смерти царицы. Увидев меня, она приложила палец к губам, Мути сделала то же самое, и они обменялись взглядами.
Наконец Мути сказала Мерит с горечью в голосе:
— Не говорила ли я тебе тысячу раз, что все мужчины одинаковы и недостойны доверия?
Но я был измучен и хотел остаться наедине со своими мыслями, поэтому я сердито сказал им:
— У меня был трудный день, поэтому не приставайте ко мне.
Тогда взгляд Мерит стал жестким, а ее лицо потемнело от гнева. Держа серебряное зеркало перед моим носом, она сказала:
— Посмотри на себя, Синухе! Я никогда не запрещала тебе развлекаться с другими, но предпочла бы, чтобы ты скрывал это, дабы не терзать мне сердце. Ты ведь не можешь сказать в свое оправдание, что сегодня ушел из дома подавленный и одинокий.
Взглянув на свое лицо, я остолбенел, ибо оно было перепачкано помадой Мехунефер. Ее губы оставили красные пятна и на моих щеках, и на висках, и на шее. Я походил на больного чумой. Пристыженный, я поспешил вытереть лицо, а Мерит безжалостно держала передо мной зеркало.
Очистив лицо маслом, я сказал с раскаянием:
— Ты не так все это поняла, Мерит, любимая моя. Позволь мне объясниться.
Она хитро посмотрела на меня.
— Не нужно никаких объяснений, Синухе, и не хочу я, чтобы ты ради меня осквернил свой язык ложью. На твоем лице все было написано достаточно ясно.
Мне стоило больших усилий успокоить ее. Мути разразилась из-за нее слезами, закрыла лицо и ушла на кухню, понося всех мужчин вообще. Мне было труднее умиротворить Мерит, чем избавиться от Мехунефер.
Наконец я проклял всех женщин и сказал:
— Мерит, ты знаешь меня лучше, чем кто-либо другой, и потому должна бы доверять мне. Поверь, что если бы я захотел, то мог бы объяснить все это к твоему полному удовлетворению, но ведь тайна принадлежит золотому дворцу. Для тебя самой лучше не знать ее.
Но ее язык уколол меня больнее, чем жало осы, когда она возразила:
— Я полагала, что знаю тебя, Синухе, но в твоем сердце открылась бездна, о которой я никогда и не подозревала. Хорошо, что ты защищаешь честь женщины, и я далека от того, чтобы совать нос в твою тайну. Ты волен приходить и уходить, когда пожелаешь, а я признательна всем богам, что у меня хватило ума сохранить свою свободу и отказаться разбить с тобой кувшин, если ты действительно имел это в виду. Ах, Синухе, как я была глупа, поверив твоим лживым речам, ибо те же самые слова ты нашептывал своей красотке весь этот вечер, — и как я хотела бы умереть!
Я попытался ласково погладить ее, но она уклонилась.
— Держи руки подальше от меня, Синухе, ибо ты, должно быть, устал, валяясь на циновках дворца. Они, конечно, мягче моей циновки, и ты, без сомнения, нашел там подружек помоложе и покрасивей меня.
И она продолжала в том же духе, нанося моему сердцу мелкие, но болезненные уколы, пока я не почувствовал, что уже схожу с ума. Тогда она наконец ушла, запретив мне даже проводить ее в «Хвост крокодила». Я мучился бы еще сильнее из-за ее ухода, если бы не стремился остаться наедине с моими мыслями, которые беспорядочно теснились у меня в голове. Я дал ей уйти, и, наверно, ее удивило, что я так легко отпустил ее. Я провел без сна всю эту ночь; время шло, и, когда улетучились винные пары, прояснились и очистились мои мысли, но я дрожал от холода, потому что был один и некому было меня согреть. Я слышал тихую струйку водяных часов. Вода в них струилась беспрерывно, и время текло незаметно, так что я чувствовал отчуждение даже от самого себя.
Я сказал своему сердцу:
— Я, Синухе, такой, каким сделали меня мои собственные поступки. И ничто более не имеет значения, Я, Синухе, обрек своих приемных родителей на безвременную смерть ради безжалостной женщины. Я, Синухе, все еще храню серебряную ленту Минеи, моей сестры. Я, Синухе, видел в воде мертвое морское чудовище, а рядом плавала голова моей возлюбленной и крабы рвали ее плоть. Так какое же значение имеет моя кровь? Все это записано на звездах задолго до моего рождения, и мне было предопределено стать чужим в этом мире. Мирный Ахетатон был лишь позолоченной ложью, а эта жесточайшая истина целебна, ибо мое сердце пробудилось от сна и теперь я знаю, что моя участь — вечное одиночество.
Когда солнце взошло в золотой дали восточных холмов, тени рассеялись; и так странно устроено сердце человека, что я горько посмеялся над призраками, порожденными собственной фантазией. Наверное, каждую ночь течение приносит брошенных детей в лодках, связанных узлами птицелова, а пепельный цвет моей кожи тоже ничего не значит, ведь врач проводит дни под крышами и навесами, так что ему негде загорать. Нет, при свете дня я не мог найти никаких убедительных доказательств своего происхождения.
Я умылся и оделся, и Мути подала мне пиво и соленую рыбу. Ее глаза покраснели от слез, и она презирала меня за то, что я мужчина. Потом я на носилках отправился в Обитель Жизни, где обследовал больных, а затем, минуя заброшенный храм, вышел наружу, сопровождаемый пронзительным карканьем жирных ворон.
Мимо меня стремглав промчалась ласточка, направляясь к храму Атона, и я последовал за ней. Сейчас храм не был пуст, там было много народа. Люди слушали гимны Атону и воздевали руки, чтобы славить его, а жрецы наставляли их, как жить по правде фараона. Это само по себе не имело особого значения. Фивы были большим городом, и любопытство могло собрать толпу в любом месте. Снова я увидел резьбу на стенах храма, и с высоты сорока колонн фараон Эхнатон взирал на меня, и в лице его была напряженная страстность. Я увидел также великого фараона Аменхотепа; хилый и старый, он сидел на своем троне, и его голова склонилась под тяжестью двух корон. Царица Тайя восседала рядом с ним. Затем я задержался перед изображением принцессы Митанни Тадукипы, приносящей жертву богам Египта. Первоначальная надпись была уничтожена, а новая гласила, что она приносит жертву Атону, хотя Атону не поклонялись в Фивах при ее жизни.
Изображение было выполнено в старой манере и представляло ее юной и прекрасной женщиной, почти девочкой. Ее головка в царском головном уборе была прелестна, а руки и ноги изящны. Я долго и пристально смотрел на статую, пока ласточка не пронеслась над моей головой с радостным щебетом, и я пролил слезы над судьбой этой одинокой девочки из чужой земли. Ради нее я желал бы тоже быть красивым, но мои ноги отяжелели и стали дряблыми, под париком врача была лысина. Думы избороздили морщинами мой лоб, и мое лицо отекло от излишеств, которым я предавался в Ахетатоне. Я не мог представить себя ее сыном. И все же я был глубоко взволнован и скорбел о ее одиночестве в золотом дворце фараона. А ласточка все еще радостно носилась над моей головой. Я вспомнил прекрасные дома и жалкую жизнь народа Митанни. Я вспомнил также пыльные дороги и токи Вавилона и понял, что юность ускользнула от меня навсегда, а моя зрелость погрязла в застое Ахетатона.
Так прошел мой день, и, когда наступил вечер, я отправился в «Хвост крокодила» поесть и помириться с Мерит. Она приняла меня холодно и, прислуживая мне, обращалась со мной как с чужим. Когда я поел, она спросила:
— Встретил ли ты свою возлюбленную?
Я раздраженно возразил, что ходил не к женщинам, а работал в Обители Жизни и посетил храм Атона. Чтобы дать ей понять, как я оскорблен, я подробно описал каждый свой шаг в этот день, но она выслушала это с насмешливой улыбкой.
— А мне и в голову не приходило, что ты отправился к женщинам, ведь прошлой ночью ты был изнурен и ни к чему не пригоден, такой лысый и жирный. Я только хотела сказать, что твоя возлюбленная была здесь и спрашивала о тебе и я направила ее в Обитель Жизни.
Я вскочил так стремительно, что мое сиденье опрокинулось, и вскричал:
— Что это значит, глупая женщина?
— Она приходила сюда искать тебя, разодетая, как невеста, увешанная сверкающими драгоценностями и размалеванная, как обезьяна, а вонь от ее притираний доходила до самой реки. Она передала тебе привет, а также и письмо на случай, если не найдет тебя, и я очень хотела бы, чтобы ты велел ей держаться подальше отсюда, ибо здесь приличный дом, а у нее вид хозяйки борделя.
Она вручила мне незапечатанное письмо, и я открыл его дрожащими руками. Когда я прочитал его, кровь ударила мне в голову и сердце заколотилось у меня в груди. Вот что писала мне Мехунефер:
«Привет врачу Синухе от сестры его сердца Мехунефер, хранительницы игольной шкатулки в золотом дворце фараона. Мой буйволенок, мой голубок Синухе! Я проснулась одна на моей циновке с болящей головой и еще более болящим сердцем, ибо моя циновка была пуста, а ты ушел. Лишь запах твоих притираний остался на моих руках. О, если бы я могла быть твоей набедренной повязкой, или помадой в твоих волосах, или вином на твоих устах, Синухе! Я хожу из дома в дом, пытаясь разыскать тебя, и не успокоюсь, пока не найду, ибо тело мое покрывается мурашками при мысли о тебе, и твои глаза для меня — блаженство. Поспеши ко мне, когда получишь это, лети как на крыльях, ибо мое сердце страстно жаждет тебя. Если ты не придешь, я примчусь к тебе быстрее любой птицы. Мехунефер, сестра твоего сердца, приветствует тебя».
Я прочитал эти омерзительные излияния несколько раз, не осмеливаясь взглянуть на Мерит. Наконец она вырвала послание у меня из рук, разломала палочку, на которую оно было накручено, растоптала папирус и сказала в неистовстве:
— Я могла бы понять тебя, Синухе, если бы она была молода и прекрасна, но она стара, вся в морщинах и уродлива, как жаба, хотя и ляпает краску на лицо, как на стену. Я даже не представляю, о чем ты думаешь, Синухе! Твое поведение делает тебя посмешищем всего города, да и надо мной станут смеяться.
Я разорвал на себе одежду, расцарапал грудь и вскричал:
— Мерит, я совершил ужасную ошибку, но у меня были на то причины, да мне и не снилось, что меня постигнет столь страшная кара! Разыщи моих корабельщиков и прикажи им поднять паруса. Я должен бежать, или эта гнусная ведьма придет и ляжет со мной насильно, а мне не справиться с ней. Она пишет, что полетит ко мне быстрее птицы, боюсь, что так оно и будет!
Мерит увидела мой страх и терзания и, по-видимому, все поняла, ибо растерянно засмеялась. Наконец она сказала голосом, все еще дрожащим от смеха:
— Это научит тебя быть более осмотрительным с женщинами, Синухе, во всяком случае, я на это надеюсь. Мы, женщины, — сосуды скудельные, и я по себе знаю, как ты умеешь обворожить, Синухе, возлюбленный мой!
Ее насмешки были безжалостны. С притворным смирением она сказала:
— Без сомнения, эта прекрасная особа более привлекательна для тебя, чем я. Во всяком случае у нее было вдвое больше времени, чем у меня, чтобы постичь искусство любви, и где мне состязаться с ней! Боюсь, что ради нее ты, не задумываясь, бросишь меня.
Я был так угнетен, что повел Мерит к себе и рассказал ей все. Я рассказал ей тайну моего рождения и все, что выудил у Мехунефер. Я рассказал ей также, почему ни за что не хотел верить, что мое рождение связано с золотым дворцом и с принцессой Митанни. Слушая меня, она умолкла и уже не смеялась, а вглядывалась куда-то вдаль, мимо меня. Глаза ес затуманились грустью, и наконец она положила руку мне на плечо.
— Теперь я понимаю многое, что было загадкой для меня. Я понимаю, почему твое одиночество безмолвно взывало ко мне и почему мое сердце таяло, когда ты смотрел на меня. У меня тоже есть тайна, и последнее время мне очень хотелось поделиться ею с тобой, но теперь я благодарю богов, что не сделала этого. Рассказывать о своих тайнах трудно и опасно. Лучше держать их при себе, чем делиться ими. Но я рада, что ты рассказал мне все. Как ты сказал, ты проявишь мудрость, не мучая себя напрасными раздумьями о том, чего, может статься, никогда и не было. Забудь об этом, как если бы это был сон, и я тоже забуду.
Мне очень хотелось узнать ее тайну, но она не пожелала рассказывать о ней, только коснулась моей щеки губами, обвила мою шею руками и чуть всплакнула.
Наконец она сказала:
— Если ты останешься в Фивах, то не оберешься хлопот с Мехунефер, которая будет докучать тебе каждый день своей страстью и сделает твою жизнь невыносимой. Видела я таких женщин и знаю, как они могут быть ужасны. Отчасти ты сам виноват, потому что заставил ее верить всякой чепухе и сделал это ловко. Вероятно, лучше всего было бы вернуться в Ахетатон. Сначала напиши ей и убеди ее оставить тебя в покое, иначе она будет преследовать тебя, да еще и разобьет с тобой кувшин при твоей беспомощности. Такой судьбы я тебе не желаю.
Это был хороший совет, и я велел Мути собрать мои пожитки и завернуть их в циновки. Затем я отправил рабов искать моих корабельщиков в тавернах и увеселительных заведениях города. Между тем я сочинил письмо Мехунефер, но, не желая обидеть ее, написал очень вежливо — вот так:
«Синухе, царский черепной хирург, приветствует Мехунефер, хранительницу игольной шкатулки в золотом дворце Фив. Друг мой, я глубоко раскаиваюсь в моем поведении, ибо ты неверно истолковала его. Я не могу вновь встретиться с тобой, потому что такая встреча могла бы ввести меня в грех, а мое сердце уже занято. Поэтому я уезжаю, надеясь, что ты будешь вспоминать меня только как друга. Вместе с письмом я посылаю тебе кувшин вина под названием «крокодилий хвост», которое, как я полагаю, поможет отчасти облегчить любое твое горе. Уверяю тебя, что тебе не о чем сокрушаться, ибо я усталый старый человек и такой женщине, как ты, не могу доставить никакого удовольствия. Рад, что мы оба удержались от греха; искренне надеюсь, что ты больше не увидишь твоего друга Синухе, придворного врача».
Это письмо заставило Мерит покачать головой; она заметила, что его тон был слишком мягким. По ее мнению, мне следовало бы выражаться более кратко и сказать Мехунефер, что она уродливая старая ведьма и что я бегством пытаюсь избавиться от ее преследований. Но я не мог написать подобное ни одной женщине. Немного поспорив, Мерит разрешила мне свернуть письмо и запечатать его, хотя и продолжала покачивать головой, словно предчувствуя что-то. Я послал раба в золотой дворец с письмом, а также и с кувшином вина, чтобы обеспечить себе по крайней мере на этот вечер свободу от преследований Мехунефер. Полагая, что избавил от нее, я вздохнул с облечением.
Когда письмо было отправлено, а Мути собирала мои пожитки и заворачивала их для путешествия в циновки, я взглянул на Мерит и преисполнился невыразимой грусти при мысли о том, что теряю ее из-за собственной тупости. Ведь если бы не это, я мог бы оставаться в Фивах и дальше.
Мерит, казалось, тоже погрузилась в размышления. Внезапно она спросила:
— Ты любишь детей, Синухе?
Ее вопрос озадачил меня. Глядя мне в глаза, она печально улыбнулась и сказала:
— Не бойся! Я не собираюсь никого тебе рожать, но у одной моей подруги есть четырехлетний сын, и она часто говорила, как прекрасно было бы для мальчика спуститься вниз по реке и увидеть чудесные луга, и обширные поля, и водяных птиц, и скот вместо кошек и собак на пыльных улицах Фив.
Я был очень смущен.
— Уж не хочешь ли ты, чтобы я взял на борт какого-то сорванца и лишился покоя и непрерывно дрожал от страха, что он свалится в воду или сунет руку в пасть крокодила?
Мерит улыбнулась, но очень невесело. Она ответила:
— Я не хочу досаждать тебе, но такое путешествие было бы счастьем для мальчика. Я сама свела его на обрезание, и у меня есть обязательства по отношению к нему. Я, конечно, отправлюсь вместе с ним и присмотрю за тем, чтобы он не упал в воду. Тогда у меня была бы достаточно веская причина сопровождать тебя. Но я не сделаю ничего против твоей воли; забудем же об этом.
Туг я вскрикнул от радости и захлопал в ладоши.
— Воистину это радостный день для меня! По глупости своей я никак не думал, что ты можешь отправиться со мной в Ахетатон, но твое доброе имя не пострадает, если ты будешь сопровождать меня, взяв с собой ребенка как предлог для нашего путешествия.
— Совершенно верно, Синухе! — сказала она с той снисходительной улыбкой, какая появляется у женщин, когда речь идет о вещах, непонятных мужчинам.
— Значит, мое доброе имя не пострадает, если я возьму ребенка. О, как глупы мужчины! Тем не менее я прощаю тебя.
Наш отъезд был поспешным из-за моего страха перед Мехунефер. Мерит взяла ребенка на корабль, завернув его в шерстяное одеяло; он все еще спал. Его мать не пришла, хотя я был бы рад увидеть женщину, назвавшую своего ребенка Тот, ибо родители редко осмеливаются давать своим детям имена богов. Тот — бог письменности и всех наук, человечный и возвышенный, так что отвага этой женщины была велика. Мальчик мирно спал на руках у Мерит, не обремененный своим именем, и проснулся лишь тогда, когда холмы, вечные стражи Фив, скрылись за горизонтом, солнце жарко засияло и позолотило реку.
Тот был смуглый, хорошенький, пухлый малыш; волосы у него были черные и гладкие как шелк, и он совсем не испугался меня, а влез ко мне на колени. Мне было приятно держать его, потому что он был спокойный. Он смотрел на меня своими темными задумчивыми глазами так, словно долго размышлял о загадках бытия. Я очень полюбил его, мастерил для него маленькие тростниковые лодочки и позволял ему играть с моими медицинскими инструментами и нюхать различные снадобья. Ему нравился их запах, и он совал нос во все мои пузырьки. Он не доставлял нам никаких хлопот на борту корабля. Он не упал в воду, не сунул руку в пасть крокодила, не сломал мои тростниковые перья. Все наше путешествие было солнечным и счастливым, ибо Мерит была со мной. Каждую ночь она лежала возле меня на циновке, а малыш мирно спал рядом. Эго было радостное путешествие, и до самой моей смерти я буду вспоминать шелест тростника на ветру и те вечера, когда скот сгоняли к берегу на водопой. Бывали часы, когда сердце мое переполнялось счастьем, как спелый плод переполняется сладким соком.
Я сказал Мерит:
— Мерит, возлюбленная моя, давай разобьем кувшин, чтобы быть всегда вместе, и, быть может, придет день, когда ты родишь мне сына — такого, как этот маленький Тот. Никто, кроме тебя, не смог бы дать мне именно такого спокойного смуглого мальчонку, как он. Правда, никогда прежде я не хотел детей, но теперь моя юность миновала и моя кровь очистилась от страстей. Глядя на маленького Тота, я страстно желаю иметь сына от тебя, Мерит.
Она закрыла мне рот ладонью и, отвернувшись, тихо сказала:
— Синухе, не болтай глупостей, ведь ты знаешь, что я выросла в таверне, да, наверно, уже не способна рожать детей. А ты, кому звезды предназначили быть одиноким, может быть, предпочтешь остаться один и распоряжаться своей жизнью, не завися ни от жены, ни от ребенка. Это я прочитала в твоих глазах, когда мы встретились впервые. Нет, Синухе, не говори мне этого. Я слабею от твоих слов и не хочу плакать, думая о таком счастье. Другие сами распоряжаются своей судьбой и связывают себя тысячью уз, но твоя судьба предопределена звездами, и она выше моего предназначения. Я люблю этого малыша, и впереди у нас много теплых и светлых дней на реке. Давай представим себе, будто мы разбили кувшин и стали мужем и женой, а Тот — наш собственный сын. Я научу его называть тебя отцом, а меня — матерью, ведь он маленький и скоро все забудет, и это не причинит ему никакого вреда. Мы украдем у богов немного радости в эти несколько дней. И пусть ни грусть, ни страх перед завтрашним днем не омрачат нашего счастья.
Итак, я отогнал все дурные мысли; я закрыл глаза на нищету Египта и на голодных людей в селениях на побережье; я жил каждым наступающим днем. Маленький Тот обвивал руками мою шею, прижимал свою щеку к моей и называл меня отцом. Для меня было наслаждением обнимать его нежное тело. Каждую ночь я ощущал на своей шее волосы Мерит; она держала мои руки в своих и дышала мне в щеку. Она была моим другом, и меня больше не мучили страшные сны. Летели дни; они пронеслись быстро, как дыхание, и миновали. Я не скажу о них больше ничего, потому что воспоминания о них душат меня, а влага, капающая из моих глаз, оставляет пятна на папирусе. Человек не может быть слишком счастлив, ибо нет ничего более быстротечного и неуловимого, чем счастье.
7
Итак, я вернулся в Ахетатон, но теперь я изменился и увидел Небесный Город другими глазами. Город с его хрупкими, блестящими, освещенными солнцем домами под темно-голубым небом показался мне миражом. Правда обитала не здесь, а за его стенами. Правдой были голод, страдание, несчастье и преступление.
Мерит и Тот возвратились в Фивы, увозя с собой мое сердце, так что я снова мог видеть вещи холодными глазами, такими, какими они были, и все, что я видел, было злом. Прошло немного дней, и правда сама явилась в Ахетатон, и фараону пришлось встретиться с ней лицом к лицу на террасе золотого дворца. Из Мемфиса Хоремхеб отправил несчастнейших убогих беженцев из Сирии просить помощи у фараона. Он оплатил им дорогу, и полагаю также, что он приказал им описать весь ужас их положения. Они являли собой ужасающее зрелище в Небесном Городе. Придворная знать, завидев их, с отвращением заперлась в своих домах, а стражники закрыли ворота золотого дворца. Беженцы вопили и забрасывали камнями стены, пока фараон не услышал их и не приказал впустить их во внутренний двор.
Они кричали:
— Услышь голос своего народа! В земле Кем осталась только тень власти, и под грохот таранов и рев пламени течет кровь тех, кто верит тебе и возлагает на тебя надежды.
Они поднимали обрубки рук к золотому балкону фараона и вопили:
— Взгляни на наши руки, фараон Эхнатон! Где наши руки?
Они вытолкнули вперед мужчин с выколотыми глазами, которые пробирались ощупью, а старики с вырванными языками широко разевали пустые рты и выли. Они плакали и говорили:
— Не спрашивай нас о наших женах и дочерях, ибо судьба их плачевнее, чем смерть от рук Азиру и от хеттов. Они выкололи нам глаза и отрубили руки, потому что мы верили тебе, фараон Эхнатон!
Фараон закрыл лицо руками и заговорил с ними об Атоне. Тогда они стали злобно насмехаться над ним и оскорблять его:
— Мы знаем, что ты послал крест жизни также и нашим врагам. Они повесили его на шеи своих лошадей, а в Иерусалиме отрубили жрецам ступни и приказали им плясать, прославляя твоего бога.
Тогда фараон Эхнатон издал ужасный вопль; священная болезнь обуяла его, и он упал без чувств на балконе. Стражники хотели прогнать этих несчастных, но они отчаянно сопротивлялись. Их кровь текла по камням внутреннего двора, а тела были брошены в реку. Нефертити и Меритатон, больная Мекетатон и маленькая Анксенатон наблюдали все это с балкона и уже никогда не могли этого забыть. Вот тогда они впервые увидели, что несет с собой война — муки и смерть.
Я велел обернуть фараона мокрой тканью, а когда он пришел в себя, дал ему успокоительное, ибо приступ был так жесток, что я боялся за его жизнь. Он спал, но когда проснулся, лицо его было серым, а глаза красными.
— Синухе, друг мой, мы должны положить этому конец. Хоремхеб говорит, что ты знаешь Азиру. Отправляйся к нему и купи мир. Купи мир для Египта, если даже для этого придется отдать все золото, какое у меня есть, и разорить страну.
Я решительно запротестовал:
— Фараон Эхнатон, пошли свое золото Хоремхебу, и он быстро купит мир с помощью копий и колесниц, и тогда Египту не придется испытать бесчестья.
Он схватился за голову.
— Во имя Атона, Синухе! Не можешь же ты не видеть, что ненависть множит ненависть, месть сеет месть, а кровь порождает кровь, и мы все утонем в крови. Разве жертвам легче, если месть за них умножает жертвы? Эти слова о бесчестье — только предрассудок. Повелеваю тебе: отправляйся к Азиру и купи мне мир.
Я был ошеломлен.
— Фараон Эхнатон, враги выколют мне глаза и вырвут язык, не дав приблизиться к Азиру и поговорить с ним, и его дружба ничем не поможет нам, ибо он, конечно, уже забыл о ней. Я не привык к тяготам войны, которых очень боюсь. Нот мои плохо гнутся, я уже не могу быстро двигаться и не умею говорить так гладко, как другие, кого с детства приучали лгать и кто теперь служит тебе при чужеземных дворах. Поищи кого-нибудь еще, если хочешь купить мир.
Он упорно настаивал:
— Делай, как я приказываю тебе. Фараон сказал.
Но я видел беженцев у него во дворе. Видел их разбитые рты, их пустые глазницы и обрубки вместо рук. Я ни за что не хотел ехать и поспешил домой, намереваясь улечься в постель и сказаться больным, пока фараон не позабудет об этой своей причуде.
По пути я повстречал моего слугу, который сказал мне с некоторым недоумением:
— Хорошо, что ты пришел, мой господин Синухе, ибо корабль, только что прибывший из Фив, доставил женщину по имени Мехунефер, которая утверждает, что она — твой друг. Она ждет тебя дома, разодетая, как невеста, и дом благоухает ее притираниями.
Я поспешно повернулся и побежал к золотому дворцу.
— Будь по-твоему, фараон. Я еду в Сирию, и пусть моя кровь будет на твоей совести. Но если уж я должен ехать, позволь мне отправиться тотчас же. Вели своим писцам приготовить нужные таблички, подтверждающие мое звание и полномочия, ибо Азиру весьма почитает таблички.
Пока писцы занимались этим делом, я поспешил в мастерскую моего друга Тутмеса. Я уже знал, что он занимается скульптурой в Ахетатоне. Он — мой друг и не оставит меня в час нужды. Он только что завершил работу над статуей Хоремхеба, которую намеревались установить в Хетнетсуте, на родине полководца. Сделанная из коричневого песчаника, она была выполнена в новой манере, очень жизнеподобной, хотя, на мой взгляд, Тутмес преувеличил объем мускулов руки и ширину груди, так что Хоремхеб походил скорее на борца, а не на военачальника фараона.
Но таково уж было правило этого нового искусства — преувеличивать все даже до уродства, дабы не пренебрегать правдой. Тутмес обтер изображение мокрой тряпкой, чтобы показать мне, как чудесно блестят мышцы Хоремхеба и как хорошо цвет камня соответствует цвету его кожи.
Он сказал мне:
— Я думаю доехать с тобой до Хетнетсута и взять с собой эту статую, дабы не сомневаться, что ее поставят в храме так, как подобает положению Хоремхеба и моему собственному. Да, я отправлюсь с тобой, Синухе, и пусть речной ветер выдует из моей головы винные пары Ахетатона. У меня уже дрожат руки от тяжести молотка и резца, и лихорадка точит мое сердце.
Писцы принесли мне глиняные таблички и передали благословения фараона; когда же статую Хоремхеба доставили на борт, мы отплыли вниз по реке. Мой слуга получил приказ сказать Мехунефер, что я отправился на войну в Сирию и там погиб. Я чувствовал, что это не такая уж и неправда, ибо, конечно, боялся умереть страшной смертью в этом путешествии. Затем я велел слуге посадить Мехунефер на любой корабль, отплывающий в Фивы, со всей должной почтительностью, а если придется, то и силой.
— Ибо, — сказал я, — если вопреки всем ожиданиям я вернусь и найду Мехунефер в своем доме, то прикажу наказать плетьми всех моих рабов и слуг и отрезать им уши и носы и отправлю их в рудники до конца жизни.
Слуга посмотрел мне в глаза и, увидев, что я не шучу, очень испугался и обещал исполнить мои распоряжения. Облегчив таким образом душу, я отплыл с Тутмесом вниз по реке. Уверенные, что я непременно погибну от рук людей Азиру и хеттов, мы не жалели вина. Тутмес заявил, что не принято жалеть вино, отправляясь на войну; и он, рожденный в казармах, имел полное право это утверждать.
Книга XII Водяные часы отсчитывают время
1
В Мемфисе Хоремхеб принял меня со всеми почестями, подобающими моему положению, но как только мы остались одни, он начал хлопать себя плетью по ногам и нетерпеливо спросил:
— Какой дурной ветер занес тебя посланником фараона и какая новая блажь родилась в его голове?
Я сказал ему, что мне поручено отправиться в Сирию и купить мир с Азиру любой ценой. В ответ на это Хоремхеб выругался.
— Разве я не опасался, что он разрушит все планы, которые я вынашивал так заботливо и с таким трудом? Знай же, что благодаря мне Газа все еще в наших руках, так что Египет пока удерживает хоть это укрепление в Сирии для военных действий. Кроме того, подарками и угрозами я вынудил критскую боевую флотилию охранять наши морские пути в Газу, но здесь отчасти замешаны и собственные интересы Крита, поскольку объединенная, сильная и независимая Сирия угрожала бы его морскому превосходству. Знай также, что царю Азиру стоит большого труда сдерживать своих собственных союзников и многие сирийские города сейчас воюют между собой, поскольку египтяне уже изгнаны оттуда. Сирийцы, лишившиеся своих домов и имущества, объединились с силами партизан, которые охраняют пустыню от Газы до Таниса и теперь враждуют с отрадами Азиру. Я вооружил их египетским оружием, и много отважных египтян, бывших солдат и разбойников, беглых каторжников присоединились к ним. И, что важнее всего, хетты наконец обрушились на Митанни всей своей мощью; они истребили этот народ, и царства Митанни больше не существует. Эта победа удерживает там силы хеттов. Вавилон обеспокоен и снаряжает отряды для защиты своих границ, и у хеттов теперь нет времени по-настоящему поддержать Азиру. Азиру же, если у него достанет ума, уйдет от них в страхе после их победы над Митанни, которая была для Сирии щитом, охраняющим ее от хеттов. Мир, предлагаемый фараоном, будет самым желанным, ибо даст ему время укрепиться и осмотреться. Дай мне полгода или даже меньше, и я куплю почетный мир для Египта; я заставлю Азиру устрашиться богов Египта, и мне помогут в этом звенящие стрелы и грохочущие колесницы.
Но я возразил:
— Ты не можешь затеять войну, Хоремхеб, ибо фараон запретил это и не даст тебе золота для этой цели.
— Плевать мне на его золото! Я занимал направо и налево и сам обнищал, чтобы снарядить армию в Танис. Клянусь моим Соколом, Синухе! Не хочешь же ты все разрушить и отправиться в Сирию как миротворец?
Я сказал ему, что фараон дал уже мне свои распоряжения и снабдил меня всеми необходимыми табличками для заключения мира. Полезно было узнать, что сам Азиру желает его, ибо в таком случае он скорее пойдет на уступки.
От этого Хоремхеб впал в ярость; он пнул ногой свое сиденье и заорал:
— Так вот, скажу тебе честно, если ты купишь у него мир, позорный для Египта, то, когда ты вернешься, я сдеру с тебя живого кожу и брошу крокодилам, хоть ты мне и друг; в этом я клянусь тебе! Тогда отправляйся, говори Азиру об Атоне. Не мудри, скажи ему, что фараон в своей бесконечной доброте будет милостив к нему! Азиру ни за что не поверит тебе, ибо он хитер, но он вылезет из кожи вон, прежде чем отпустит тебя; он станет торговаться, и придираться, и всячески морочить тебе голову. Но ни в коем случае ты не должен уступать Газу. Скажи ему также, что фараон не может отвечать за партизан и грабежи, ибо эти вольные отряды ни за что не сложат оружия, им даром не нужны таблички фараона — за это отвечаю я! Конечно, тебе не обязательно говорить об этом Азиру. Скажи ему, что они тихие, терпеливые люди, ослепленные горем, но они тотчас же сменят' свои копья на пастушьи посохи, как только наступит мир. Но не уступай Газы, или я спущу с тебя шкуру собственными руками; так много мук я претерпел, столько золота пустил по ветру, столько лучших моих шпионов потерял, чтобы открыть для Египта ворота Газы.
Я провел в Мемфисе несколько дней, обсуждая с Хоремхебом условия мира и споря с ним. Я встречался с послами Крита и Вавилона, а также с выдающимися людьми, бежавшими из Митанни. По их рассказам я составил картину всего случившегося и был преисполнен честолюбия, впервые осознав, что стал крупным козырем в большой игре, ставка в которой — судьбы людей и городов.
Хоремхеб был прав: в этот момент мир был гораздо важнее для Азиру, нежели для Египта, хотя события в целом обещали не более чем перемирие. Добившись устойчивости в Сирии, Азиру вновь ополчился бы против Египта. Будущее теперь зависело от того, куда пойдут хетты через Сирию, установив свое господство в Митанни, — на Вавилон или на Египет. Разум подсказывал, что они метили бы в самую уязвимую точку, но Вавилон вооружался, тогда как Египет был беззащитен. Страна хеттов была нежелательным союзником для любого, тем не менее Азиру она предоставляла поддержку. В случае союза с Египтом против хеттов ему угрожало несомненное поражение, поскольку фараон Эхнатон правил Египтом, а за спиной Азиру была безлюдная пустыня.
Хоремхеб сказал мне, что он встретится с Азиру где-нибудь между Танисом и Газой, где колесницы Азиру сдерживали партизан. Он обрисовал положение в Смирне, перечислив дома, сгоревшие во время осады, назвал имена известных людей, которые были убиты, так что я изумлялся его осведомленности. Затем он показал мне донесения своих шпионов, которые побывали в сирийских городах и следовали за отрядами Азиру под видом акробатов, фокусников, предсказателей судьбы, купцов и работорговцев.
Как командиры Хоремхеба, так и беженцы рассказывали мне столько страшных историй о людях Амурру и о вольных египетских отрядах, что мое сердце дрогнуло и подкосились колени, когда приблизился час моего отъезда.
Хоремхеб сказал:
— Выбирай, как поедешь — по суше или морем?
— Вероятно, пеший путь более безопасен, — отвечал я неуверенно.
Он кивнул.
— От Таниса ты двинешься дальше под эскортом из нескольких копьеносцев и колесниц. Если они столкнутся с отрядами Азиру, они бросят тебя в пустыне и быстро удерут. Возможно, люди Азиру, поняв, что ты египтянин высокого звания, посадят тебя на кол по обычаю хеттов и помочатся на твои глиняные таблички. Возможно и то, что, несмотря на эскорт, ты попадешь в руки партизан, которые оберут тебя и заставят крутить жернова до тех пор, пока я не смогу выкупить тебя за золото, но не думаю, что ты протянешь так долго, поскольку их плети сделаны из шкуры гиппопотама. Столь же охотно они проткнут тебя копьями и оставят воронам, и это отнюдь не худший способ закончить жизнь, а в общем-то совсем легкая смерть.
Сердце мое затрепетало как никогда, и, несмотря на летнюю жару, у меня похолодели руки и ноги. Я сказал:
— Мне ужасно жаль, что я оставил у Капта моего скарабея, ибо он мог бы помочь мне больше, чем бог фараона, чья власть не простирается до этих безбожных мест. Ради нашей дружбы, Хоремхеб, если до тебя дойдет весть, что я, попав в плен, ворочаю жернова, поспеши выкупить меня и не жалей золота. Ведь я богат — богаче, чем ты думаешь, — хотя сейчас и не могу дать тебе полного отчета о моем состоянии, ибо я и сам не могу толком в этом разобраться.
Он отвечал:
— Я знаю, что ты богат, и занял у тебя солидную сумму при посредстве Капта, как у других богатых людей, будучи справедлив и не желая лишить тебя возможности ссудить меня деньгами в дальнейшем. Ибо надеюсь, что ради нашей дружбы ты не станешь досаждать мне из-за золота, поскольку это может осложнить наши отношения или даже совсем испортить их. Так что отправляйся, Синухе, друг мой, отправляйся в Танис и там подбери себе эскорт для своего путешествия в пустыню. Да защитит тебя мой Сокол, ибо сам я не могу: моя власть не простирается так далеко. Если ты попадешь в плен — я выкуплю тебя, если умрешь — отомщу за тебя. Знай об этом, и пусть это утешит тебя, когда копье пронзит тебе брюхо.
— Если услышишь, что я мертв, не мсти за меня, — сказал я с горечью. — Моему черепу, исклеванному воронами, не станет лете, если он будет плавать в крови твоих жертв. Передай только от меня привет принцессе Бакетатон, ибо она прекрасная и привлекательная женщина, хотя и надменная, а у одра своей матери она осведомлялась о тебе.
Выпустив эту отравленную стрелу и не оборачиваясь, я оставил его, несколько успокоившегося, и пошел распорядиться, чтобы писцы составили мне завещание и заверили его всеми необходимыми печатями. В этом документе я завещал все мое состояние Капта, Мерит и Хоремхебу и сдал его на хранение в архив Мемфиса. Затем сел на корабль до Таниса, а там, в опаленной солнцем крепости на краю пустыни, встретил пограничные отряды Хоремхеба.
Люди эти пили пиво, проклиная день своего рождения, охотились в пустыне на антилоп и снова пили пиво. Их грязные бараки были отвратительны и пахли мочой, а женщины, бывшие с ними, — самого низкого пошиба. Словом, они жили обычной жизнью пограничных отрядов и мечтали о дне, когда Хоремхеб поведет их сражаться в Сирию. Любая судьба, хотя даже сама смерть, была предпочтительнее этого невыносимого однообразия их существования в раскаленных бараках среди скорпионов и песчаных блох. Они рвались в бой; они поклялись, что станут ударной силой войск и ринутся на Иерусалим и даже на Мегиддо, сметая вонючих сирийцев, как поднявшийся Нил смывает сухой тростник.
Мой эскорт снарядился для путешествия. Бурдюки были наполнены водой и лошади приведены с пастбищ, пока кузнецы укрепляли колеса колесниц. По приказанию Хоремхеба мне предназначалось десять колесниц; каждую из них тащили по две лошади с одной запасной. В колесницах, кроме возничего, были пехотинец и копьеносец. Когда командир отряда докладывал мне, я пристально приглядывался к нему, поскольку вверял ему свою жизнь. Его набедренная повязка была изорвана и грязна, как у всех его людей, и солнце пустыни опалило его дочерна; лишь плеть с серебряной тесьмой отличала его от прочих. Я очень доверял ему — больше, чем если бы он был богато одет и имел слугу, охраняющего его от солнца.
Стоило мне упомянуть о носилках, как он, забыв, кто я, разразился смехом. Я поверил его словам, что единственный залог нашей безопасности — это скорость и потому я должен ехать с ним в его колеснице, оставив здесь носилки и прочие удобства. Он пообещал, что я, если пожелаю, буду сидеть на мешке с кормом, но объяснил, что во время движения лучше стоять и удерживать равновесие, иначе пустыня вытряхнет из меня дух и разбросает мои кости по обе стороны колесницы.
Я собрался с духом и сказал ему, что это уже не первая моя поездка в колеснице. Как-то я добрался от Смирны до Амурру за кратчайшее время, так что даже люди Азиру удивились такой скорости, хотя в ту пору я был моложе, чем сейчас. Командир по имени Джуджу вежливо выслушал меня, после чего вверил мою жизнь всем богам Египта, и вслед за ним я взошел в его колесницу. Там он развернул свое знамя, рявкнул на лошадей, и мы помчались по караванным путям в пустыню. Я подскакивал возле мешков с зерном, цепляясь за них обеими руками, стукался носом и оплакивал свою судьбу. Стоны мои тонули в грохоте колес, а возничие позади меня дико вопили от радости, уносясь прочь в пустыню от раскаленного ада бараков.
Так мы ехали весь день, а ночь я провел на мешках скорее мертвый, чем живой, горько проклиная день, когда родился. На следующее утро я попытался стоять в колеснице, держась за пояс Джуджу, но через некоторое время соскочило колесо, наткнувшись на камень, и я описал высокую дугу и уткнулся головой в песок, где колючки исцарапали мне лицо. Но мне было не до того. Когда спустилась ночь, Джуджу, казалось, забеспокоился о моем состоянии. Хотя он ограничивал своих людей в воде, он все же полил немного воды мне на голову. Он держал меня за руки и утешал, говоря, что пока еще нам везло и что если и на следующий день на нас не нападут вольные отряды, то на четвертый день мы уже можем натолкнуться на разведчиков Азиру.
На рассвете меня разбудил Джуджу, грубо вытряхнув из колесницы прямо на песок. Он выбросил мне вслед мои таблички и ящик, а затем, развернув лошадей, поручил меня богам и умчался полным галопом в сопровождении остальных колесниц, и их колеса высекали искры из камней.
Очистив глаза от песка, я увидел группу сирийских колесниц, движущихся от холмов по направлению ко мне и разворачивающихся в боевом порядке. Я поднялся и замахал пальмовой ветвью над головой в знак мира, хотя ветвь сморщилась и иссохла за время моего путешествия. Колесницы пронеслись, не обратив на меня внимания, разве только стрела пропела возле моего уха и нырнула в песок позади меня, и помчались за Джуджу и его людьми. Я видел, однако, что те хорошо позаботились о своем спасении.
Поняв, что погоня бессмысленна, колесницы Азиру вернулись ко мне, и командиры вышли из них. Я назвал свое звание и показал им таблички фараона, но они не обратили на них никакого внимания. Они обобрали меня, открыли мой дорожный ящик, взяли мое золото, затем сорвали с меня одежду и привязали мои запястья к задней части колесницы. Когда они тронулись, мне пришлось бежать за колесницей — бежать, пока я не задохнулся, а тем временем песок содрал кожу с моих колен.
Я, несомненно, умер бы от этого путешествия, если бы лагерь Азиру не находился сразу же за цепью холмов. Полуослепшими глазами я увидел массу шатров, между которыми паслись лошади; колесницы и повозки, запряженные быками, стеной окружали лагерь. Кроме этого, я не помню больше ничего до тех пор, пока не увидел, очнувшись, рабов, которые плескали на меня водой и втирали масло в мои руки и ноги. Командир, умеющий читать, посмотрел мои глиняные таблички, и теперь со мной обращались с должным почтением и вернули мою одежду.
Едва я смог ходить, меня отвели в шатер Азиру, пропахший жиром, шерстью и куреньями. Азиру направился мне навстречу, рыча как лев; у него на шее позвякивали золотые цепи, а курчавая борода его была в серебряной сетке.
Он подошел ко мне и обнял меня, сказав:
— Я огорчен, что мои люди дурно обошлись с тобой. Ты должен был назвать им свое имя и объяснить, что ты посланник фараона и мой друг. Тебе следовало также размахивать пальмовой ветвью над головой в знак мира, как того требует обычай. Мои люди сказали мне, что ты. бросился на них с ножом в руке, гак что, защищаясь, они были вынуждены схватить тебя.
Мои ободранные колени горели и боль в запястьях не утихала. Снедаемый горечью, я возразил:
— Посмотри на меня и подумай, угрожала ли твоим людям опасность? Они сломали мою пальмовую ветвь, и ограбили меня, и топтали таблички фараона. Тебе следовало бы выпороть их, дабы научить их уважать посланника фараона.
Но Азиру насмешливо распахнул свою одежду и поднял руки.
— Видно, тебе приснился дурной сон, Синухе! Что я могу поделать, если во время столь утомительного путешествия ты поранил свои колени о камни? Я и не подумаю пороть своих лучших людей из-за какого-то жалкого египтянина, а слова посланника фараона как жужжание мух в моих ушах.
— Азиру, царь царей, прикажи по крайней мере выпороть того человека, который подло изранил мне всю спину, когда я бежал за колесницей. Вели выпороть его, и я буду удовлетворен. Знай же, что я принес мир как дар тебе и Сирии!
Азиру громко расхохотался и ударил себя в грудь.
— Что мне в том, что этот ничтожнейший фараон будет ползать передо мной в грязи, умоляя о мире? Все же речи твои разумны. Поскольку ты мой друг, друг моей супруги и моего сына, я велю выпороть человека, который изранил тебе спину, подгоняя тебя, ибо это не согласуется с добрым обычаем. Как ты знаешь, я не пользуюсь грязными средствами, сражаясь во имя высоких целей.
Итак, я имел удовольствие видеть худшего из моих мучителей выпоротым на глазах солдат, собранных перед шатром Азиру. Его товарищам ничуть не было жалко его, они только дразнили его и стонали от смеха, когда он визжал, ибо они были военными и радовались всему, что нарушало однообразие их жизни. Без сомнения, Азиру позволил бы им забить этого человека до смерти, но, когда я увидел текущую кровь и мясо, свисающее с ребер, я поднял руки и даровал ему жизнь. Затем я велел отнести его в шатер, предоставленный мне Азиру, и поместить рядом со мной — к негодованию командиров, размещавшихся там до меня. Его товарищи приветствовали меня с энтузиазмом, полагая, что я намерен после порки применить к нему изощренные пытки. Но я смазал ему спину теми же самыми мазями, которые втирал в свои колени и ягодицы, перевязал его раны и позволил ему выпить его порцию пива. Этот человек решил, что я сумасшедший, и потерял ко мне всякое уважение.
Вечером Азиру пригласил меня поесть жареной баранины и риса, сваренного в сале, и я ел в его шатре вместе с ним и его военачальниками и с теми хеттскими командирами, которые были в лагере. Их накидки и нагрудники были украшены изображениями двуглавых секир и крылатого солнца. Мы вместе пили вино, и все обходились со мной благожелательно и приветливо, как с простаком, который пришел предложить мир именно тогда, когда он был им более всего нужен. Они громко говорили о независимости Сирии, ее будущей мощи и о ярме угнетателя, которое они сбросили со своих плеч. Но, напившись как следует, они стали браниться, и наконец человек из Иоппии вытащил нож и ударил в шею другого — из Амурру. Ничего страшного не произошло, ибо оказалось, что артерия не задета, и я смог быстро залечить рану; в благодарность за это он сделал мне много подарков. За этот поступок все тоже сочли меня идиотом.
2
Когда трапеза завершилась, Азиру отпустил своих командиров и хеттов, чтобы они разобрались в своих склоках у себя в шатрах. Он показал мне своего сына, который сопровождал его в походах, хотя ему было всего семь лет; он вырос красивым мальчиком: у него были щеки, как персик, и черные блестящие глаза, волосы же черные и курчавые, как отцовская борода, и белый цвет лица его матери.
Поглаживая ребенка по голове, Азиру сказал мне:
— Видал ли ты более красивого мальчика? Я завоевал для него много престолов, и он будет великим правителем. Его владычество будет простираться так далеко, что я едва осмеливаюсь думать об этом. Он уже своим собственным мечом распорол живот рабу, оскорбившему его; он умеет читать и писать и не боится боя, ибо я уже брал его в сражение, хотя лишь тогда, когда усмирял бунт в селениях, где его юной жизни не угрожала опасность.
Кефтью оставалась в Амурру, пока Азиру воевал, и Азиру мучительно тосковал о ней и говорил мне, что он тщетно пытается утолить свою тоску с пленницами и храмовыми девами, следующими за армией; кто однажды вкусил любовь Кефтью, никогда уже не забудет ее. А с годами она расцвела еще пышнее, сказал он мне, так что если бы я увидел ее сейчас, то не поверил бы своим глазам. Но он взял с собой сына, не решаясь оставить его в Амурру, ибо некогда мальчик наденет короны объединенной Сирии.
Пока мы беседовали, до нас донеслись пронзительные крики. Азиру очень разозлился и сказал:
— Хеттские командиры снова терзают своих женщин. Я никак не могу остановить их, ибо мне нужна их отвага на поле битвы; тем не менее я не хочу, чтобы мои люди переняли у них эти скверные повадки.
Я знал хеттов, знал, чего от них можно ждать. Воспользовавшись удобным случаем, я сказал:
— Азиру, царь царей, порви с этими хеттами вовремя, до того, как они снесут корону с твоей головы — и твою голову заодно! Им нельзя доверять. Заключи мир с фараоном, пока хеттов все еще сдерживает война в Митанни. Как тебе известно, Вавилон вооружается против них и не пошлет тебе больше зерна, если ты останешься с ними в дружбе. Когда придет зима, голод будет бродить по стране, как хищный волк, пока ты не заключишь мир с фараоном и он не пошлет зерно в твои города, как бывало прежде.
Он возразил:
— Ты говоришь глупости, ибо хетты верны своим друзьям, но для своих врагов они ужасны. Но я не связан с ними никаким договором, хотя они и послали мне богатые дары и блестящие нагрудники, я волен заключить сепаратный мир. Я люблю мир больше, чем войну, и сражаюсь для того, чтобы добиться почетного мира. Я примирюсь с фараоном, если он вернет Газу, которую вероломно забрал у меня, и если разоружит разбойничьи шайки в пустыне и возместит зерном, маслом и золотом ущерб, который понесли разоренные им сирийские города, пострадавшие от войны. Как ты знаешь, один Египет нужно считать виновником этой войны.
Он нагло уставился на меня и улыбался, прикрыв рот рукой, но я горячо возразил:
— Азиру, ты бандит, ты похититель скота, ты палач невинных младенцев! Разве ты не знаешь, что в каждой кузнице по всему Нижнему Царству куют наконечники копий, а у Хоремхеба уже больше колесниц, чем блох в твоей постели? И эти блохи сильно покусают тебя, едва созреет жатва. Этот Хоремхеб, чья слава известна тебе, плюнул мне на ноги, когда я заговорил с ним о мире. А фараон во имя своего бога желает мира больше, чем кровопролития. Даю тебе последнюю возможность, Азиру. Египет удержит Газу, и ты должен сам разогнать свои шайки в пустыне, ибо Египет никоим образом не отвечает за эти дела. Только твоя жестокость вынудила этих сирийцев бежать в пустыню и вооружиться там против тебя. Кроме того, ты должен освободить всех пленных египтян, возместить египетским торговцам убытки, понесенные ими в городах Сирии, и вернуть им их собственность.
Азиру рвал на себе одежду и бороду и возмущенно вопил:
— Может, тебя укусила бешеная собака, Синухе, раз ты так бредишь? Газу надо уступить Сирии, египетские торговцы сами виноваты в своих потерях, а пленных продадут как рабов — согласно обычаю. Никто не мешает фараону купить им свободу, если у него достанет для этого золота.
Я сказал ему:
— Заключив мир, ты построишь высокие башни в своих городах, и тебе больше не придется бояться хеттов, а Египет поддержит тебя. Купцы в этих городах разбогатеют, если смогут торговать с Египтом, не платя пошлины, а хетты, у которых нет мореходства, не помешают твоей торговле. Все преимущества будут на твоей стороне, Азиру, если ты заключишь мир. Условия фараона умеренны, и я не могу пойти ни на какие уступки.
Мы спорили день за днем, и много раз Азиру рвал на себе одежду и посыпал голову пеплом, называл себя бесстыжим разбойником и оплакивал судьбу своего сына, который, конечно, умрет в канаве, обобранный Египтом. Как-то раз я даже оставил его шатер и послал за носилками и эскортом до Газы. Азиру вернул меня, когда я уже ступил в носилки. Вообще-то будучи сирийцем, он, очевидно, наслаждался этой торговлей и, когда я делал какие-то уступки, думал, что обошел меня. Он ни разу не заподозрил, что фараон наказал мне купить мир любой ценой, вплоть до разорения Египта.
Таким образом, я сохранял уверенность в себе и своими переговорами добился условий, очень выгодных для фараона. Время работало на меня, ибо междоусобица в лагере Азиру разрасталась. Каждый день все больше людей разъезжалось по своим городам, и он не мог помешать им, ибо его власть была еще недостаточно прочна.
Как-то ночью в его шатер вошли двое убийц и ранили его ножом, но не смертельно. Он убил одного, а его маленький сын проснулся и вонзил свой короткий меч в спину другого, так что тот также умер. На следующий день Азиру вызвал меня в свой шатер и с бранью предъявил мне такие обвинения, что до смерти напутал меня. Впоследствии мы пришли к окончательному решению. От имени фараона я заключил мир с ним и со всеми городами Сирии. Газа оставалась Египту, Азиру было предоставлено разгромить вольные отряды, а за фараоном сохранялось право купить свободу пленным египтянам и рабам. На этих условиях мы составили договор о вечной дружбе между Египтом и Сирией. Он был записан на глиняных табличках и скреплен именами тысячи богов Сирии и тысячи богов Египта, а также именем Атона. Азиру страшно ругался, прикладывая к табличкам свою печать, а я тоже рвал на себе одежду и плакал, ставя на них свою египетскую печать. Но в глубине души мы оба были очень довольны. Азиру дал мне много подарков, и я тоже обещал много послать ему, его жене и сыну с первым же кораблем, который отплывет из Египта после мирного соглашения.
Мы расстались в полном согласии; Азиру даже обнимал меня и называл своим другом. Я поднял его красивого мальчика, похвалил его за доблесть и прикоснулся губами к его розовым щечкам. Однако и Азиру, и я знали, что договор, заключенный нами навечно, не стоил глины, на которой был написан. Он заключил мир потому, что его принудили к этому, а Египет потому, что так желал фараон. Наш мир висел в воздухе, подвластный всем ветрам, поскольку все зависело от того, в каком направлении хетты двинутся от Митанни, от стойкости Вавилона и от военных кораблей Крита, охранявших морскую торговлю.
Во всяком случае Азиру начал распускать свои войска и снабдил меня эскортом до Газы, отдав в то же самое время приказ тамошним отрядам снять бесполезную осаду этого города. Все же я чуть не умер, прежде чем добрался до Газы. Когда мы были у ее ворот и мой эскорт замахал пальмовыми ветвями и закричал, что мир заключен, египетские защитники стали пускать в нас свои стрелы и бросать копья, и я решил, что пришел мой последний час. Невооруженному солдату, державшему передо мной свой щит, стрела пронзила горло, и он упал, истекая кровью, тогда как товарищи его бежали. Ужас парализовал мои нош, и я заполз под щит, как черепаха, плача и крича самым жалостным образом. Поскольку под щитом я был недоступен для египетских стрел, египтяне вылили кипящую смолу из огромных кувшинов, и смола текла в мою сторону, пузырясь и шипя. По счастливой случайности меня прикрыли какие-то большие камни, так что я получил лишь легкие ожога на руках и коленях.
Это зрелище вызвало у людей Азиру такой хохот, что они попадали на землю и лежали, корчась от смеха. Наконец их командир приказал трубить в рога, и египтяне согласились доставить меня в город. Но они не захотели открыть ворота, а спустили на веревке тростниковую корзину, в которую я должен был забраться вместе с моими глиняными табличками и пальмовой ветвью, и так они втащили меня на стену.
Я резко выругал за это гарнизонного командира, но он оказался грубым и упрямым человеком. Он сказал мне, что столько раз сталкивался с вероломством сирийцев, что и не собирался открывать городские ворота без личного приказа Хоремхеба. Он не хотел верить, что мир подписан, хотя я показал ему все мои глиняные таблички и говорил с ним от имени фараона; он был простоват и упорен. Но если бы не его простоватость и упорство, Египет давно потерял бы Газу; поэтому я не имел никакого права строго упрекать его.
Из Газы я отплыл назад в Египет. Я приказал поднять на топ-мачте флаг фараона и все сигналы мира на случай, если покажутся вражеские корабли. При этом матросы преисполнились презрения ко мне и сказали, что такое разряженное и разукрашенное судно больше похоже на шлюху, чем на корабль. Когда мы достигли реки, вдоль берегов толпился народ, размахивая пальмовыми ветвями и прославляя меня как посланца фараона, принесшего мир. Даже матросы наконец проявили ко мне уважение, позабыв о том, что на стену Газы меня подняли в корзине.
Когда я вновь оказался в Мемфисе и Хоремхеб прочел мои глиняные таблички, он расхвалил мой дипломатический талант, и это меня немало удивило, поскольку он вообще не был склонен хвалить меня. Я не мог понять этого, пока не узнал, что военным кораблям Крита приказано вернуться домой. Газа вскоре перешла бы в руки Азиру, если бы война продолжалась, ибо без морского сообщения город был бы потерян. Потому-то Хоремхеб и превозносил меня и поспешил отправить в Газу много кораблей, груженных войсками, оружием и припасами.
Во время моего пребывания у Азиру царь Вавилона Бурнабуриаш отправил в Мемфис посла со свитой и множеством даров. Я принял его на борту корабля фараона, который стоял там, ожидая меня, и мы отправились вверх по реке вместе. Путешествие было приятным, ибо посол оказался почтенным старцем с глубокими познаниями, с белой шелковистой бородой, ниспадающей на грудь. Мы беседовали о звездах и печени овцы, так что нам было о чем поговорить, ибо можно всю жизнь толковать о звездах и печенках и не исчерпать эту тему.
Мы обсуждали также и государственные дела, и я заметил, что его глубоко тревожило возрастающее могущество хеттов. Жрецы Мардука предсказывали, что их владычество будет ограничено и не продлится и ста лет; затем они будут истреблены жестокими белыми пришельцами с запада. Это не слишком утешило меня, поскольку я был обречен жить в период их владычества. Я дивился, как это люди могут явиться с запада, где нет земли за исключением морских островов. Тем не менее, поскольку это предрекли звезды, следовало им верить; я повстречал в Вавилоне столько чудес, что охотнее верил звездам, чем собственным знаниям.
У посла было при себе отборное вино, привезенное с гор. Когда мы с наслаждением вкушали его, он сказал мне, что все растущее число знамений и предзнаменований всегда предвещает конец эпохи. Мы оба были убеждены, что живем на закате мира и впереди только ночь. Должно произойти много переворотов, многие народы будут стерты с лица земли, как это уже случилось с народом Митанни, и старые бога умирают прежде, чем нарождаются новые, и начинается новый цикл. Он настойчиво расспрашивал об Атоне, покачивал головой и поглаживал свою седую голову, слушая меня. Он признавал, что подобный бог никогда еще не появлялся на земле, и полагал, что сейчас это могло означать только начало конца; такого опасного учения еще никто никогда не исповедовал.
После приятного путешествия мы прибыли в Ахетатон, и мне показалось, что я стал мудрее с тех пор, как покинул его.
3
За время моего отсутствия головные боли вернулись к фараону и тревога подтачивала его сердце, поскольку он был уверен, что все, к чему он ни прикоснется, обречено на неудачу. Его тело горело, пожираемое огнем его видений, и таяло. Чтобы вдохнуть в него силы, жрец Эйе решил отпраздновать тридцатилетие его правления осенью, после жатвы, когда начнут подниматься воды. Не имело значения, что фараон царствовал значительно меньше тридцати лет, поскольку долго держался обычай, по которому фараоны отмечали эту дату произвольно.
Огромные массы людей прибыли на праздник в Ахетатон, и как-то утром, когда фараон бродил вдоль священного озера, двое убийц, вооруженных ножами, напали на него. На берегу сидел юный ученик Тутмеса, рисуя уток, ибо Тутмес заставлял своих учеников делать зарисовки с натуры, а не с моделей. Этот мальчик отражал удары негодяев своим стилетом, пока подоспевшая стража не схватила их; фараон отделался всего лишь легкой раной в плечо. Но мальчик погиб, и кровь его обагрила руки фараона. Вот так предстала перед Эхнатоном смерть. Среди осеннего великолепия своего сада он увидел кровь, струящуюся по его рукам. Он наблюдал, как смерть помутила глаза и изменила лицо мальчика, погибшего ради него.
Меня спешно позвали перевязать рану фараона, которая оказалась легкой, и таким образом я увидел двух убийц. У одного была выбрита голова и его лицо блестело от священного масла, а у другого были отрезаны уши за какое-то гнусное преступление. Связанные стражниками, они рвали свои путы, выкрикивали чудовищные проклятия во имя Амона. Их не остановило и то, что стражники били их по губам, пока не потекла кровь. Вне сомнений, жрецы заколдовали их, так что они не испытывали боли.
Это было тревожное событие, ибо никогда еще никто не осмеливался открыто поднять руку на фараона. Фараоны могли умирать неестественной смертью до положенного срока, но такую смерть замышляли втайне. То, что совершалось, совершалось потаенно, с помощью яда, или веревки, или удушения под циновкой — тем, что не оставляло следа. Как прежде, так и сейчас, череп фараона вскрывали против его воли. Но это было первым открытым нападением, и это нельзя было утаить.
Заключенных допросили в присутствии фараона, но они отказались говорить. Они открыли рот, только чтобы призвать на помощь Амона и проклясть фараона, хотя стражники били их по губам древками копий. Услышав имя этого бога, даже фараон пришел в такую ярость, что разрешил стражникам продолжать избивать их, пока лица этих людей не превратились в кровавое месиво и зубы не были выбиты. Заключенные все еще молили Амона о помощи, и фараон наконец запретил дальнейшее насилие.
Тогда они закричали с вызовом:
— Пусть они пытают нас, лжефараон! Пусть они переломают нам руки и ноги, ранят нашу плоть, жгут нашу кожу, ибо мы не чувствуем боли!
Они были так ожесточены, что фараон отвернулся, борясь с собой. Немного успокоившись, он горько устыдился того, что разрешил стражникам бить людей по лицу. Он сказал:
— Освободите их! Они не ведают, что творят.
Когда стражники развязали тростниковые веревки, пленники стали ругаться пуще прежнего. Они с пеной у рта вопили:
— Убей нас, проклятый фараон! Дай нам умереть во имя Амона, лжефараон, чтобы мы обрели вечную жизнь!
Осознав, что фараон намерен отпустить их безнаказанными, они вырвались из рук стражников и сразу же разбили головы о стены двора, так что их черепа треснули, и вскоре они умерли.
Все в золотом дворце знали, что отныне жизнь фараона в опасности. Его приверженцы удвоили охрану и не позволяли ему надолго исчезать из виду, хотя он, неизменно погруженный в печаль, желал побродить в одиночестве по своему саду и по берегу. Верующие в Атона воодушевились еще более пылкой преданностью, тогда как те, кто лишь притворялся верующим ради богатства и положения, стали опасаться за свои места и еще ревностнее служить фараону. Так что фанатизм усилился в обоих царствах и страсти кипели как из-за Атона, так и из-за Амона.
В Фивах также были устроены церемонии и процессии в честь тридцатилетнего юбилея. Туда были свезены корзины золотого песка; страусовые перья, клетки с пантерами, жирафы, обезьянки и попугаи с блестящим оперением были доставлены по реке, чтобы народ мог лицезреть богатство и величие фараона и восхвалять его имя. Но жители Фив в молчании наблюдали, за праздничными процессиями. На улицах происходили драки, крест Атона срывали с одежды людей. Двух жрецов Атона избили до смерти, когда они неосмотрительно решились пробраться сквозь толпу.
Хуже всего, что свидетелями этого были иностранные послы, узнавшие также и о покушении на жизнь фараона. У посла Азиру было что порассказать своему повелителю по возвращении в Сирию. Он вез с собой для Азиру много ценных даров от фараона, и я тоже послал подарок Азиру и его семье через его посла. Я отправил его сыну целое игрушечное войско, вырезанное из дерева, с весело разрисованными копьеносцами и стрелками из лука, лошадьми и колесницами; я приказал сделать так, чтобы половина их походила на хеттов, а другая — на сирийцев, полагая, что мальчик заставит их сражаться друг с другом, когда будет играть. Эти фигурки смастерил самый искусный резчик по дереву, изготовлявший изображения Амона; он остался без работы с тех пор, как закрылись храмы и храмовые лавки. Я заплатил за эти фигурки больше, чем за все мои подарки Азиру.
В эту пору фараон Эхнатон тяжко страдал, одолеваемый сомнениями; так поколебалась его вера, что временами он горько плакал, ибо его видения исчезли и Атон покинул его. Однако он извлек наконец пользу из покушения на него, черпая в этом новые силы и убежденность в том, что его миссия даже еще более высокая, чем прежде, а его труды еще важнее для жизни, поскольку гак много тьмы и страха в земле Египта. Он вкусил горький хлеб и отравленную воду ненависти, и хлеб этот не насытил его и вода не утолила его жажды. И ведь он верил, что им движет стремление к добру, когда усилил гонения на жрецов Амона и отправил в рудники тех, кто вслух произносил имя этого бога. Больше всех, конечно, пострадали люди простодушные и бедные, ибо тайная власть жрецов Амона была огромна и стражники фараона не осмеливались их трогать. Так ненависть порождала ненависть, и смута все разрасталась.
Не имея сына, фараон надеялся упрочить свой трон, выдав замуж двух старших дочерей, Меритатон и Анксенатон, за сыновей своих надежных приверженцев из числа придворных. Меритатон разбила кувшин с мальчиком по имени Секенре, который имел звание виночерпия фараона и верил в Атона. Этот восторженный пятнадцатилетний мальчик, погруженный в грезы, нравился фараону Эхнатону. Фараон разрешал ему примерять царские короны и назначил его своим преемником, поскольку потерял надежду иметь собственного сына.
Но Анксенатон разбила кувшин с десятилетним мальчиком по имени Туг, которому было пожаловано звание главного конюшего и надзирателя за царскими строительными работами и каменоломнями. Этот хрупкий болезненный мальчик играл в куклы, любил конфеты и был послушным и покорным. В нем не было ничего дурного, но и ничего особенно хорошего, и он верил всему, что ему говорили, повторяя последние услышанные им слова. В этих мальчиках текла кровь высшей египетской знати, и, выдав замуж за них своих дочерей, фараон рассчитывал обеспечить себе и Атону поддержку двух именитых семейств. Мальчики нравились ему, потому что у них не было собственной воли; в своем фанатизме он не выносил ни чужих мнений, ни чужих советов.
Внешне все шло, как и прежде, но покушение на жизнь фараона было дурным знаком. Хуже того, он закрыл свои уши от людей и прислушивался только к своим внутренним голосам. Жизнь в Ахетатоне стала гнетущей; улицы были тише, люди смеялись меньше, чем обычно, и говорили вполголоса, словно какой-то тайный страх витал над Небесным Городом. Часто во время работы, погруженный в свои мысли под журчание водяных часов, я приходил в себя и, выглянув наружу, осознавал непривычную мертвую тишину города: ни один звук не доходил до меня, кроме звука моих часов, отмеряющих неизмеримое время. В такие минуты их журчание казалось зловещим, словно предназначенное время шло к концу. Затем коляски вновь проезжали мимо моего дома, и я видел разноцветные перья, развевающиеся над головами лошадей. С веселым стуком колес смешивались голоса слуг, ощипывающих птиц на кухонном дворе. Тогда я успокаивался и думал, что мне приснился дурной сон.
Тем не менее бывали спокойные, трезвые минуты, когда я понимал, что Ахетатон лишь прекрасная оболочка плода, съеденного изнутри червями. Радость померкла с течением времени, так что и веселье иссякло, и смех замер в Ахетатоне. Я начал тосковать о Фивах, и мне не было нужды выискивать предлоги для поездки — мое сердце доставляло мне их в избытке. Так бывало со многими, кто считал себя преданным фараону; одни покидали Ахетатон, чтобы взглянуть на свои владения, другие — чтобы женить или выдать замуж кого-то из родственников. Многие возвращались в Ахетатон, но не те, кто более не добивался благосклонности фараона и теперь делал ставку на тайную власть Амона. Я уговорился с Капта, что он пришлет мне кое-какие бумаги, свидетельствующие о необходимости моего присутствия в Фивах, чтобы фараон не мог помешать моему отъезду.
4
Как только я ступил на корабль, направлявшийся вверх по реке, моя душа словно освободилась от чар. Опять наступила весна, река спала, и ласточки носились над быстрыми желтыми водами. Плодородный ил покрыл поля, и фруктовые деревья были в цвету. Я спешил, исполненный сладким томлением весны, как спешит жених к своей любимой. Человек настолько раб своего сердца, что готов закрыть глаза на все неприятное ему и верить во все, о чем мечтает. Свободное от чар и ползучего страха Ахетатона, сердце мое ликовало, как птица, выпущенная из клетки. Трудно подчиняться чужой воле, как подчинялись все в Ахетатоне изменчивой, лихорадочной и гнетущей воле фараона. Для меня, его врача, он был всего-навсего человеком, и мне было труднее быть его рабом, чем тем, кто считал его богом.
Я радовался, обретя вновь возможность видеть своими собственными глазами, слышать своими ушами, говорить своим языком и жить согласно своей воле. Такая свобода отнюдь не была пагубна; скорее это сделало меня смиренным и смягчило горечь моей души. Чем дальше я был от фараона, тем отчетливее я видел его истинную сущность и желал ему добра. Чем ближе корабль подходил к Фивам, тем явственнее и живее всплывали в моей душе воспоминания и тем величественнее становились фараон Эхнатон и его бог.
Поэтому надежда и вера оставались во мне прежними, и я радовался, ощущая себя хорошим человеком, лучшим, чем многие другие. Если я должен быть честен с собой и жить по правде, то мне следует признать, что я казался себе лучшим человеком, чем сам фараон, поскольку не принес никому вреда по своей воле, не навязывал никому своей веры и в дни юности помогал больным, не требуя от них подарков. Следуя своим путем вверх по реке, я повсюду видел незримое присутствие бога фараона Эхнатона. Хотя давно пришла пора сеять, половина полей Египта оставалась невспаханной, незасеянной и бесплодной, если не считать сорняков и чертополоха, а паводок наполнил канавы грязью, и их никто не очищал.
Амон всячески старался приумножить свою власть над душами людей, изгоняя поселенцев с земель, принадлежавших ему, а также проклиная поля фараона, так что пахари и работники спасались бегством и укрывались в городах. Немногие поселенцы оставались в своих хижинах, запуганные и ожесточенные.
Разговаривая с ними, я сказал:
— Безумцы! Почему вы не пашете и не сеете? Вы же умрете от голода, когда придет зима.
Они посмотрели на меня с неприязнью, ибо моя одежда была из тончайшего полотна, и ответили:
— Зачем же нам сеять, если хлеб, который вырастет на наших полях, проклят и убивает тех, кто ест его, как уже убило наших детей крапчатое зерно?
Город Ахетатон был так далек от подлинной жизни, что лишь теперь я узнал о смерти детей от крапчатого зерна. Прежде я не слыхал о такой болезни. Она передавалась от ребенка к ребенку; их животы раздувались, и они умирали, жалобно стеная. Ни врачи, ни колдуны не могли помочь им. Мне казалось, что болезнь происходила не от зерна, но скорее от паводков, которые несли с собой все зимние заразные болезни. Правда, эта зараза убивала только детей, но когда я осматривал взрослых, не осмеливавшихся засевать свои поля и предпочитавших голодную смерть, я видел, что болезнь во всяком случае убила их души. Виновником всего увиденного мною я считал не фараона Эхнатона, но Амона, который так отравил существование этих сельских жителей, что смерть была для них лучше такой жизни.
Нетерпение, с каким я стремился вновь увидеть Фивы, гнало меня вперед. Пот струился по лицам моих гребцов. С укоризной они показывали мне руки, покрытые волдырями и распухшие оттого, что я так подгонял их. Я обещал залечить их раны при помощи серебра и, желая быть великодушным, утолил их жажду пивом.
Но пока они гребли со связанными ногами, я слышал, как они перешептывались:
— Почему мы должны везти эту жирную свинью, если все люди равны перед его богом? Пусть сам попробует, каково это получается, а потом уж лечится серебром, если может!
У меня чесались руки поколотить их как следует палкой, но сердце мое было преисполнено доброты, ибо я был на пути в Фивы. Поразмыслив над их словами, я ощутил справедливость сказанного.
Я прошел между ними и приказал:
— Гребцы, дайте мне весло!
Я стоял и греб вместе с ними, пока у меня на руках не появились волдыри от тяжелой рукоятей весла, волдыри же превратились в болячки. Моя спина так изогнулась набок, что я опасался, как бы не сломался позвоночник, и с трудом переводил дыхание.
Но я сказал себе:
— Бросишь ли ты взятую на себя работу, чтобы рабы насмехались над тобой и презирали тебя? Ведь все это и много больше этого они выносят каждый день. Познай же на себе их тяжкий труд, их пот, их распухшие руки, чтобы понять, какова жизнь лодочника. Ты, Синухе, когда-то хотел, чтобы твоя чаша была полна!
Так я греб, пока чуть не упал в обморок и слугам пришлось отнести меня в постель.
Следующий день я также греб ободранными руками, и гребцы больше не смеялись надо мной, а просили меня прекратить грести и сказали:
— Ты наш господин, а мы твои рабы. Не греби больше, иначе все перевернется, и получится, что мы идем задом наперед и вверх ногами. Ты больше не греби, ибо во всем должен быть порядок; каждый занимает место, предназначенное ему богами, и твое место никак не рядом с гребцами.
Но я греб вместе с ними на протяжении всего пути до Фив; моей пищей был их хлеб и их каша, а моим питьем — горькое пиво рабов. С каждым днем я греб все дольше; с каждым днем мои руки и ноги становились все более гибкими; с каждым днем я все больше радовался жизни и заметил, что у меня прошла одышка.
Мои слуги беспокоились за меня и говорили друг другу:
— Видно, скорпион укусил нашего хозяина или он спятил, как и все в Ахетатоне, ведь безумие — заразная болезнь. И все равно мы не боимся его, ибо у нас под одеждой есть рог Амона.
Но я не был безумным и не намеревался продолжать грести после прибытия в Фивы.
Итак, мы достигли города, и запах его дошел до нас, когда мы были еще далеко на реке, — запах, превосходящий все другие для того, кто там родился. Я велел слугам втереть мне в руки целебные мази, вымыть меня и одеть в лучшие одежды. Набедренная повязка была слишком широка мне, ибо мое брюшко исчезло от гребли, и нужно было закрепить на мне повязку булавками, что рабы и выполнили с большим сочувствием. Я посмеялся над ними и послал их предупредить Мути о моем прибытии, не смея показаться ей без предупреждения.
Я разделил серебро между гребцами, добавил золото и сказал:
— Во имя Атона! Идите, ешьте и набивайте свои животы! Возвеселите сердца добрым пивом и наслаждайтесь с прекрасными фиванскими девушками, ибо Атон дарует радость и любит простые утехи, и ему бедные дороже богатых, потому что их развлечения незатейливы.
При этих словах лица лодочников омрачились; перебирая серебро и золото, они сказали:
— Мы не хотели бы оскорбить тебя, но скажи нам, нет ли заклятия на этом серебре и на этом золоте, если уж ты заговорил с нами об Атоне. Ибо если так, то мы не можем его принять, оно жжет нам пальцы и обращается в прах, как это всем хорошо известно.
Они не говорили бы со мной так, если бы я не греб вместе с ними и не завоевал их доверия. Я успокоил их:
— Живо ступайте и обменяйте это на пиво, если у вас такие опасения. Но не бойтесь; ни мое золото, ни мое серебро не прокляты. По их клейму вы можете видеть, что это старый чистый металл, не смешанный с медью Ахетатона. Глупцы, вы сами не знаете, что во благо вам если боитесь Атона; в нем нет причин для страха.
Они отвечали:
— Мы не боимся Атона, ибо кто же боится бессильного бога? Ты прекрасно знаешь, кого мы боимся, господин, хотя из-за фараона мы не смеем произнести его имени вслух.
Во мне закипело раздражение, и я не захотел больше спорить. Я отпустил их, и они ушли, припрыгивая, смеясь и распевая свои песни. Я тоже был бы рад прыгать, смеяться и петь, но это не подобало моему званию. Я направился прямо в «Хвост крокодила», не дожидаясь носилок. Я увидел Мерит после долгой разлуки, и она показалась мне еще милее, чем прежде. Все же я должен признать, что любовь, как и всякая страсть, меняет восприятие мира. Мерит была уже не первой молодости, но в своем зрелом цветении она была мне другом и в чем-то ближе, чем когда-либо прежде.
Увидев меня, она низко поклонилась и подняла руки, затем ступила вперед, чтобы коснуться моих плеч и щек, улыбнулась и сказала:
— Синухе, Синухе! Как же это случилось, что твои глаза стали такими ясными, и где же твой живот?
— Мерит, любимая из любимых! Мои глаза горят желанием и лихорадкой любви, а мое брюхо истаяло от уныния — так я спешил к тебе, сестра моя.
Вытирая глаза, она сказала:
— О, Синухе! Насколько же ложь слаще правды, когда ты одинок и твоя весна отцвела понапрасну! Но ты пришел, и весна снова здесь, и я верю всем старым сказкам.
Не буду более говорить об этой встрече, ибо мне следует сказать и о Капта. Его брюхо, конечно, не истаяло; он стал еще тучнее, чем прежде, и еще больше обручей позвякивало на его шее, запястьях и щиколотках, между тем как золотая пластинка, которой он прикрывал пустой глаз, была теперь усеяна драгоценными камнями. Увидев меня, он всплакнул от радости и сказал:
— Да будет благословен день, когда мой господин вернулся домой!
Он повел меня в уединенную комнату и усадил на мягкую циновку, тогда как Мерит принесла нам все самое лучшее, что только мог предложить «Хвост крокодила», и мы веселились все вместе.
Капта дал отчет о моем имуществе и сказал:
— Господин мой Синухе, мудрейший из людей, ты хитрее, чем хлеботорговцы, а ведь мало кому удавалось их обойти. Прошлой весной ты хитро провел их, если даже не обошлось без помощи скарабея. Вспомни, что ты приказал мне распределить все твое зерно между поселенцами для сева, требуя от них только меру за меру, по каковой причине я и назвал тебя безумцем. И, если здраво судить, это был, конечно, безумный поступок. Так знай же, что благодаря своей хитрости ты стал вдвое богаче, чем прежде. Я уже не могу держать в голове стоимость твоего имущества, и меня очень донимают царские сборщики налогов, их наглость и жадность не имеют границ. Как только торговцы услыхали, что поселенцам дадут семена, цена на зерно тут же упала и упала еще больше, когда дошли вести о мире, поскольку тогда все стали продавать, чтобы освободиться от своих обязательств, приносивших торговцам большие убытки. Но в этот момент я купил по очень низкой цене зерно, которое еще не было даже собрано. Осенью я получил меру за меру, как ты и велел, и таким путем вернул себе свой прежний запас. С полным доверием я скажу тебе, господин, что зерно поселенцев не хуже любого другого и не приносит вреда никому. Полагаю, что жрецы и их приверженцы тайно окропили кровью зерно в закромах, так что оно стало крапчатым и приобрело дурной запах. С наступлением зимы цена на зерно вновь поднялась, потому что Эйе именем фараона после заключения мира отправил зерно в Сирию, чтобы вытеснить вавилонское зерно с сирийских рынков. Поэтому цена никогда еще не была столь высокой, как сейчас. Наши доходы огромны, и они еще возрастут, если мы придержим наши запасы. Следующей осенью в страну придет голод, потому что поля поселенцев невспаханы и незасеяны; рабы бегут с полей фараона, а земледельцы прячут зерно, чтобы его не отняли у них и не отправили в Сирию. По всему этому я не могу сделать ничего больше, как только вознести за тебя хвалу небесам, господин, ибо ты хитрее меня, хотя я считал тебя безумным.
В большом возбуждении он продолжал:
— Я восхваляю такие времена, когда богатые богатеют, хотят они того или нет. Эго, конечно, очень странные времена, ибо теперь золото и серебро текут ниоткуда в мои ящики и сундуки. Продажа пустых кувшинов принесла мне не меньшую прибыль, чем зерна. Повсюду в Египте есть люди, скупающие самые разнообразные пустые кувшины, и, услышав об этом, я нанял рабов за сотню, чтобы они скупали кувшины. Люди отдавали им свои старые кувшины просто так, лишь бы убрали эту вонь со двора. Если я скажу, что этой зимой продал тысячу раз по тысяче кувшинов, я, может, слегка преувеличу, но не очень.
— Какой же дурак покупает пустые кувшины? — спросил я.
Капта лукаво подмигнул мне своим единственным глазом и сказал:
— Покупатели утверждают, что в Нижнем Царстве открыли новый способ сохранять рыбу в соли и воде. Вникнув в это дело, я узнал, что эти кувшины отправляют в Сирию. Корабли выгружают их в Танисе и в Газе тоже, откуда их караванам и переправляют в Сирию. Что делают сирийцы со всем этим — загадка. Никто не может понять, зачем они скупают старые кувшины по цене новых.
Рассказ Капта о кувшинах был удивителен, но я не стал ломать над ним голову; вопрос зерна был одним из самых важных для меня.
Когда я выслушал полный отчет Капта, я сказал ему:
— Если надо, продай все, что у тебя есть, и купи зерно; купи все запасы, какие можешь, все равно, за какую цену. Не покупай еще не собранного зерна, а купи лишь то, что ты видишь своими глазами и что можешь потрогать руками. Обдумай также, возможно ли вернуть то, что уже отправлено в Сирию морским путем, ибо хотя фараон по условиям мирного договора обязан послать туда зерно, но Сирия всегда может ввезти зерно из Вавилона. Верно то, что осенью голод придет в землю Кем. Так пусть будет проклят тот, кто продает зерно из житниц, чтобы обставить вавилонских торговцев зерном!
В ответ Капта стал снова расхваливать мою мудрость:
— Ты хорошо говоришь, господин. Когда эти дела придут к счастливому концу, ты станешь самым богатым человеком в Египте. Думаю, что смогу купить еще зерна, хотя и по ростовщическим ценам. Но человек, которого ты проклял, это явно жрец Эйе, продавший зерно в Сирию тотчас по заключении мира, пока цена была еще низкой. По своей глупости он продал достаточно, чтобы обеспечить Сирию на много лет, потому что Сирия заплатила сразу и вдобавок золотом, а ему нужно было много золота для празднования годовщины фараона. Сирийцы не продадут его нам обратно, ибо они хитрые торговцы, и скорее всего они подождут, пока мы начнем считать золотым каждое хлебное зерно. Лишь тогда они снова продадут нам его и так перекачают все золото из Египта в свои сундуки.
Но вскоре я забыл и о зерне, и о голоде, который грозил Египту, и о будущем, скрытом во тьме, ибо закат уже давно бросил на Ахетатон свой кроваво-красный отблеск. Я смотрел в глаза Мерит, и сердце мое упивалось ее красотой, и она была слаще вина для моих уст и благоуханней бальзама. Капта ушел, и она расстелила для меня свою циновку. Я, не колеблясь, называл ее теперь сестрой, хотя прежде полагал, что никогда уже не назову так ни одну женщину. Она держала мои руки в темноте, и я чувствовал на своей шее ее дыхание, и в душе моей не было от нее тайн, и я говорил с ней без притворства и лжи. А она свою тайну хранила глубоко в сердце, и я так и не отгадал, что это могло бы быть. Подле нее я не чувствовал себя чужим в этом мире, ибо она была моим домом, а ее поцелуи прогоняли мое одиночество — и все же это был лишь мимолетный мираж, который был нужен, чтобы мера моего опыта исполнилась.
В «Хвосте крокодила» я вновь увидел маленького Тога, и вид его согрел мне сердце. Он обвил своими ручонками мою шею и назвал меня отцом, и я был очень растроган, что он меня помнит. Мерит сказала мне, что его мать умерла и она взяла его к себе, поскольку, позаботившись об его обрезании, она, согласно обычаю, обязана и вырастить ребенка, если родители не смогут этого сделать. Тот чувствовал себя совсем как дома в «Хвосте крокодила», завсегдатаи которого очень привязались к нему и носили ему подарки и игрушки, чтобы угодить Мерит. Меня он совсем очаровал, и все время моего пребывания в Фивах он был со мной в доме медеплавильщика. Мути была в восторге от этого, а я, следя за его играми под ветвями сикомора и слыша его возню и споры с детьми на улице, вспоминал свое детство и завидовал ему. Ему так нравилось здесь, что он и ночи проводил со мной, и для собственного удовольствия я начал учить его, хотя он еще не достиг школьного возраста. Он оказался смышленым, быстро выучил знаки и буквы письма, и я решил платить за его образование в лучшей школе Фив, которую посещали дети высшего сословия. Это доставило Мерит большую радость. Мути никогда не надоедало печь для него медовые пряники и рассказывать ему сказки. Теперь получилось, как она хотела: в моем доме был сын, но не было жены, которая придиралась бы к ней или ошпаривала ей кипятком ноги, как обычно поступают жены, поссорившись со своими мужьями.
Я мог бы быть счастлив, но в это время в Фивах были беспорядки, на которые я не мог закрыть глаза. Ни дня не проходило без стычек на улицах, и бесконечные споры вокруг Амона или Атона кончались кровопролитием и проломленными головами. У стражников фараона и должностных лиц было много работы, ибо ежедневно мужчин, женщин и детей связывали веревками и доставляли на пристань, чтобы отправить на принудительные работы в поля фараона и даже в рудники ради Атона. Но их отправляли не так, как преступников, ибо люди, собравшись на причале, приветствовали их и осыпали цветами. Узники поднимали связанные руки и говорили: «Мы скоро вернемся!» А другие кричали: «Воистину мы скоро вернемся, чтобы отведать крови Атона!» Боясь народа, стражники не решались заткнуть им рот и не били их, пока корабли не отплывали от причала.
Так в Фивах возникло противостояние — сын против отца, жена против мужа — во имя Атона. Приверженцы Атона носили крест жизни на шее или на одежде, а рог был знаком верности Амону, и его тоже носили на виду. Никто не мог воспрепятствовать этому, поскольку издавна этот рог служил украшением на одежде или был ювелирным изделием.
К моему удивлению, власть Атона в Фивах значительно возросла за истекший год, и сначала я недоумевал, почему. Многие поселенцы сбежали обратно в город, и, лишившись всего, они привозили Атона себе в утешение и обвиняли жрецов, отравлявших их зерно, и тех, кто засорял их оросительные каналы, и тех, кто выпускал свой скот на их поля. Многие из тех, кто изучил новое написание букв и посещал школы Атона, ревностно защищали его, ведь юность всегда ополчается против старых порядков. Грузчики и рабы в порту говорили так:
— Нам платят теперь вдвое меньше, чем прежде, и нам нечего терять. Для Атона нет ни господина, ни раба, ни хозяина, ни слуги, тогда как Амон вымогает от нас полную плату.
Самыми горячими приверженцами Атона были воры, расхитители гробниц и осведомители, которые разбогатели на доносах и теперь боялись возмездия. Также и те, кто любым способом наживался на Атоне и желал сохранить расположение фараона, крепко держались за Атона. Так и возникло противостояние, пока честным мирным людям не надоело все это, и, не веря уже ни в какого бога, они горько жаловались:
— Нам все равно, Амон или Атон. Мы хотим только жить мирно и выполнять свою работу, но нас рвут на части, так что мы уже не знаем, на голове стоим или на ногах.
Но больше всех страдал тот, кто пытался сохранить свободомыслие и позволял каждому человеку верить, как он хочет. Все единодушно нападали на него и поносили его, обвиняя его в лени, безразличии, тупости и бесчувственности, в упрямстве и ереси, и тогда, измученный, он принимал крест или рог — все что угодно, лишь бы избавиться от неприятностей.
Многие дома выставляли напоказ те или иные знаки; это делали винные лавки, пивные, увеселительные заведения, так что «рога» пили в одном месте, а «кресты» в другом. Девицы, которые искали клиентов у стен города, вешали на шею крест или рог — в зависимости от того, что больше нравилось их дружкам. Каждый вечер «кресты» и «рога» бродили по городу пьяные, били светильники, грохотали ставнями и наносили друг другу удары.
Не могу сказать, какая группировка была хуже, поскольку был напуган обеими.
«Хвост крокодила» был также вовлечен в противостояние этих знаков, хотя Капта не желал этого, предпочитая согласиться с каждым, от кого мог получить серебро. Ему не приходилось выбирать, ибо каждую ночь крест жизни нацарапывали на стенах таверны и окружали его непристойными картинками. Это было вполне естественно, поскольку хлеботорговцы питали острую ненависть к Капта, который разорил их, раздав зерно поселенцам; не помогло и то, что в налоговой декларации он записал таверну на имя Мерит. Впоследствии ссылались на то, что один из жрецов Амона столкнулся с насилием в его доме. Постоянные посетители Капта принадлежали к подозрительным богачам порта, которые не брезговали никакими способами обогащения и все высказывались за Атона, поскольку процветали благодаря ему.
Никто не посмел преследовать меня, так как я был домашним врачом фараона, а жители бедных кварталов в порту знали меня и мою работу. Поэтому на моих стенах не появлялось ни крестов, ни непристойных картинок и никакую дохлятину не швыряли мне во двор. Даже пьяные мятежники обходили мой дом, бродя ночью по улицам и выкрикивая имя Амона, чтобы досадить часовым. Почтение к тем, кто носил знак фараона, было в самой крови людей, хотя все жрецы и убеждали их, что Эхнатон — лжефараон.
Но однажды в жаркий день маленький Тот вернулся домой после своих игр избитый и в синяках, кровь текла у него из носа и во рту недоставало зуба. Он пришел, рыдая, хотя старался держаться молодцом, и Мути была ошеломлена. Она плакала от ярости, моя ему лицо, затем сжала валек в своем костлявом кулаке и закричала:
— Амон или Атон — все едино, но пусть заплатят за это отродья плетельщика тростника!
Она ушла раньше, чем я успел удержать ее, и скоро с улицы донеслись рев мальчишек, крики о помощи и брань взрослого. Мы с Тотом испуганно выглянули из-за двери и увидели Мути, колотящую во имя Атона всех пятерых сыновей плетельщика тростника, его жену и его самого. Она тут же вернулась, все еще задыхаясь от ярости, и, когда я попытался выбранить ее и объяснить, что ненависть рождает ненависть, а месть влечет за собой месть, она подошла поближе, решив поколотить и меня. Чуть позже угрызения совести стали донимать ее, и, положив в корзинку медовые пряники и захватив кувшин пива, она понесла все это плетельщику тростника и заключила мир с ним, с его женой и детьми. После этого происшествия этот человек почитал Мути, а его мальчишки подружились с Тотом. Они таскали с кухни медовые пряники и вместе сражались как с «рогами», так и с «крестами» всякий раз, когда юные приверженцы какой-нибудь партии проникали на нашу улицу, чтобы побезобразничать.
5
Немногое остается сказать об этом пребывании в Фивах. Пришел день, когда фараон Эхнатон потребовал меня к себе, потому что его головные боли усилились, и я не мог более откладывать свой отъезд. Я простился с Мерит и маленьким Тотом, ибо, к моему огорчению, не мог взять их с собой в эту поездку, поскольку фараон повелел мне вернуться как можно скорее.
Я сказал Мерит:
— Приезжайте вслед за мной, ты и маленький Тот! Живите со мной в моем доме в Ахетатоне, и мы все будем счастливы вместе.
Мерит ответила:
— Возьми цветок с его места в пустыне, пересади его в плодородную почву и поливай каждый день, и он зачахнет и умрет. То же будет и со мной в Ахетатоне, и твоя дружба не помешает мне зачахнуть и умереть точно так же, когда ты станешь сравнивать меня со знатными женщинами. Они не упустят случая подчеркнуть все, чем я отличаюсь от них, ибо я знаю женщин, да, по-моему, и мужчин тоже. Не пристало тебе держать в своем доме женщину, выросшую в таверне, к которой год за годом приставали пьяницы.
Я возразил ей:
— Мерит, возлюбленная моя, я вернусь к тебе как только смогу, ибо страдаю от голода и жажды каждый час, который провожу без тебя. Многие из тех, кто покинул Ахетатон, никогда не вернулись, и, вероятно, я поступлю так же.
Но она возразила:
— Ты говоришь то, за что сердце твое не может ручаться, Синухе. Я знаю тебя. Знаю, что не в твоем характере покинуть фараона, когда другие покидают его. В хорошие дни ты мог бы сделать это, но не сейчас. Такова уж твоя душа, Синухе, и, вероятно, поэтому я твой друг.
Ее слова повергли в смятение мою душу, и в горле у меня застрял комок, когда я подумал, что могу потерять ее.
Я сказал ей очень серьезно:
— Мерит, Египет — не единственная страна на свете. Меня утомили битвы богов и безумие фараона. Давай отправимся в другое место, подальше отсюда, станем жить вместе: я, ты и маленький Тот, не страшась завтрашнего дня.
Но Мерит улыбнулась, а ее глаза подернулись печалью, когда она ответила:
— Твои слова бесполезны, ты сам знаешь, что это так, и все-таки даже твоя ложь приятна мне, ибо она показывает, что ты любишь меня. Но не думай, что ты мог бы жить счастливо где-нибудь, кроме Египта, а я нигде, кроме Фив. Нет, Синухе, никто не убежит от себя. Со временем, когда я стану старой, уродливой и жирной, ты пресытишься мною и возненавидишь меня за все, чего лишился из-за меня. Я готова скорее отказаться от тебя, чем увидеть, как это случится.
— Ты мой дом и моя страна, Мерит. Ты мой хлеб и мое вино, и ты это хорошо знаешь. Ты единственное существо на свете, с кем я не чувствую себя одиноким, и за это я тебя люблю.
— Да, конечно, — с горечью согласилась Мерит, — я подушка, разделяющая твое одиночество, а может, я твоя изношенная циновка. Но так это и должно быть, я не желаю ничего другого. Поэтому я не открываю тебе тайну, которая гложет мне сердце и которую, возможно, тебе следует знать. Я сохраню эту тайну, несмотря на то что малодушно собиралась открыть ее тебе. Ради тебя я сохраню эту тайну, Синухе, только ради тебя.
Она не открыла мне свою тайну просто потому, что у нее больше гордости, чем у меня, а может, из-за того, что она более одинока, чем я, хотя в то время я не понимал этого и думал только о себе. Я уверен, так поступают все мужчины, когда любят, хотя это меня и не извиняет. Мужчины, которые считают, что они думают о чем-нибудь другом, кроме самих себя, когда любят, заблуждаются так же, как и во многом другом.
И вот я опять покинул Фивы и вернулся в Ахетатон, но о том, что за этим последовало, очень тяжело рассказывать.
Книга XIII Царство Атона на земле
1
Когда я вернулся в Ахетатон, оказалось, что фараон очень болен и нуждается в моей помощи. Его лицо осунулось, скулы выступили, а шея казалась еще длиннее, чем прежде. Ей были уже тяжелы две короны, которые оттягивали его голову назад, когда он надевал их в торжественных случаях. Его ноги отекли, хотя ниже колен они походили на палки; от постоянных головных болей и глаза его тоже отекли, а вокруг них легли фиолетовые тени. Глаза его ни на кого не смотрели прямо; пристальный взгляд блуждал в каких-то иных мирах, и фараон часто забывал о людях, с которыми разговаривал. Головные боли усиливались из-за его привычки ходить с непокрытой головой под полуденным солнцем, чтобы благословенные лучи падали на него. Однако лучи Атона не посылали ему благословения. Они отравляли его до того, что он бредил и его преследовали кошмарные видения. Возможно, его бог был, как и он сам, слишком щедрым в своей великой доброте, слишком неудержимым и неуемным, чтобы его благословение не наносило вреда всему, чего оно касалось.
В минуты просветления, когда я прикладывал мокрые полотенца к голове фараона и давал ему успокоительные лекарства, чтобы унять боль, его томный печальный взгляд задерживался на мне с таким горьким разочарованием, что сердце мое, тронутое его слабостью, устремлялось к нему и я любил его. Я бы многое отдал за то, чтобы избавить его от этого томления.
Он сказал мне:
— Синухе, может ли быть, что мои видения — обман, порождение больного мозга? Если это так, то жизнь непостижимо чудовищна и миром правит не добро, а безграничное зло. Но этого не может быть, а значит, мои видения не обман. Ты слышишь, Синухе, ты, упрямец? Мои видения должны быть истинны, хотя солнце Атона уже не проникает в мою душу и друзья отворачиваются от меня. Я не слепой. Я вижу, что творится в сердцах людей. Я вижу и то, что творится в твоем сердце, Синухе, в твоем слабом и непостижимом сердце, я знаю, что ты считаешь меня безумным. И все же я тебя прощаю из-за того света, который некогда сиял в твоей душе.
Когда начинались боли, он стонал и кричал:
— Люди жалеют больное животное, Синухе, и убивают его дубинкой; копье приносит избавление раненому льву, но никто не проявит милосердия к человеку! Разочарование для меня гораздо хуже смерти, потому что свет Атона проникает в мою душу. Хотя мое тело умирает, душа моя будет жить вечно. Я рожден от солнца, Синухе, и вернусь к солнцу, и я страстно желаю этого возвращения из-за горечи моего одиночества.
С наступлением осени он начал выздоравливать, хотя, возможно, было бы лучше, если бы я дал ему умереть. Но врач не может позволить больному умереть, если его искусство способно его вылечить, и это часто становится проклятием для врача. Здоровье фараона улучшалось, но за улучшением последовало отчуждение. Он больше не разговаривал ни со мной и ни с кем другим. Теперь его взгляд стал тверже, а одиночество — глубже.
Он говорил чистую правду, утверждая, что друзья отворачиваются от него, ибо он наскучил царице Нефертити, родившей ему пятерых дочерей; она почувствовала к нему отвращение и старалась всеми способами причинить ему боль. Когда она зачала в шестой раз, ребенок в ее чреве был уже не от фараона. Пренебрегая приличиями, она развлекалась с кем попало, даже с моим другом Тутмесом. Она все еще была царственно красива, и, хотя ее весна уже миновала, ее глаза и дразнящая улыбка излучали нечто такое, чему мужчины не могли противиться. Она плела интриги среди приближенных фараона, чтобы отдалить их от него. Так что магический круг любви, защищавший его, становился все уже и понемногу таял.
У нее была сильная воля и необычайно проницательный ум. Женщина, у которой злоба сочетается с умом и красотой, поистине очень опасна. Но она еще опаснее, если к тому же наделена властью царской супруги. Слишком много лет Нефертити довольствовалась тем, что правила улыбками и своей красотой, наслаждаясь драгоценностями, вином, стихами и лестью. Теперь, после рождения пятой дочери, что-то словно оборвалось; она уверилась в том, что ей никогда уже не удастся родить сына, и обвинила в этом Эхнатона. Нужно помнить о том, что в жилах ее текла черная кровь жреца Эйе, кровь беззакония, вероломства и властолюбия.
Стоит сказать в ее защиту, что до сих пор о ней никогда не говорили ни одного дурного слова; ни один из ее недостойных поступков не обсуждался вслух. Она хранила верность; она окружала фараона Эхнатона нежностью любящей женщины, прикрывая его безумие и веря в его видения. Многих поразила внезапная перемена в ней, и они видели в этом признак проклятия, которое, как душное облако, нависло над Ахетатоном. Она так низко пала, что говорили, будто она развлекается со слугами, садовниками и каменотесами, хотя я этому совершенно не верю. Стоит людям узнать что-то, о чем можно посплетничать, и они непременно все преувеличат и наплетут всякие небылицы.
Как бы то ни было, все это заставило фараона замкнуться в своем одиночестве. Он питался только хлебом и похлебкой бедняков и пил только воду из Нила, ибо желал вернуть ясность мыслей через очищение, полагая, что мясо и вино затмили ею разум.
Приятные вести больше не поступали в Ахетатон из внешнего мира. Азиру присылал из Сирии множество табличек, заполненных просьбами и жалобами. Его люди, писал он, хотят разойтись по домам и пасти овец и рогатый скот, возделывать поля и наслаждаться со своими женами, поскольку его люди любят мир. Однако шайки грабителей с египетским оружием и под началом египетских командиров непрерывно совершают набега на Сирию из Синайской пустыни и постоянно угрожают стране. Поэтому Азиру не мог позволить своим людям вернуться домой. Комендант Газы тоже ведет себя неподобающим образом и нарушает как дух, так и букву мирного договора. Он закрыл ворота юрода для мирных торговцев и разрешает проход только тем, кому считает нужным. Азиру жаловался еще на многое и писал, что любой, кроме него, давно бы потерял терпение, но он продолжает страдать только из-за своей любви к миру. Однако, если всем этим безобразиям не будет положен конец, он не может отвечать за последствия.
Вавилон тоже раздражало соперничество Египта на сирийских зерновых рынках. Царь Бурнабуриаш был не слишком доволен подарками, полученными от фараона, и выставил множество требований.
Посол Вавилона в Ахетатоне теребил свою бороду, пожимал плечами и возводил руки к небу, говоря:
— Мой повелитель подобен льву, который с трудом поднимается в своем логове и принюхивается, пытаясь узнать, что несет ему ветер. Он возлагает надежды на Египет, но если Египет слишком беден и не может прислать ему достаточно золота, чтобы оплачивать сильных наемников и строить колесницы, я не знаю, к чему это приведет. Хотя мой повелитель всегда будет верным другом могучему и богатому Египту, дружба с нищей и бессильной страной не имеет для него никакого смысла, а скорее обуза. Могу сказать, что мой повелитель был совершенно потрясен и удивлен, когда Египет по своей слабости уступил Сирии. У каждого свой удел, и Вавилон должен считаться с собственными интересами.
Хеттские посланники, среди которых было много важных персон, только что прибыли в Ахетатон. Они объявили, что намерены укрепить давнюю дружбу между Египтом и землей Хетти и вместе с тем познакомиться как с египетскими обычаями, о которых они слышали много хорошего, так и с египетской армией, надеясь многое узнать о ее вооружении и дисциплине. Они вели себя очень приветливо и дружелюбно и привезли щедрые подарки командирам и придворным. Среди этих подарков был нож из голубого металла, необычайно тонкий и острый; его преподнесли юному Туту, зятю фараона. Один только я в Ахетатоне обладал таким же клинком — его подарил мне хеттский хозяин порта, и я посоветовал Туту оправить и его нож в золото и серебро, как принято у сирийцев. Тут был в восхищении от этого оружия и сказал, что возьмет его с собой в гробницу Хрупкий, болезненный мальчик, он думал о смерти гораздо чаще, чем большинство детей его возраста.
Хеттские посланники были действительно приятными и просвещенными людьми. Их крупные носы, твердые подбородки и звериные глаза зачаровывали знатных женщин. С утра до ночи и с ночи до утра во дворцах устраивали для них роскошные приемы.
Они говорили, улыбаясь:
— Мы знаем, что много ужасного рассказывают о нашей стране из-за выдумок завистливых соседей. Поэтому нас радует возможность появиться перед вами и убедить вас в том, что мы просвещенный народ и многие из нас умеют читать и писать. Мы также миролюбивы и не желаем войны; мы хотим лишь узнать то, что может помочь нам просветить и обучить наш народ. Не верьте той чепухе, которую распространяют о нас беженцы из Митанни. Они озлоблены, ибо в страхе бросили свою страну и все что имели. Мы заверяем вас, что никто не причинил бы им никакого зла, если бы они остались. Но вы должны понять, что земля Хетти очень мала и у нас много детей, поскольку великий Шуббилулиума обожает их. Поэтому нам нужно пространство для нашего потомства и новые пастбища для скота. И далее, нам невыносимо было видеть притеснения и несправедливости, которые царят на земле Митанни, ведь сами жители ее взывали к нам о помощи, и мы вошли в их страну как освободители, а не как завоеватели. В Митанни достаточно места для нас, наших детей и нашего скота, и мы не замышляем захватить что-то еще, ибо мы миролюбивый народ.
Они подняли кубки, вытянув руки, и вознесли хвалу Египту, тогда как женщины с вожделением смотрели на их мускулистые шеи и звериные глаза.
И они сказали:
— Египет — великолепная страна, и мы любим ее. В нашей стране тоже есть кое-что, чему египтяне могут поучиться — те, кто относится к нам дружелюбно и хочет познакомиться с нашими обычаями.
Они произнесли еще много прекрасных слов во славу Ахетатона, который вел с ними дела открыто, ничего не утаивая. Однако мне казалось, что эти чужеземцы принесли с собой трупный запах. Я помнил их унылую землю, колдунов, посаженных на кол вдоль дороги, и меня не опечалил их отъезд из Ахетатона.
Город сильно изменился. Его жителей обуяло какое-то безумие, и никогда прежде люди не ели, не пили и не играли так лихорадочно, как сейчас. Но их веселье было нездоровым, ибо они пировали лишь для того, чтобы не думать о будущем. Часто мертвая тишина опускалась на город, смех замирал на губах у людей, и они со страхом смотрели друг на друга, забывая, о чем собирались говорить. Художников тоже охватила эта странная лихорадка. Они рисовали, писали красками и создавали скульптуры еще усерднее, чем прежде, словно чувствовали, что время уходит, как песок между пальцами. Они все преувеличивали до фантастических размеров; любая диспропорция разрасталась под их резцами и карандашами; они соперничали друг с другом, создавая самые странные и нелепые фигуры, пока не убедились, что могут изобразить характерную особенность или движение несколькими линиями и пятнами.
Я сказал моему другу Тугмесу:
— Фараон Эхнатон вытащил тебя из грязи и сделал своим другом. Почему же ты изображаешь его так, словно люто ненавидишь его? Почему ты отвернулся от него и надругался над его дружбой?
Тутмес ответил:
— Не вмешивайся в то, чего не можешь понять, Синухе. Может быть, я и ненавижу его, но себя я ненавижу сильнее. Огонь творчества горит во мне, и мои руки еще никогда не были столь искусны, как сейчас. Возможно, когда художник неудовлетворен и ненавидит самого себя, он творит лучше всего, лучше, чем если он доволен собой и исполнен любви. Все, что я творю, во мне самом, и в каждой частице изваяния я запечатлеваю себя, чтобы жить вечно. Никто не похож на меня, я превосхожу всех, и для меня нет правил, каких я не мог бы нарушить. Мое искусство ставит меня превыше правил, и я скорее бог, нежели человек. Творя форму и цвет, я соперничаю с Атоном и превосхожу его, ибо все, что создает Атон, бренно, а то, что я, — вечно.
Говоря так, он пил, и я прощаю ему эти слова, ибо лицо его исказила мука, а по глазам его я видел, что он глубоко несчастен.
За это время с полей убрали урожай, вода в реке поднялась и спала, и наступила зима. Вместе с зимой на землю Египта пришел голод, и никто не мог предположить, какими новыми бедами грозит завтрашний день. Пришли вести о том, что Азиру отдал хеттам множество сирийских городов и их легкие колесницы, промчавшись через Синайскую пустыню, напали на Танис и опустошили окружающие земли.
2
Эти новости заставили Эйе срочно прибыть из Фив, а Хоремхеба из Мемфиса и держать совет с фараоном Эхнатоном, как спасти то, что еще можно спасти. Я был на этой встрече как врач, поскольку боялся, что фараон перевозбудится и заболеет из-за бедствий, о которых он должен услышать. Однако фараон был спокоен и все время владел собой.
Жрец Эйе сказал фараону:
— Сокровищницы фараона пусты, и земля Куш не уплатила дань за этот год, хотя я возлагал надежды на эти поступления. Великий голод охватил страну, и люди выкапывают водоросли из ила и едят корни; они также едят саранчу, жуков и лягушек. Многие уже погибли, а еще больше тех, кому предстоит погибнуть. Даже при самом строгом распределении царского зерна не хватит, тогда как зерно купцов слишком дорого и люди не могут его купить. Все умы охвачены великим страхом. Жители селений бегут в города, а горожане устремились к земле, и все говорят, что это проклятие Амона и что новый бог фараона заставил их страдать. Поэтому, фараон Эхнатон, примирись со жрецами и верни Амону его власть, чтобы люди могли поклоняться ему и успокоиться. Верни ему его землю, чтобы он мог засеять ее, ибо люди не осмеливаются на это. Твоя земля тоже не засеяна, так как люди считают ее проклятой. Примирись с Амоном, пока еще есть время, иначе я умываю руки и не отвечаю за последствия.
Но Хоремхеб сказал:
— Бурнабуриаш купил мир с хеттами, и Азиру, уступив их давлению, стал их союзником. Их отрядам в Сирии нет числа, как песчинкам в море, а колесницам — как звездам на небе. Чтобы погубить Египет, хитрые хетты стали носить воду в пустыню в кувшинах. Не имея флота, они доставили туда огромное количество воды, так что с наступлением весны даже мощная армия сможет пересечь пустыню, не испытывая жажды. Они купили в Египте массу кувшинов, и купцы, продавшие их, сами вырыли себе могилу. Колесницы Азиру и хеттов посылали разведчиков в Танис и египетские земли и таким образом нарушили мир. Ущерб, понесенный от них, невелик, но я распустил слухи об ужасных опустошениях и о зверствах хеттов, поэтому люди рвутся в бой. Время еще есть, фараон Эхнатон! Пусть трубят рога, пусть развеваются знамена: объявляй войну. Призови всех, кто способен носить оружие, на учения, собери всю медь в стране на наконечники для стрел и копий, и твоя верховная власть будет спасена. Я сам спасу ее в невиданной доселе войне; я разобью хеттов и снова подчиню тебе Сирию. Я смогу это сделать, если все запасы Египта будут отданы в распоряжение армии. Голод делает воинами даже трусов. Амон или Атон — мне все равно; люди же забудут Амона, едва начав воевать. Их раздражение найдет выход в борьбе против врага, а победа позволит тебе укрепить власть тверже, чем прежде. Я обещаю тебе победоносную войну, фараон Эхнатон, ибо я Хоремхеб, Сын Сокола. Я рожден для великих деяний, и настал час, которого я ждал всю свою жизнь.
Услышав эти слова, Эйе поспешно сказал:
— Не верь Хоремхебу, фараон Эхнатон, мой дорогой сын! Язык его лжив, а сам он жаждет власти. Примирись со жрецами Амона и объяви войну, но не назначай Хоремхеба командовать войском. Поручи это кому-нибудь из испытанных и опытных людей, тому, кто изучил старые записи о военном искусстве времен великих фараонов, человеку, которому ты полностью доверяешь.
Хоремхеб воскликнул:
— Если бы не фараон, я бы разбил твой грязный нос, жрец Эйе! Ты меришь меня на свой аршин, а твоим языком говорит измена, ибо ты уже вел тайные переговоры со жрецами Амона и договорился с ними за спиной фараона. Я не покину того мальчика, кого когда-то в минуту его слабости прикрыл своим плащом в холмах Фив; моя цель — величие Египта, и только я могу спасти его.
— Вы сказали? — спросил фараон.
— Мы сказали, — ответили они в один голос.
Тогда заговорил фараон:
— Я должен бодрствовать и молиться прежде, чем приму решение. Завтра соберите всех людей, всех, кто любит меня, малых и великих, слуг и господ. Призовите также каменотесов и каменщиков из их квартала. Через них я обращусь ко всему моему народу и открою ему мою волю.
Они сделали так, как он повелел, и созвали на следующий день народное собрание — Эйе в надежде, что ему удастся примирить фараона с Амоном, а Хоремхеб в надежде, что фараон объявит войну Азиру и хеттам. Всю эту ночь фараон бодрствовал, молился и непрерывно ходил по комнатам, не принимая пищу и ни с кем не разговаривая, так что я, его врач, начал беспокоиться за него. На следующий день он предстал перед народом. Он взошел на трон, и его лицо было светлым и лучезарным, когда он поднял руки и заговорил:
— По моему малодушию голод пришел на землю Египта; по моему малодушию враг угрожает нашим границам. Хетты готовы сейчас вторгнуться в Египет через Сирию, и скоро их ноги будут топтать наши Черные Земли. Все это произошло по моему малодушию, ибо я не услышал голос моего бога и не выполнил его волю. Сейчас мой бог открылся мне. Атон явился мне, и его правда горит в моем сердце. Поэтому я более не малодушен и не испытываю сомнений. Я низверг ложного бога, но по своей нерешительности позволит другим богам разделить власть с Атоном, и тени их омрачили Египет. Ныне все старые боги должны пасть, чтобы свет Атона возобладал над всем и стал единственным светом для всей земли Кем. В этот день все старые боги должны исчезнуть, и начнется царство Атона на земле!
Когда люди услышали эти слова, их охватил ужас, и многие пали ниц пред фараоном.
Но Эхнатон возвысил голос и твердо продолжал:
— Тот, кто меня любит, пойдет сейчас и низвергнет старых богов на земле Кем. Разбейте их алтари, сокрушите их изваяния, выплесните их святую воду, разрушьте их храмы, сотрите их имена на всех письменах, войдите даже в гробницы, чтобы сделать это. Тогда Египет может быть спасен. Командиры, сожмите в руках дубинки; скульпторы, смените резцы на топоры; кузнецы, возьмите молоты и идите во все провинции, в каждый город, в каждое селение, чтобы свергнуть старых богов и стереть их имена. Так я освобожу Египет от власти зла.
Многие убежали от него, пораженные ужасом, но фараон глубоко вздохнул, и лицо его запылало от возбуждения, когда он прокричал:
— Пусть же царство Атона придет на землю! Отныне и навсегда пусть не будет ни рабов, ни господ, ни слуг, ни хозяев; и да станут все равны пред лицом Атона! Никого нельзя будет заставить возделывать землю для другого или крутить для другого мельничные жернова, но каждый сможет выбрать для себя работу по вкусу и приходить и уходить по своему желанию. Фараон сказал.
Толпа не шевелилась более. Все стояли молча и неподвижно, пристально глядя на фараона; он рос в их глазах, а его горящее возбуждением лицо так поразило их, что у них вырвались пылкие возгласы и они стали говорить друг другу:
— Такого никто никогда не видал, но все же бог и вправду говорит его устами, и мы должны подчиниться.
Люди расходились, пререкаясь друг с другом. Кое-где вспыхивали уличные ссоры, и приверженцы фараона переубеждали стариков, которые были против него.
Но когда люди разошлись, Эйе сказал фараону:
— Эхнатон, сбрось свои короны и сломай свой жезл, ибо произнесенные тобой слова уже опрокинули твой трон.
Фараон Эхнатон ответил:
— Мои слова принесли бессмертие моему имени, и я буду царствовать в сердцах людей во веки веков.
Тогда Эйе потер руки, плюнул на землю перед фараоном, растер слюну в пыли ногой и сказал:
— Если это тот путь, который ты избрал, я умываю руки и буду действовать так, как считаю правильным. Я не отвечаю за свои действия перед безумцем.
Он хотел уйти, но Хоремхеб схватил его за руку и за шею; ему было легко удержать его, хотя Эйе был сильным человеком.
Хоремхеб произнес:
— Он — твой фараон! Ты выполнишь его приказ, Эйе, и не изменишь ему. Если же ты предашь его, я отправлю тебя в преисподнюю, хотя бы для этого мне пришлось собрать целый полк. Его безумие действительно глубоко и опасно; но я люблю его и буду твердо стоять на его стороне, потому что дал ему клятву. В его безумии есть искра разума. Если бы он ограничился лишь свержением старых богов, вспыхнула бы гражданская война. Освободив рабов с мельниц и полей, он испортил игру жрецов и привлек людей на свою сторону, даже если в результате получится еще большая неразбериха, чем раньше. Мне все это безразлично, но, фараон Эхнатон, что же мы будем делать с хеттами?
Эхнатон сидел, положив свои безвольные руки на колени, и молчал. Хоремхеб продолжал:
— Дай мне золота и зерна, оружие и колесницы, лошадей и неограниченное право нанимать воинов и собирать войска в Нижних Землях, и я сумею отразить нападение хеттов.
Тогда фараон поднял на него налитые кровью глаза, и просветленность исчезла с его лица, когда он сказал:
— Я запрещаю тебе объявлять войну, Хоремхеб. Если люди желают защищать Черные Земли, я не могу предотвратить этого. У меня нет ни зерна, ни золота, не говоря уже об оружии, чтобы дать тебе, но если бы и было, ты бы ничего не получил, ибо я не стану отвечать злом на зло. Ты можешь отдать распоряжения о защите Таниса, но не проливай крови и защищайся лишь в том случае, если на тебя нападут.
— Будь по-твоему, — сказал Хоремхеб. — Пусть торжествует безумие! Я умру в Танисе по твоему приказу, ведь без зерна и золота даже самая храбрая армия долго не продержится. Но никаких колебаний или полумер! Я буду защищаться, как велит мне мой здравый смысл. Прощай!
Он ушел, и Эйе тоже покинул фараона, и я остался с ним наедине. Он взглянул на меня с несказанной грустью и проговорил:
— Сила ушла из меня вместе с моими словами, Синухе, но даже при моей слабости я счастлив. Что ты собираешься делать?
Я посмотрел на него смущенно, а он, слегка улыбнувшись, спросил:
— Ты любишь меня, Синухе?
Когда я признался, что люблю его, хотя он и безумен, он сказал:
— Если ты любишь меня, то знаешь, что должен сделать.
Мой разум восстал против его желания, хотя внутренне я хорошо понимал, чего он от меня требует. Наконец я заметил с раздражением:
— Я полагал, что нужен тебе как врач, если же нет, тогда я пойду. Правда, я могу принести мало пользы, уничтожая изображения богов, и мои руки слишком слабы, чтобы размахивать кузнечным молотом, но твое желание будет исполнено. Люди заживо сдерут с меня кожу, раскроят мне череп камнями и повесят меня вниз головой на стене, но ведь тебе все равно? Тогда я отправлюсь в Фивы, где много храмов и люди знают меня.
Он ничего не ответил, и я покинул его в гневе.
На следующий день Хоремхеб сел на корабль, чтобы плыть в Мемфис, откуда он должен был отправиться в Танис. Прежде чем он отплыл, я обещал одолжить ему столько золота, сколько смогу достать в Фивах, и отправить ему половину зерна, которым владел. Вторую половину я думал использовать по своему усмотрению. Возможно, именно эта ошибка определила всю мою дальнейшую жизнь: половину я отдал Эхнатону, другую — Хоремхебу. Никому из них я не отдал всего.
3
Мы с Тутмесом отправились в Фивы и, находясь еще далеко от них, увидели, как течение несет к нам трупы. Они распухли и плыли покачиваясь; между ними были видны бритоголовые жрецы, люди высокого и низкого сословия, стражники и рабы. Крокодилам не было нужды плыть в верховье реки, ибо на всем ее протяжении в городах и селениях погибло и было сброшено в Нил великое множество жителей.
Когда мы прибыли в Фивы, многие кварталы города оказались в огне. Языки пламени вырывались даже из Города Мертвых, так как люди грабили гробницы и сжигали набальзамированные тела жрецов. Разъяренные «кресты» сбрасывали в воду «рога» и били их дубинками, пока те не тонули, поэтому мы поняли, что старые боги уже низвергнуты и Атон победил.
Мы направились прямо в «Хвост крокодила», где встретили Капта. Он сменил свои прекрасные одежды на серые тряпки бедняка и запачкал волосы. Он также снял с глаза золотую пластинку и теперь усердно подавал напитки оборванным рабам и вооруженным грузчикам из порта.
— Радуйтесь, братья! — говорил он. — Сегодня день великого счастья! Больше нет ни господ, ни рабов, ни знатных, ни простых, но все могут свободно уходить и приходить, кто как желает. Пейте вино за мой счет. Надеюсь, вы запомните, что в моей таверне с вами обошлись хорошо и научили вас, как найти серебро и золото в храмах ложных богов или в домах скверных хозяев. Я такой же раб, как и вы, и родился рабом. Если не верите, взгляните на мой глаз, который мне выколол негодяй-хозяин своим стилетом, разозлившись на меня за то, что я выпил кувшин пива и наполнил его своей собственной мочой. Такие бесчинства больше никогда не будут твориться. Никто никогда больше не будет работать руками или подвергаться порке лишь потому, что он раб; все станут постоянно веселиться и радоваться, танцевать и наслаждаться.
Лишь выпалив все это, он заметил Тутмеса и меня. Слегка пристыженный, он отвел нас в отдельную комнату.
Он сказал:
— Вы поступили бы умно, переодевшись в дешевую одежду и запачкав лица и руки, так как рабы и грузчики вышли на улицы и восхваляют Атона. Во имя Атона они избивают каждого, кто кажется им слишком толстым и кто никогда не работал руками. Они простили мне мое брюхо потому, что я когда-то был рабом и потому, что распределял между ними зерно, а также потому, что я позволяю им пить даром. Скажите мне, какая нелегкая занесла вас в Фивы как раз сейчас, ведь в эти дни это самое неподходящее место для людей вашего звания?
Мы показали ему наши топоры и кузнечные молоты и сказали, что приехали сокрушать изваяния ложных богов и стирать их имена со всех надписей.
Капта понимающе кивнул и добавил:
— Может, вы и хорошо придумали, но это годится лишь до тех пор, пока люди не узнают, кто вы такие. Предстоят большие перемены, и «рога» отомстят за ваши дела, если когда-нибудь вернутся к власти. Я не могу поверить, что все это продлится долго, ибо где же рабам взять зерно? А в своем необузданном неистовстве они натворили таких дел, которые заставили «кресты» сомневаться, и они примкнули к «рогам», чтобы восстановить порядок.
— Ты говоришь о зерне, Капта, — сказал я. — Знай же, я обещал половину нашего зерна Хоремхебу, чтобы он мог вести войну против хеттов, и ты должен немедленно отправить это зерно в Танис. Другую половину зерна тебе следует смолоть, а из муки выпечь хлеб и раздать его голодным во всех городах и селениях, где хранится наше зерно. Пусть твои слуги, распределяя этот хлеб, не берут за него никакой платы, но говорят: «Это хлеб Атона; берите и ешьте его во имя Атона и славьте фараона и его бога».
Услышав это, Капта разорвал на себе одежду, благо это была всего лишь одежда раба, и воскликнул с горечью:
— Господин, это разорит тебя, и из чего же я тогда буду извлекать выгоду? Ты заразился безумием от фараона: стал на голову и ходишь задом наперед. Горе мне, бедному и несчастному, что я дожил до этого дня! Даже скарабей не поможет нам и никто не благословит тебя за хлеб. Больше того, этот проклятый Хоремхеб присылает наглые ответы на мои запросы, предлагая мне самому приехать и привезти золото, которое я одолжил ему от твоего имени. Он хуже грабителя, этот твой друг, ибо грабитель отнимает лишь то, что отнимает, а Хоремхеб обещает проценты за то, что берет взаймы, завлекает своих кредиторов несбыточными надеждами, и в конце концов от досады у них лопается печенка. Судя по твоим глазам, ты говоришь серьезно, и мои причитания бесполезны, я должен подчиниться твоей воле, хотя это и сделает тебя нищим.
Мы ушли, а Капта продолжал подольщаться к рабам и торговался о цене священных сосудов и другой утвари, украденной грузчиками в храмах. Все честные люди попрятались в своих домах и заперли двери; улицы опустели, а некоторые храмы, где укрылись жрецы, были подожжены и все еще горели. Мы входили в разграбленные храмы, чтобы уничтожить имена богов, и там встречали других приверженцев фараона, занимающихся тем же делом. Мы так сильно размахивали топорами и молотами, что из-под них летели искры. С каждым днем наше усердие возрастало, и мы трудились изо всех сил, дабы не видеть того, что происходит вокруг.
Люди страдали от холода и нужды, а рабы и грузчики, празднуя свою свободу, собирались в банды и вламывались в дома богатых людей, чтобы поделить их хлеб, масло и добро между бедняками. Капта нанял людей молоть зерно, но они отбирали хлеб у его слуг, приговаривая:
— Этот хлеб украден у бедняков, и будет справедливо, если он будет поделен между нами.
Никто не восхвалял мое имя, хотя за один месяц я стал нищим.
Так миновали в Фивах сорок дней и сорок ночей, а беспорядки непрерывно нарастали. Люди, которые еще недавно взвешивали золото, просили на улицах милостыню, а их жены продавали драгоценности рабам, чтобы купить хлеб своим детям. К концу этого времени Капта прокрался в темноте в мой дом и сказал:
— Господин, тебе пора бежать. Царство Атона скоро падет, и я уверен, что ни один честный человек не пожалеет об этом. Восстановятся закон и порядок, но сперва придется накормить крокодилов, и более обильно, чем когда-либо прежде, ибо жрецы собираются очистить Египет от дурной крови.
Я спросил его, откуда он об этом узнал, и он простодушно ответил:
— Разве я не был всегда верным «рогом» и не поклонялся тайно Амону? Я щедро давал в долг его жрецам, ибо они платили хорошие проценты и закладывали его земли за золото. Эйе договорился с жрецами о том, что ему сохранят жизнь, так что теперь стражники на стороне жрецов. Правители Египта опять связали свою судьбу с Амоном; жрецы призвали негров из земли Куш, а шарданы, которые раньше грабили сельские местности, теперь у них на жалованье. Конечно, Синухе, мельницы скоро начнут крутиться, но хлеб, который будет выпечен из этой муки, будет хлебом Амона, а не Атона. Боги возвращаются, возвращается и старый порядок, и все будет, как прежде, хвала Амону! Ибо я уже устал от всех этих передряг, хотя и разбогател от этого.
Меня глубоко взволновали его слова, и я сказал:
— Фараон Эхнатон никогда не согласится с этим.
Капта хитро улыбнулся, потер свой слепой глаз указательным пальцем и возразил:
— Его никто не спросит! Город Ахетатон уже обречен, и все, кто там останется, погибнут. Если мятежники захватят власть, они перекроют все дороги в ту сторону, так что его жители умрут голодной смертью. Они требуют, чтобы фараон вернулся в Фивы и пал ниц пред Амоном.
Тут мои мысли прояснились, и я увидел перед собой лицо фараона и его глаза, в которых отражалось разочарование более горькое, чем сама смерть.
Я сказал:
— Капта, это беззаконие никогда не должно свершиться! Мы с тобой прошли вместе много дорог, ты и я. Давай пройдем вместе и этот путь до конца. Хотя я сейчас беден, ты все еще богат. Купи оружие; купи копья и стрелы, купи все дубинки, которые тебе попадутся. На свое золото найми на службу стражников. Раздай оружие рабам и грузчикам в портах. Я не знаю, что из этого получится, Капта, но мир никогда еще не видел такой возможности всеобщего обновления. Когда землю и богатство всех сословий разделят, когда в домах богатых поселятся бедные, а в их садах будут играть дети рабов, тогда люди обязательно станут миролюбивыми. Тогда каждый сам пойдет своим путем, найдет себе дело по душе и все станет гораздо лучше, чем прежде.
Но Капта задрожал и произнес:
— Господин, в мои преклонные года у меня нет никакого желания работать руками. Знатных людей уже заставили крутить мельничные жернова, а их жен и дочерей обслуживать рабов и грузчиков в увеселительных заведениях. Во всем этом нет ничего хорошего, одно только зло. Синухе, господин мой, не требуй, чтобы я вступил на этот путь. Думая об этом, я вспоминаю обитель мрака, куда однажды вошел вместе с тобой. Я поклялся никогда больше не говорить об этом, но теперь должен сказать. Господин, ты решил еще раз войти в обитель мрака, не ведая о том, что тебя ждет, а ведь это может оказаться сгнившим чудовищем или ужасной смертью. Судя по тому, что мы видели, можно предположить, что бог фараона Эхнатона так же ужасен, как бог Крита, так что он заставляет лучших и самых одаренных людей Египта танцевать перед быками и заводит их в обитель мрака, откуда нет возврата. Нет, господин! Я не пойду за тобой во второй раз в лабиринт Минотавра.
Он не плакат и не протестовал, как прежде, но говорил со мной торжественно, убеждая меня отказаться от моего намерения. Наконец он сказал:
— Если ты не жалеешь ни себя, ни меня, подумай по крайней мере о Мерит и маленьком Тоте, которые любят тебя. Забери их отсюда и спрячь в надежном месте. Если мельницы Амона начнут вращаться, всем будет угрожать опасность.
Но горячность ослепила меня, и его предупреждения казались мне дурацкими. Я твердо ответил ему:
— Кто станет преследовать женщину и ребенка? В моем доме они в полной безопасности. Атон побеждает и должен победить, иначе просто не стоит жить. У людей есть разум, и они знают, что фараон желает им добра. Возможно ли, чтобы они захотели вернуться в кошмар тьмы и страха? Обитель мрака, о которой ты говоришь, это храм Амона, а не Атона. Нужно гораздо больше, чем несколько купленных стражников и перепуганных придворных, чтобы низвергнуть его, если за ним стоит весь народ.
Капта ответил:
— Я сказал то, что должен был сказать, и не буду повторяться. Я горю желанием открыть тебе маленький секрет, но не смею, поскольку он не мой, а может, он и не подействует на тебя, раз ты так ослеплен сейчас. Только не вини меня, господин, если потом будешь в отчаянии биться головой о камни. Не вини меня, если чудовище сожрет тебя. Все равно я бывший раб, и у меня нет детей, чтобы оплакать мою смерть. Поэтому, господин, я пойду за тобой по этой неизведанной дороге, хотя и знаю, что это бесполезно. Войдем в эту обитель мрака вместе, господин, как и прежде. Если позволишь, я и в этот раз тоже возьму с собой кувшин вина.
С этого самого дня Капта запил и пил каждый день с утра до вечера. Однако даже в запое он выполнял мои распоряжения и раздавал оружие в порту; тайно собирая стражников в «Хвосте крокодила», он подкупал их, чтобы они приняли сторону бедных, а не богатых.
В Фивах с приходом царства Атона на землю воцарились голод и беспорядки, и люди были так охвачены бредом, что стали пьяны без вина. Не было больше никакой разницы между теми, кто носил крест, и теми, кто его не носил, ценились же только оружие, крепкий кулак и громкий голос. Если кто-нибудь на улице видел в руках у другого булку, он отбирал ее, говоря:
— Отдай мне эту булку, разве не все мы братья пред лицом Атона?
Встречая же кого-то хорошо одетого, говорили:
— Отдай мне свою одежду, ведь все мы братья пред лицом Атона, и ни один человек не должен быть одет лучше, чем его брат.
Когда кто-то замечал на шее или на одежде человека рог, того, кто носил его, отправляли крутить мельничные жернова или сносить сгоревшие дома, если его не избивали до смерти и не бросали крокодилам, которые лежали в ожидании возле пристаней. Воцарилось безвластие, и насилие множилось день ото дня.
Прошло два месяца. Ровно столько и простояло царство Атона на земле до своего падения. Ибо черные солдаты, приплывшие из земли Куш, и шарданы, нанятые жрецом Эйе, окружили город, так что никто не мог ускользнуть. Сторонники «рогов» собирались в каждом квартале, и жрецы раздавали им оружие из подвалов Амона. Те, у кого не было оружия, обжигали концы своих палок в огне, заливали дубинки медью и украшали наконечники стрел изображениями своих женщин.
«Рога» вновь сплотились, а с ними и те, кто желал добра Египту. Спокойные, терпеливые и миролюбивые люди тоже говорили:
— Мы хотим, чтобы вернулись старые порядки, ибо уже объелись новыми, и Атон достаточно нас ограбил.
4
Но я, Синухе, говорил людям:
— Вполне возможно, что в эти дни неправые попрали правых и вместо виновных пострадало много невинных людей. Однако Амон все еще бог ужаса и тьмы, и он правит людьми благодаря их глупости. Атон — единственный бог, он живет в нас и вне нас, и других богов нет. Сражайтесь за Атона, бедняки и рабы, носильщики и слуги, ведь вам нечего больше терять, если же победит Амон, вас ждет рабство и смерть. Сражайтесь за фараона Эхнатона, ведь подобного ему никогда еще не видели на земле, и его устами говорит бог. Никогда еще не было такой возможности обновить мир, и она никогда не повторится.
Но рабы и грузчики громко смеялись и говорили:
— Не болтай об Атоне, Синухе, ибо все боги одинаковы и все фараоны тоже. Но ты хороший человек, Синухе, хотя и слишком простодушный. Ты перевязывал наши израненные руки и излечивал наши поломанные ноги, не требуя подарков. Брось свою дубинку, поскольку ты никогда не замахнешься ею. Ты никогда не станешь воином, и «рога» убьют тебя, увидев дубинку в твоих руках. Не беда, если мы умрем, ведь мы уже обагрили руки кровью и хорошо пожили, отдыхая под роскошными балдахинами и попивая из золотых кубков. Наш праздник уже кончается, и мы решили умереть с оружием в руках. Изведав свободы и богатой жизни, мы поняли, что рабство нам больше не по вкусу.
Их слова смутили меня. Я бросил свою дубинку и пошел домой за своим медицинским ящиком. Ибо три дня и три ночи в Фивах шли бои; многие сменили крест на рог, но еще больше было тех, кто бросил оружие, спрятался в домах и винных погребах, в амбарах и в пустых корзинах в порту. Однако рабы и портовые грузчики сражались отважно. Они бились три дня и три ночи; они поджигали дома и по ночам сражались при свете пламени. Негры и шарданы тоже поджигали дома, грабили и избивали каждого встречного, с крестом ли он был или с рогом. Ими командовал тот самый Пепитатон, который устроил резню на улице Рамс, но теперь его уже опять звали Пепитамон. Он был назначен Эйе из-за своего высокого положения, а также потому, что считался самым образованным из командиров фараона.
Я перевязывал раны рабов и лечил их проломленные головы в «Хвосте крокодила», Мерит рвала одежду, мою, свою и Капта, на бинты для них, а маленький Тот разносил вино тем, кому нужно было унять боль. В последний день сражение сосредоточилось в порту и в бедных кварталах, где искушенные в военном деле негры и шарданы косили людей, как колосья, так что кровь текла по узким улицам и через набережную в реку. Смерть никогда не собирала такую обильную жатву на земле Кем, как в этот день.
Когда сражение было еще в полном разгаре, предводители рабов явились в «Хвост крокодила», чтобы подкрепиться вином. Они уже были пьяны от крови и пыла битвы. Хлопая меня по плечу своими твердыми кулаками, они говорили:
— Мы приготовили для тебя удобную корзину в порту, где ты можешь спрятаться, Синухе, ибо ты наверняка не хочешь висеть рядом с нами вниз головой на стене сегодня вечером! Разве тебе еще не время прятаться, Синухе? Бесполезно перевязывать раны, которые тут же откроются снова.
Но я сказал им:
— Я царский врач, и никто не посмеет поднять на меня руку.
Совсем пьяные, они только расхохотались и вернулись в бой.
Наконец ко мне подошел Капта и сказал:
— Твой дом горит, Синухе, и «рога» закололи Мути, потому что она бросилась на них со скалкой. Теперь тебе пора облачиться в твои лучшие одежды и надеть все регалии. Оставь этих раненых рабов и грабителей и иди за мной в заднюю комнату, где мы приготовимся встретить жрецов и командиров.
Мерит обвила мою шею руками и стала умолять меня:
— Спасайся, Синухе, если не ради себя самого, то ради меня и маленького Тота.
Однако горе, недосыпание, близость смерти и шум сражения до того ошеломили меня, что в полном смятении я ответил:
— Зачем мне заботиться о моем доме, о себе, о тебе, о Тоте? Кровь, которая льется здесь, это кровь моих братьев пред лицом Атона, и, если царство Атона падет, я не хочу больше жить!
Почему я говорил так неистово, не знаю; это исходило не от меня и не от моего трепещущего сердца.
Не знаю и того, было ли у меня время для побега, ибо тотчас после этого негры и шарданы распахнули дверь таверны и ворвались туда во главе с жрецом, чья голова была гладко выбрита, а лицо лоснилось от священного масла. Они начали добивать раненых. Жрец выкалывал им глаза священным рогом, а разрисованные полосами негры топтали их так, что кровь хлестала фонтаном из их ран.
Жрец завопил:
— Это логово Атона! Давайте очистим его огнем!
У меня на глазах они ударили по голове маленького Тота и и пронзили копьем Мерит, которая пыталась защитить его. Я не мог помешать этому, потому что жрец стукнул меня рогом по голове и крик замер у меня в горле. Больше я ничего не помню.
Я пришел в себя в проулке, рядом с «Хвостом крокодила», и сначала не мог понять, где нахожусь, сплю или уже умер. Жрец исчез, а солдаты бросили свои копья и пили вино Капта, который сидел перед ними. Командиры пытались плетями заставить их продолжать сражение. «Хвост крокодила», обшитый деревом, пылал, как сухие водоросли на берегу. Тогда я все вспомнил и хотел встать, но силы оставили меня. Я пополз на четвереньках к горящей двери и в огонь, чтобы отыскать Мерит и Тота. Мои волосы были опалены, и на мне загорелась одежда, но Капта бросился ко мне, плача и причитая. Он вытащил меня из пламени и катал в пыли до тех пор, пока не погасил горящую на мне одежду.
Солдаты громко смеялись над представлением, и Капта сказал им:
— Он и вправду немного тронулся, ведь жрец стукнул его по голове своим рогом, за что наверняка будет наказан должным образом. Это врач фараона, и тому, кто поднимет на него руку, не поздоровится. Он жрец первой ступени, хотя ему пришлось надеть рваную одежду и спрятать регалии, чтобы избежать мести разъяренных людей.
А я сидел в уличной пыли, охватив голову обгоревшими руками. Слезы струились из моих обожженных глаз, и я стонал и плакал:
— Мерит! Мерит! Моя Мерит!
Капта сердито толкнул меня локтем:
— Замолчи сейчас же, дурачина! Разве мало бед ты навлек на нас своей глупостью?
Когда я успокоился, он приблизил ко мне свое лицо и сказал с горечью:
— Может, это вернет тебе разум, господин, ибо теперь ты, конечно, получил все сполна и даже больше, чем думаешь. Хотя сейчас уже слишком поздно, я скажу тебе, что Тот был твоим сыном и он был зачат, когда ты впервые лег с Мерит. Я говорю это тебе, чтобы ты наконец подумал о самом себе. Она не говорила тебе об этом, потому что была горда и одинока, а еще потому, что ты бросил ее ради фараона и Ахетатона. Он был твоей крови, этот маленький Тот, и если бы ты был в здравом уме, то узнал бы свои глаза в его глазах, узнал бы очертания рта. Я отдал бы свою жизнь, чтобы спасти его, но мне помешало твое безумие, а Мерит не хотела тебя покинуть. Из-за твоего безумия они мертвы. Надеюсь, теперь к тебе вернется разум, господин.
Я смотрел на него как громом пораженный.
— Это правда?
Но мне не нужен был ответ. Я сидел в уличной пыли с сухими глазами, не чувствуя боли от ран. Все во мне застыло и сжалось, а душа моя съежилась так, что мне уже не было дела ни до чего.
«Хвост крокодила» был объят пламенем, и в нем сгорало маленькое тельце Тота и прекрасное тело Мерит. Их тела горели вместе с телами убитых рабов, и я не мог даже сохранить их для вечной жизни. Тот был моим сыном, и если правда то, во что я верю, в его жилах, как и в моих, текла священная кровь фараонов. Если бы я знал об этом, все было бы по-другому, ибо мужчина может сделать для своего сына то, чего никогда не сделает для себя самого. Но теперь было слишком поздно. Я сидел в уличной пыли, окутанный дымом; на меня сыпались искры, а пламя, пожирающее их тела, обжигало мне лицо.
Капта доставил меня к Эйе и Пепитамону, ибо сражение кончилось. Бедные кварталы были все еще в огне, но они вершили суд, сидя на золотых тронах на каменной набережной, тогда как солдаты и «рога» приводили к ним на суд пленников. Каждого, кто был схвачен с оружием в руках, вешали на стене головой вниз, а тех, кто был пойман с украденным добром, швыряли в реку на корм крокодилам. Каждого, у кого на шее был виден крест Атона, пороли и отправляли на принудительные работы. Женщин отдавали на потеху солдатам, а детей — под покровительство Амона, чтобы их воспитывали в храмах. Так что смерть свирепствовала на набережной Фив, и Эйе не проявлял милосердия, ибо хотел завоевать расположение жрецов.
Он говорил:
— Я очищаю землю Египта от дурной крови!
Пепитамон был особенно зол, потому что рабы разграбили его дом и открыли все кошачьи клетки. Они унесли молоко и сметану, оставленные кошкам, к себе домой, своим детям, так что животные голодали и дичали. Он тоже не знал жалости, и за два дня стены города были заполнены телами людей, повешенных за пятки.
На радостях жрецы вновь водрузили изображение Амона в его храме и принесли ему большие жертвы.
Эйе назначил Пепитамона правителем Фив и поспешил в Ахетатон, чтобы принудить Эхнатона отречься от престола. Он сказал мне:
— Поедем со мной, Синухе, чтобы заставить фараона выполнить мою волю, мне может понадобиться помощь врача.
И я ответил:
— Конечно, я поеду, Эйе, ибо хочу, чтобы моя радость была полной.
Но он не понял того, что я имел в виду.
5
Так я вернулся в Ахетатон вместе с Эйе. У себя в Танисе Хоремхеб тоже услышал об этих событиях, быстро снарядил военные корабли и поспешил вверх по реке в Ахетатон. В городах и селениях, мимо которых они плыли, все было тихо; храмы вновь открыли и изображения богов восстановили в положенных местах. Он торопился, чтобы прибыть в Ахетатон одновременно с Эйе и вступить с ним в борьбу за власть. Поэтому он простил всех рабов, которые сложили оружие, и не наказал никого, кто добровольно согласился сменить крест Атона на рог Амона. Народ славил его за милосердие, хотя шло оно не от сердца, а от желания сохранить для войны годных людей.
Ахетатон был проклятым местом. Жрецы и «рога» охраняли все ведущие к нему дороги и убивали каждого, кто бежал из города, если он отказывался принести жертву Амону. Они также перегородили реку медными цепями, чтобы никто не мог ускользнуть этим путем. Я не узнал города, когда увидел его снова, ибо на улицах царила мертвая тишина, цветы в парках завяли, зеленая трава пожухла, потому что сады никто не поливал. Птицы не пели на иссохших от солнца деревьях, и над всем городом висел отвратительный запах смерти. Знатные семьи покинули свои дома, а их слуги разбежались первыми, бросив все, так как никто не смел ничего унести с собой из проклятого города. Собаки погибали в своих конурах, а лошади голодали в стойлах, ибо сбежавшие конюхи подрезали им сухожилия там, где они стояли. Когда я приехал, прекрасный Ахетатон был уже мертвым городом и издавал запах тления.
Но фараон Эхнатон и его семья оставались в золотом дворце. Самые верные из слуг, а также старшие придворные, которые не представляли себе жизни без фараона, оставались с ним. Они ничего не знали о том, что произошло в Фивах, потому что за последний месяц ни один гонец не прибыл в Ахетатон. Запасы провизии были на исходе, и по велению фараона ели лишь черствый хлеб и похлебку бедняков. Наиболее предприимчивые удили рыбу в реке или убивали птиц, бросая в них палки, но делалось это тайком.
Жрец Эйе сначала отправил меня к фараону рассказать ему о том, что случилось, ибо я был его доверенным лицом. Я пошел, но все во мне застыло. Я не чувствовал ни радости, ни печали, и мое сердце было закрыто даже для Эхнатона. Он поднял свое посеревшее изможденное лицо с остановившимся взглядом и спросил:
— Синухе, ты вернулся один? Где все те, которые были мне верны? Где те, кто любил меня и кого я любил?
Я ответил ему:
— В Египте опять правят старые боги, и в Фивах жрецы приносят жертвы Амону перед ликующей толпой. Они прокляли тебя, фараон Эхнатон, и твой город. Они прокляли твое имя на веки вечные и уже стирают его со всех надписей.
Он нетерпеливо двинул рукой, и лицо его опять исказилось страданием, когда он упрямо повторил:
— Я не спрашиваю тебя, что случилось в Фивах. Но где же те, кто мне верен, и все, кого я любил?
Я ответил:
— С тобой все еще твоя прекрасная супруга Нефертити. Твои дети тоже с тобой. Молодой Секенре ловит рыбу в реке, а Тут, как обычно, играет в похороны со своими куклами. Что тебе до других?
Но он настаивал:
— Где мой друг Тутмес, которого я любил, ведь он был и твоим другом? Где этот художник, чья рука наделяла вечной жизнью самые камни?
— Он погиб за тебя, фараон Эхнатон, — ответил я. — Негры проткнули его копьем и бросили его тело в реку на съедение крокодилам, ибо он был верен тебе. Он отвернулся от тебя, но не думай об этом сейчас, когда шакалы воют в его пустой мастерской.
Фараон Эхнатон провел рукой так, словно снимал паутину со своего лица, потом перечислил имена тех, кого он любил. О некоторых я говорил:
— Он погиб за тебя, фараон Эхнатон.
Наконец я сказал:
— Власть Атона рухнула. Нет больше царства Атона на земле, и Амон опять правит миром.
Он посмотрел прямо перед собой и, беспомощно шевеля бескровными руками, произнес:
— Да-да, знаю. Мои видения рассказали мне все об этом. Вечное царство нельзя создать в земных пределах. Все вернется на круги своя, и миром будут править страх, ненависть и несправедливость. Лучше бы мне умереть, а еще лучше никогда не родиться и не видеть того зла, что творится на земле.
Его ослепление так возмутило меня, что я горячо возразил:
— Ты не видел еще и малой доли тех бед, которые разразились из-за тебя, фараон Эхнатон! Ты не видел, как кровь твоего сына течет по твоим рукам, и твое сердце не леденело от предсмертного крика твоей возлюбленной. Поэтому ты говоришь пустое, фараон Эхнатон.
Он сказал устало:
— Тогда уйди от меня, Синухе, раз я и есть зло. Уйди от меня и не страдай больше по моей вине. Уйди от меня, потому что я устал от твоего лица, я устал от лиц всех людей, ибо за ними я вижу звериные морды.
Но я опустился перед ним на пол и сказал:
— Этого не будет, фараон; я не уйду от тебя, потому что мне воздастся полной мерой. Жрец Эйе уже идет сюда, а у северной границы твоего города трубят рога Хоремхеба, и медные цепи, перегородившие реку, уже разорваны, чтобы он мог приплыть к тебе.
Он слегка улыбнулся, протянул вперед руки и сказал:
— Эйе и Хоремхеб, преступление и насилие — вот единственные мои приверженцы теперь!
Потом мы ничего уже не говорили, а только слушали тихое журчание воды в водяных часах, пока в приемный зал фараона не вошли жрец Эйе и Хоремхеб. Они бурно спорили друг с другом, и их лица были темны от гнева. Они тяжело дышали и говорили одновременно, не обращая внимания на фараона.
Эйе сказал:
— Фараон Эхнатон, если хочешь сохранить свою жизнь, отрекись от трона. Пусть Секенре правит вместо тебя. Пусть он вернется в Фивы и принесет жертву Амону, а жрецы помажут его на царство и возложат красную и белую короны на его голову.
Но Хоремхеб сказал:
— Если ты сам вернешься в Фивы и принесешь жертву Амону, мое копье сохранит короны для тебя, фараон Эхнатон. Жрецы поворчат немного, но я успокою их моей плетью, и они забудут о своем ропоте, когда ты объявишь священную войну, чтобы Египет мог опять покорить Сирию.
Фараон Эхнатон наблюдал за ними с безжизненной улыбкой.
— Я буду жить и умру как фараон, — сказал он. — Я никогда не подчинюсь ложному богу, никогда не объявлю войну и не пролью кровь ради своей власти. Фараон сказал.
С этим он закрыл лицо краем одежды и ушел, оставив нас втроем в огромной комнате, источающей запах смерти.
Эйе беспомощно развел руками и посмотрел на Хоремхеба. Хоремхеб сделал то же самое и посмотрел на Эйе. Я сел на пол, потому что ноги уже не держали меня, и посмотрел на них обоих. Вдруг Эйе хитро улыбнулся и сказал:
— Хоремхеб, в твоих руках копье, а потому трон твой. Возложи себе на голову обе короны, о которых ты мечтаешь!
Но Хоремхеб насмешливо захохотал и сказал:
— Я не такой дурак. Возьми себе эти грязные короны, если они тебе нужны. Ты прекрасно знаешь, что мы не можем вернуться к прежним временам, ибо Египту угрожают война и голод. Если я приму короны сейчас, народ обвинит меня во всех бедах, которые последуют, и тебе будет очень легко меня свергнуть, когда придет время.
Эйе ответил:
— Тогда Секенре, если он согласится вернуться в Фивы. Если не он, значит Тут; он, конечно, согласится. В их супругах течет священная кровь. Пусть на их головы падет ненависть народа, пока времена не улучшатся.
— А пока что ты будешь править, прикрываясь ими! — воскликнул Хоремхеб.
Но Эйе возразил:
— Ты забыл, что располагаешь армией и должен отразить хеттов. Если тебе это удастся, на земле Кем не будет человека более могущественного, чем ты.
Так они спорили, пока не убедились, что связаны друг с другом и не могут прийти к соглашению, не договорившись.
Наконец Эйе сказал:
— Готов признать, я сделал все, чтобы уничтожить тебя, Хоремхеб. Но сейчас сила на твоей стороне. Ты — Сын Сокола, и я больше не могу без тебя обойтись. Если хетты вторгнутся в нашу страну, власть не обрадует меня. Я также не думаю, что какой-нибудь Пепитамон смог бы вести против них войну, хотя он и годится для того, чтобы проливать кровь и казнить. Давай сегодня же заключим союз. Вместе мы сможем управлять страной, но разобщение погубит нас. Без меня твоя армия бессильна, а без твоей армии рухнет Египет. Давай поклянемся всеми богами Египта, что отныне будем держаться вместе. Я уже старик, Хоремхеб, и хочу вкусить сладость власти, а ты молод, и у тебя вся жизнь впереди.
— Мне нужны не короны, а хорошая война для моих головорезов, — сказал Хоремхеб. — Однако я должен получить от тебя гарантии, Эйе, иначе ты предашь меня при первой возможности. И не спорь со мной, я знаю тебя!
— Каких гарантий ты хочешь, Хоремхеб? Разве армия — не единственная надежная гарантия?
Лицо Хоремхеба помрачнело; он разглядывал стены в нерешительности и царапал сандалией камни пола, словно хотел закопать свои пальцы в песок. Наконец он сказал:
— Я возьму в жены принцессу Бакетатон. Я обязательно разобью с ней кувшин, даже если небо свалится на землю, и ты не сможешь помешать мне в этом.
Эйе воскликнул:
— А-а, теперь я вижу, чего ты добиваешься. Ты хитрее, чем я думал, и заслуживаешь моего уважения. Она уже вернула себе прежнее имя Бакетамон, и жрецы ничего не имеют против нее. В ее жилах течет священная кровь великого фараона. Женившись на ней, ты получишь законное право на корону — большее, чем мужья дочерей Эхнатона, ибо в них лишь кровь лжефараона. Ты это очень ловко придумал, Хоремхеб, но я не могу этого одобрить, по крайней мере сейчас, ибо тогда я буду полностью у тебя в руках и утрачу власть над тобой.
Но Хоремхеб закричал:
— Возьми себе свои грязные короны, Эйе! Для меня она дороже корон, и я пожелал ее в тот миг, когда увидел ее красоту в золотом дворце. Я желаю соединить мою кровь с кровью великого фараона, чтобы будущие цари Египта были моими потомками. Тебе нужны только короны, Эйе. Возьми же их, когда сочтешь, что время пришло, а мое копье поддержит твой трон. Отдай мне принцессу, и я не буду царствовать, пока ты жив, даже если ты проживешь долго, ибо, как ты сказал, у меня вся жизнь впереди и есть время ждать.
Эйе задумчиво вытер рот рукой. Пока он думал, его лицо просветлело, так как он понял, что, имея приманку, он сможет направить Хоремхеба по тому пути, который больше всего его устраивает. Сидя на полу и слушая их разговор, я дивился человеческой душе, которая позволяла этим двоим распоряжаться коронами при фараоне Эхнатоне, ведь он был жив и дышал в соседних покоях.
Наконец Эйе сказал:
— Ты долго ждал свою принцессу и вполне можешь подождать еще немного, поскольку должен сначала выиграть ужасную войну. Чтобы добиться согласия принцессы, нужно время; она смотрит на тебя с великим презрением, ибо ты родился в коровьем дерьме. Но я и только я способен расположить ее к тебе, и клянусь тебе, Хоремхеб, всеми богами Египта, что в тот день, когда я возложу на свою голову белую и красную короны, я своей собственной рукой разобью кувшин между тобой и принцессой. Большего я не могу для тебя сделать, и даже в этом случае я отдаю себя в твои руки.
У Хоремхеба не хватило терпения продолжать торг, и он сказал:
— Да будет так! Пусть эта бессмыслица обретет счастливый конец. Не думаю, что ты станешь особенно увиливать, раз так горячо желаешь получить эти короны, эти игрушки!
Возбужденный, он совершенно забыл обо мне, но, заметив меня, смущенно сказал:
— Синухе, ты все еще здесь? Ты слышал то, что не предназначено для ушей недостойного, и боюсь, мне придется убить тебя, хотя я не хотел бы этого, ведь ты мой друг.
Его слова рассмешили меня, ибо я понял, сколь недостойны эти два человека, только что делившие между собой корону, тогда как я, сидевший при этом на полу, возможно, был достойнее всех, ведь я единственный мужчина из потомков фараона и в моих жилах течет его священная кровь. Я не мог удержаться от смеха и, зажав рот рукой, хихикал, как старуха.
Эйе очень разозлился и сказал:
— Не подобает тебе смеяться, Синухе, ибо мы обсуждаем важные дела. Однако мы не убьем тебя, хотя ты этого заслуживаешь. Хорошо, что ты слышал, о чем мы говорили. Ты наш свидетель. Ты никогда не сможешь рассказать о том, что слышал здесь сегодня, ибо ты нужен нам и мы свяжем тебя с нами. Ты очень хорошо понимаешь, что фараону самое время умереть. Как его врач ты сегодня же вскроешь ему череп и проследишь за тем, чтобы твой нож вошел достаточно глубоко и фараон смог уйти достойно, как требует того обычай.
Хоремхеб согласился с ним:
— Я не хочу ввязываться в это дело, ибо и так достаточно запачкался, вступив в сговор с Эйе. И все же то, что он сказал, правда. Чтобы Египет был спасен, фараон должен умереть; иного выхода нет.
Я опять захихикал, но, взяв себя в руки, сказал:
— Как врач я не могу вскрыть ему череп, поскольку для этого нет необходимых показаний, а я связан законами моей профессии. Но не беспокойтесь. Как его друг я приготовлю для него хорошее лекарство. Выпив его, он уснет, чтобы никогда не проснуться. Этим я свяжу себя с вами так, что вам никогда не придется бояться моего предательства.
Я принес четвертую из тех пяти бутылок, которые мне когда-то подарил Хрихор, и смешал ее содержимое с вином в золотой чаше. Смесь не имела неприятного запаха. Я взял чашу в руки, и мы все трое вошли в комнату фараона. Он снял с головы свои короны и, отложив в сторону плеть и жезл, отдыхал на ложе с посеревшим лицом и налитыми кровью глазами.
Эйе подошел к нему и, взяв в руки его короны и плеть, прикинул их на вес и сказал:
— Фараон Эхнатон, твой друг Синухе приготовил для тебя хорошее питье. Выпей, это укрепит твои силы, а завтра мы опять поговорим о неприятных вещах.
Фараон сел на своем ложе, взял в руки чашу и посмотрел на каждого из нас поочередно; его усталый взгляд пронзил меня и заставил вздрогнуть. Он сказал:
— Человек оказывает милосердие больному зверю ударом дубинки. Есть ли у тебя милосердие для меня, Синухе? Если есть, я благодарю тебя, ибо мое разочарование для меня горше смерти, а смерть сегодня слаще, чем аромат мирры.
— Выпей, фараон Эхнатон, — сказал я. — Выпей во имя Атона.
Хоремхеб добавил:
— Пей, Эхнатон, друг мой. Выпей, чтобы спасти Египет. Я прикрою твои слабые плечи своим плащом, как я уже сделал это однажды в пустыне под Фивами.
Фараон Эхнатон пил из чаши, но рука его дрожала так, что вино выплеснулось ему на подбородок. Тогда он схватил чашу обеими руками и выпил ее до дна. Потом откинулся назад и оперся шеей на деревянную подставку. Он не сказал ни слова и смотрел тусклыми невидящими глазами, погружаясь в свои видения. Через некоторое время он начал дрожать, словно от холода. Хоремхеб снял свой плащ и накрыл им фараона, а Эйе взял короны обеими руками и примерил их.
Так умер фараон Эхнатон. Я дал ему чашу смерти, и он принял ее из моих рук. Все же не знаю, почему я сделал это, ведь человеку не дано познать своего сердца. Думаю, я сделал это не столько для спасения Египта, сколько из-за Мерит и моего сына Тота. Я сделал это не из любви к Эхнатону, а из ненависти и нетерпимости к тому злу, которое он посеял. Но, помимо всего прочего, я сделал это и потому, что звезды предрекли мне испить все полной мерой. Увидев его мертвым, я понял, что моя мера уже полна, но ведь человек не знает своего сердца, которое ненасытно, более ненасытно, чем крокодил в реке.
Когда мы увидели, что он умер, мы покинули золотой дворец, запретив слугам беспокоить фараона, так как он спит. Только на следующее утро они нашли его тело и начали горько плакать. Золотой дворец наполнился рыданиями, хотя думаю, что многие довольно легко восприняли его смерть. Царица Нефертити стояла у его одра с сухими глазами, но на ее лице было такое выражение, которого никто не мог бы истолковать. Она касалась тонких пальцев фараона Эхнатона своими прекрасными руками и гладила его щеки, когда я вошел, чтобы сопровождать его в Обитель Смерти, как того требовали мои обязанности. Там я передал его мойщикам трупов и бальзамировщикам, чтобы они подготовили его к вечной жизни.
По закону и обычаям фараоном должен был стать юный Секенре, но он был вне себя от горя, озирался вокруг и не мог произнести ни одного разумного слова, так как привык заимствовать все свои мысли у фараона Эхнатона. Эйе и Хоремхеб сказали ему, что он должен поспешить в Фивы, чтобы принести жертву Амону, если он хочет удержать корону в своих руках. Но он им не поверил, так как был ребячлив и грезил наяву.
Он сказал:
— Я открою всем людям свет Атона, и построю храм моего отца Эхнатона, и провозглашу его богом, потому что он не был похож на других людей.
Увидев, как он глуп, Эйе и Хоремхеб покинули его. На следующий день, когда Секенре пошел ловить рыбу, случилось так, что его тростниковая лодка перевернулась и его тело пожрали крокодилы. Так рассказывали, но как это произошло на самом деле, не знаю. Думаю, не Хоремхеб повелел убить его, а скорее всего Эйе, который спешил вернуться в Фивы и взять в руки бразды правления.
Он и Хоремхеб отправились затем к юному Туту, который, как обычно, играл на полу своей комнаты в похороны, и его супруга Анксенатон играла вместе с ним.
Хоремхеб сказал:
— Пойдем, Тут, тебе уже пора встать с этого грязного пола, ибо ты теперь фараон.
Тут послушно поднялся, сел на золотой трон и сказал:
— Я фараон? Это меня не удивляет, так как я всегда чувствовал свое превосходство над другими, а значит, вполне справедливо, что я стану фараоном. Моей плетью я буду наказывать всех преступников, а моим жезлом я буду как пастух охранять всех добрых и благочестивых.
Эйе сказал:
— Перестань болтать чепуху, Тут! Ты будешь делать все, что я тебе скажу, и без возражений. Сначала мы устроим радостный переезд в Фивы, а в Фивах ты склонишься пред Амоном в его великом храме и принесешь ему жертву. Потом жрецы помажут тебя на царство и возложат тебе на голову белую и красную короны. Ты понял?
Тут немного подумал и спросил:
— Если я отправлюсь в Фивы, мне построят большую гробницу, как всем фараонам? Жрецы принесут туда игрушки, золотые стулья и красивое ложе? В Ахетатоне гробницы узкие и темные, а я хочу, чтобы у меня были не только настенные рисунки, но и настоящие игрушки и мой прекрасный голубой нож, который мне подарили хетты.
— Конечно, жрецы построят тебе прекрасную гробницу, — сказал Эйе. — Ты умный мальчик, Тут, раз прежде всего подумал о своей гробнице, став фараоном. Ты даже умнее, чем думаешь. Тутанхатон не совсем подходящее имя, чтобы предстать перед жрецами Амона, поэтому с сегодняшнего дня ты будешь зваться Тутанхамоном.
Тут ничего не возразил на это, только пожелал научиться писать свое новое имя, поскольку не знал, какими иероглифами оно обозначается. Таким образом имя Амона было впервые написано в Ахетатоне. Когда Нефертити узнала, что Тутанхамону предстоит стать фараоном, а ее самую обошли, она надела свое самое любимое платье, умастила тело, смазала волосы лучшими мазями, несмотря на свое вдовство, и отправилась к Хоремхебу на его корабль.
Она сказала ему:
— Нелепо делать фараоном незрелого мальчика! Этот негодяй, мой отец Эйе, отобрал его у меня и правит Египтом от его имени, хотя я супруга фараона и мать. Более того, люди смотрели на меня с вожделением и называли меня красавицей; меня называли даже самой красивой женщиной в Египте, пусть это и преувеличение. Взгляни на меня, Хоремхеб, хотя от скорби взор мой померк и голова поникла. В твоих руках копье, и вместе с тобой мы можем принести Египту большую пользу. Я говорю с тобой гак откровенно, потому что думаю только о благе Египта и знаю, что мой отец, этот проклятый Эйе, человек очень жадный и глупый, принесет много вреда этой стране.
Хоремхеб оглядел ее, а Нефертити сбросила одежду, сказав, что в каюте слишком жарко, и явно пытаясь его соблазнить. Она ничего не знала о тайном сговоре Хоремхеба с Эйе и, если даже женским чутьем угадывала какие-то его планы, связанные с Бакетамон, то считала, что может легко занять в его душе место неопытной и надменной принцессы. Но ее красота не произвела на него впечатления.
Холодно глядя на нее, он сказал:
— Меня достаточно изваляли в грязи в этом проклятом городе, и я не желаю больше оскверняться здесь, прекрасная Нефертити. Мне нужно продиктовать письма в связи с военными действиями, и у меня нет времени развлекаться с тобой.
Обо всем этом Хоремхеб рассказал мне позднее, и, хотя он наверняка кое-что приукрасил, в основном это было правдой. С этого дня Нефертити возненавидела Хоремхеба лютой ненавистью и делала все возможное, чтобы навредить ему и очернить его доброе имя. В Фивах она завела дружбу с Бакетамон, из-за чего Хоремхеб очень пострадал, как я расскажу позже. Было бы гораздо благоразумней не оскорблять ее, а проявить к ней доброту. Но Хоремхеб не желал изменить и мертвому фараону. Как ни странно, но он все еще любил Эхнатона, хотя и велел стереть его имя и изображение со всех надписей и разрушить храм Атона в Фивах. В доказательство этого я могу рассказать, как он приказал своим приверженцам тайно перенести тело Эхнатона из гробницы в Ахетатоне в гробницу его матери в Фивах, чтобы оно не попало в руки жрецов. Ибо жрецы собирались сжечь тело Эхнатона и выбросить пепел в реку. Но все эти события произошли гораздо позже.
6
Как только Эйе получил согласие Тутанхамона, он поспешил собрать много кораблей и погрузил на них весь двор. Ахетатон покинули все, кроме бальзамировщиков в Обители Смерти, которые готовили тело Эхнатона к вечной жизни. Последние обитатели города торопились уехать и не оглядывались назад. В золотом дворце вся посуда для еды и питья была брошена на столах, тогда как игрушки Тута валялись на полу, продолжая свою вечную игру в похороны.
Ветры пустыни ворвались во дворец; песок засыпал полы, на которых сверкающие утки летали в вечнозеленых камышах, а разноцветные рыбки плавали в соленой воде. Пустыня возвращалась в сады Ахетатона; пруды, некогда полные рыбы, высыхали, оросительные каналы забивал песок, фруктовые деревья погибали. Глиняные стены рассыпались, крыши рушились и весь город превращался в руины. Шакалы бродили по пустым залам дворца и устраивали себе логовища на мягких постелях и диванах. Город Ахетатон погибал так же быстро, как фараон Эхнатон построил его.
Население Фив бурно радовалось возвращению Амона и восшествию нового фараона. Так уж глупо устроено человеческое сердце, что оно всегда надеется на будущее, не извлекая никаких уроков из ошибок прошлого и воображая, что завтра будет лучше, чем сегодня. Люди вышли на улицу Рамс, приветствуя нового фараона радостными криками и бросая цветы к его ногам.
Однако в порту и в бедных кварталах еще дымились развалины. Он них поднимался едкий дым, а от реки несло зловонием кровавой бойни.
Вдоль карнизов под крышами храмов вороны и грифы вытягивали шеи, слишком объевшиеся, чтобы летать. Там и сям среди развалин и сгоревших домов рылись в поисках своего добра испуганные женщины и дети — в тех местах, где прежде было их жилье. Я ходил к причалам, где все еще стоял смрад разлагающейся крови, глядел на пустые корзины и думал о Мерит и маленьком Тоте, которые погибли из-за Атона и моего безумия.
Ноги привели меня к развалинам «Хвоста крокодила», и я вспомнил, как Мерит некогда сказала мне:
— Может, я только подушка, разделяющая твое одиночество, а может, я твоя изношенная циновка.
Я видел маленького Тота, его щечки и члены были по-детски пухлыми, и он обвивал своими ручками мою шею и прижимался щекой к моей щеке. Едкий дым проникал мне в ноздри, когда я бродил в пыли порта, видя перед собой пронзенное тело Мерит, окровавленный нос маленького Тота и его спутанные волосы, липкие от крови. Я размышлял о том, что смерть фараона Эхнатона была легкой. Я думал также, что нет в мире ничего ужаснее, чем мечты фараонов, ибо семена, которые они сеют, — кровь и смерть.
Ликующие крики толпы доносились до моего слуха, ибо люди приветствовали фараона Тутанхамона, полагая в своем заблуждении, что этот сбитый с толку мальчик, чьи мысли были устремлены лишь к прекрасной гробнице, искоренит несправедливость и вернет мир и процветание земле Кем.
Я шел куда глаза глядят, сознавая, что остался один на белом свете, а моя кровь, текшая в жилах Тота, пролилась бесплодно.
Я больше не лелеял надежду на бессмертие, смерть казалась мне скорее отдыхом, и сном, и теплом очага в зимнюю ночь. Бог Эхнатона лишил меня надежды и радости, и я знал, что все боги обитают в домах мрака, откуда нет возврата. Фараон Эхнатон принял смерть из моих рук, но это не принесло мне утешения. Смерть даровала ему милосердное забвение, я же был жив и все помнил. Мое сердце переполнила горечь, и меня душил гнев на толпу, ревущую теперь перед храмом словно скот, для которого не существует уроков прошлого.
Я добрел до развалин дома медеплавильщика. Завидев меня, дети попрятались, а женщины, которые искали свои горшки и кувшины, закрыли лица. Моему взору открылись грязные стены дома, черные от сажи; бассейн в саду высох, а ветви сикомора были черны и голы. Но среди развалин соорудили навес, под которым я увидел кувшин для воды. Мути вышла мне навстречу, ее седеющие волосы были в земле, она хромала от раны. Преклонив предо мной свои дрожащие колени, она сказала с горькой насмешкой:
— Да будет благословен день, когда мой господин вернулся домой!
Больше она ничего не могла вымолвить. Она говорила сдавленным от злобы голосом. Припав к земле, она закрыла лицо руками. Ее худое тело было сильно изранено мечами и рогами Амона, но раны затянулись, так что мне незачем было обрабатывать их. Я спросил:
— Где Капта?
— Капта мертв, — ответила она. — Говорят, рабы убили его, увидев, что он предал их и подал вино людям Пепитамона.
Но я не поверил ей, зная, что он не мог умереть и, что бы ни случилось, Капта останется жив.
Мое неверие привело ее в ярость, и Мути вскричала:
— Должно быть, тебе легко и приятно смеяться сейчас, Синухе, — сейчас, когда ты видел торжество своего Атона! Все вы, мужчины, таковы. Все зло мира от мужчин, ибо они никогда не взрослеют. Они остаются мальчишками: швыряют друг в друга камнями, дерутся, а величайшая радость для них — приносить горе тем, кто любит их и желает им добра. Разве я не желала тебе всегда добра, Синухе? И как ты отблагодарил меня? Хромая, израненная, с горстью заплесневелого зерна в руке! Но я виню тебя не за мои несчастья, а только за Мерит, которая была слишком хороша для тебя и которую ты сознательно и намеренно обрек на смерть. Я выплакала свои глаза из-за маленького Тота, ведь он был мне как родной сын, и я пекла для него медовые пряники. Но что тебе до этого! Ты нагло являешься сюда, пустив по ветру все свои богатства, чтобы отдохнуть под кровом, который я построила с таким трудом, дабы кормить тебя! Бьюсь об заклад, под утро ты будешь клянчить пива, а утром станешь колотить меня за то, что я служу тебе не так прилежно, как тебе хотелось бы. Ты заставишь меня работать на тебя, а сам станешь валяться без дела. Таковы мужчины.
Так она говорила, и ее воркотня была столь домашней, что напомнила мне мою мать Кипу и Мерит, и мое сердце захлестнула невыразимая тоска, и слезы хлынули из моих глаз.
Это сильно расстроило ее, и она сказала:
— Ты прекрасно знаешь, Синухе, ведь у тебя отзывчивая душа, что я не хочу сказать ничего дурного, а только наставляю тебя. У меня еще осталась горсть зерна, я смелю ее и приготовлю вкусную кашу. Я постелю тебе постель из сухого тростника. Может быть, через некоторое время ты сможешь заняться своим ремеслом, чтобы мы могли жить. Не беспокойся об этом, ибо я нашла работу прачки в богатых домах, где куча запачканной кровью одежды, так что я всегда смогу заработать. Более того, я, может, даже смогу одолжить в увеселительных заведениях, где останавливаются на постой солдаты, кувшинчик пива, чтобы усладить твою душу.
От ее слов мне стало стыдно за свои слезы. Я успокоился и сказал ей:
— Я пришел сюда не для того, чтобы быть тебе обузой, Мути. Я скоро уйду и, наверное, надолго. Вот потому я и хотел увидеть дом, где был счастлив, погладить шероховатую кору сикомора и прикоснуться к порогу, который хранит следы ног Мерит и маленького Тота. Не беспокойся обо мне, Мути. Если смогу, я пришлю тебе немного серебра, чтобы ты как-то перебивалась, пока меня не будет. Пусть бог благословит тебя за твои поистине материнские слова, ибо ты добрая женщина, хотя временами твой язык жалит, как оса.
Мути всхлипнула и утерла нос тыльной стороной огрубевшей ладони. Она не позволила мне уйти, а разожгла огонь и приготовила для меня еду из своих скудных запасов. Я был вынужден поесть, чтобы не обидеть ее, хотя кусок застревал у меня в горле.
Мути посмотрела на меня и, покачав головой, сказала:
— Ешь, Синухе! Ешь, жестокосердый, хоть зерно и заплесневело, а еда отвратительна. Думаю, ты станешь теперь совать свою глупую голову во все сети и западни, что попадутся на твоем пути, но я уже ничем не смогу помочь тебе. Ешь и набирайся сил, Синухе, и возвращайся, ибо я буду верно ждать тебя. Не беспокойся обо мне: хоть я старая и хромая, но очень выносливая. Я буду стирать и готовить, я заработаю достаточно себе на хлеб, пока хоть какой-то хлеб есть в Фивах, только возвращайся, господин мой!
Итак, до наступления темноты я сидел на развалинах своего дома, и костер Мути одиноким огоньком светился в кромешной тьме. Я думал, что лучше уж мне никогда не возвращаться, ведь я принес лишь горе и несчастье тем, кого любил, лучше жить и умереть таким же одиноким, каким я плыл вниз по реке в ночь своего рождения.
Когда взошли звезды и стражники стали бить древками копий в свои щиты, дабы устрашить людей в разрушенных портовых переулках, я попрощался с Мути и снова пошел к золотому дворцу фараона. Пока я брел по улицам к берегу, ночное небо над Фивами опять озарилось красными отблесками и зажглись огни на больших улицах; из центра города донеслись звуки музыки. Ибо это была ночь воцарения Тутанхамона и в Фивах было празднество.
7
В ту же ночь жрецы усердно трудились в храме богини Сехмет, выдергивая траву, выросшую между плитами, водружая на прежнее место изваяние с головой льва, облачая его в красные льняные одежды и украшая его символами войны и опустошения.
Как только Эйе возложил на голову Тутанхамона короны двух царств — красную и белую, папирус и лилию, — он сказал Хоремхебу:
— Пробил час, о Сын Сокола! Вели трубить в рога и возвещать войну! Да прольется кровь очистительным потоком по всей земле Кем, дабы все вернулось на свои места и люди забыли само имя лжефараона.
На следующий день, когда Тутанхамон в золотом дворце играл со своими куклами в похороны вместе со своей царственной супругой, когда жрецы Амона, опьяненные властью, воскуряли фимиам в великом храме и предавали вечному проклятию фараона Эхнатона, Хоремхеб повелел трубить в рога на каждом углу. Медные ворота храма богини Сехмет распахнулись, и Хоремхеб во главе отборных войск победоносно прошествовал по улице Рамс, чтобы принести жертву богине. Эйе добился своего, ибо он правил землей Кем одесную фараона. А теперь настал черед Хоремхеба, чьи притязания также были удовлетворены, и я следовал за ним к храму Сехмет, ибо он желал, чтобы я был свидетелем величия его власти.
Все же к чести его надо сказать, что в час своего торжества он пренебрег показной пышностью и старался поразить народ своей простотой. Поэтому он ехал к храму в тяжелой будничной колеснице. Над головами его коней не развевались султаны, и золото не блестело в спицах колес. Вместе этого острые кривые клинки из меди разрезали воздух по обе стороны колесницы. За ним следовали рядами копьеносцы и лучники. Глухой звук поступи босых ног по камням улицы Рамс напоминал сильный и мерный рокот морского прибоя. Негры били в барабаны, обтянутые человеческой кожей.
В молчании, охваченные благоговейным страхом, взирали люди на Хоремхеба, который стоял величественно и прямо, возвышаясь над всеми, взирали на его войско, пышущее здоровьем, тогда как вся страна страдала от нужды. Они смотрели на эту процессию молча, будто предчувствуя, что их страдания только еще начинаются. Хоремхеб остановился перед храмом Сехмет, спустился с колесницы и вошел в него в сопровождении своих военачальников. Жрецы вышли к нему навстречу, их руки и одежды были запятнаны свежей кровью; они подвели его к изваянию Сехмет. Богиня была облачена в красное одеяние, увлажненное кровью жертв так сильно, что оно прилипло к ее телу, и каменные груди горделиво вздымались из-под ее покрова. В полумраке храма ее свирепая львиная голова, казалось, двигалась, и ее глаза из драгоценных камней как живые пристально смотрели вниз на Хоремхеба, тогда как он молил о победе, сжимая в руке теплые сердца жертв.
Жрецы припрыгивали вокруг него, торжествуя, нанося себе раны ножами и крича в один голос:
— Возвращайся с победой, Хоремхеб, Сын Сокола! Возвращайся с победой, и да снизойдет к тебе богиня, о живущий, и да заключит тебя в объятия нагая!
Но прыжки и громкие выкрики жрецов не лишили Хоремхеба самообладания; он совершил положенный обряд с холодным достоинством и покинул храм. Выйдя из храма, он поднял окровавленные руки и обратился к ожидающей его толпе:
— Внемлите мне, все люди земли Кем! Внемлите мне, ибо я Хоремхеб, Сын Сокола; в своих руках я несу победу и бессмертную славу для всех тех, кто последует за мной на священную войну. В этот час колесницы хеттов с грохотом мчатся по Синайской пустыне, их передовой отряд опустошил Нижнее Царство, и земле Кем никогда еще не грозила такая великая опасность. Грядут хетты, чьи толпы неисчислимы и чья жестокость вызывает всеобщее омерзение. Они опустошат ваши дома, вырвут ваши глаза, надругаются над вашими женами и уведут детей ваших в рабство. Вот почему война, которую я объявляю им, — священная война; это война за ваши жизни и за богов земли Кем. Если все пойдет хорошо, мы отвоюем Сирию, когда разобьем хеттов. Процветание вернется к нам, и каждый из вас получит полную меру зерна и свою долю добычи. Довольно чужеземцам осквернять нашу землю, довольно издеваться над нашей слабостью и осмеивать бессилие нашего оружия. Настал мой час вернуть земле Кем ее военную славу. Только собрав все свои силы, мы придем к победе. Вот потому, женщины Египта, плетите из своих волос тетиву для луков и посылайте ваших мужей и сыновей с радостью на священную войну! Мужчины Египта, перековывайте свои украшения на наконечники стрел и следуйте за мной, и я покажу вам войну, подобную которой еще не видывал мир! Духи великих фараонов Египта и все боги Египта и самый главный из них — Амон благородный сражаются на нашей стороне. Внемлите мне, все люди! Хоремхеб, Сын Сокола, сказал!
Он замолчал, опустив свои окровавленные руки и тяжело дыша, ибо он кричал страшно громким голосом. Затем зазвучали рога; воины ударили в свои щиты древками копий и топнули ногами. То там, то здесь из толпы раздавался крик; он нарастал, превращаясь в рев, и вот уже все как один кричали ликуя. Хоремхеб улыбнулся и взошел в свою колесницу, тогда как воины расчищали ему дорогу в ревущей толпе.
Он поехал в порт и ступил на борт корабля, так как должен был плыть прямо в Мемфис, ибо уже и так слишком долго пробыл в Фивах. По последним донесениям было известно, что конница хеттов до сих пор пасется в Танисе. Я тоже взошел на борт корабля, и никто не пытался помешать мне, когда я, подойдя к нему, сказал:
— Хоремхеб, фараон Эхнатон мертв, потому я свободен от обязанностей его черепного хирурга и волен идти, куда захочу. Я намерен отправиться вместе с тобой на войну, ибо мне все постыло и теперь я счастлив. Я хотел бы увидеть, какое благо принесет эта война, о которой ты твердил всю свою жизнь. Я хотел бы узнать, будет ли твое правление лучше, чем правление Эхнатона, и управляют ли землей духи подземного мира.
Хоремхеб очень обрадовался и ответил:
— Возможно, это доброе предзнаменование, ведь я никогда не мог и подумать, что ты, Синухе, будешь первым добровольцем на этой войне! Нет, я не мог бы поверить в это, зная, что ты предпочитаешь удобные и мягкие подушки тяжким ратным трудам на полях сражений. Я думал, ты будешь блюсти мои интересы в золотом дворце, но, возможно, это и лучше для тебя — пойти со мной, ибо ты простак и каждый может обвести тебя вокруг пальца. А так у меня по крайней мере будет умный врач, и, вполне возможно, услуги твои очень понадобятся. Поистине, Синухе, мои люди были правы, назвав тебя Сыном Дикого Осла, когда мы вместе сражались с кабирами, ибо у тебя, конечно же, должно быть сердце этого животного, раз ты не чувствуешь страха перед хеттами.
Пока он говорил, гребцы взялись за весла, и судно с развевающимися знаменами пустилось в плавание. Причалы были белы от толп, чьи крики, словно порывы ветра, доносились до наших ушей. Хоремхеб глубоко вздохнул и сказал улыбаясь:
— Знаю, что ни одно человеческое существо не может быть целью, а только средством. Я — средоточие всех вещей; все исходит от меня и все возвращается ко мне. Я — Египет и я — народ. Делая Египет великим и могущественным, я сам становлюсь великим и могущественным. Но это, как ты понимаешь, Синухе, только подготовка.
Его слова не произвели на меня особого впечатления, ибо я знал его хвастливым мальчишкой и видел его родителей, от которых пахло сыром и скотиной, хотя он и прославил их. Вот потому я не мог принимать его всерьез, хотя было ясно, что он желал показаться мне богоподобным. Я скрыл от него свои мысли и завел разговор о принцессе Бакетамон, которая была смертельно оскорблена тем, что ей не предоставили подобающего места в шествии в честь Тутанхамона. Хоремхеб жадно слушал меня и предложил мне вина, дабы я рассказывал ему о Бакетамон как можно больше. Так шло время, пока мы плыли вниз по реке в Мемфис, а между тем колесницы хеттов опустошали Нижнее Царство.
Книга XIV Священная война
1
Когда Хоремхеб был в Мемфисе, собирая войска и снаряжение, он призвал состоятельных людей Египта и обратился к ним:
— Все вы богатые люди, а я всего-навсего пастушок, рожденный в конском дерьме. Но, несмотря на это, Амон благословил меня и фараон поручил мне возглавить этот поход. Враг, угрожающий нашей стране, страшен и ужасает дикостью, и это хорошо вам известно. Я рад, что вы откровенно высказали свои мысли, признав, каких жертв требует война от каждого, а потому урезав количество зерна, которое вы выдаете своим рабам и работникам, и подняв цены на товары во всем Египте. По вашим словам и поступкам я понял, что вы и сами готовы на великие жертвы. Чтобы покрыть военные расходы, каждому из вас придется одолжить мне сразу половину своего состояния золотом, серебром, зерном, скотом, лошадьми или колесницами. Мне все равно, лишь бы все это было отдано немедленно.
При этом египетские богачи разразились громкими упреками; они рвали на себе одежды и причитали:
— Лжефараон уже разорил нас, и мы остались без гроша! Что ты дашь нам в залог за половину нашего имущества и как ты собираешься выплачивать нам займ?
Хоремхеб поглядел на них доброжелательно.
— Залогом послужит победа, которую с вашей помощью, мои дорогие друзья, я вскоре одержу. Если же я не одержу ее, хетты нагрянут и отберут все что у вас есть, поэтому мой залог кажется мне достаточным. Что до выплаты, то с каждым в отдельности я заключу договор, и, надеюсь, мои условия окажутся приемлемыми для всех вас. Но вы возроптали слишком рано, ибо я еще не сказал всего, что хотел сказать. Я прошу в долг сразу половину вашего имущества, исключительно в долг, добрые мои господа. По истечении четырех месяцев вы снова одолжите мне половину того, что у вас останется, а через год — половину того состояния, которое будет у вас к тому времени. Вы лучше, чем кто-либо, можете подсчитать, сколько у вас останется в конце концов, но я уверен, этого достаточно, чтобы вы были сыты до конца своих дней, и я никоим образом не граблю вас.
Тогда богатые люди бросились перед ним наземь, горько рыдая и до крови расшибая об пол свои лбы. Но Хоремхеб утешил их:
— Я призвал вас потому, что знаю, вы любите Египет и желаете принести щедрую жертву ради него. Вы богаты, и каждый из вас приобрел состояние собственными трудами. Уверен, что вскоре вы вернете свое состояние — богатый становится богаче, даже если избыток сока выжимают из него вновь и вновь. Вы, о непревзойденные мужи, для меня — драгоценнейший сад. И хотя я сжимаю вас, как сжал бы гранат, чтобы у меня под пальцами из его зерен брызнул сок, все же словно добрый садовник я не причиню деревьям вреда, а лишь время от времени буду собирать урожай. Помните также, что я обещаю вам великую войну, более великую, нежели вы мечтали, а во время войны зажиточный человек процветает обязательно. Чем дольше война, тем больше успех, и никакая власть не может этому воспрепятствовать, даже налоговое управление фараона. Вы должны быть благодарны мне. Я отпускаю вас домой с благословением. Идите же с миром, будьте усердны, раздувайтесь, как клещи, ибо этому ничто не мешает.
С этими словами он распустил их. Они ушли со стонами, горько сетуя и разрывая на себе одежды, но, едва выйдя за дверь, прекратили свои крики. Они стали деловито подсчитывать свои потери и искать средства возместить их.
Хоремхеб сказал мне:
— Эта война для них — дар. Отныне, грабя народ, они смогут винить во всем хеттов так же, как фараон может винить их за голод и страдания, которые война принесла в землю Кем. В конце концов за все платит народ, богатые отнимут у него во много раз больше, чем сами одолжат мне, и тогда я снова их прижму. Этот способ нравится мне больше, чем военный налог. Если бы я взимал подобный налог с народа, люди проклинали бы мое имя. Заставив же богатых покрывать военные расходы, я получаю благословение народа и приобретаю славу справедливого человека.
В это время дельта была охвачена пламенем. Бродячие банды хеттов поджигали селения, а их лошади топтали хлебные всходы. Беженцы толпами приходили в Мемфис, рассказывая такие ужасные истории о безумной страсти хеттов к разрушению, что меня охватывал страх, и я просил Хоремхеба поспешить.
Но тот беспечно улыбался, отвечая:
— Египтяне должны как следует узнать хеттов, если их приходится убеждать, что нет более мрачного жребия, чем попасть в рабство к врагу. Я был бы безумцем, если бы выступил без колесниц со своими необученными войсками. Не беспокойся, Синухе, Газа все еще наша, а Газа — это краеугольный камень, на котором держится война. Пока этот город не окажется в их руках, хетты не осмелятся послать в пустыню свои основные силы. Их власть над морем отнюдь не бесспорна. Я послал в пустыню дозорных, чтобы извести разбойников и вредителей, и я вовсе не так ленив, как ты, видимо, считаешь. Пока хеттская пехота не может перейти через пустыню в Черную Землю, Египту не угрожает особая опасность.
Мужчины приходили в Мемфис со всех частей Египта: голодные, те, кто во имя Атона потерял кров и семью и более не ценил свою жизнь, а еще те, кто мечтал о приключениях и трофеях. Не обращая внимания на жрецов, Хоремхеб прощал всем, кто участвовал в основании царства Атона, и освобождал узников из каменоломен, чтобы принудить потом к военной службе. Мемфис скоро стал напоминать огромный военный лагерь. Жизнь здесь била ключом. Каждую ночь солдаты бесчинствовали в кабаках и увеселительных заведениях, а мирные люди запирали дома и сидели, дрожа от страха. Из кузниц и мастерских раздавался звон молотков. Так велик был ужас перед хеттами, что даже бедные женщины отдавали переплавлять свои медные украшения в наконечники для стрел.
В египетские порты постоянно заходили корабли с морских островов и Крита. Хоремхеб захватывал все эти корабли и зачислял их команды и военачальников к себе на службу. Он захватывал даже критские военные суда и принуждал команды переходить на службу к египтянам. Такие корабли теперь рассеялись по морю и переплывали из порта в порт, не желая возвращаться домой. Поговаривали, что среди критских рабов вспыхнул мятеж и что город на холме, в котором жила знать, полыхал словно факел последние несколько недель и пламя было видно далеко с моря. Но все же никто не располагал достоверными сведениями о том, что происходило, а критские моряки, как всегда, врали. Кто-то считал, что хетты вторглись на остров, хотя каким образом такое могло случиться, когда хетты отродясь не были мореходами, понять было трудно. Другие же настаивали на том, что странные светловолосые люди с севера приплыли туда, чтобы опустошить и ограбить страну. Но все критяне в один голос утверждали, что все эти беды свалились на них, потому что их бог умер. Поэтому они с радостью согласились остаться на службе у египтян. Несмотря на это, другие их соотечественники, плывшие в Сирию, вступали в союз с Азиру и с хеттами.
Все это давало огромное преимущество Хоремхебу, ибо крайняя неразбериха царила на море, когда все схватились друг с другом в борьбе за корабли. В Тире началось восстание против Азиру, и выжившие бунтовщики убегали в Египет, где переходили на сторону Хоремхеба. Так у Хоремхеба появилась возможность собрать флот и с помощью опытных судовых команд подготовить его к бою.
Газа еще держалась. Когда созрел урожай и река начала подниматься, Хоремхеб выступил с войсками из Мемфиса. Он выслал вперед гонцов морем и по земле, чтобы те проникли в ряды осаждающих; судно, приставшее под покровом ночи к гавани Газы и нагруженное мешками зерна, везло послание: «Удержите Газу! Удержите Газу любой ценой!» Пока тараны с грохотом били в ворота, а крыши города горели, ибо ни у кого не было времени гасить пожары, тут и там свистели стрелы с записками: «Хоремхеб приказывает вам: удержите Газу!» А когда хетты перекидывали через стены запечатанные кувшины с ядовитыми змеями, то среди них, случалось, находили один, наполненный зерном, и в нем — послание Хоремхеба: «Удержите Газу!» Каким образом Газа противостояла напору объединенных сил Азиру и хеттов, выше моего понимания, но вспыльчивый начальник отряда, поднимавший меня на стену в корзине, вполне заслужил славу, которую завоевал, сохранив Газу для Египта.
Хоремхеб быстро привел свои силы в Танис, где окружил и отрезал отряд хеттских колесниц, остановившийся у излучины реки. Под покровом темноты он приказал своим людям углубить высохшие оросительные каналы так, чтобы те наполнились водой из поднявшейся реки. Наутро хетты обнаружили, что оказались на островке словно в ловушке и принялись забивать лошадей и крушить свои колесницы. Это привело Хоремхеба в бешенство. Его целью было захватить все невредимым. Он приказал трубить в рога и начал атаковать. Свежие египетские войска с легкостью одержали победу и сразили врагов, которые бросили лошадей и дрались пешими. Так Хоремхеб завладел сотней колесниц и более чем двумя сотнями лошадей. Победа была важнее добычи, ибо с тех пор египтяне уже не считали врага непобедимым.
Выстроив колесницы и лошадей, Хоремхеб ехал впереди них в Танис, оставив позади медленно шедших солдат и подводы с припасами. Дикая страсть пылала в его глазах, когда он уверял меня:
— Если бьешь, то бей первым и сильно.
Говоря так, он с грохотом мчался в Танис, не прячась от толп хеттов, бродивших по Нижнему Царству и опустошавших его. Из Таниса он продолжал двигаться прямо в пустыню, одолевая подразделения хеттов, поставленные охранять запасы воды, и захватывал склад за складом. Хетты оставили в пустыне сотни тысяч кувшинов с водой для своей пехоты, расположив их на некотором расстоянии друг от друга, ибо, не умея путешествовать по морю, они не осмеливались напасть на Египет с моря. Не жался лошадей, Хоремхеб и его люди устремились вперед. Многих животных загнали во время этого сумасшедшего перехода, о котором видевшие его воочию рассказывали, что сто колесниц поднимали столб пыли до небес и что мчались они быстро, как вихрь. Каждую ночь на вершинах Синайских холмов зажигали сигнальные огни, вызывавшие вольные отряды из их убежищ, дабы они по всей пустыне нападали на хеттских стражей и их склады припасов. Вот откуда идет легенда о том, что Хоремхеб несся по Синайской пустыне днем, как столб пыли, а ночью — как столб пламени. После этого похода слава его была столь велика, что люди слагали о нем предания, как о богах.
Хоремхеб застал врагов врасплох. Убежденные в слабости Египта, те не могли понять, как Хоремхеб осмелился совершать набеги в пустыне, когда их войска разоряли Нижнее Царство. Их главные силы были рассеяны по городам и селениям Сирии и ожидали падения Газы, ибо, поскольку в окрестностях Газы огромная армия не могла найти себе пропитания, хетты собрались в Сирии, чтобы завоевать Египет. Они вели военные действия чрезвычайно осмотрительно и никогда не нападали, если не были полностью уверены в своем превосходстве. Их военачальники отмечали на глиняных табличках каждое пастбище, каждое место водопоя, каждое селение в области, на которую собирались совершить набег. Из-за этих приготовлений они отложили свое нападение, и поход Хоремхеба оказался для них громом среди ясного неба отчасти потому, что никто ранее не осмеливался напасть на них первым, отчасти из-за того, что они сомневались, хватит ли у Египта колесниц для подобного предприятия.
Основною же целью Хоремхеба было уничтожить запасы воды хеттов в пустыне, чтобы выиграть время для обучения и оснащения своей армии. Но его удивительный успех опьянил его; он вихрем ворвался в Газу, с тыла напал на осаждающих, вывел из строя их военные приспособления и поджег лагеря. Но все же он не смог войти в город. Когда осаждающие увидели, как немногочисленны его колесницы, они возобновили борьбу и нанесли ответный удар. Он проиграл бы, будь и у них колесницы. А так у него была возможность отступить в пустыню, разорив склады с водой на ее границе, прежде чем разъяренные хетты успели собрать достаточно колесниц, чтобы преследовать его.
Поэтому Хоремхеб верно заключил, что его сокол был вместе с ним. Памятуя о горящем дереве, которое он видел однажды среди Синайских холмов, он послал сообщение своим метателям дротиков и лучникам и приказал им идти как можно быстрее через пустыню по одной из дорог, построенных хеттами, где стояли сотни глиняных кувшинов с водой, которой хватило бы для большого отряда пехотинцев. Теперь его целью было сражаться в пустыне, хотя для битв на колесницах удобнее земля. Я думаю, у него не было выбора, ибо после бегства от хеттов его люди и его лошади были так измучены, что вряд ли дошли бы живыми до Нижнего Царства. Поэтому он собрал все свое войско в пустыне, совершив таким образом деяние небывалое.
О первом нападении Хоремхеба на хеттов мне поведали его люди и он сам — меня не было с ним тогда. Будь я там, то, конечно, не остался бы в живых и не писал бы эти строки. Мне выпало на долю видеть последствия битвы из своих носилок, в которых я следовал за пехотными полками во время их стремительного движения по обжигающей пыли под безжалостными лучами солнца.
После того как мы две недели тащились по пустыне, а это, несмотря на бесчисленные запасы воды, оказалось довольно изнурительным, однажды ночью мы увидели столб пламени, вздымающийся на холме за пустыней, и поняли, что Хоремхеб ждет нас там со своими колесницами. Эта ночь запечатлелась в моей памяти, ибо я не мог заснуть. Темнота приносит в пустыню холод после жаркого дня, и люди, неделями шедшие босиком по песку и колючкам, во сне кричат и стонут так, словно их терзают демоны. Это происходит, несомненно, из-за того, что люди верят, будто этих демонов в пустыне полным-полно. На заре затрубили рога, и движение продолжилось, хотя большая часть воинов просто свалилась наземь не в силах подняться. Сигнальный огонь Хоремхеба звал нас, и со всех сторон пустыни к огненному знаку устремлялись небольшие группы оборванных, почерневших от солнца разбойников и народных мстителей.
Если наши воины и надеялись некоторое время отдохнуть, когда прибыли в лагерь Хоремхеба, то испытали горькое разочарование. Если они думали, что тот поблагодарит их за быстрый переход и за то, что они стерли о песок кожу на ногах, то они воистину заблуждались. Когда он встретил нас, лицо его было искажено бешенством, а глаза налиты кровью от усталости.
Помахивая окровавленной и запачканной грязью золотой плетью, он обратился к нам:
— Где вы шлялись, навозные жуки? Где пропадали вы, чертовы отродья? Меня воистину обрадует завтра зрелище ваших черепов, белеющих среди песка. О, какой стыд охватывает меня при виде вас! Вы приползаете ко мне словно черепахи, от вас несет потом и помоями так, что мне приходится зажимать нос, тогда как лучшие мои воины истекают кровью от бесчисленных ран, а мои великолепные кони при последнем издыхании. Копайте же теперь, египтяне, копайте, чтобы остаться в живых! Эта работа подходит больше всего для вас, всю жизнь копавшихся в грязи!
Египетские новобранцы ничуть не обиделись на его слова, но обрадовались им и повторяли их друг другу со смехом, найдя защиту от наводящей ужас пустыни в одном лишь присутствии Хоремхеба. Они забыли о своих истертых ступнях и пересохших языках и принялись по его приказу копать глубокие рвы, вбивать столбы меж камней, натягивать на эти столбы тростниковые веревки, скатывать и стаскивать по склонам холмов громадные камни.
Усталые колесничие Хоремхеба выползли из своих щелей и шатров, хромая, дабы показать свои раны и похвастать доблестью. Из двух тысяч пятисот человек, отправившихся в поход, в строю осталось от силы пятьсот.
Большая часть армии прибывала в этот день в лагерь Хоремхеба непрерывным потоком. Каждого вновь прибывшего немедленно посылали копать рвы и строить заграждения, чтобы удержать хеттов от вторжения в пустыню. Хоремхеб послал сообщение еще не подошедшим изможденным воинам, что все они должны добраться до укреплений этой ночью. Все, кто остался бы в пустыне на следующий день, приняли бы ужасную смерть от рук врага, прорвись его колесницы в их ряды. Египтянам заметно прибавила мужества их многочисленность в этой дикой пустыне, и они слепо положились на Хоремхеба, веря, что тот спасет их от хеттов. Но, строя укрепления, натягивая веревки и перекатывая камни, они увидели, как враг приближается в туче пыли. Побледнев, они блуждающим взором оглядывались вокруг в ужасе от колесниц и устрашающих кривых клинков хеттов.
Близилась ночь, и хетты вряд ли начали бы бой, не осмотрев прежде поле действий и не оценив примерно силы противника. Они разбили лагерь, позаботились о своих лошадях и развели костры. Когда спустилась темнота, пустыня, насколько видел глаз, была окаймлена кострами. Ночь напролет вражеские лазутчики подъезжали на легких колесницах к укреплениям, убивая стражу и устраивая стычки вдоль всего фронта. Но на всех флангах, где нельзя было построить укреплений, головорезы из вольных сил неожиданно нападали на хеттов и захватывали их коней и колесницы.
Ночь оглашалась грохотом колес, криками умирающих, свистом стрел и звоном оружия. Новобранцы были сильно встревожены и боялись заснуть. Но Хоремхеб успокаивал их, приговаривая:
— Спите, болотные крысы, спите! Отдыхайте и умащайте свои истертые ноги маслом, ибо я охраняю ваш сон.
Я не спал и всю ночь ходил по лагерю, перевязывая раны колесничих Хоремхеба, тогда как тот ободрял меня, говоря:
— Лечи их, Синухе, и примени все свое умение. Воинов доблестнее еще не видел свет — каждый из них стоит сотни или даже тысячи этих грязекопателей. Вылечи их, ибо я горячо люблю этих своих мерзавцев и у меня нет обученных людей на замену им.
Утомительное путешествие через пустыню, хоть я и проделал его в носилках, привело меня в дурное настроение. Глотка моя пересохла от едкой пыли, и меня бесила мысль о том, что из-за дурацкого упрямства Хоремхеба мне придется умереть от рук хеттов, хотя смерть сама по себе меня не страшила.
Я сказал ему с раздражением:
— Я стараюсь вылечить этих твоих мерзавцев только ради себя самого, ибо, на мой взгляд, они единственные из всего войска способны драться. А те, кто пришел со мною, обратятся в бегство, едва завидев выпученные глаза врагов. С твоей стороны было бы разумнее взять самых быстроногих коней и поспешить со мною обратно в Нижнее Царство, чтобы набрать там новое войско, лучше нынешнего.
Хоремхеб утер нос и произнес:
— Совет твой делает честь твоей мудрости. Но у нас нет иного выхода, кроме как разбить хеттов здесь, в пустыне. Мы должны их разбить, ибо у нас нет выбора. А теперь я отдохну и выпью. После выпивки я обычно в ужасном расположении духа и славно дерусь.
Он оставил меня, и вскоре я услышал бульканье вина из его кувшина. Он угощал им всех проходящих мимо, хлопая их по плечу и величая каждого по имени.
Так прошла ночь, и утро, словно призрак, пришло из пустыни. Перед укреплениями лежали мертвые лошади и перевернутые колесницы, а ястребы выклевывали глаза погибшим там хеттам. По приказу Хоремхеба зазвучали рога, и он выстроил своих воинов у подножия холмов.
Пока хетты закидывали свои костры песком, запрягали коней и точили клинки, Хоремхеб обратился к своим войскам. При этом он откусил кусок черствого хлеба и луковицы.
— Посмотрите перед собою, и вы увидите великое чудо. Амон предал хеттов в наши руки, и мы нынче совершим великие дела. Вражеская пехота еще не подошла — она осталась на краю пустыни из-за нехватки воды. Колесницы прорвутся через наши ряды и захватят запасы воды у нас в тылу, если войско хеттов собирается продолжить поход на Египет. Их лошади уже мучаются от жажды, им не хватает корма, ибо я сжег их склады и разбил кувшины на протяжении всего пути отсюда в Сирию. Поэтому они должны или прорваться, или отступить, если только они не разобьют лагерь в ожидании свежих пополнений, а в этом случае они не смогут завязать с нами битву. Но они жадны и, кроме того, вложили все золото и серебро Сирии вот в эти самые кувшины с водой, которые вытянулись полнехонькие на всем пути до Египта. Они не отдадут нам эти кувшины без борьбы. Вот так Амон и предал их в наши руки. Когда они нападут, их лошади будут спотыкаться и запутаются в наших заграждениях. Они не смогут бросить на нас все свои силы, ибо в самый разгар битвы им помешают рвы, выкопанные вами с таким усердием, камни и веревки.
Хоремхеб плевался луковой шелухой и жевал хлеб, покуда воины не начали топать и кричать словно дети, которым не терпится послушать еще одну сказку.
Тогда Хоремхеб сказал:
— Единственное, чего я боюсь, — это что вы, по слабости своей, позволите хеттам ускользнуть из ваших рук. Палки, что у вас в руках, — это копья, наконечники которых предназначены для того, чтобы вспарывать хеттам брюхо. А лучникам я говорю: будь вы настоящими воинами и меткими стрелками, вы бы пробили им глаза. Но подобные советы ни к чему. Цельтесь же в лошадей, ибо это более крупные мишени, а вам ни за что не попасть во всадников. Чем ближе те подъедут, тем точнее будут ваши неумелые удары, и я на вашем месте подпустил бы их как можно ближе. Я собственноручно выпорю всякого, кто промахнется, — у нас нет лишних стрел. А вы, метатели дротиков! Когда кони хеттов приблизятся, уприте древки ваших копий в землю и направьте их острия в лошадиное брюхо. Тогда вы не подвергнетесь никакой опасности и сможете отскочить в сторону, прежде чем животное повалится на вас. Если вы будете опрокинуты на землю, перережьте лошадям сухожилия, ибо только тогда вас не раздавят колеса. Вот что от вас требуется, нильские крысы!
Поднеся к губам кувшин с водой, он сделал большой глоток, чтобы прояснилось в голове, и продолжал:
— Впрочем, говорить с вами — значит, зря сотрясать воздух. Едва заслышав боевой клич хеттов и грохот их колесниц, вы начнете хныкать и сунете свои головы в песок за неимением юбки, под которой можно спрятаться. Если хетты прорвутся к запасам воды у нас в тылу, то все вы пропадете и лишитесь жизни, прежде чем спустится ночь, ибо мы будем окружены и путь к отступлению будет отрезан. Сейчас мы не можем отступать. Если мы оставим построенные нами заграждения, вражеские колесницы расшвыряют нас, словно ветер мякину. Я говорю это на тот случай, чтобы никто из вас не вздумал удрать в пустыню. Все мы сейчас плывем в одной лодке, и у нас нет иного выбора, кроме как разбить врага наголову. Я буду драться бок о бок с вами. Если хлыст мой опустится на ваши спины вместо хеттских, виноват в этом буду не я, а лишь вы, о мои доблестные крысы.
Воины слушали его, затаив дыхание. Признаюсь, мне было не по себе, ибо вражеские колесницы, похожие на далекие облака пыли, уже приближались. Все же мне кажется, что Хоремхеб медлил умышленно, дабы передать людям свое спокойствие и сократить для них тяжкое время ожидания.
Наконец он оглядел пустыню со своего высокого уступа, воздел руки и произнес:
— Наши друзья хетты уже в пути, за что я благодарю всех богов Египта. А теперь, о нильские крысы, идите — каждый на отведенное ему место, и пусть никто не удаляется оттуда без приказа. Остальные — мои добрые старые головорезы — гоните этот сброд, обстреливайте их, холостите их, если они попробуют улизнуть. Я могу сказать вам: бейтесь за богов Египта, за Черную Землю, за своих жен и детей. Теперь же бегите, ребята, бегите скорее, или колесницы достигнут укреплений раньше, чем это сделаете вы, и битва кончится, еще не начавшись.
Он распустил их, и они поепешили к укреплениям, крича на бегу, не знаю точно, от рвения или страха. Хоремхеб неторопливо последовал за ними, но я остался сидеть на склоне холма, чтобы наблюдать за битвой с безопасного расстояния. Я был врачом, и мне следовало беречь свою жизнь.
Противник пронесся в своих колесницах через долину к подножию холмов и там выстроился в боевом порядке. Красочные знамена хеттов, сверкание крылатых солнц на колесницах и куски блестящего шерстяного полотна, защищавшие коней от стрел, — все это представляло собою величественное и грозное зрелище. Колесницы строились в ряды по шесть, десять таких рядов составляли отряд; всего, я думаю, там было шестьдесят таких отрядов. Но тяжелые колесницы с упряжкой из трех лошадей располагались в середине. Для меня было непостижимо, как силы Хоремхеба могли устоять под их напором, ибо двигались они медленно и грузно словно корабли и разрушали все на своем пути.
При звуке рогов вражеские военачальники подняли свои знамена, и колесницы поехали, постепенно увеличивая скорость. Когда они подкатились близко к заграждениям, я увидел, как одиночные лошади вырвались из строя; на каждой из них был всадник, державшийся за гриву и колотивший плеткой ее бока, заставляя ее бежать еще быстрее. Я и представить себе не мог, зачем им понадобилось посылать вперед без всякой защиты своих запасных лошадей, пока не увидел, как всадники перегибаются и перерезают веревки, натянутые на столбы. Другие кони скакали прямо сквозь проделанные ими бреши. Всадники поднимали и метали свои копья так, что, вонзившись в землю, они торчали из нее и на древке каждого развевалось яркое знамя. Все это произошло молниеносно. Я не смог разгадать их намерений, ибо всадники затем повернулись, помчались обратно и исчезли за колесницами, хотя некоторые и свалились со своих скакунов, пронзенные стрелами, тогда как множество лошадей упали наземь и, лежа, бились и издавали страшные крики.
Когда легкие колесницы перешли в наступление, я увидел, что Хоремхеб в одиночку рванулся к заграждениям, где выдернул одно из копий и далеко метнул его так, что воткнувшись в песок, оно встало торчком. Лишь он один мгновенно понял, что всеми этими копьями и флажками были помечены самые слабые места в заграждениях, где легче всего было проделать брешь.
Другие воины, последовавшие его примеру, возвратились со знаменами как с ратной добычей. Думаю, что лишь сообразительность Хоремхеба спасла Египет в тот день, ибо, сосредоточь враг всю силу своего первого удара на помеченных всадниками местах, египтяне ни за что не отразили бы его.
Не успел Хоремхеб вновь присоединиться к своим войскам, как легкие колесницы хеттов уже поспешили к заграждениям, вклиниваясь между ними. Эта первая схватка сопровождалась таким ужасным грохотом и такими густыми тучами пыли, что я более не мог следить за ходом битвы с холма. Я видел лишь, что наши стрелы повалили перед укреплением несколько коней, но следовавшие за ними возницы ловко объезжали перевернутые повозки и продолжали наступление. Позже выяснилось, что, несмотря на крупные потери, легкие колесницы в одном или двух местах все же проникли за линию обороны. Но вместо того, чтобы следовать своим путем, они останавливались по нескольку сразу, и из каждой выпрыгивали запасные воины и начинали откатывать камни, расчищая дорогу для тяжелых колесниц, которые, ожидая своего часа, стояли поодаль.
Закаленный боец, видя такие успехи врага, посчитал бы, что сражение проиграно, но неопытные крысы Хоремхеба видели лишь коней, бившихся в агонии перед заграждениями и в ямах. Они видели, что противник понес тяжкие потери, и мнили, будто их доблесть остановила нападение. Вопя от возбуждения и страха, они во всю мочь кидались на неподвижные колесницы, чтобы ударить копьями возниц и стащить их, или же, подползая по земле, перерезали лошадям сухожилия, тогда как лучники стреляли в воинов, оттаскивающих камни. Хоремхеб позволил им неистовствовать вволю, а их воодушевляла их многочисленность. Они захватили множество колесниц и передали их в неистовом возбуждении закаленным «мерзавцам» Хоремхеба. Хоремхеб не говорил им о том, что все будет кончено, едва только подойдут тяжелые колесницы, но полагался на свою удачу и на обширный ров, который был прорыт посреди долины в тылу войск и прикрыт сверху кустами и ветками. Легкие колесницы не заезжали так далеко, полагая, что уже преодолели все препятствия.
Проложив достаточно широкий путь для тяжелых колесниц, уцелевшие хетты вновь влезли на свои колесницы и быстро умчались назад, чем вызвали великое ликование среди воинов Хоремхеба, которые уже вообразили, что победа за ними. Но Хоремхеб быстро отдал приказ трубить в рога, вернуть камни на место и воткнуть древки копий, наклонив их наконечники в сторону нападающих. Чтобы избежать ненужных потерь, ему пришлось расположить воинов по обе стороны рва, иначе кривые клинки, вставленные в колеса тяжелых колесниц, скосили бы войска словно спелые колосья.
Все это он проделал в последнюю минуту. Еще не рассеялось облако пыли в долине, как тяжелые колесницы, цвет и гордость хеттского войска, с грохотом двинулись вперед, круша все преграды на своем пути. Их тащили могучие кони, бывшие на пядь выше египетских; их головы были защищены металлическими пластинами, а бока — толстыми шерстяными чепраками. Так громоздки были колеса, что переворачивали даже большие камни, а лошади своей мощной грудью опрокидывали торчащие копья. Вой и леденящие кровь крики раздавались, когда защитников перемалывали колеса или разрезали надвое кривые клинки колесниц.
Скоро огромные повозки прорвались сквозь облако пыли, и кони, бежавшие рысью, под пестрыми стегаными чепраками, с выступающими из намордников длинными гвоздями, представлялись неведомыми странными чудовищами. Они скакали вперед, стуча копытами, и мне казалось, что никакая земная сила не удержит их и ничто не преградит им доступ к кувшинам с водой в пустыне. По приказанию Хоремхеба его войско отошло из долины к склонам примыкающих холмов. Хетты издавали громкие крики и поднимали такой грохот, что пыль столбами вздымалась за ними. Я бросился ничком на землю и заплакал по Египту, по беззащитному Нижнему Царству и по всем тем, кто должен был теперь умереть из-за безумного упрямства Хоремхеба.
Враги быстрой рысью скакали вперед широким строем, как вдруг земля под ними провалилась. Кони, колесницы и люди повалились в огромный ров, который вырыли и спрятали под ветками нильские грязекопатели. Ров тянулся по всей ширине долины, от склона до склона. Множество тяжелых колесниц упало туда, прежде чем остальные смогли повернуть и проехать по его краю. Так было разделено войско. Услышав вопли наших противников, я поднял голову от земли; зрелище, которое я наблюдал, пока поднявшаяся пыль не скрыла все за собою, было поистине ужасным.
Будь хетты бдительнее, предусмотри они возможность поражения, они могли бы еще спасти половину своих колесниц и нанести тяжкое поражение Египту. Они могли бы развернуться и проехать сквозь бреши в заграждениях, но они не могли понять, что это им нанесли поражение, ибо не привыкли к этому. Они не обратились в бегство перед нашей пехотой, но направили своих коней вверх по крутым склонам, чтобы остановить колесницы. Отправившись осматривать поле боя, они спешились, дабы выведать, как лучше перейти ров или спасти своих товарищей, упавших в него, и переждать, пока рассеется пыль, чтобы продумать свой следующий удар.
Но Хоремхеб не собирался позволить им оправиться. Под торжественные звуки рогов он объявил своим людям, что его волшебство остановило вражеские колесницы, которые теперь стали беспомощными. Он послал лучников вверх по склонам, дабы те не давали хеттам покоя, тогда как остальным воинам он приказал подметать землю ветками и прутьями и поднять побольше пыли, а тем самым привести в замешательство врагов и скрыть от собственных войск, как много хеттских колесниц еще оставались невредимыми и готовыми к сражению. Вместе с тем он приказал, чтобы вниз прикатали как можно больше камней, закрыли ими проломы в заграждениях, и таким образом задержали колесницы, довершив свою победу.
Между тем отряды легких колесниц противника остановились на склонах, дабы напоить своих лошадей, привести в порядок сбрую и починить сломанные спицы в колесах. Они увидели кружащуюся над холмами пыль. Слыша крики и бряцание оружия, они решили, будто тяжелые колесницы обращают египтян в бегство и бьют их словно крыс.
За завесой пыли Хоремхеб послал ко рву своих самых смелых метателей дротиков, чтобы помешать хеттам спасти упавших соратников или же закопать ров. Остальных воинов он послал против колесниц. Они катили громадные камни, чтобы окружить ими колесницы, лишить их необходимого для движения и поворотов пространства и, если удастся, отрезать их друг от друга. Вскоре по всем склонам пришли в движение огромные камни. Египтяне всегда очень умело обращались с ними, а среди воинов Хоремхеба было даже чересчур много таких, кто выучился этому искусству в каменоломнях.
Хеттов приводило в сильное замешательство постоянно висевшее облако пыли, которое не давало им увидеть, что происходит впереди, и многие из них были подстрелены лучниками на месте. Наконец их военачальники приказали трубить в рога, чтобы собрать колесницы и стремительно спуститься в долину, а там перестроить войска. Но когда они поскакали обратно по тому же пути, что и пришли, то не узнали его. Лошади их спотыкались о веревки и ловушки, а тяжелые колесницы переворачивались из-за камней. Так что им пришлось слезть с них и драться пешими. Здесь они оказались в невыгодном положении, ибо привыкли всегда стоять выше противника, и люди Хоремхеба в конце концов одолели их, хотя битва и продолжалась весь день.
Ближе к вечеру ветер из пустыни развеял облако пыли, открыв поле сражения и полный разгром хеттов. Они потеряли большую часть своих тяжелых колесниц, многие из которых вместе с лошадьми и снаряжением невредимыми попали в руки Хоремхеба. Его воины, усталые и возбужденные от яростной битвы, от своих ран и запаха крови, были ошеломлены при виде собственных потерь. Погибших египтян в долине было куда больше, чем погибших врагов.
Те, кому удалось выжить, говорили друг другу, объятые ужасом:
— Это был страшный день, и хорошо, что мы не видели ничего во время битвы. Если бы мы увидели толпы хеттов и сколько нас погибло, сердца наши, конечно, ушли бы в пятки и мы не дрались бы уже словно львы.
Оставшиеся в живых окруженные хетты подняли руки вверх. Хоремхеб приказал связать их, а между тем все «нильские болотные крысы» подходили, дивясь на них, трогая их раны и срывая с их шлемов и одежды изображения двуглавых секир и крылатых солнц.
Хоремхеб раздал своим людям вино и пиво и позволил им грабить павших в бою как хеттов, так и египтян, дабы они почувствовали, что среди военной добычи есть и их доля.
Но самой ценной добычей были тяжелые колесницы и те лошади, которые остались невредимыми. В ту же самую ночь он послал обращение к свободным силам на каждом фланге, призывая всех храбрых мужчин подобно его «мерзавцам» пойти к нему на службу колесничими, ибо народы пустыни были более искусны в обращении с лошадьми, чем египтяне, которые боялись их. Все всадники охотно откликнулись на его призыв и радовались крепким колесницам и прекрасным лошадям.
Я был по горло занят ранеными, накладывая швы на глубокие раны, вправляя кости и вскрывая черепа, раздробленные дубинками хеттов. Хотя у меня было много помощников, прошло три дня и три ночи, прежде чем все получили помощь, и за это время многие из тяжелораненых умерли.
На следующий день хетты предприняли новое наступление легкими колесницами, дабы вернуть потерянное. На третий день они все еще пытались прорваться через заграждения, не смея вернуться к главнокомандующему в Сирию с известием о своем поражении.
Но в этот третий день Хоремхеб уже не довольствовался обороной. Расчистив путь через свои заграждения, он послал вперед своих «мерзавцев» на захваченных у врага колесницах преследовать легкие повозки хеттов и разгромить их. Мы терпели огромные потери из-за того, что враг был стремительнее и искуснее в ведении войны на колесницах. И опять мне пришлось много работать. И все же эти потери, утверждал Хоремхеб, были неизбежны, ибо только в сражении его головорезы могли научиться управлять лошадьми и колесницами, а учиться все-таки лучше, когда враг поражен и растерян, чем тогда, когда он отдохнет, снарядится и перейдет в наступление.
— Без своих колесниц, на которых мы должны встречать колесницы врага, мы никогда не завоюем Сирию, — говорил Хоремхеб. — Эта война под прикрытием заграждений — ребяческая и бесполезная, хотя она и помешала вторжению врага в Египет.
Он надеялся, что хетты пошлют и свою пехоту в пустыню и та без достаточного количества воды станет легкой добычей. Но враг извлек хорошие уроки. Он задержал свои войска в Сирии, полагая, что Хоремхеб, ослепленный победой, направит своих людей в глубь страны, где они будут быстро уничтожены свежими и опытными в боях силами противника.
И все же это поражение вызвало сильное смятение в Сирии. Многие города подняли мятеж против Азиру и закрыли перед ним свои ворота, устав от его честолюбия и от ненасытности хеттов. Они надеялись завоевать таким образом благосклонность египтян и получить долю в скорой добыче. Сирийские города всегда были не в ладах друг с другом, а лазутчики Хоремхеба разжигали их недовольство, распространяя преувеличенные и тревожные слухи о великом поражении в пустыне.
Пока Хоремхеб давал отдых своим войскам, расположившимся среди этих принесших победу холмов, пока он совещался со своими лазутчиками и составлял новые планы, он продолжал посылать воззвания в осажденный город: «Удержите Газу!» Он знал, что Газа не может продержаться дольше, но, чтобы завоевать Сирию вновь, ему был нужен лагерь на побережье. Он распускал среди своих людей слухи о богатствах этой страны и о жрицах богини Иштар, которые с отменным искусством доставляют наслаждение героям. Я не знал, почему он медлил, пока однажды ночью голодный, мучимый жаждой человек не прополз через заграждения, сдался в плен и попросил, чтобы его провели к Хоремхебу. Воины смеялись над его дерзостью, но Хоремхеб принял этого человека, который низко согнулся пред ним в поклоне, вытянув руки вперед, несмотря на то что был одет как сириец. Затем он, словно от боли, прижал к одному глазу руку.
Хоремхеб спросил:
— Уж не навозный ли жук ужалил тебя в глаз?
Я случайно оказался в палатке при этом разговоре и принял это за пустую болтовню, ибо навозный жук — безобидное насекомое, никому не причиняющее вреда.
Но томимый жаждой человек ответил:
— Воистину меня ужалил в глаз навозный жук, ибо в Сирии их десять раз по десять и все страшно ядовитые.
Хоремхеб произнес:
— Приветствую тебя, о доблестный муж! Говори без опаски, ибо этот врач в моей палатке — простак и ничего не понимает.
На это лазутчик ответил:
— Господин мой Хоремхеб, пришло время сенокоса!
Он не сказал больше ничего, но я принял ею за одного из лазутчиков Хоремхеба. Хоремхеб немедленно вышел из палатки и дал приказ зажечь сигнальные огни на вершине холма. Вскоре цепочка ответных огней замерцала на противоположных холмах до самого Нижнего Царства. Так он послал приказ в Танис спускать на воду флот и завязать бой с сирийскими судами вдали от Газы, если уж столкновение неизбежно.
На следующее утро звучали рога и войско уходило через пустыню в Сирию. Колесницы ехали впереди как передовые подразделения, чтобы очищать дорогу от врагов и выбирать места для стоянок. И все-таки я не мог понять, как Хоремхеб решился дать сражение хеттам на открытой местности. Однако воины охотно последовали за ним, мечтая о богатствах Сирии, которые им предстояло завоевать. Я взошел на свои носилки и отправился за ними, и мы оставили позади холмы, принесшие победу, где кости хеттов и египтян мирно лежали рядом, белея на песке огороженной долины.
2
Перейду теперь к рассказу о войне в Сирии, хотя и не могу много рассказать о ней, ибо не разбираюсь в вопросах войны. Все битвы кажутся мне похожими одна на другую — горящие города и разграбленные дома, рыдающие женщины и изуродованные тела всюду, куда ни глянешь. Мое повествование стало бы однообразным, вздумай я рассказывать о том, что видел. Война в Сирии длилась три года, жестокая, безжалостная война, повлекшая гибель многих. Селения были опустошены, фруктовые сады повырублены, города покинуты.
Но прежде всего я должен рассказать о вероломстве Хоремхеба. Он бесстрашно ввел свои войска в Сирию, передвинув пограничные камни, поставленные Азиру, и позволяя своим воинам грабить селения и наслаждаться женщинами, словно он предвкушал плоды победы. Он шел прямо на Газу, и, как только хетты поняли его намерения, они собрали свои войска на равнине перед городом, чтобы отрезать ему путь к отступлению и разгромить его, ибо местность прекрасно подходила для битв на колесницах. Они были уверены в успехе.
Но зима была уже в разгаре, и им приходилось давать лошадям корм, купленный у сирийских торговцев. Еще до начала битвы лошади заболели и ходили, шатаясь; их испражнения стали зелеными и водянистыми, и многие из них пали. Так Хоремхеб смог вынудить врага к бою на равных, и, уже однажды одержав победу над колесницами, он без труда обратил в бегство растерявшихся пеших воинов. Метатели дротиков и лучники быстро завершили дело, начатое колесницами. Хетты потерпели более серьезное чем когда-либо поражение и оставили на том поле боя столько же убитых, сколько и египтяне. Впоследствии оно стало называться Полем Костей. Как только Хоремхеб вошел в их стан, он поджег их запасы корма для лошадей, так чтобы все сгорело. В этот корм были подмешаны ядовитые травы, вызвавшие болезнь хеттских лошадей, хотя я не знал, каким образом Хоремхеб ухитрился сделать это.
Таким образом Хоремхеб добрался до Газы и разогнал осаждающих, тогда как хетты и сирийцы нашли убежище в укрепленных городах по всему югу. Тем временем египетский флот приплыл в порт Газы, сильно пострадавший и ослабленный; многие суда все еще горели после боев, не имеющих решающего значения и вспыхивавших на протяжении двух дней в открытом море. Суда доставили продовольствие и подкрепление в Газу и забрали домой в Египет наших раненых и покалеченных.
По всему Египту до сих пор празднуют день, когда ворота Газы Неприступной открылись перед войсками Хоремхеба. Этот зимний день — день Сехмет, когда маленькие мальчики с деревянными дубинками и тростниковыми копьями изображают осаду Газы. Никогда еще ни один город не защищался так доблестно, и его начальник вполне заслужил доставшиеся ему похвалы и восхищение. Я назову его имя, несмотря на то что он весьма непочтительно обошелся со мной, поднимая на стену в корзине. Звали его Роджу.
Его люди называли его Бычьей Шеей, что прекрасно отражает его характер и внешность, ибо никогда ранее не встречал я более упрямого и подозрительного человека. После победы рога Хоремхеба трубили целый день, прежде чем Роджу поверил, что можно без опаски открыть ворота. И даже тогда он впустил лишь одного Хоремхеба, дабы увериться, что этот человек действительно тот, за кого он себя выдает, а не переодетый сириец.
Осада Азиру была детской игрой в сравнении с безжалостной и упорной атакой хеттов. День и ночь они метали горящие головни, и к нашему приходу лишь немногие из жителей остались в живых. Несколько женщин и стариков выползли к нам из-под развалин своих домов похожие на тени, так ужасающе они были истощены. Все дети погибли, а мужчины были изнурены до смерти непосильной работой под плеткой Роджу, чиня проломы в стене. Оставшиеся в живых не выказывали никакой радости при виде египетских войск, проходящих через разрушенные ворота. Женщины грозили нам костлявыми кулаками, а старики проклинали нас. Хоремхеб раздавал им зерно и пиво, и многие умерли в ту ночь в мучениях. В первый раз за многие месяцы они поели досыта, но их истощенные желудки не принимали пищу.
Если бы я мог, я бы описал Газу такой, какой я увидел ее в этот день победы. Я описал бы высохшую человеческую кожу, свисавшую со стен города, и почерневшие черепа с выклеванными хищными птицами глазами. Я рассказал бы об обуглившихся развалинах и почерневших костях животных, лежавших на заваленных камнями улицах. Я бы воссоздал, если бы мог, ужасающий смрад осажденного города — запах мора и смерти, который заставлял людей Хоремхеба зажимать носы. Я описал бы все это, дабы дать какое-то представление об этом великом часе победы и объяснить, почему я не мог искренне радоваться этому долгожданному дню, о котором так долго мечтали.
Каждому оставшемуся в живых воину Газы Хоремхеб пожаловал золотую цепь; это недорого обошлось ему, ибо уцелело менее двух сотен мужчин. И то, что они выстояли, было чудом. Но Роджу Бычьей Шее Хоремхеб даровал цепь из зеленых драгоценных камней, оправленных в золото с эмалью, а также золотую плеть; он заставил своих людей приветствовать Роджу так, что от их криков задрожали стены. Все приветствовали его с глубоким и искренним восхищением как человека, который удержал Газу в своих руках.
Когда крики замолкли, Роджу подозрительно ощупал свою цепь и промолвил:
— Ты, кажется, принимаешь меня за коня, Хоремхеб, раз украшаешь золотой сбруей? А эта плеть из чистого золота или из сирийского сплава?
Он сказал также:
— Убери своих людей из города, ибо толпы сводят меня с ума. Я не могу заснуть в своей башне ночью от их шума, хотя я спал беспробудным сном, когда тараны с грохотом били в ворота и пожары потрескивали на каждому углу. Забери своих людей отсюда, ибо в Газе я фараон, и я велю моим людям напасть на твоих и убить их, если они не прекратят этот шум и не дадут мне уснуть.
И действительно, оказалось, что Роджу Бычья Шея лишился сна теперь, когда осада была снята. Ни лекарства, ни вино не помогали ему. Он лежал на своем ложе, размышляя и пытаясь вспомнить, каким образом были израсходованы все припасы.
Однажды он очень робко подошел к Хоремхебу и сказал:
— Ты мой господин и ты главнее меня. Накажи меня, ибо я несу ответственность перед фараоном за все, что он доверил мне. Но что мне теперь делать? Все мои записи сгорели, когда хетты швыряли кувшины с огнем в мои покои, а моя память ослабела от бессонницы. Мне кажется, что я помню все остальное, но на складах должны были храниться четыре сотни кожаных подхвостников для ослов, а я нигде не могу найти их. И мои складские писцы тоже не могут найти их, хотя я и стегаю их плеткой каждый день. Они уже не могут ни сидеть, ни ходить, а ползают по полу на четвереньках. Хоремхеб, где эти четыре сотни подхвостников, которые так и не понадобились, ибо мы давным-давно съели ослов? Заклинаю тебя Сетом и всеми демонами! Высеки меня на виду у всех, ибо гнев фараона внушает мне ужас. Я не посмею войти к нему, как того требует моя должность, прежде чем не найду эти подхвостники.
Хоремхеб пытался успокоить его, уверяя, что с радостью даст ему четыре сотни подхвостников, но это предложение повергло Роджу в еще большее смятение.
Он сказал:
— Очевидно, ты хочешь вовлечь меня в обман, ибо, если я приму их, это будут все же не те подхвостники, что были доверены мне. Ты делаешь это для того, чтобы унизить меня и очернить в глазах фараона, ибо ты завистлив и домогаешься места начальника гарнизона Газы. Я не поддамся на твои лживые предложения, а найду те четыре сотни подхвостников, пусть даже мне придется снести всю Газу камень за камнем, чтобы сделать это.
Без ведома Хоремхеба Роджу велел казнить складского чиновника, который вынес бок о бок с ним все тяготы осады, и распорядился, чтобы люди разрыли мотыгами пол его башни, дабы найти сбрую. Когда Хоремхеб увидел это, он приказал запереть Роджу в его покоях и следить за ним, а затем обратился ко мне за советом. Я посетил Роджу и, прибегнув к помощи множества сильных мужчин, привязал его к ложу, а затем дал ему успокаивающее лекарство. Но его глаза сверкали, как у дикого зверя, он корчился на своем ложе с пеной у рта от бешенства.
Он говорил мне:
— Разве я не начальник Газы, о шакал Хоремхеба! Я припоминаю теперь, что в крепостной темнице содержался сирийский лазутчик, которого я поймал до прихода твоего хозяина. За множеством забот я забыл повесить его на стене. Этот лазутчик крайне хитрый малый, и теперь я понял, что это он удрал, прихватив с собой те четыре сотни подхвостников. Доставь его мне, дабы я мог выжать их из него и снова спать спокойно.
Он так долго бредил этим сирийским лазутчиком, что я устал и с зажженным факелом спустился в темницу, где увидел несколько обглоданных крысами тел, в сидячих позах прикованных к стене. Стражником там был слепой старик, которого я стал расспрашивать о сирийском лазутчике, заключенном в темницу незадолго до снятия осады. Он клялся и уверял меня, что все узники давным-давно погибли, ибо их сначала пытали на дыбе, а затем оставили без пищи и воды. Я хорошо знаю людей, и поведение старика показалось мне подозрительным.
Я стал допрашивать его с пристрастием, угрожая ему до тех пор, пока он не пал ниц передо мной, говоря:
— Пощади меня, господин, ибо я преданно служил Египту всю жизнь и во имя Египта мучил узников и крал их еду. Но этот лазутчик — необычный человек. И речь его необычна, он разливается соловьем, и он обещал мне огромное богатство, если я буду кормить его и сохраню ему жизнь до прихода Хоремхеба. Он также обещал вернуть мне зрение, ибо он был слеп до тех пор, пока великий врач не излечил ему один глаз. Он обещал отвести меня к этому великому врачу, чтобы и мне вернули зрение и чтобы я мог жить в городе среди родных и пользоваться своими богатствами. Он уже задолжал мне более двух миллионов дебенов золота за хлеб и воду, которые я давал ему, и я скрыл от него, что осада окончена и что Хоремхеб вошел в Газу, ибо он с каждым днем был должен мне все больше и больше. Он клянется, что Хоремхеб освободит его и дарует ему золотую цепь, и я не могу не верить ему, так как перед его красноречием невозможно устоять. И все-таки я не собирался отводить его к Хоремхебу, пока он не задолжает мне три миллиона дебенов золота. Это круглая сумма, и ее легко запомнить.
У меня задрожали колени и сердце защемило в груди, ибо я, кажется, понял, о ком он говорил. Но я сдержался и сказал:
— Старик, во всем Египте и Сирии вместе взятых не набрать столько золота. Из твоих слов я понял, что этот человек — великий обманщик и заслуживает наказания. Сейчас же приведи его ко мне и моли всех богов, чтобы ничего дурного не случилось с ним, потому что ты ответишь за это своей слепой старой головой.
Горько плача и призывая на помощь Амона, старик отвел меня в маленький подвал позади других, вход в который был заложен камнями, чтобы люди Роджу не смогли обнаружить его. Когда я осветил эту нору своим факелом, я увидел прикованного к стене человека в рваном сирийском одеянии; спина его была ободрана, а отощавшее брюхо повисло складками. Один глаз его был слеп, а другим он, моргая при свете факела, уставился на меня.
Он сказал:
— Ты ли это, мой господин Синухе? Да будет благословен день, когда ты пришел ко мне, но вели кузнецу поскорее освободить меня от этих оков. Принеси мне кувшин вина, чтобы я мог забыть о своих страданиях, и вели рабам вымыть меня и намазать отборными притираниями, ибо я привык к удобству и жизни в достатке, а эти острые камни стерли всю кожу с моего зада. Я также не возражаю против мягкого ложа и нескольких девственниц богини Иштар, дабы они убедились, что мое брюхо больше не мешает мне в радостях любви. Хотя, хочешь верь, хочешь нет, но за несколько дней я съел хлеба более чем на два миллиона дебенов.
— Капта, Капта! — вскричал я, падая на колени и обнимая его покусанные крысами плечи. — Ты неисправим! В Фивах мне сказали, что ты мертв, но я не хотел верить этому, ибо, по-моему, ты никогда не умрешь. И самое лучшее доказательство моей правоты — то, что я нашел тебя здесь, в подвале смерти, в добром здравии среди трупов, хотя те, кто погиб в цепях вокруг тебя, были более уважаемыми людьми и ублажали своих богов усерднее тебя. Я так рад найти тебя живым!
Капта отвечал:
— Ты все тот же тщеславный болтун, господин мой Синухе. Не говори мне о богах, ибо в моем несчастье я взывал ко всем богам, каких знаю, даже к вавилонским и хеттским, и ни один из них не пришел мне на помощь. Я проелся до нищенского состояния из-за этого скаредного стражника. Один лишь скарабей помог мне и привел тебя ко мне, ибо начальник этой крепости — сумасшедший и не понимает разумных слов. Он позволил своим людям ограбить меня и пытать самым ужасным образом, так что я ревел, как бык, на их колесе. Но скарабея я сохранил на свое счастье, ибо, поняв, что меня ожидает, я спрятал его в той части тела, которая оскорбительна для бога, но, возможно, понравилась скарабею, потому что он привел тебя ко мне. Только этим можно объяснить такую встречу.
Он показал мне скарабея, от которого все еще исходил дурной запах того места, куда его прятали. Я распорядился, чтобы кузнецы освободили его от оков, и затем отвел его в мои покои в крепости, так как он ослабел и его глаз отвык от света. По моему приказанию рабы омыли его, умастили мазями и одели в лучшие одежды, а я одолжил ему золотую цепь, браслеты и другие украшения, чтобы он мог выглядеть подобающим его званию образом. Его побрили и завили ему волосы. Тем временем он ел мясо, пил вино и рыгал от удовольствия. Но тюремный стражник плакал и горько жаловался за дверью, крича, что Капта должен ему два миллиона триста шестьдесят пять дебенов золота за спасение его жизни и кормежку в темнице. Он не хотел уступить ни одного дебена из этой суммы, утверждая, что ради Капта рисковал своей собственной жизнью и воровал для него пишу.
Я устал от громких криков и сказал, обращаясь к Капта:
— Хоремхеб находится в Газе уже более недели, а старик обманывал тебя. Ты не должен ему ничего. Я велю воинам выпороть его, а если понадобится, они отрубят ему голову, ибо он мошенник и многие погибли из-за него.
Но Капта был потрясен моими словами и ответил:
— Я человек чести! Купец должен выполнять свои обязательства, если хочет сохранить доброе имя. Знай я, что мне суждено остаться в живых, я бы, конечно, поторговался с ним. Но, чуя запах хлеба в его руке, я обещал ему все что он просил.
Я изумленно уставился на него.
— Ты ли эго, Капта? Я не могу в это поверить. Какое-то проклятье таится в камнях этой крепости, ибо всякий, кто остается в ее стенах, теряет разум. И ты тоже спятил. Неужели ты хочешь выплатить ему все что должен? И чем ты ему заплатишь? Сдается мне, что с тех пор, как пало царство Атона, ты так же беден, как и я.
Но Капта был пьян и ответил:
— Я благочестивый человек. Я чту богов и держу свое слово. Я намерен выплатить ему мой долг до последнего дебена, хотя, конечно, он должен дать мне время. В своей простоте он, без сомнения, довольствовался бы и парой дебенов, ибо никогда в жизни его руки не держали золота. Да он был бы вне себя от радости, получив лишь один дебен, но это не освобождает меня от обязательств. Не знаю, где я найду столько, поскольку я много потерял во время беспорядков в Фивах, бежав оттуда позорным образом и оставив все, что у меня было. Рабов убедили, что я предал их Амону, и они хотели меня убить. После этого я оказал большие услуги Хоремхебу в Мемфисе, но ненависть рабов настигла меня даже там. После этого я оказывал ему еще большие услуги в Сирии, ибо жил там как купец и продавал зерно и корм для лошадей хеттам. Я подсчитал, что Хоремхеб уже должен мне полмиллиона дебенов золота и даже больше, так как я вынужден был бежать в Газу по морю в очень маленькой лодке, рискуя жизнью. Хетты, как ты понимаешь, были вне себя от ярости, потому что их лошади заболели от корма, который я поставлял им. А в Газе я рисковал еще больше. Сумасшедший начальник посадил меня в темницу как сирийского шпиона и пытал меня на колесе, и, несомненно, моя шкура болталась бы сейчас на стене, если бы этот полоумный старик не спрятал меня и не поклялся, что я погиб в темнице. Вот поэтому я обязан вернуть ему долг.
Тут у меня открылись глаза, и я понял, что это Капта был лучшим осведомителем Хоремхеба в Сирии и его главным шпионом — разве тот бедный человек, который пришел ночью к шатру Хоремхеба, не прикрывал один глаз рукой в знак того, что его прислал одноглазый? Я понял, что никто другой не смог бы совершить такие чудеса, ибо в хитрости у Капта не было равных.
Я сказал ему:
— Что из того, что Хоремхеб должен тебе много золота? Тебе хорошо известно, что он никогда не платит долгов.
— Это так. Он жестокий и неблагодарный человек, даже более неблагодарный, чем этот сумасшедший начальник, которому я передавал зерно в запечатанных кувшинах. Хетты думали, что кувшины полны ядовитых змей, потому что в доказательство этого я разбил один из них и змеи закусали троих хеттских воинов до смерти. После этого хетты не испытывали желания открывать другие кувшины. Не имея возможности заплатить мне золотом, Хоремхеб назначит меня сборщиком портовых налогов и дани с захваченных городов. Он передаст мне всю торговлю сирийской солью и многими другими товарами и таким образом возместит мои затраты.
В его словах был здравый смысл, но я все-таки удивился:
— Неужели ты собираешься трудиться всю свою жизнь, чтобы заплатить этому старому безумцу, который так беснуется у меня за дверью?
Капта отпил вина и, причмокнув губами, сказал:
— Поистине стоит помучиться недельку-другую в темной норе на жестких камнях и пить вонючую воду, чтобы получить полное наслаждение от мягких сидений, хорошего освещения и вкуса вина. Нет, Синухе, я не такой безумец, как ты думаешь. И все-таки мое слово твердо, а потому ты должен вернуть ему зрение, как я обещал, чтобы он смог научиться играть со мной в кости. Он был азартным игроком до того, как ослеп, и, если он проиграет, что я могу поделать? Ты, конечно, понимаешь, что я собираюсь играть на очень высокие ставки.
Я понял, что это был действительно единственный достойный выход для Капта выплатить огромный долг, ибо Капта был искусным игроком, если кости выбирал он сам. Я обещал применить все свое искусство и вернуть старику зрение, по крайней мере настолько, что он сможет различать очки на костях. За это Капта обещал послать Мути серебра, которого хватило бы на восстановление дома медеплавильщика в Фивах и на ее безбедное существование во время моего отсутствия.
Я позвал старика, и Капта заверил его, что выплатит ему долг, если тот согласится немного подождать. Я осмотрел его глаза и понял, что его слепота происходила не от жизни в темноте, а от старой запущенной болезни. На следующий день я вылечил его при помощи иглы тем способом, который я усовершенствовал в Митанни. Я не мог сказать, как долго он будет зрячим, ибо на глазах, вылеченных таким способом, через небольшой промежуток времени образуются рубцы и окончательную потерю зрения нельзя ни предотвратить, ни устранить.
Я привел Капта к Хоремхебу, и тот обрадовался ему Он обнял его и назвал храбрецом, уверяя, что весь Египет благодарен ему за его великие дела.
Но Капта опустил голову и заплакал, приговаривая:
— Посмотри на мое брюхо, которое стало, как пустой мешок, из-за моих трудов ради тебя. Взгляни на мой покалеченный зад и на мои уши, изорванные в клочья тюремными крысами Газы! Ты говоришь мне о благодарности, от которой мне ни тепло, ни холодно. Нигде не вижу я мешков с золотом, которые ты обещал мне. Нет, Хоремхеб, я не прошу благодарности, я прошу, чтобы ты, как человек чести, заплатил мне свой долг, ибо мне тоже надо выплатить долги. Поистине я глубоко увяз в долгах, глубже, чем ты можешь себе представить.
Хоремхеб помрачнел и, похлопывая себя по ноге плетью, ответил:
— Ты рассуждаешь как дурак, Капта. Ты хорошо знаешь, что у меня нет добычи, которой я мог бы поделиться с тобой, и что все золото, попавшее в мои руки, идет на войну с хеттами. Я и сам беден, и одна лишь слава мне наградой. Самое большее, что я могу сделать для тебя, так это заточить твоих заимодавцев в тюрьму, обвинив их во множестве преступлений, и повесить их на стене, освободив таким образом тебя от уплаты долгов.
С этим Капта не мог согласиться. Хоремхеб разразился грубым хохотом и сказал:
— Капта, как ты дошел до тою, что тебя привязали к колесу как сирийского шпиона и бросили в темницу? Хоть Роджу и сумасшедший, но он все же прекрасный воин и, должно быть, имел основания для этого.
Капта разорвал на себе богатые одежды в знак невиновности, ударил себя в грудь и вскричал:
— Хоремхеб, Хоремхеб! Не ты ли только что говорил мне о благодарности, и лишь для того, чтобы потом оскорбить меня ложными обвинениями? Разве не я отравил лошадей хеттов и тайно доставил зерно в Газу? А когда ты стоял лагерем в пустыне, не я ли нанял лысого человека, чтобы он подробно рассказал тебе о расположении врагов? Не я ли нанял рабов, чтобы они вспороли бурдюки с водой в хеттских колесницах, когда они нападали на тебя? Все это я делал для тебя и для Египта, не думая о прибыли. Это только честно и справедливо, что я должен был оказать некие безобидные услуги хеттам и Азиру. Вот почему, когда я бежал в Газу, у меня была при себе табличка с охранной грамотой от Азиру. Мудрый человек должен все предусмотреть и иметь много стрел в своем колчане. Ни тебе, ни Египту не было бы от меня ни малейшей пользы, если бы мой скелет вывесили для просушки на стене. Я носил охранную грамоту с собой, ибо, промедли ты хоть немного, Газа пала бы. Но Роджу подозрителен, и напрасно я прикрывал свой слепой глаз и рассказывал о ядовитых жуках, как мы договорились. Он не поверил ни одному моему слову и растягивал меня на колесе до тех пор, пока я не взревел, как бык, и не сказал, что я лазутчик Азиру.
Хоремхеб рассмеялся и ответил:
— То, через что ты прошел, и будет твоей наградой, мой добрый Капта. Я знаю тебя, а ты знаешь меня. Не докучай мне более этим золотом, ибо такие разговоры раздражают меня и выводят из терпения.
Но Капта настаивал до тех пор, пока наконец не добился от Хоремхеба исключительного права на покупку и продажу всей военной добычи в Сирии. Он мог скупать, делать ставкой в игре или обменивать на пиво, вино и женщин любую добычу, которая была поделена между солдатами. Ему также разрешалось продавать долю добычи фараона и долю Хоремхеба и обменивать ее на товары, в которых нуждалось войско. Одно это право делало его богатым человеком; тем не менее он потребовал такого же права на любую сирийскую добычу, которая достанется в будущем армии Хоремхеба. Хоремхеб согласился, поскольку это ему ничего не стоило, а взамен Капта обещал ему щедрые подарки.
3
Когда Хоремхеб починил все свои колесницы, набрал вспомогательные войска в Египте, собрал в Газе всех лошадей южного Египта и обучил свое войско, он обнародовал послание, гласящее, что он пришел как освободитель Сирии, а совсем не как завоеватель. Под дружественным покровительством Египта, утверждал он, все сирийские города обрели независимость и право свободной торговли, каждый под властью своего правителя. Из-за низкого предательства Азиру эти города были вынуждены подчиниться его тиранической власти. Азиру отнял у царей наследственные короны и обложил города обременительными налогами. По своей жадности он продал Сирию хеттам, в чьей жестокости и злодеяниях сирийцы убеждались повседневно. Посему он, Хоремхеб Непобедимый, Сын Сокола, пришел освободить Сирию от ярма рабства, поощрить торговлю и восстановить власть прежних царей, дабы под защитой Египта страна процветала и благоденствовала, как прежде. Он обещал свою помощь каждому городу, который изгоняет хеттов и запирает свои ворота перед Азиру.
А те города, которые будут продолжать сопротивляться, он сожжет, разграбит и разрушит, сотрет их стены с лица земли навечно и уведет жителей в рабство.
Наконец Хоремхеб двинулся в поход на Иоппию и послал свой флот закрыть вход в гавань. С помощью своих шпионов он распространял эти воззвания, вызывавшие большую растерянность и смятение в городах и споры среди врагов, что и было их единственной целью. Но Капта, человек осторожный, оставался за стенами Газы на тот случай, если Хоремхеб потерпит поражение, ибо Азиру и хетты, объединившись, собирали громадные силы в глубине страны.
Роджу Бычья Шея примирился с Капта, который рассеял его заблуждения, объяснив, что воины, занимавшиеся грабежами во время осады, украли четыре сотни подхвостников со склада конской сбруи и съели их, потому что они были изготовлены из мягкой кожи и их можно было жевать, заглушая муки голода. Когда Роджу услышал это, припадок его бешенства утих настолько, что его уже можно было развязать, и он простил своим товарищам воровство за их великую доблесть.
Когда Хоремхеб отбыл со своими воинами, Роджу запер ворота Газы, торжественно поклявшись, что никогда более не впустит никакие войска в город. Он пил вино и наблюдал за игрой Капта со стражником. К моменту отъезда Хоремхеба Капта отыграл у старика только полтора миллиона дебенов золота. Они пили и бросали кости с утра до ночи, ссорились и швыряли кости в лицо друг другу, хлопали в ладоши и высыпали кости из чашки так, что те катились по полу. Жадный старик делал только маленькие ставки, он горевал и оплакивал каждую свою потерю. Едва Хоремхеб осадил Иоппию, Капта заставил старика поднять ставки; когда же гонец принес весть, что Хоремхеб прорвался в город, Капта, бросив кости несколько раз, обобрал своего противника так, что тот оказался должен ему несколько сотен тысяч дебенов золота. Капта, однако, был великодушен и простил долг. Он пожаловал старику новые одежды и пригоршню или около того серебра, так что тот плакал от радости и благословлял Капта как своего благодетеля.
Не знаю, жульничал ли Капта и не играл ли он костями, налитыми свинцом. Знаю только, что играл он с огромным мастерством и невероятной удачливостью. Россказни об этой азартной игре на миллионы — игре, которая продолжалась много недель подряд, — распространились по всей Сирии, а старик, вскоре снова ослепший, доживал остаток своих дней в маленькой хижине у стен Газы. Путешественники приезжали к нему даже из других городов, и он рассказывал об этой игре. Годы спустя он мог повторить счет каждого кона, ибо у слепых хорошая память. Но более всего он гордился, рассказывая о последнем коне, во время которого проиграл сто пятьдесят тысяч дебенов золота, ибо никогда ранее при игре в кости не разыгрывались такие высокие ставки. Люди приносили ему подарки, уговаривая его повторить эту историю, так что он не испытывал нужды, а жил в еще большем достатке, чем если бы Капта содержал его.
Когда пала Иоппия, Капта поспешил туда, и я вместе с ним. Мы в первый раз увидели этот цветущий город в руках завоевателей. Хотя самые смелые из его жителей подняли восстание против Азиру и хеттов, когда Хоремхеб ворвался в город, он все же не пощадил его. В течение двух недель он позволял своим людям грабить и разорять его. Капта нажил огромное состояние в этом городе, ибо воины обменивали бесценные ковры, мебель, статуи и другие вещи, которые не могли унести с собой, на серебро и вино. Красивую стройную сирийскую женщину можно было купить в Иоппии за пару медных колец.
Здесь я окончательно убедился в жестокости человека по отношению к ближнему. Среди пьянства, разбоя и поджогов совершались всевозможные мерзости. Воины поджигали дома ради забавы, так, чтобы ночью было видно, где грабить, где насиловать, и пытали купцов, принуждая их указывать тайники с сокровищами. Были и такие, что развлекались, стоя на углу улицы и забивая до смерти дубинками или копьями каждого сирийца, проходящего мимо, будь то мужчина или женщина, ребенок или старик. Вид этих беззаконий вызвал во мне ожесточение. Все, что творилось в Фивах во имя Атона, пустяки по сравнению с тем, что совершалось в Иоппии при Хоремхебе. Он дал полную волю солдатам, чтобы еще крепче привязать их к себе. Во избежание участи Иоппии многие города, расположенные вдоль побережья, сами изгнали хеттов.
Я не хочу более говорить о тех днях, ибо при воспоминании о них сердце каменеет у меня в груди и холодеют руки. Скажу только, что во время нападения Хоремхеба в городе, помимо отряда Азиру и воинов-хетгов, было около двадцати тысяч жителей. А после его ухода в живых осталось не более трех сотен.
Так Хоремхеб вел войну в Сирии, и я следовал за ним, перевязывая раненых и становясь свидетелем всего зла, которое одно человеческое существо может причинить другому. Война продолжалась три года, в течение которых Хоремхеб побеждал хеттов и воинов Азиру во многих битвах. Дважды его отряды были застигнуты врасплох летучими отрядами хеттских колесниц, что нанесло ему огромный урон и вынудило отступить за стеньг захваченных городов. Он ухитрился поддерживать связь с Египтом морским путем, а сирийский флот уже не смог достичь превосходства над его флотом, закалившимся в боях. Потерпев поражение, он всегда мог вызвать подкрепление из Египта и собрать силы для новых сражений. Города Сирии лежали в развалинах, и люди прятались, как дикие звери, в укромных местах у холмов. Вся страна была разорена, одичавшие полчища вытаптывали хлеб на корню и ломали фруктовые деревья, чтобы враг не мог выжить в собственной стране. Так иссякло богатство Египта и убыл цвет нации, что Египет уподобился матери, раздирающей одежды и посыпающей голову пеплом при виде гибели своих детей. На всем протяжении реки, от Нижнего Царства до Верхнего, не было города, селения или лачуги, где бы не потеряли мужей и сыновей, павших в Сирии во имя величия Египта.
За эти три года я состарился быстрее, чем за всю мою жизнь. Волосы мои выпали, спина согнулась, а лицо покрылось морщинами, как высушенный плод. Я огрызался на больных и резко говорил с ними, как это бывает со многими врачами в старости, несмотря на их благие намерения. В этом я нисколько не отличался от других врачей, хотя и повидал больше, чем они.
На третий год в Сирию пришел мор, ибо он всегда идет по стопам войны, зарождаясь везде, где скапливается несметное множество разлагающихся трупов. Вся Сирия была как одна огромная разверстая могила. Вымирали целые народы, а вместе с ними забывались их наречия и обычаи. Мор добивал тех, кого пощадила война. У обеих армий, и у Хоремхеба, и у хеттов, он вызвал столько жертв, что военные действия прекратились и войска бежали в горы или в пустыню, подальше от повальной заразы. Мор не разбирал ни чинов, ни званий: благородные и простолюдины, богатые и бедные были его жертвами, и не было от него спасения. Те, кто заболевал, ложились, укрывались с головой и чаще всего умирали за три дня. У тех, кто выжил, оставались ужасные рубцы под мышками и в паху; по мере выздоровления приходилось выдавливать накопившуюся там жидкость.
Эта болезнь и убивала, и щадила без разбора. Не всегда выживали самые сильные и здоровые, но часто в живых оставались слабые и истощенные, как будто болезнь понимала, что здесь ей нечем поживиться. Наконец я стал делать самые обильные кровопускания и запрещал есть на протяжении всей болезни. Многих я излечивал таким способом, но столько же умерло, и я не был уверен в правильности этого способа лечения. И все-таки я должен был что-то делать для них, чтобы они не утратили веру в мое искусство. Больные, которые теряют веру в выздоровление и в мастерство своего врача, умирают чаще тех, кто верит и в то, и в другое. Я лечил лучше, чем многие другие, ибо по крайней мере больным это обходилось дешевле.
Корабли завезли чуму в Египет. Но здесь умерло меньше народу. Чума потеряла свою силу, и выздоровевших было больше, чем умерших. Она ушла из страны в тот же год с началом половодья. Зимой она ушла и из Сирии, что дало возможность Хоремхебу снова собрать свои войска и продолжить войну. Следующей весной он перевалил через горы на равнину Мегиддо и победил хеттов в великой битве. Когда Бурнабуриаш Вавилонский увидел успехи Хоремхеба, он воспрял духом и вспомнил о союзе с Египтом. Он послал войска туда, где раньше была земля Митанни, и прогнал хеттов с их пастбищ в Нахарани. Когда хетты поняли, что разоренная Сирия теперь вне пределов досягаемости, они предложили мир, будучи мудрыми воителями и бережливыми людьми и не желая рисковать своими колесницами во имя пустой славы, тем более что колесницы были им нужны для усмирения Вавилона.
Хоремхеб обрадовался миру. Его войско сократилось, а война истощила Египет. Он хотел укрепить Сирию и ее торговлю и таким образом получить от этой страны какую-то выгоду. Он согласился заключить мир при условии, что хетты отдадут Мегиддо, который Азиру сделал своей столицей, укрепив его неприступными стенами и башнями. И вот хетты взяли Азиру в плен и, отобрав у него огромные богатства, которые он собрал туда со всей Сирии, привели его, закованного в цепи, вместе с женой и двумя сыновьями к Хоремхебу. Затем они разграбили Мегиддо и погнали стада и гурты Амурру на север, прочь из страны, которая, по условиям мира, была теперь под властью Египта.
Хоремхеб не шутил. Завершив войну, он устроил пир для хеттских принцев и военачальников и пил вино с ними всю ночь, хвастаясь своей доблестью. На следующий день он должен был казнить Азиру и его семью перед собравшимися войсками в знак вечного мира, воцаряющегося отныне между Египтом и землей Хетти.
Я не участвовал в этом пире, а направился в темноте к шатру, где лежал Азиру в цепях. Я пошел к Азиру, ибо во всей Сирии у него сейчас не было ни единого друга. У человека, который потерял все, чем он владел, и приговорен к позорной смерти, никогда не бывает друзей. Я знал, что он горячо любит жизнь, а я надеялся убедить его своим рассказом об увиденном, что жизнь не стоит того. Я хотел уверить его как врач, что смерть легка, легче, чем мучения жизни, беды и страдания. Жизнь — это обжигающее пламя, а смерть — темные воды забвения. Я хотел сказать ему все это, ибо он должен был умереть на следующее утро и, должно быть, не мог уснуть, так как слишком дорожил жизнью. Если он не захочет слушать меня, я решил сидеть рядом, дабы он не лежал в одиночестве. Человек, возможно, способен прожить без друзей, но умереть без единого друга — это воистину тяжко, а тяжелее всего тому, кто прожил жизнь властвуя.
Азиру и его семью привели с позором в стан Хоремхеба, и воины насмехались над ним и бросали в него грязью и конским навозом. Тогда я не показывался ему и прикрыл свое лицо одеждой. Он был чрезвычайно гордый человек и не захотел бы, чтобы я видел его унижение, ибо я знал его в дни величия и могущества. А теперь я шел в темноте к его шатру, и стражники говорили друг другу:
— Давайте впустим его, это Синухе, врач, и он имеет на это право. Если мы запретим ему это, он будет бранить нас или при помощи колдовства лишит нас мужества. Он злобный человек, и его язык жалит больнее, чем скорпион.
В темноте шатра я позвал:
— Азиру, царь Амурру, примешь ли ты друга на пороге смерти?
Азиру глубоко вздохнул, цепи его загремели, и он ответил:
— Я более не царь и у меня нет друзей. Но ты ли это, Синухе? Я узнаю твой голос даже в темноте.
— Это я.
— Клянусь Мардуком и всеми демонами подземного мира! Если ты Синухе, принеси свет. Я устал лежать в темноте; вскоре у меня будет ее вдоволь. Проклятые хетты разорвали мою одежду и перебили мне руки и ноги в пытках, так что на меня не очень приятно смотреть. Хотя как врач ты, должно быть, привык и к худшему, и мне не стыдно, ибо перед лицом смерти не пристало краснеть за свое убожество. Принеси свет, дабы я смог увидеть твое лицо и вложить свою руку в твои руки. Моя печень болит и слезы струятся из глаз при мысли о жене и сыновьях. А если ты сможешь достать немного крепкого пива, чтобы смочить мне горло, я буду вспоминать все твои добрые дела завтра в царстве мертвых. Я не могу заплатить даже за один глоток, ибо хетты украли у меня мой последний слиток меди.
Я приказал стражникам принести масляный светильник и зажечь его, потому что едкий дым факелов разъедал мне глаза. Они принесли также кувшин пива. Азиру со стоном сел, и я помог ему поднести ко рту тростинку, чтобы он мог сосать сирийское пиво, мутное от шелухи и солода. Его волосы были спутаны и седы, а его роскошную бороду вырвали во время пыток, которым подвергли его хетты, и вместе с ней были содраны огромные лоскуты кожи. Его пальцы были раздроблены, ногти почернели от крови, ребра сломаны так, что стон вырывался из его груди с каждым вздохом, и он харкал кровью.
Выпив и отхаркавшись, он уставился на пламя светильника и сказал:
— Как чист и нежен этот свет для моих усталых глаз после того, как я пролежал так долго в темноте! Пламя вспыхивает и умирает точно так же, как вспыхивает и умирает жизнь человека. Благодарю тебя, Синухе, за свет и за пиво, я бы и сам охотно сделал тебе подарок. Тебе хорошо известно, что я больше не могу ничего дарить, ибо мои друзья-хетты в своей алчности выбили мне даже зубы, которые ты позолотил.
Легко быть умным задним умом, и я не стал напоминать ему о том, что предупреждал его насчет хеттов. Я взял его раздробленную руку в свою и держал ее, и он склонил свою гордую голову и заплакал, так что слезы падали на мои руки из его подбитых и опухших глаз.
Он говорил:
— Я не стыдился радоваться и смеяться при тебе во дни моей славы, так почему же должен я стыдиться моих слез во дни горя? Знай, Синухе, я плачу не о себе, не о своих богатствах и не о царских коронах, хотя я всегда жадно цеплялся за власть и богатство этого мира. Я плачу о своей жене Кефтью, о моем большом красивом сыне и о моем маленьком-маленьком сыне, ибо они тоже должны умереть завтра.
Я ответил ему:
— Азиру, царь Амурру! Вспомни, что вся Сирия из-за твоего честолюбия превратилась в одну разверстую могилу. Бесчисленное множество народа полегло за тебя. И это хорошо, что ты должен умереть завтра, поскольку ты проиграл. Может быть, справедливо и то, что твоя семья должна умереть вместе с тобою. Знай, однако, что я молил Хоремхеба пощадить жизнь твоей жены и сыновей, но он не согласился, ибо хочет уничтожить твое семя, и твое имя, и даже память о тебе в Сирии. Поэтому он даже не позволит похоронить тебя в могиле, Азиру, и дикие звери будут рычать над твоими останками. Он не хочет, чтобы мужчины Сирии собирались в будущем у твоей гробницы и беззаконно клялись твоим именем.
Азиру выслушал это в смятении и сказал:
— Во имя моего бога Ваала принеси жертву мясом и вином перед Ваалом Амурру, когда я умру, Синухе, иначе я буду обречен скитаться, мучимый вечным голодом и жаждой, по темной обители смерти. Окажи эту услугу и Кефтью, которую ты любил когда-то, хотя и отдал мне ее во имя нашей дружбы, а также и моим сыновьям, чтобы я мог умереть со спокойной душой. Я не виню Хоремхеба за его приговор, ибо, без сомнения, я поступил бы с ним и его семьей точно так же, попадись он мне в руки. Сказать по правде, Синухе, хотя я и плачу, я рад, что моя семья должна погибнуть вместе со мной и наша кровь сольется в едином потоке. В царстве мертвых я бы испытывал вечные муки при мысли, что Кефтью принадлежит другому. У нее было много поклонников, и музыканты ударяли по струнам, превознося ее ослепительную красоту. Хорошо и то, что погибнут мои сыновья, ибо они были рождены царствовать и носили короны с младенчества. Я не хотел бы, чтобы их угнали в рабство в Египет.
Он опять потянул пиво и, несмотря на свои страдания, немного захмелел. Он отковыривал раздробленными пальцами грязь, которой его забросали воины, и говорил:
— Синухе, друг мой, напрасно ты обвиняешь меня, утверждая, что по моей вине вся Сирия теперь превращена в одну разверстую могилу. Меня нужно винить только в том, что я проиграл войну и позволил хеттам обмануть себя. Если бы я победил, во всех несчастьях обвинили бы Египет, а мое имя превозносили бы. Но я проиграл, и потому вина пала на меня, а мое имя проклинают во всей Сирии.
Крепкое пиво ударило ему в голову, он рвал свои седеющие волосы и кричал:
— О Сирия, Сирия! Мое мучение, моя надежда, моя любовь! Я делал все для твоего величия, и во имя твоей свободы я поднял мятеж, но теперь, в день моей смерти, ты отвергаешь меня. Прекрасный Библос, цветущая Смирна, коварный Сидон, Иоппия могущественная! О, все города, блиставшие, словно жемчужины в моем венце, почему вы покинули меня? И все же я люблю вас слишком нежно и не могу ненавидеть вас за предательство. Я люблю Сирию за то, что она — Сирия, лживая, жестокая, капризная и всегда готовая предать. Племена умирают; народы возрождаются только для того, чтобы прийти в упадок; царства исчезают без следа; слава и почести уходят как тень — и все-таки живите, живите, мои гордые города! Пусть ваши белые стены сияют на побережье у красных холмов! Блистайте из года в год, и мой прах, принесенный ветрами пустыни, прилетит, чтобы нежно коснуться вас!
Мое сердце переполняла печаль, ибо я видел, что он еще в плену своих грез, но я не хотел упрекать его, так как знал, что они утешали его на пороге смерти. Я держал его искалеченные руки в своих, а он держал мои руки, стеная.
Мы говорили всю ночь напролет, вспоминая наши встречи в то время, когда я жил в Сирии и мы оба были в расцвете нашей юности и сил. На рассвете мои рабы принесли нам еды, которую они приготовили, и стражники не запретили им, ибо и им перепало что-то. Рабы принесли нам горячего жирного барашка и рис, приготовленный в жире, а наши чаши они наполнили крепким вином Сидона, приправленным миррой. Я велел им отмыть Азиру от грязи, которой он был забрызган, причесать и убрать его бороду в сетку, сплетенную из золотых нитей. Я прикрыл его изодранную одежду и цепи царской мантией, ибо его оковы нельзя было снять, так как они были из меди и запаяны на нем, и я не смог переодеть его. Мои рабы оказали такие же услуги Кефтью и двум ее сыновьям, но Хоремхеб не позволил Азиру видеть жену и детей до встречи на месте казни.
Когда настал час и Хоремхеб с громким смехом вышел из своего шатра вместе с пьяными хеттскими принцами, я подошел к нему и сказал:
— Поистине, Хоремхеб, я оказал тебе много услуг и, может статься, я спас твою жизнь в Тире. Я вытащил отравленную стрелу из твоего бедра и перевязал рану. Окажи и ты мне услугу: позволь Азиру умереть без унижения, ибо он царь Сирии и он сражался храбро. Если ты согласишься с этим, это послужит к твоей собственной чести. Твои друзья-хетты достаточно пытали его и переломали ему руки и ноги, вынуждая открыть, где спрятаны его сокровища.
Хоремхеб очень помрачнел, услышав это, ибо придумал много разных способов продлить смертные муки. Все было готово, и уже на рассвете войско собралось у подножия холма, где должна была совершиться казнь. Люди дрались за лучшие места, чтобы хорошенько позабавиться предстоящим зрелищем. Хоремхеб устроил это не потому, что получал удовольствие от вида пыток, а потому, что хотел развлечь своих людей и навести ужас на всю Сирию, дабы после такой чудовищной смерти никто не посмел бы даже думать о мятеже. К чести Хоремхеба, я должен заметить, что по природе своей он не был таким жестоким, каким слыл. Он был воином, и смерть была не более чем оружием в его руках. Он позволял распространять слухи, преувеличивающие его жестокость, ибо они поражали ужасом сердца его врагов и внушали всем благоговение перед ним. Он считал, что люди больше уважают жестокого правителя, чем кроткого, и что они принимают доброту за слабость.
Он сердито нахмурился и, убрав руку с шеи принца Шубатту, встал передо мной, покачиваясь и похлопывая себя по ноге плетью. Он обратился ко мне:
— Ты, Синухе, подобен колючке, вечно торчащей в моем боку. У тебя все не так, как у разумных людей. Ты бранишь всех, кто преуспевает и добивается известности и богатства, и ты нежен и полон сострадания к тем, кто пал и потерпел поражение. Тебе хорошо известно, каких трудов и затрат стоило мне доставить сюда искусных палачей со всех уголков страны для Азиру; только за многочисленные дыбы и котлы заплачено огромное количество серебра. Я не могу в последнюю минуту лишить моих болотных крыс удовольствия, ибо они перенесли множество тягот и не раз истекали кровью от ран по вине Азиру.
Шубатту, принц хеттов, хлопнул его по спине и расхохотался:
— Правильно говоришь, Хоремхеб! Ты не лишишь нас удовольствия. Чтобы ты мог позабавиться, мы не стали срывать мясо с его костей, а только осторожно сжимали его клещами и деревянными тисками.
Эти слова задели самолюбие Хоремхеба, а, кроме того, ему не понравилось, что принц прикоснулся к нему. Он нахмурился и ответил:
— Ты пьян, Шубатту. А что до Азиру, то я только хотел показать всему миру судьбу, которая ожидает каждого, кто доверится хеттам! Поскольку в эту ночь мы стали друзьями и выпили много кубков за наше братство, я пощажу этого вашего союзника и во имя дружбы дарую ему легкую смерть.
Лицо Шубатту исказилось гневом, ибо хетты очень самолюбивы, хотя всем известно, что они предают и продают своих союзников, когда им эго выгодно. Конечно, все народы поступают так же, и все хорошие правители. Но хетты более откровенны в своих поступках, чем другие, и не ищут предлогов и оправданий для того, чтобы скрыть причины или придать им некую видимость справедливости. И однако Шубатту был разъярен. Его соратники прикрыли его рот рукой и, оттаскивая его от Хоремхеба, крепко держали его до тех пор, пока его бессильная ярость не вызвала рвоту вином, после чего он успокоился.
Хоремхеб потребовал Азиру из его шатра и был несказанно удивлен, увидев его выходящим на всеобщее обозрение величественной поступью царя, с царской мантией на плечах. Азиру наелся жирного мяса и напился крепкого вина. Он высоко держал голову и громко смеялся, идя к месту казни, и выкрикивал оскорбления военачальникам и стражникам. Его волосы были причесаны и завиты, его лицо лоснилось от масла, и он воззвал к Хоремхебу поверх голов воинов:
— Хоремхеб, грязный египтянин! Можешь больше не бояться меня, ибо я побежден и тебе нет нужды прятаться за копьями твоих воинов. Подойди сюда, чтобы я мог обтереть грязь с моих ног об твой плащ, ибо такого свинарника, как этот твой лагерь, я не видел за всю свою жизнь. Я хочу предстать пред Ваалом с чистыми ногами.
Хоремхеб был восхищен его словами и, громко смеясь, крикнул, обращаясь к Азиру:
— Я не могу приблизиться к тебе, ибо меня рвет от сирийского смрада, который исходит от тебя, несмотря на мантию, где-то тобою украденную, чтобы прикрыть свою грязную тушу. Но, без сомнения, ты храбрый человек, Азиру, раз смеешься над смертью. Я дарую тебе легкую смерть ради своего доброго имени.
Он велел своим телохранителям сопровождать Азиру и не позволять воинам закидывать его грязью. Головорезы Хоремхеба окружили его и ударяли древками копий каждого, кто наносил ему оскорбление, ибо они более не испытывали ненависти к Азиру за те великие страдания, которые он доставил им, но восхищались его храбростью. Они сопровождали также и царицу Кефтью, и двух сыновей Азиру к месту казни. Кефтью нарядилась, нарумянилась и набелилась, а мальчики шествовали к роковому месту царственной походкой, и старший вел за руку младшего.
Когда Азиру увидел их, силы ославили его, и он сказал:
— Кефтью, моя белая кобылица, моя любовь и зеница моего ока! Я поистине опечален тем, что ты должна следовать за мной даже в смерти, ибо жизнь все еще приносила бы тебе много радости.
Кефтью отвечала:
— Не печалься за меня, мой царь. Я следую за тобой по доброй воле. Ты мой муж, и силой своей ты подобен быку. И нет здесь мужчины, который смог бы удовлетворить меня после твоей смерти. За время нашей совместной жизни я всегда разлучала тебя с другими женщинами и привязывала тебя к себе. Я не позволю тебе одному отправиться в царство смерти, где все эти прекрасные женщины, что умерли раньше меня, без сомнения, ожидают тебя. Я последовала бы туда за тобой, даже если бы мне оставили жизнь. Я бы удавилась своими волосами, мой царь, ибо я была рабыней, а ты сделал меня царицей, и я родила тебе двоих сыновей.
Азиру возликовал от этих слов и обратился к своим сыновьям:
— Мои прекрасные мальчики! Вы пришли в этот мир царскими сыновьями. Так умрите, как подобает принцам, дабы мне не пришлось краснеть за вас. Верьте мне: смерть причиняет не больше боли, чем выдернутый зуб. Будьте мужественны, мои дорогие мальчики!
С этими словами он опустился на колени перед палачом. Повернувшись к Кефтью, он сказал:
— Я устал лицезреть этих зловонных египтян и их окровавленные копья вокруг меня. Обнажи свою прекрасную грудь, Кефтью, дабы я мог видеть твою красоту перед уходом. Я умру таким же счастливым, каким был при жизни с тобой.
Кефтью обнажила свою пышную грудь, палач поднял огромный меч и одним ударом снес голову Азиру. Она упала к ногам Кефтью; кровь вырвалась мощной струей из огромного тела при последних ударах сердца и забрызгала мальчиков, так что они были поражены ужасом и младший содрогнулся. Но Кефтью подняла голову Азиру с земли, поцеловала ее в опухшие губы и погладила разорванные щеки. Прижав его лицо к своей груди, она сказала, обращаясь к сыновьям:
— Поспешите, мои храбрые мальчики! Идите к своему отцу без страха, мои малютки, ибо ваша мать полна нетерпения последовать за ним.
Оба мальчика послушно преклонили колени, старший все еще держал младшего за руку, и палач без труда снес головы с их юных шей. Затем, ногой отодвинув их тела в сторону, он одним ударом разрубил полную белую шею Кефтью. Итак, всем им досталась легкая смерть. Но по приказу Хоремхеба их тела были брошены в яму на съедение диким зверям.
4
Итак, мой друг Азиру погиб, не пытаясь задобрить смерть, а Хоремхеб заключил мир с хеттами. Он знал так же хорошо, как и они, что этот мир не более чем перемирие, так как Сидон, Смирна, Библос и Кадеш все еще были под их властью. Хетты превратили Кадеш в хорошо укрепленную крепость для контроля над северной Сирией. Но сейчас и хетты, и Хоремхеб устали от войны, и Хоремхеб с радостью заключил мир, потому что в Фивах у него были дела, требующие его надзора. Ему надо было также восстановить порядок в земле Куш и среди нубийцев, которые одичали от свободы и отказывались платить дань Египту.
Тутанхамон правил в Египте в течение этих лет, хотя он был всего лишь подростком и не интересовался ничем, кроме сооружения своей гробницы. Люди винили ею во всех потерях и несчастьях, принесенных войной. Их ненависть к нему была жестокой, они говорили: «Чего можно ожидать от фараона, чья супруга происходит из рода лжефараонов?».
Эйе не преследовал за эти разговоры, но в свою очередь распространял среди народа новые рассказы о легкомыслии и жадности Тутанхамона и о его попытках собрать все сокровища Египта в свою гробницу.
Все это время я ни разу не был в Фивах, а следовал повсюду за войском, которому требовалось мое искусство, и делил с ним все трудности и лишения. Но от людей из Фив я узнавал, что фараон Тутанхамон был слаб и болезнен и что какой-то тайный недуг подтачивал его здоровье. Казалось, что война в Сирии истощила его силы. Каждый раз, когда приходили вести о победе Хоремхеба, фараон заболевая. После поражения он поправлялся и вставал с ложа. Это, говорили люди, имело все признаки колдовства, и каждый, имеющий глаза, мог видеть, что здоровье фараона связано с сирийской войной.
Постепенно Эйе становился все более нетерпеливым и время от времени отправлял такое послание Хоремхебу: «Неужели ты не можешь прекратить эту войну и дать мир Египту? Я уже стар и устал ждать. Побеждай, Хоремхеб, и принеси нам мир, дабы я мог получить заслуженную награду. А я позабочусь о том, чтобы и тебе досталось то, что положено».
По этой причине я не был удивлен, когда после того, как война закончилась, и мы плыли вверх по реке на военных кораблях, украшенных знаменами, нас встретили новостями о том, что фараон Тутанхамон ступил в золотую ладью своего отца, чтобы отплыть в Страну Запада. Говорили, что Тутанхамон перенес тяжелый приступ болезни в тот день, когда известия о падении Мегиддо и о заключении мира достигли Фив.
Причина рокового недуга послужила предметом обсуждения между врачами Обители Жизни. Было известно, что желудок фараона почернел от яда, но точной причины его смерти никто не знал. Народу следовало объявить, что он умер от приступа гнева, узнав об окончании войны, ибо он испытывал величайшую радость, видя страдания Египта.
Я же знаю, что, поставив свою печать под мирным договором, Хоремхеб убил фараона так же несомненно, как если бы вонзил ему в сердце нож. Эйе ждал только мира, чтобы убрать со своего пути Тутанхамона и взойти на престол как «мирный государь».
Нам пришлось запачкать лица и спустить яркие знамена, а глубоко оскорбленный Хоремхеб отвязал и выбросил в реку тела сирийских и хеттских военачальников, которых до того он, следуя примеру великих фараонов, повесил вниз головой на носах своих кораблей. Он оставил своих «болотных крыс» в Сирии, дабы те принесли этой стране мир и заодно отъелись после всех трудностей и испытаний войны. Своих головорезов, этих «мерзавцев», он привел с собою в Фивы праздновать заключение мира. Эти-то уж злились и проклинали Тутанхамона, который даже самой своей смертью сумел испортить им торжество.
Итак, я вернулся в Фивы и решил никогда более не покидать их. Я вдоволь насмотрелся на злые дела людские и понял, что нет ничего нового под этим древним солнцем. Я решил остаться в доме медеплавильщика и доживать свой век в бедности: все состояние, приобретенное мною в Сирии, ушло на жертвоприношение в память Азиру, ибо не было у меня желания держать эти богатства у себя. Я чувствовал исходивший от них запах крови и знал, что они не принесли бы мне радости.
Но, видно, не испил я еще до конца свою чашу горестей. Мне дали задание, приводившее меня в ужас, и выполнять его я не хотел. Я никак не мог уклониться от этого и снова, всего лишь несколько дней спустя, уехал из Фив. Эйе и Хоремхеб полагали, что сплели надежные сети и составили чрезвычайно хитроумные планы, которые должны были дать им всю полноту власти. Но эта власть ускользнула от них прежде, чем они это поняли, и судьбу Египта решала теперь женская прихоть…
Книга XV Хоремхеб
1
Эйе, согласно сделке, заключенной им с Хоремхебом, должен был быть коронован по окончании погребального обряда над Тутанхамоном. Поэтому он спешна с бальзамированием и остановил дальнейшую работу над усыпальницей, которая оказалась маленькой и незначительной в сравнении с гробницами великих фараонов. Соглашение также обязывало Эйе принудить принцессу Бакетамон выйти замуж за Хоремхеба, тем самым давая Хоремхебу, несмотря на его происхождение, возможность законно унаследовать престол после смерти Эйе.
Эйе условился со жрецами о том, что, как только завершится срок траура и Хоремхеб придет на празднество по случаю победы, Бакетамон предстанет перед ним в костюме Секмет и там, в храме этой богини, возляжет с ним на ложе. Тогда их союз благословят боги, а сам Хоремхеб станет божественным. Таков был план Эйе, но принцесса с исключительной осторожностью и проницательностью составила свой собственный план, который, как мне известно, поддержала царица Нефертити Царица ненавидела Хоремхеба и, кроме того, надеялась стать самой могущественной женщиной Египта после Бакетамон.
Этот безбожный, чудовищный план могла замыслить лишь коварная, озлобленная женщина. Так невероятен он был, что едва не увенчался успехом. И только когда был раскрыт этот план, стало понятно и великодушие, которое проявили хетты, предложив мир, уступив Мегиддо и земли Амурру и пойдя на другие уступки.
После смерти мужа Нефертити и ее вынужденного подчинения Амону царица не могла примириться с мыслью об отстранении от власти и с потерей своего былого влияния при дворе, ведь ее поставили вровень с прочими знатными дамами. Она все еще была красива, хотя теперь уже ей надо было заботиться о сохранении своей красоты. Благодаря своей привлекательности Нефертити приобрела множество сторонников среди египетской знати, окружавшей слабовольного фараона во дворце словно стая трутней. Со свойственными ей умом и хитростью она завоевала доверие принцессы Бакетамон и, умело играя на ее врожденном высокомерии, превратила надменность царевны в настоящее безумие. Принцесса так возгордилась, что не стерпела бы прикосновения простого смертного и не позволила бы никому ступить даже на ее тень. Она сохраняла свое целомудрие, будучи уверенной, что в Египте нет мужа, достойного ее, и уже почти вышла из того возраста, в каком принято заключать браки. Девственность ударила ей в голову, но, думается мне, удачный брак мог бы ее вылечить.
Нефертити внушала Бакетамон, что та рождена для великих дел, для того, чтобы освободить Египет от власти низкорожденных узурпаторов. Она рассказывала ей о великой царице Хатшепсут, которая привязала к своему подбородку царственную бороду, опоясалась львиным хвостом и так правила Египтом с престола фараонов. Нефертити утверждала, что красота Бакетамон напоминает красоту великой царицы. Она говорила еще много дурного о Хоремхебе, так что принцесса в своей девичьей гордости стала опасаться его как низкорожденного, который мог бы завладеть ею с солдатской грубостью и осквернить ее священную кровь. Все же мне кажется, что принцесса втайне восхищалась его грубой силой, слишком уж часто она на него заглядывалась и вспыхивала от его взгляда, хотя и не призналась бы в этом даже самой себе.
Когда сирийская война шла к концу и интриги Эйе и Хоремхеба сделались еще более очевидными, для Нефертити не составило особого труда усилить свое влияние на принцессу. Думаю, что Эйе и не пытался скрывать свои замыслы от своей дочери Нефертити. Но та ненавидела отца, ибо Эйе получил от нее все, что ему было нужно, оттолкнул ее и спрятал в золотом дворце как вдову проклятого фараона. Красота женщины, чье сердце ожесточило время, опасна, она опаснее острого ножа, разрушительнее кривых клинков на боевых колесницах. Лучшее доказательство этого — задуманный ею план, участвовать в котором она убедила принцессу Бакетамон.
Этот заговор раскрылся, когда Хоремхеб, только что прибывший в Фивы, начал в нетерпении слоняться по покоям принцессы Бакетамон, надеясь увидеть ее и поговорить с ней, хотя она и отказалась принять его. Случайно застав там хеттского посла, добившегося приема у принцессы, он удивился тому, что принцесса принимает подобного человека и так долго с ним беседует. На свой риск, ни с кем не советуясь, он арестовал этого хетта, который вел себя заносчиво и разговаривал с ним тоном, свойственным лишь людям, уверенным в своем положении.
Хоремхеб рассказал об этом Эйе. Ночью они ворвались в комнаты принцессы, убили рабов, охранявших ее, и нашли какую-то переписку, которую принцесса прятала в золе жаровни. Глубоко обеспокоенные содержанием этих табличек, они заперли Бакетамон в ее покоях и заключили и ее, и Нефертити под стражу. Этой же ночью они явились в дом медеплавильщика, который Мути отстроила заново на серебро Капта; они были в обыкновенных носилках, с закрытыми лицами. Мути впустила их, сердито заворчав, когда они приказали меня разбудить. Я не спал: с тех пор, как я стал свидетелем ужасных событий в Сирии, я спал плохо. Я поднялся со своего ложа, пока она, все еще ворча, зажигала светильники, и принял этих незнакомцев, полагая, что им нужна врачебная помощь.
Увидев, кто это, я опешил, и, когда Мути по моему приказанию принесла нам вина, я отослал ее спать: перепуганный Хоремхеб мог бы убить ее из-за того, что она видела их лица и могла подслушать разговор. Никогда еще не видел я Хоремхеба таким испуганным, и зрелище это доставило мне величайшее удовлетворение.
Я сказал:
— Я не позволю вам убить Мути! Должно быть, у вас помрачился рассудок, если вы говорите с таким неистовством! Мути — глухая старая карга, храпящая, как гиппопотам. Прислушайтесь и скоро услышите ее храп. А теперь пейте вино и знайте, что вам не нужно дрожать из-за какой-то старухи.
Хоремхеб нетерпеливо возразил:
— Не о храпе я пришел говорить с тобою, Синухе! Что значит одной жизнью больше или меньше, когда весь Египет в смертельной опасности. Это Египет ты должен спасать!
Эйе поддержал его, сказав:
— Поистине Египет в страшной опасности, Синухе, а с ним и я! Никогда еще не угрожала нашей стране такая великая опасность. И в нашем горе мы прибегаем к тебе.
Я рассмеялся с горечью и развел руками. Хоремхеб предъявил мне глиняные таблички царя Шуббилулиумы и копии писем принцессы Бакетамон, которые та послала ему до окончания войны. Я прочел письма, и у меня пропало всякое желание смеяться и вкус вина стал горек для меня. Принцесса Бакетамон писала: «Я — дочь фараона, и в моих жилах течет священная кровь. Среди мужей Египта нет достойных меня. Я слышала, что у тебя много сыновей. Так пошли же одного из них разбить со мной кувшин, и он будет править землею Кем рядом со мной».
Столь невероятно было содержание этого письма, что осторожный Шуббилулиума не поверил этому и через тайного посланника ответил, недоверчиво допытываясь об условиях. Но в следующем письме Бакетамон повторила свое предложение, заверяя, что и знать Египта, и жрецы Амона на ее стороне. Это убедило Шуббилулиуму в ее искренности, и он поспешил заключить мир с Хоремхебом и даже начал приготовления к тому, чтобы послать в Египет своего сына Шубатту. Было условлено, что Шубатту выедет из Кадеша в благоприятный для этого день, взяв с собою великое множество даров для Бакетамон.
Согласно последней глиняной табличке, принц и его свита были уже на пути в Египет.
— О боги Египта! — вскричал я, пораженный. — Чем же я могу помочь вам? Я всего лишь врач и не могу склонить сердце безумной женщины к Хоремхебу!
Хоремхеб ответил:
— Ты помог нам некогда, а тот, кто однажды взялся за весла, должен грести, хочет он того или нет. Тебе следует отправиться навстречу принцу Шубатту и позаботиться, чтобы он никогда не доехал до Египта. Не знаю, как ты устроишь это, и знать не хочу. Я только говорю, что мы не можем открыто убить его, ибо это вызовет новую войну с хеттами, а я предпочитаю выбирать время сам.
Слова его встревожили меня, у меня задрожали колени, сердце замерло в груди, и, запинаясь, я сказал:
— Пусть я когда-то действительно вам помог, но я сделал это не только ради Египта, но и ради себя самого. Принц ничем меня не обидел, да и видел я его лишь однажды, возле твоего шатра, в день казни Азиру. Нет, Хоремхеб, не делай меня наемным убийцей. Лучше мне умереть, ибо нет преступления позорнее, чем это! Когда я дал яду фараону Эхнатону, я сделал это для его же блага: он был болен, а я был его другом.
Хоремхеб нахмурился и ударил себя по ноге хлыстом, а Эйе сказал:
— О Синухе, ты человек мудрый и понимаешь, что мы не можем бросить целое государство под ноги вздорной женщине! Поверь мне, другого пути нет. Принц должен умереть на пути в Египет, по юле случая или от болезни — мне все равно. Ты должен поехать и встретить его в Синайской пустыне по приказанию принцессы Бакетамон, чтобы осмотреть его и как врач определить, может ли он исполнять свои супружеские обязанности. Он с готовностью в это поверит, окажет тебе сердечный прием и подробно расспросит о Бакетамон. Принцы — тоже люди, и я представляю, как ему любопытно узнать, какими чарами хочет опутать его Египет. Синухе, твоя задача проста, и ты не презришь те дары, которые получишь, выполнив ее, ибо они сделают тебя богатым человеком.
Хоремхеб сказал:
— Синухе, выбирай быстрее: жизнь или смерть? Если откажешься, мы не сможем оставить тебя в живых, теперь ты слишком много знаешь, будь ты хоть сто раз моим другом. Имя, данное тебе матерью, — дурное предзнаменование; ты уже узнал слишком много тайн фараонов. Одно слово, и я перережу тебе горло от уха до уха, хотя и против своей воли, ибо ты наш лучший помощник и мы не можем поручить это дело никому другому. Ты связан с нами общим преступлением, и это преступление мы также разделим с тобой, если ты считаешь преступлением спасение Египта от власти хеттов и безумной женщины.
Итак, я был пойман в сеть, сплетенную из моих собственных деяний, сеть, ни одной ячейки которой я не мог разорвать. Я навеки связал свою судьбу с судьбой Эйе и Хоремхеба.
— Ты прекрасно знаешь, что я не боюсь смерти, Хоремхеб, — произнес я, напрасно пытаясь придать себе мужества.
Я пишу для себя, не стараясь казаться лучше, чем я есть на самом деле. К стыду своему признаюсь, что мысль о смерти наполняла меня ужасом этой ночью, главным образом потому, что это обрушилось на меня так неожиданно. Я подумал о стремительном полете ласточек над рекой и о вине из порта, подумал о гусе, зажаренном для меня Мути по фиванскому способу, и жизнь показалась мне вдруг такой отрадной. Я подумал также о Египте и пришел к заключению, что фараон Эхнатон должен был умереть, дабы Египет мог жить, и о том, что Хоремхеб мог бы отразить нападение хеттов силой оружия. Но Эхнатон был моим другом. Царевич из чужой страны был совершенно незнаком мне, и, конечно, во время войны он прикончил не менее тысячи человек. Почему же я, убивший Эхнатона, не решаюсь убить его ради спасения Египта?
И я ответил:
— Убери свой нож, Хоремхеб, ибо вид обнаженного клинка неприятен мне. Будь по-твоему. Я спасу Египет от власти хеттов, хотя каким образом я это сделаю, мне пока неизвестно. Вполне возможно, что я погибну, ибо хетты, конечно же, убьют меня в случае смерти принца. Но я мало беспокоюсь о своей жизни, я не желаю, чтобы хетты правили в Египте. Я берусь за это не ради ваших даров и лестных обещаний, но потому лишь, что мне не избежать этого, ибо деяние это предначертано мне звездами еще до моего рождения. Получайте же короны из моих рук, Хоремхеб и Эйе; получайте ваши короны и благословляйте мое имя, ибо я, ничтожный врач, сделал вас фараонами.
Говоря это, я едва удерживался от смеха. Я думал, что скорее в моих жилах течет священная кровь, и я единственный полноправный наследник престола фараонов, тогда как Эйе по происхождению всего лишь младший жрец, а от родителей Хоремхеба несло скотом и сыром. В эту минуту я ясно увидел, кто они такие: разбойники, грабящие умирающий Египет, дети, играющие коронами и знаками власти, так опутанные своими желаниями и так порабощенные ими, что счастье к ним не придет никогда.
Я сказал Хоремхебу:
— Хоремхеб, друг мой, царская корона тяжела. Ты узнаешь это в один из жарких дней, когда к вечеру скот спускается к реке на водопой и все вокруг стихает.
Но Хоремхеб ответил:
— Спеши в дорогу! Тебя ждет корабль, и постарайся встретить Шубатту в Синайской пустыне прежде, чем он и его свита доберутся до Таниса.
Вот так я снова покинул Фивы, внезапно и под покровом ночи. Я взошел на борт самого быстроходного корабля Хоремхеба, взяв с собою ящик с медицинскими принадлежностями, немного вина и остатки поджаренного гуся, которого Мути подавала мне на обед.
2
Снова я остался один, и одиночество мое было тяжелее, чем чье-либо еще. Не было на свете никого, кому я мог бы излить мои сокровенные мысли, открыв тайну, которая, выйди она на свет, погубила бы тысячи людей. И потому я должен был быть хитрее змеи, и к этому меня также вынуждала уверенность в том, что, будь я пойман хеттами, меня ждет страшная смерть от их рук.
У меня было сильное искушение бросить все это и искать убежище в каком-нибудь уединенном месте подобно моему тезке Синухе из легенды, предоставив Египет его судьбе. Решись я на это, возможно, весь ход событий изменился бы и мир ныне мог оказаться иным. Теперь, состарившись, я постиг, что все правители и все народы схожи. Неважно, кто правит и что за народ господствует над другим, ибо в конце концов страдают бедные.
Но я по своей слабости не убежал. Когда смертный слаб, он скорее позволит, чтобы его вовлекли в дурное дело, чем сам выберет себе дорогу.
Поэтому принц Шубатту должен был умереть. Сидя под золоченым навесом с кувшином вина, я пытался найти способ убийства, который не вызвал бы подозрений, ток что ни я, ни Египет не были бы призваны к ответу. Задача эта была нелегкой, ибо принц, конечно, путешествовал, как подобало его положению. Хетты, подозрительные от природы, без сомнения, зорко охраняли его безопасность. Даже если бы я встретился с ним в пустыне один на один, я не мог бы убить его обычными средствами, ибо копье и стрела оставляют следы и насильственная смерть была бы очевидной. Я подумал, что смог бы завлечь его в пустыню, как василиск, чьи глаза — зеленые камни, и там столкнуть в расселину, а потом солгать, что он оступился и свернул себе шею. Но это был детский план, ибо наедине с ним меня никогда бы не оставили. Что касается яда, то хеттам прислуживали виночерпии, пробовавшие и пищу, и питье перед тем, как поднести господину, так что и этот способ исключался.
Я припомнил рассказы о тайных ядах жрецов из золотого дворца. Я слышал, что существует способ ввести яд в еще незрелый плод, так что тот, кто срывал его уже созревшим и съедал, погибал. Существовал также особый род свитков, приносивших смерть тому, кто их разворачивал; бывало, запах цветов, протянутых тебе жрецом, оказывался смертельным. Но это все были тайны жрецов, и думаю, что многие из этих сказок были всего лишь сказками! Даже если бы они были правдивы, а я знаком с тайным знанием, не мог же я вырастить фруктовые деревья в пустыне. Ни один хеттский принц не развернет сам пергаментный свиток — он протянет его писцу. И не в обычае у хеттов было нюхать цветы — они топтали их ногами и хлестали наотмашь плетками цветочные стебли.
Я желал бы обладать хитростью Капта, но я не мог вовлекать его в это дело. Кроме того, он пока еще оставался в Сирии, собирая долги. Я призывал всю свою изобретательность и все свои врачебные познания, ибо лекарь близко знаком со смертью, а средства, которыми он располагает, могут принести его больным как жизнь, так и смерть. Если бы принц Шубатту был болен и мне поручили лечить его, я с легкостью залечил бы его до смерти, согласно всем законам медицины, и любой уважающий себя врач одобрил бы мое лечение, ибо во все времена медики помогали друг другу хоронить своих мертвых. Но Шубатту был здоров, а если бы он даже и занемог, то скорее призвал бы к себе хеттского лекаря, чем египетского.
Я изложил здесь свои размышления так подробно, дабы показать, какое обременительное задание дал мне Хоремхеб, но теперь речь пойдет лишь о том, что сделал я.
В Обители Жизни в Мемфисе я пополнил свои запасы лекарств, и никто не удивлялся, глядя на составленные мною рецепты, ибо то, что простому обывателю кажется несущим гибель ядом, в руках лекаря превращается в целебное снадобье. Затем без промедления я продолжил свой путь в Танис, где нанял носилки и где гарнизон выделил для меня эскорт колесниц, чтобы те сопровождали меня на великом военном пути через пустыню.
Сведения Хоремхеба подтвердились. Я повстречал Шубатту со свитой на расстоянии трех дней пути от Таниса. Они разбили лагерь у колодца. Шубатту тоже путешествовал в носилках, чтобы сохранить свои силы, ведя с собою множество ослов, навьюченных дарами для принцессы Бакетамон. Тяжелые колесницы охраняли его, а легкие разведывали дорогу впереди, ибо царь Шуббилулиума приказал ему быть готовым к неожиданным нападениям, прекрасно понимая, что этот поход далеко не угоден Хоремхебу.
Но хетты приняли и меня, и сопровождавших меня командиров сердечно и учтиво, как они обычно поступают, получая то, чего не могут добиться силой оружия.
Они разместили нас в лагере, разбитом ими на ночь, и помогли египетским воинам поставить наши палатки; они окружили нас бесчисленной стражей, говоря, что хотят защитить нас от разбойников и львов пустыни, дабы мы могли спокойно спать. Когда принц Шубатту услышал, что меня прислала принцесса Бакетамон, любопытство взяло над ним верх и он призвал меня к себе.
Он был очень красивым юношей, глаза которого теперь, когда он не был пьяным, каким я видел его в прошлый раз, были большими и ясными. Радостное возбуждение вызвало румянец на его смуглом лице. Его нос был благороден, как клюв хищной птицы, а зубы его блестели, как у дикого зверя, и он засмеялся от удовольствия, увидев меня. Я вручил ему письмо от принцессы Бакетамон, подделанное Эйе, и, согнувшись перед ним, вытянул вперед руки, оказывая ему все знаки почтения, так, будто он уже был моим повелителем. Меня весьма позабавило то, что, прежде чем принять меня, он оделся на египетский манер и теперь чувствовал себя стесненным этим непривычным одеянием.
Он сказал:
— Так как моя будущая супруга доверяет тебе и ты ее домашний врач, я ничего не скрою от тебя. Когда принц женится, он связывает себя со своей супругой. Страна моей жены станет моей страной, обычаи Египта — моими обычаями. Я постарался по возможности уже приспособиться к ним, так что я приеду в Фивы не как чужеземец. Мне не терпится увидеть чудеса Египта, о которых мне так много рассказывали, и узнать его могучих богов, что отныне станут и моими богами. Но более всего я стремлюсь увидеть мою царственную супругу, ибо по ее воле я стану родоначальником новой правящей династии в Египте. Итак, расскажи мне о ней. Расскажи мне, какого она роста, и какая у нее фигура, и широки ли у нее бедра — так, словно сам я уже египтянин. Не скрывай от меня ни одного ее изъяна, но доверься мне как брат, как я доверяю тебе.
Доверие его проявилось в том, что позади него стояла группа командиров с обнаженными мечами, и в том, что охранявшие вход солдаты наставили мне в спину свои копья. Но я притворился, что ничего не замечаю.
Я сказал, склонившись перед ним до земли:
— Моя царственная госпожа, принцесса Бакетамон, — одна из прекраснейших женщин Египта. Из-за того, что в жилах ее течет священная кровь, она сохранила свое целомудрие, хотя она несколькими годами старше тебя. Ее красота неподвластна времени, лик ее подобен луне, а глаза — цветам лотоса. Как врач, я могу уверить тебя, что хотя стан ее тонок, как у всех египтянок, она может рожать детей. Я послан встретить тебя и удостовериться, достойна ли твоя царская кровь ее крови и можешь ли ты выполнять свой супружеский долг, не вызвав у нее разочарования. Она ждет тебя с нетерпением и никогда еще не принадлежала ни одному мужчине.
Принц Шубатту выпятил грудь и поднял локти до уровня плеч, чтобы показать свои мышцы, и воскликнул:
— Я могу согнуть самый тугой лук и удушить осла, стиснув колени. Как видишь, в лице моем нет изъяна, и я не помню, когда последний раз был болен.
Я ответил:
— Ты действительно неопытный юноша и несведущ в обычаях Египта, если думаешь, что египетскую принцессу можно сгибать, как лук, или сжимать коленями, как осла. Так ни в коем случае поступать не стоит, и, конечно, мне следует преподать тебе несколько уроков египетского искусства любви, дабы ты не покрыл себя позором в глазах принцессы. Воистину добрый совет дал ей тот, кто предложил послать меня сюда, ибо я как врач могу посвятить тебя в обычаи Египта.
Слова мои сильно задели принца Шубатту, ибо он был смелым юношей и, как и все хетты, гордился своим мужеством.
Его военачальники разразились смехом, и это еще более распалило его. Он побелел от гнева и заскрежетал зубами. Но со мной он старался сохранить египетскую учтивую манеру обращения и произнес со всей возможной сдержанностью:
— Я совсем не такой неопытный мальчик, как ты, видимо, думаешь, и мое копье пронзило многих! Я не думаю, что ваша принцесса останется недовольной искусством земли хеттов.
Я возразил:
— О господин мой, я охотно верю в твои силы, но ты ошибся, сказав, что не помнишь, когда был болен в последний раз. Я ведь лекарь и вижу по твоим глазам и лицу, что ты болен и страдаешь расстройством желудка.
Нет ни одного человека, кто в конце концов не поверит в то, что он нездоров, если его долго и настойчиво в этом убеждают. В глубине души каждый из нас хочет, чтобы о нем нежно заботились и лечили. Врачи всегда об этом знали и использовали эти сведения для своего обогащения. У меня было еще одно преимущество. Я знал о том, что вода из источников в пустыне содержит щелочь, раздражающую кишечник тех, кто не привык пить эту воду.
Принц Шубатту удивился моим словам и вскричал:
— Ты, конечно же, ошибся, Синухе-египтянин. Я ни в коем случае не болен, но все же признаюсь, что из-за расстройства желудка мне приходилось частенько на протяжении всего путешествия присаживаться у дороги. Но как ты догадался об этом, я не знаю. Ты наверняка более опытен, чем мой врач, который даже не заметил моего недомогания.
Он прислушался к себе и, пощупав лоб и веки, сказал:
— И впрямь глаза мои горят от того, что весь день я смотрел лишь на красный песок пустыни. Лоб мой горяч на ощупь, и я чувствую себя вовсе не так хорошо, как мне бы хотелось.
Я ответил ему:
— Твоему врачу следовало бы приготовить тебе лекарство, которое избавило бы тебя от боли в желудке, а затем дать тебе хорошенько выспаться. Расстройства желудка, случающиеся в пустыне, мучительны, и мне известно, что многие египтяне погибли от них во время похода на Сирию. Никто не знает причины этих заболеваний. Кто-то считает, что они — порождение ядовитого ветра пустыни, кто-то думает, что они происходят от воды, а иные — что от саранчи. Я не сомневаюсь, что завтра ты снова будешь здоров и сможешь продолжить путь, если твой врач приготовит тебе сегодня вечером хорошую дозу лекарства.
Мои слова заставили его задуматься. Глаза его сузились, и, бросив взгляд на своих командиров, он обратился ко мне, улыбаясь, как озорной мальчик:
— О Синухе, так приготовь мне такое снадобье сам. Несомненно, ты лучше знаком с этими странными недугами, чем лекарь, который сопровождает меня.
Но я был не так глуп. Я поднял руки в знак протеста и воскликнул:
— Да не коснется это дело меня! Я не осмелюсь приготовить для тебя что-либо подобное. Вдруг тебе станет хуже, и тогда ты обвинишь меня в том, что я желал тебе зла, поскольку я египтянин. Твой врач вылечит тебя так же хорошо, как и я, и даже лучше. Он знает все твои особенности и прежние болезни. Ему нужно лишь дать тебе обыкновенное вяжущее средство.
Он произнес с улыбкой:
— Пожалуй, ты дал добрый совет. Я намерен есть и пить с тобой, дабы ты рассказал мне о моей царственной супруге и о египетских обычаях, и мне совсем не хочется выбегать из шатра и присаживаться за ним во время твоего рассказа.
Он призвал своего личного врача, раздражительного и подозрительного хетта, и мы держали врачебный совет. Поняв, что я не собираюсь соперничать с ним, врач расположился ко мне и поступил по моему совету. Он приготовил исключительной силы вяжущее средство, и у меня были свои причины предписать его. Когда снадобье было готово, он отпил из чаши сам и протянул ее принцу.
Я знал, что принц здоров, но желал убедить его свиту в том, что это не так. Я решил также дать ему крепящее средство, чтобы отрава, которую я приготовил ему, не вышла слишком быстро. Перед трапезой, устроенной им в мою честь, я зашел в свою палатку и, преодолевая отвращение, напился масла, чтобы сохранить себе жизнь. После этого я взял кувшинчик с вином, в которое был подмешан яд.
Вина в этом кувшинчике, который я снова запечатал, хватило бы лишь на две чаши. Я возвратился с кувшином в палатку принца, сел на его циновку и принялся есть из тарелок, которые передо мной ставили рабы, и пить вино, которое слуги его наливали в наши чаши. Несмотря на сильную тошноту, ради развлечения принца и его спутников я рассказывал занятные истории о египетских обычаях.
Принц смеялся, сверкая зубами, он похлопал меня по спине и сказал:
— Ты забавный малый, Синухе, хоть и египтянин, и когда я поселюсь в Египте, то сделаю тебя своим врачом. Воистину я давлюсь от смеха и забываю о своем недуге, когда ты говоришь мне о египетских брачных обычаях, хотя мне и кажется, что египтяне следуют им лишь ради того, чтобы предотвратить появление детей. Я научу Египет хеттским обычаям и сделаю своих военачальников местными правителями, к великой пользе Египта, сразу же, как воздам должное принцессе.
Он ударил себя по коленям; возбужденный вином, он захохотал и сказал:
— Хотел бы я, чтобы ваша принцесса уже лежала на моей циновке, ибо твои рассказы, Синухе, разожгли мой пыл, и я заставил бы ее стонать от восторга. О, святые небеса и Мать Земля! Когда соединятся земля хеттов и Египет, ни одно царство в мире не сможет противостоять нашей мощи и мы подчиним себе все четыре стороны света. Но сначала Египет должен быть испытан огнем и мечом, пока каждый его житель не поверит, что смерть лучше жизни. И так будет. И скоро!
Он поднял свой кубок, отпил и совершал возлияния Матери Земле и небесам, пока не осушил его. К этому времени все хетты опьянели, и мои веселые истории рассеяли их опасения. Я воспользовался случаем и проговорил:
— Я не хочу сказать ничего дурного ни о тебе, ни о твоем вине, Шубатту, но ясно как день, что тебе никогда не доводилось отведать египетского вина. Если бы ты попробовал ею, любые другие вина показались бы тебе пресными, как вода. Так что не гневайся, если я выпью своего вина, ибо лишь оно одно пьянит меня, из-за чего мне всегда приходится брать это вино с собой на пиры у чужеземцев.
Я встряхнул свой кувшин с вином, сломал печать у него на глазах и, притворяясь пьяным, налил вино в свою чашу так, что она накренилась к земле. Я выпил, восклицая:
— Ах, это вино из Мемфиса, вино пирамид, за которое я платил золотом, крепкое, сладкое и пьянящее, не имеющее себе равных в этом мире!
Вино, действительно, было хорошим и крепким, а так как я добавил в него мирру, то, лишь только я открыл кувшинчик, весь шатер наполнился его ароматом. Но в аромате вина и мирры я ощутил привкус смерти. Я расплескал большую часть вина, так что оно потекло у меня по подбородку, но хетты отнесли это на счет моего опьянения.
Принца Шубатту одолело любопытство и, протянув свою чашу мне, он сказал:
— Я не чужой тебе. Завтра я стану твоим господином и фараоном. Позволь же мне отведать твоего вина, иначе я не поверю, что оно действительно так хорошо, как ты утверждаешь.
Но я прижал кувшин с вином к груди и с серьезным видом возразил:
— Этого вина не хватит на двоих, и с собою у меня больше нет, а ныне вечером мне хочется напиться, ибо настал великий праздник для Египта и земли хеттов. Ха-ха-ха-ха!
Я закричал, как осел, и еще крепче прижал кувшин к груди. Хетты засмеялись вдвое громче, хлопая себя по коленям, но Шубатту привык к тому, чтобы каждое его желание исполнялось. Он просил и умолял меня дать ему попробовать моего вина, пока наконец я со слезами на глазах не наполнил его чашу, не оставив на дне кувшинчика ни капли.
Нетрудно было мне плакать, ибо велик был мой ужас в тот миг.
Когда Шубатту подали вино, он огляделся вокруг так, словно у него было дурное предчувствие. А затем он протянул мне чашу по-хеттски, сказав:
— Отпей из моей чаши, ты ведь друг мне, и я окажу тебе такое же благоволение.
Он сказал это, чтобы не показаться подозрительным, заставив своего виночерпия попробовать вино. Я отпил большой глоток из его чаши, и тогда он осушил ее, распробовал вино и, казалось, прислушался к своим ощущениям, склонив голову набок, а затем сказал:
— Поистине твое вино крепко, Синухе! Оно затуманивает голову и жжет желудок, точно огонь, но все же оставляет привкус горечи во рту, и этот привкус я заглушу вином с гор.
Он вновь наполнил свою чашу, теперь уже своим вином, таким образом сполоснув ее. Я знал, что яд не подействует до утра, ибо он обильно поел, а в кишках у него было вяжущее средство.
Я выпил столько вина, сколько смог, и прикидывался очень пьяным. Прежде чем предложить хеттам отвести меня в мою палатку, я подождал еще, пока утекло полмеры воды, иначе я возбудил бы в них подозрения. Я крепко схватил свой пустой кувшинчик, чтобы они не смогли потом осмотреть его.
Когда хетты, сыпля грубыми шутками, положили меня в постель и оставили одного, я поспешно встал. Сунув палец себе в глотку, я изрыгнул яд и защитное масло. Я испытывал такое острое чувство страха, что колени мои тряслись и пот лил с меня градом, и, вероятно, яд действовал на меня в какой-то степени. Поэтому я много раз промывал себе желудок: пил очищающие снадобья и всякий раз изрыгал их, пока в конце концов меня не вырвало без помощи рвотных, от одного лишь страха.
Я отмывал кувшин из-под вина, пока не обмяк, словно мокрая тряпка, а затем разбил его и закопал осколки в песок. После этого я лежал без сна, дрожа от страха и от последствий яда. Всю ночь на меня из темноты смотрели огромные глаза Шубатту, я видел его лицо перед собой и не мог забыть его гордый, беззаботный смех и ослепительную улыбку.
3
Хеттская гордыня пришла мне на помощь. На следующее утро принц Шубатту почувствовал недомогание, но никому не признался в этом и не прервал путешествие из-за боли в желудке. Он взошел на носилки, скрывая свои страдания, хотя это и требовало большого самообладания. Поэтому мы пробыли в дороге весь день, и когда я проезжал мимо носилок принца, тот помахал мне рукой и попытался улыбнуться. Дважды его лекарь давал ему вяжущие и болеутоляющие средства, чем лишь усугублял его состояние, позволяя яду проявиться в полную силу. Мощное слабительное могло бы даже тогда спасти ему жизнь.
После полудня он впал в глубокое беспамятство. Глаза его закатались, а перекошенное лицо сделалось желтовато-бледным, что привело в ужас его врача, который позвал меня на помощь. Когда я увидел, в каком безнадежном состоянии находится принц, мне не понадобилось изображать ужас, ибо он и так был достаточно велик и леденил мне кровь, несмотря на жару. Я сам чувствовал себя больным из-за яда. Я уверил его, что знаю признаки болезни пустыни, о которой я предостерегал Шубатту накануне и следы которой я еще тогда заметил на его лице, хотя принц не хотел меня слушать.
Караван остановился, и мы принялись лечить Шубатту, лежавшего на носилках, поить его бодрящими и очищающими снадобьями и класть ему на живот горячие камни. Я присматривал за тем, как хетте кий лекарь сам готовил лекарства и с трудом вливал их через стиснутые зубы принца.
Я знал, что тот умрет, и хотел своим советом облегчить его смерть и сделать ее как можно менее мучительной, если не в моей воле было сделать что-то большее.
С наступлением вечера мы отнесли его в палатку. Хетты собрались снаружи, плача, разрывая на себе одежды, посыпая головы пеплом и нанося себе глубокие раны кинжалами. Они пребывали в смертельном страхе, зная, что царь Шуббилулиума будет безжалостен к ним, если принц умрет, находясь на их попечении. Я вместе с хеттским врачом сидел у ложа принца и видел, как этот прекрасный юноша, еще накануне румяный и счастливый, чах на моих глазах, бледный и обезображенный болезнью. Хеттский врач, мучимый подозрениями и отчаянием, непрерывно наблюдал за состоянием больного, но признаки болезни ничуть не отличались от признаков тяжелого желудочного недуга. Никто даже и не думал о яде, ибо я пил то же самое вино из его чаши.
Я выполнил свое задание с завидным умением и огромной пользой для Египта, но все же не чувствовал никакой гордости, наблюдая, как умирает принц Шубатту.
На следующий день он пришел в сознание. С приближением смерти принц стал нежно звать свою мать, словно больное дитя. Тихим жалобным голосом он стонал:
— Матушка, матушка! О моя милая матушка!
Но когда боль отпускала его, лицо его освещалось мальчишеской улыбкой, и он вспоминал о своем царском происхождении.
Он собрал своих военачальников и сказал:
— Пусть никто не несет на себе бремя вины за мою смерть, ибо она пришла ко мне в обличьи болезни пустыни и меня лечил лучший врач земли хеттов и самый знаменитый египетский врач. Их искусство не смогло исцелить меня, ибо волею небес и Матери Земли я должен умереть, а над пустынею, конечно же, властна не Мать Земля, но боги Египта, и сотворена пустыня для того, чтобы защищать Египет. Да не пытаются впредь хетты пересечь пустыню, ибо моя смерть — знамение свыше, да и поражение наших колесниц в пустыне было знаком, хотя мы и не обратили на него внимания. Наградите врачей дарами, достойными моего имени, когда я умру. А ты, Синухе, кланяйся принцессе Бакетамон и передай, что я освобождаю ее от ее клятвы и сильно опечален тем, что не могу отнести ее на брачное ложе к нашей общей радости. Передай ей мой поклон, ибо она проплывает у меня перед глазами в моих предсмертных мечтах, как сказочная принцесса, и умираю я, созерцая ее вечную красоту, хотя и не видел ее раньше.
Он отошел с улыбкой на устах, ибо смерть иногда снисходит как благо после долгих страданий, и глаза его, прежде чем подернуться смертной пеленой, узрели странные видения. Я наблюдал за ним, дрожа, не думая о том, что он чужеземец, с иным языком и цветом кожи; я помнил только о том, что он, мой собрат, умер от моей руки и по моей подлости. И, хоть я и очерствел от всех тех смертей, свидетелем которых я был, мое сердце содрогалось от смерти принца Шубатту и слезы текли по моим щекам.
Хетты положили его тело в крепкое вино, смешанное с медом, чтобы доставить его в царские усыпальницы, где орлы и волки охраняли вечный сон царей. Хетты были тронуты моей печалью и по моей просьбе с готовностью написали на глиняной табличке, что я никоим образом не повинен в смерти принца Шубатту, но, напротив, приложил все старания, чтобы спасти его. Хетты заверили это своими печатями и печатью принца Шубатту, чтобы смерть их господина не могла бросить на меня тень в Египте. Ибо они судили о Египте по себе и считали, что, когда я сообщу принцессе Бакетамон об участи принца Шубатту, та прикажет казнить меня.
Итак, я спас Египет от власти хеттов, и, казалось бы, мне следовало радоваться. Но я не мог, ибо был охвачен гнетущим чувством, что смерть следует за мною по пятам. Я стал врачом для того, чтобы исцелять и нести жизнь, но мои родители умерли из-за моей порочности, Минея — из-за моего бессилия, Мерит и маленький Тот — из-за моей слепоты, а фараон Эхнатон — от моей ненависти, от моей дружбы и ради блага Египта. Все, кого я любил, в том числе и принц Шубатту, которого я успел полюбить за время его агонии, умерли насильственной смертью. Проклятие всюду настигало меня.
Я вернулся в Танис, а оттуда через Мемфис наконец добрался до Фив. Я приказал команде своего корабля быстро причалить к набережной у золотого дворца и, придя к Хоремхебу и Эйе, сказал им:
— Я исполнил вашу волю. Принц Шубатту погиб в Синайской пустыне, и его гибель не запятнала Египет.
Мои слова их чрезвычайно обрадовали. Эйе снял с себя золотую цепь — знак царского отличия и повесил мне на шею, а Хоремхеб сказал:
— Оповести об этом и принцессу Бакетамон. Она не поверит нам, если мы сами сообщим ей об этом, и подумает, что я убил его из ревности.
Принцесса Бакетамон приняла меня. Она покрасила щеки и губы в кирпично-красный цвет, но в ее темных миндалевидных глазах таилась смерть.
Я обратился к ней:
— Твой избранник, принц Шубатту, перед смертью освободил тебя от твоей клятвы. Он умер в Синайской пустыне, от недуга пустыни. Ни мои знания, ни умение хеттского врача не смогли спасти его.
Она сняла со своего запястья золотой браслет и, надев его на мою руку, сказала:
— Добрые вести ты принес мне, Синухе! Благодарю тебя за это. Меня уже посвятили в жрицы богини Сехмет, и мое алое платье уже готово для празднества. Все же этот недуг пустыни слишком знаком мне, ибо я знаю, что брат мой Эхнатон, которого я любила как сестра, умер от той же болезни. Будь же ты проклят, Синухе, проклят навеки! И да будет проклята могила твоя, и имя твое да будет предано вечному забвению! Ты сделал трон фараонов игрушкой в руках разбойников и, нанеся мне удар, осквернил кровь фараонов!
Низко склонясь перед нею, я вытянул руки вперед и сказал:
— Да будет так!
Я оставил ее, и она приказала рабам вымести пол до самого порога золотого дворца.
Тем временем тело Тутанхамона было подготовлено к бессмертию, и Эйе повелел жрецам быстро доставить его на запад, к месту вечного упокоения, которое было высечено в скале в Долине гробниц фараонов. При нем было множество даров, хотя Эйе и присвоил себе огромную часть сокровищ, которые Тутанхамон предназначил для своих похорон. Как только вход в усыпальницу был запечатан, Эйе объявил, что срок траура истек, и Хоремхеб послал свои колесницы на улицы Фив. Никто не протестовал, когда Эйе взошел на престол. Народ устал, ибо зверь, которого гонят по бесконечной дороге, вонзая в его тело копья, изнемогает. Никто не спрашивал о его праве на престол.
Так Эйе стал фараоном. Жрецы, коих он подкупил бесчисленными подарками, умастили его освященным маслом в главном храме, и народ возносил ему хвалу, ибо он раздавал хлеб и пиво, а Египет так обеднел в те времена, что подобные дары казались необыкновенно щедрыми. Но многие знали, что отныне истинным правителем Египта будет Хоремхеб, и многие втихомолку удивлялись, почему он сам не взял власть в свои руки, а позволил презренному старому Эйе взойти на престол. Но Хоремхеб знал, что делает, ибо чаша страдания народного не была еще испита до дна.
Плохие новости из земли Куш вынудили его к войне против негров, а после этого он был вынужден возобновить войну с хеттами за господство над Сирией. Вот почему он хотел, чтобы люди винили Эйе за все страдания и нужду, чтобы потом они превозносили имя Хоремхеба как победителя и миротворца.
Ослепленный властью и блеском царской короны, Эйе никогда не задумывался над этим и охотно исполнял ту роль, которая была предназначена ему, когда они заключили сделку с Хоремхебом в день смерти Эхнатона. Жрецы торжественно провели принцессу Бакетамон в храм Сехмет, где облачили ее в алое одеяние и подняли ее на алтарь Сехмет. Хоремхеб прибыл к храму со своими людьми праздновать победу, одержанную им над хеттами. Все Фивы возносили ему хвалу. Оделив своих людей золотыми цепочками и памятными подарками, он отпустил их. Затем вошел в храм, и жрецы закрыли за ним медные двери. Сехмет предстала перед ним в образе принцессы Бакетамон, и он овладел ею. Он был воин, и он долго ждал.
В ту ночь все Фивы ликовали на празднестве в честь богини Сехмет; факелы и светильники отбрасывали на небо красные блики. Головорезы Хоремхеба выпили все вино в тавернах и вламывались в двери увеселительных заведений. На рассвете солдаты снова собрались перед храмом Сехмет, чтобы увидеть выход Хоремхеба. Когда медные ворота открылись и он вышел, они громко закричали и поклялись на многих наречиях, что Сехмет оказалась верна своей львиной голове. Лицо, руки и плечи Хоремхеба были исцарапаны и кровоточили так, словно лев рвал его когтями. Это очень позабавило его людей, и за это они полюбили его еще больше. Но принцессу Бакетамон жрецы унесли в золотой дворец, не показав ее народу.
Такой была первая брачная ночь моего друга Хоремхеба, и я не знаю, какое наслаждение испытал он в ту ночь. Вскоре после этого он собрал свое войско и отправился пополнить армию к первому порогу на юге, чтобы идти в поход на землю Куш.
Эйе слепо упивался своей властью и говорил мне:
— Нет равного мне во всей земле Кем, и неважно, жив я или мертв; фараон не умирает — он живет вечно! Я взойду на борт золотой ладьи моего отца Амона и поплыву по небу на запад. Я уже стар, и мои деяния взирают на меня из ночной темноты. Я рад, что могу больше не бояться смерти.
Но я смеялся над ним, говоря:
— Ты стар, и я считал тебя мудрым. Как можешь ты верить, что вонючее масло жрецов даровало тебе бессмертие в мгновение ока. В облачении фараона или без него ты все тот же человек, каким и был. Смерть скоро возьмет тебя, а жизнь покинет.
Его губы задрожали, и страх блеснул в его глазах, когда он жалобно произнес:
— Что же, значит, я совершал все эти преступления напрасно? Разве напрасно я сеял смерть вокруг себя всю свою жизнь? Нет-нет, конечно же, ты неправ, Синухе. Жрецы спасут меня из бездны смерти и сохранят мое тело для вечности. Мое тело должно быть бессмертно, раз я фараон, и по той же причине меня нельзя винить за мои деяния.
Итак, его разум начал слабеть, и он уже не радовался своей власти. Страшась смерти, он стал кутаться и не решался даже пить вино. Пищей ему служили лишь сухой хлеб да горячее молоко. С течением времени его все более охватывал ужас перед убийцами, и порой он по целым дням не смел прикоснуться к пище, боясь быть отравленным. К старости он запутался в сетях своих собственных деяний и стал так подозрителен и жесток, что все избегали его.
Бакетамон начала чувствовать движение плода и, разъяренная этим, вредила себе, пытаясь убить ребенка, пока он еще был в ее утробе. Но жизнь в ней была сильнее, чем смерть, и, когда пришел срок, она родила Хоремхебу сына, родила в муках, потому что ее бедра были слишком узки. Врачам и рабам было приказано спрягать ребенка, чтобы она не сделала ему ничего дурного. Многие рассказывали потом об этом ребенке, будто бы он родился с головой льва или в шлеме. Но я могу засвидетельствовать, что ничего необычного не было в этом мальчике, а был он здоровым и крепким. Хоремхеб дал ему имя Рамзее.
Хоремхеб все еще воевал в земле Куш, и его колесницы принесли много бед неграм. Он жег их соломенные жилища в селениях и угонял их женщин и детей в рабство в Египет, но он вербовал их мужчин в армию, где они показали себя хорошими воинами, потому что не было у них больше семей и ничто не отвлекало их. Вот так создал Хоремхеб новую армию для войны против хеттов, ибо эти люди были сильны и стоило им довести себя до неистовства дробью своих священных барабанов, как они совершенно теряли чувство страха смерти.
Из земли Куш Хоремхеб также гнал в Египет большие стада скота, а так как в земле Кем опять выдался богатый урожай зерна, дети не испытывали недостатка в молоке, а жрецы получили достаточно жертвенных животных. Целые племена бежали из земли Куш в джунгли, в царство слонов и жирафов, за пограничные камни Египта. На многие годы земля Куш была покинута.
4
После двух лет войны Хоремхеб вернулся в Фивы с богатой добычей. Он раздавал подарки и праздновал победу десять дней и ночей. Всякая работа прекратилась, пьяные солдаты слонялись по улицам, блея, как козлы, и женщины Фив в положенное время разрешились от бремени темнокожими детьми.
Хоремхеб держал сына на руках и учил его ходить, и он сказал мне с гордостью:
— Смотри, Синухе! Новая династия царей произошла от моего семени, и в жилах моего сына течет священная кровь, хотя я сам был рожден в конском дерьме.
Он также пошел к Эйе, но тот завопил от страха, заперся от него и кричал пронзительным старческим голосом:
— Прочь отсюда, Хоремхеб! Я фараон, и я знаю, что ты пришел убить меня и возложить царские короны на свою голову.
Но Хоремхеб от души расхохотался, пинком распахнул дверь и встряхнул его, говоря:
— Я не собираюсь убивать тебя, старая лиса! Ты старая сводня, я не лишу тебя жизни, потому что ты для меня не просто тесть и твоя жизнь драгоценна. Правда, ты дышишь с присвистом, у тебя слюнявый рот и колени твои подгибаются от слабости, но ты должен держаться, Эйе! Ты должен пережить еще одну войну, ибо в мое отсутствие у народа Египта должен быть фараон, на которого он мог бы излить свой гнев.
Своей супруге Бакетамон Хоремхеб привез великие дары: золотой песок в плетеных корзинках, головы убитых им львов, страусовые перья и живых обезьян. Но она даже не взглянула на них и сказала ему:
— В глазах людей я твоя жена, и я родила тебе сына. Довольствуйся этим и знай, что если хоть однажды ты снова прикоснешься ко мне, я плюну на твое ложе и буду изменять тебе так, как еще ни одна жена не изменяла мужу. Чтобы опозорить тебя, я буду развлекаться с рабами и носильщиками и пересплю с погонщиком осла в самых людных местах Фив. Твои руки и тело пахнут кровью, и меня тошнит от тебя.
Ее сопротивление еще сильнее разожгло страсть Хоремхеба, и он пришел ко мне, горько жалуясь, и сказал:
— Синухе, приготовь такое снадобье, которое я мог бы дать ей и усыпить ее, чтобы я по крайней мере смог войти к ней и обладать ею.
Я отказался, но он разыскал других врачей и получил от них опасное зелье, которое тайно дал ей. Когда он выпустил ее из своих объятий, она возненавидела его еще больше, чем прежде, и сказала:
— Вспомни мои слова, вспомни мое предостережение!
Вскоре Хоремхеб покинул Сирию, чтобы подготовиться к походу на хеттов, ибо он говорил:
— Великие фараоны установили свои пограничные камни в Кадеше, и я не успокоюсь, пока мои колесницы снова не вступят в Кадеш.
Когда принцесса Бакетамон вновь ощутила в себе движение плода, она закрылась в своих покоях, желая остаться наедине со своим позором. Слуги должны были оставлять пищу для нее за дверью, и, когда срок приблизился, врачи тайно следили за ней. Они опасались, что, если при родах никого не будет, она пустит ребенка вниз по течению реки в тростниковой лодке, как те матери, на которых рождение ребенка навлекало позор. Но она не сделала этого, и, когда наступил срок, она призвала своих врачей. Родовые муки вызвали улыбку на ее устах, и она родила сына, которому, не спросив Хоремхеба, дала имя Сет. Так люто она ненавидела это дитя, что назвала его «Рожденный от Сета».
Когда Бакетамон достаточно оправилась от родов, она приказала своим рабам умастить ее и облачить в царские одежды. Велев переправить себя на другой берег, она в одиночестве отправилась на рыбный рынок Фив. Там она говорила с погонщиками ослов, водоносами и с продавцами рыбы. Она сказала им:
— Я принцесса Бакетамон, супруга главного военачальника Египта, Хоремхеба. Двух сыновей родила я ему, но он скучный и неповоротливый человек и от него пахнет кровью. Я не вижу никакой радости от него. Придите и насладитесь со мною так, чтобы и я могла насладиться вами, ибо ваши заскорузлые руки и здоровый запах навоза приятны мне, а также я люблю запах рыбы.
Люди на рыбном рынке дивились ее словам. Они были напуганы и старались ускользнуть от нее, но она упорно следовала за ниш и, обнажаясь перед ними, спрашивала:
— Разве я не прекрасна? Почему вы колеблетесь? Знайте, что даже если я кажусь вам старой и безобразной, я не требую от вас никакой благодарности, кроме камня, и пусть этот камень будет столь же мал или велик, сколь было мало или велико наслаждение, которое я дам вам.
Подобного никогда еще не случалось на рыбном рынке. Глаза мужчин засверкали при виде ее красоты. Царский лен ее одеяния соблазнят их, а аромат ее благовоний кружил им головы.
Они говорили друг другу:
— Поистине она, должно быть, богиня, которая предстала перед нами, потому что мы снискали ее благосклонность. Мы поступили бы дурно, противясь ее воле, а наслаждение, которое она сулит нам, наверное, божественно.
А другие говорили так:
— В конце концов наше наслаждение будет стоить нам так дешево, ведь даже негритянки берут не меньше гроша. Несомненно, она жрица, которая собирает камни для постройки нового храма богини Баст, и мы сделаем дело, угодное богам, если выполним ее волю.
Они последовали за ней в тростниковые топи на берегу реки, куда она увела их подальше от людских глаз. И там целый день Бакетамон дарила наслаждение мужчинам с рыбного рынка, не обманув их ожиданий и оказывая им великие милости. Многие принесли ей огромные камни, какие покупают в каменоломнях за большую цену, так высоко они оценили то наслаждение, которое она подарила им.
Они говорили друг другу:
— Поистине никогда мы не встречали такой женщины. Ее уста источают мед, ее груди — спелые яблоки, а ее объятия так горячи, как жаровня с древесными углями, на которой жарят рыбу.
Они умоляли ее вернуться поскорее на рыбный рынок и обещали собрать для нее много огромных камней. Она сдержанно улыбалась им, благодаря их за доброту и за великую радость, которую они доставили ей. Когда вечером она возвращалась в золотой дворец, ей пришлось нанять более крепкое судно, чтобы перевезти через реку все камни, которые она собрала за день.
На следующее утро она взяла судно покрепче, и, когда рабыни перевезли ее на другой берег реки, она оставила их на причале, а сама направилась к овощному рынку. Там она говорила с крестьянами, которые пригнали в город на рассвете быков и ослов, с мужчинами, чьи руки задубели от земли, а кожа была груба и обветрена. Она также говорила с подметальщиками улиц, с золотарями, с неграми-стражниками, соблазняя их и обнажаясь перед ними, так что они забросили свои корзины с товаром, своих быков и своих осликов. Они оставили улицы неметенными и последовали за ней в тростниковые топи, говоря:
— Такой лакомый кусочек попадается беднякам не каждый день. Ее кожа не такая, как у наших жен, и у нее благородный запах. Только сумасшедший откажется от наслаждения, которое она предлагает нам.
Они наслаждались ею и приносили ей камни. Крестьяне принесли ей ступени от таверн, а стражники украли камни со строек фараона. Вечером принцесса Бакетамон скромно благодарила всех мужчин с овощного рынка за доброту к ней и радость, которую они ей доставили. Они нагружали ее лодку камнями до тех пор, пока она не осела так глубоко, что чуть было не затонула, и рабыни должны были хорошо потрудиться, чтобы переправить ее через реку к причалу у золотого дворца.
В этот же вечер всем Фивам стало известно, что богиня с кошачьей головой явилась людям и услаждала их. Удивительнейшие слухи быстро распространились по городу, но те, кто более не верил в богов, находили другие объяснения этому.
На следующий день принцесса Бакетамон ходила среди мужчин, торгующих на угольном рынке, и вечером тростниковые заросли у реки были черны как сажа и утоптаны.
Жрецы многих маленьких храмов горько сетовали на безбожных угольщиков, которым ничего не стоит выломать камень из стены храма, чтобы расплатиться за свои удовольствия. Угольщики облизывались и хвалились друг перед другом:
— Поистине мы вкусили райское блаженство. Ее губы слаще меда, а ее грудь пылала жаром в наших объятиях. Мы никогда и не думали, что на свете бывает что-нибудь подобное.
Когда в Фивах стало известно, что богиня явилась народу в третий раз, весь город пришел в волнение. Даже почтенные люди оставляли своих жен и шли в таверны, а по ночам брали камни возле строящихся зданий, так что на следующее утро все мужчины в Фивах ходили с рынка на рынок с камнем под мышкой, нетерпеливо ожидая появления богини с кошачьей головой. Жрецы встревожились и послали своих стражников арестовать женщину, по вине которой был нарушен закон и порядок.
В тот день принцесса Бакетамон лежала в золотом дворце, отдыхая от своих трудов. Она улыбалась всем, кто обращался к ней, и была особенно любезна. Придворных очень удивило се поведение, но никому не приходило в голову, что она-то и есть та таинственная женщина, которая явилась народу в Фивах и предавалась любовным утехам с угольщиками и рыбниками.
Принцесса Бакетамон, осмотрев собранные ею камни различных размеров и цветов, призвала в свой сад строителя царских скотных дворов и сказала ему:
— Я собрала эти камни на берегу реки, и они для меня священны. Каждый из них связан с радостными воспоминаниями, и чем больше камень, тем воспоминание приятней. Построй мне дом из этих камней, чтобы у меня была крыша над головой, ибо мой супруг пренебрегает мною, о чем ты, несомненно, уже слышал. Пусть этот дом будет просторным, с высокими стенами, а я наберу еще камней, если тебе нужно.
Главный строитель, человек простой, робко ответил:
— Благородная принцесса Бакетамон, боюсь, что моего умения недостаточно, чтобы построить дом, достойный твоего положения. Все эти камни разных размеров и цветов, и потому подогнать их один к другому — очень трудное дело. Поручи это кому-нибудь из строителей храмов или художнику, ибо боюсь, что у меня не хватит мастерства и это может испортить твой прекрасный замысел.
Но принцесса Бакетамон застенчиво коснулась его костлявого плеча и сказала:
— Я всего лишь бедная женщина, чей муж пренебрегает ею, и я не могу позволить себе нанять известных зодчих. Не могу я предложить и достойных подарков за работу, как бы мне ни хотелось сделать это. Когда дом будет готов, я осмотрю его вместе с тобой, и, если я найду, что он хорошо построен, мы с тобой предадимся там любовным утехам, это я тебе обещаю! Я не могу дать тебе ничего, кроме этой маленькой радости.
Ее речи и красота воспламенили главного строителя, он вспомнил предания, в которых принцессы влюблялись в простолюдинов и предавались с ними любовным утехам. Его страх перед Хоремхебом был велик, но еще сильнее было его желание, а слова Бакетамон чрезвычайно льстили ему. Он начал возводить дом, вкладывая в эту работу все свое умение и мечтая о принцессе. Он воплощал свои мечты в стенах этого дома. Желание и любовь сделали из него великого художника, ибо он видел принцессу Бакетамон каждый день. Его душа пылала, и он трудился, как безумный, не зная отдыха и становясь все бледнее от тяжелого труда и страсти. Из камней самых разных цветов и размеров он строил дом невиданной красоты.
Камни, которые собрала Бакетамон, скоро кончились, и она еще раз ходила в Фивы, где собирала камни на рынках, на улице Рамс и в храмовых садах. В конце концов не осталось ни одного места в Фивах, где бы она не собирала камни.
К этому времени все уже знали о се занятиях, и придворные собрались в саду, чтобы взглянуть украдкой на этот дом. Когда придворные дамы увидели высоту стен и количество камней в них, больших и малых, они с трудом подавили возглас удивления. Но никто ни слова не посмел сказать принцессе, а Эйе, который своей властъю фараона мог бы обуздать се, безумно злорадствовал, ибо знал, что ее поведение сильно досадит Хоремхебу.
Хоремхеб вел войну в Сирии, он отвоевал у хеттов Сидон, Смирну и Библос и отправил в Египет множество рабов и трофеев, а своей жене — множество великолепных подарков. В Фивах все знали, что происходит в золотом дворце, но никто не осмелился рассказать Хоремхебу о поведении его супруги. Его люди, которые были обязаны ему своим высоким положением, закрывали на это глаза, говоря друг другу:
— Это семейное дело, а становиться между мужем и женой — все равно что класть руку между мельничными жерновами.
Вот почему Хоремхеб ничего не знал, и я считаю, что это было на пользу Египту, так как знание, вполне вероятно, отвлекло бы его мысли от военных действий.
5
Я много рассказывал о том, что случилось с другими во время правления Эйе, и мало о себе. Да и не о чем рассказывать. Река моей жизни больше не мчалась стремительно, а снова текла плавно и медленно по неглубокому руслу. Год за годом я жил под крылышком Мути. Мои ноги устали от долгих скитаний по пыльным дорогам, глаза утомились от созерцания мирской суеты, а душа устала от тщеты человеческой. Я заперся в моем доме и перестал принимать больных, делая время от времени исключение лишь для соседей и для очень бедных людей, у которых не был денег платить постоянным врачам. Я вырыл еще один бассейн во дворе и пустил туда золотых рыбок; я просиживал возле него целые дни под моим сикомором. Ослы кричали на улице у моего дома, дети играли в пыли, а я все смотрел на рыбок, которые лениво плавали в прохладной воде. Обгоревший, как сажа, сикомор вновь одевался листвой, и Мути хорошо заботилась обо мне, готовя вкусную еду, и позволяла мне пить в меру, когда мне этого хотелось. Она следила за тем, чтобы я высыпался и не слишком напрягал свои силы.
Но еда потеряла свой вкус и вино не приносило радости. Когда спускалась вечерняя прохлада, вино оживляло передо мной картины моих преступных деяний. Лицо умирающего фараона Эхнатона и молодое лицо принца Шубатту. Мне не хотелось больше лечить людей, ибо мои руки, которые могли бы быть добрыми, были прокляты и приносили смерть. Так что я наблюдал за рыбками в моем бассейне и завидовал им. Их кровь была холодна, и их радости были бесстрастны, и они не были обречены всю жизнь дышать горячим воздухом земли.
И вот, сидя там, в моем саду, я беседовал со своим сердцем и говорил:
— Успокойся, глупое сердце, это не твоя вина. Все вокруг — безумие, добро и зло не имеют никакого смысла; миром правят алчность, ненависть и вожделение. Это не твоя вина, Синухе, ибо человек остается человеком и он никогда не изменится. Напрасны все попытки исправить его войной и нуждой, чумой и пожаром, богами и копьями. Эти испытания ожесточают его до большего одичания, чем у крокодила, и человек бывает хорош только после своей смерти.
Но мое сердце возражало мне:
— Ты можешь сидеть здесь и любоваться своими рыбками, Синухе, но я не дам тебе покоя. Тысячи и тысячи умерли из-за тебя, Синухе. Они умерли от голода, чумы и ран. Они умерли под колесами колесниц и сгинули в походах по пустыне. Из-за тебя дети погибли в утробе матерей, из-за тебя невольников хлестали плетью по согбенным спинам, из-за тебя справедливость попрана несправедливостью, из-за тебя алчность побеждает доброту, а разбойники правят миром. Поистине бессчетное множество людей умерло из-за тебя, Синухе. Все, кто умер, и все, кто сейчас умирают, — твои братья и умирают по твоей вине. Вот почему ты слышишь в своих снах их стенания, Синухе, и их стенания делают твою пищу безвкусной и лишают тебя всякой радости.
Но я ожесточал свой дух и говорил:
— Эти рыбки — мои братья, потому что они не способны произносить пустые речи. Волки пустыни — мои братья и львы пустыни — мои братья, но человек не может быть моим братом, ибо он ведает, что творит.
А мое сердце насмехалось надо мной и говорило:
— Разве человек знает, что творит? Это ты знаешь, ты имеешь познания, и вот потому я заставлю тебя страдать до конца твоих дней, а другие — не ведают. Ты один виноват, Синухе!
Тогда я вскрикнул, разорвал свои одежды и сказал:
— Да будут прокляты мои познания, да будут прокляты мои руки, да будут прокляты мои глаза! Но более всего проклинаю я свое безумное сердце, которое не дает мне покоя, преследуя меня лживыми наветами. Принеси мне весы Озириса, чтобы взвесить мое лживое сердце!
Мути поспешила ко мне из кухни и, смочив тряпку в бассейне с водой, положила ее мне на голову. Ожесточенно браня меня, она уложила меня в постель и поила горьким питьем, пока я не успокоился. Долго я лежал больной и в бреду бормотал Мути о весах Озириса, Мерит и маленьком Тоте. Она преданно ухаживала за мной, и я полагаю, для нее было огромной радостью удержать меня в постели и кормить меня. Она запретила мне сидеть в саду в самое жаркое время дня, потому что мои волосы выпали, а моя лысая голова не переносила палящих лучей солнца. И вот я перестал сидеть на солнце, а проводил время в прохладной тени сикомора, наблюдая за рыбками, которые были моими братьями.
Оправившись от болезни, я стал более миролюбив и примирился даже со своей совестью, так что она больше не мучила меня. И я больше не говорил о Мерит и о маленьком Тоте, но хранил память о них в своем сердце, сознавая, что их смерть была необходима, дабы я испил свою чашу до дна и остался один на всем белом свете. Будь они со мной, я был бы счастлив и спокоен и сердце мое молчало бы. Но мне суждено прожить свою жизнь в одиночестве, ибо такой удел уготован мне. Моя судьба была предрешена уже тогда, когда я один плыл по реке в самую ночь моего рождения.
Однажды я тайком переоделся в грубую одежду бедняка, сбросил со своих ног сандалии и покинул этот дом. Я пошел к причалу и носил там тяжелые грузы вместе с другими грузчиками до тех пор, пока не заболела моя спина и не согнулись плечи. Я ходил на овощной рынок и собирал отбросы себе в пищу. Я ходил на угольный рынок и раздувал там тяжелые мехи для кузнецов. Я исполнял работу рабов и носильщиков. Я ел их хлеб и пил их пиво и говорил им:
— Между людьми нет различий, ибо все приходят в этот мир нагими. Нельзя судить о человеке по цвету его кожи, или по его речам, или же по его одежде и украшениям, а лишь по его душе. Добрый человек лучше злого, а справедливость лучше несправедливости — вот все, что я знаю.
Так говорил я им перед их хижинами по вечерам, в то время как их жены разводили на улице огонь и в воздухе пахло жареной рыбой.
Они смеялись надо мной и говорили:
— Ты безумный, Синухе, раз выполняешь работу рабов, тогда как можешь читать и писать. Наверняка ты замешан в каком-то преступлении и вынужден скрываться среди нас. В твоих речах есть намек на Атона, чье имя нам запрещено произносить. Мы не выдадим тебя стражникам и позволим жить среди нас, чтобы ты развлекал нас своей болтовней. Но не ставь нас вровень с грязными сирийцами и жалкими неграми, пусть мы рабы и грузчики, все-таки мы — египтяне, гордые цветом кожи, нашей речью, нашим прошлым и нашим будущим.
А я им сказал:
— Это бессмысленный разговор. До тех пор, пока человек будет гордиться собой и считать себя лучше других, род человеческий не избавится от оков и бичей, от копий и хищников. Одна лишь душа человека должна быть ему судьей.
Но они громко смеялись и, хлопая себя по коленям, говорили:
— Поистине ты безумен или ты вырос вдали от жизни. Человек не может жить, если он не ставит себя выше других, и даже самый убогий мнит себя в чем-то выше своего соседа. Нам приятно чувствовать себя умнее и хитрее тебя, хоть мы всего лишь бедняки и рабы, а ты умеешь читать и писать.
Я отвечал им:
— Добрый человек лучше злого, а справедливость лучше несправедливости.
Но они с горечью возражали мне:
— Что есть добро и что есть зло? Если мы убьем плохого хозяина, который бьет нас, дурно кормит и позволяет умирать нашим женам и детям, то наше деяние — доброе деяние. Но стражники ведут нас к судьям фараона, и нам отрезают уши и носы и подвешивают нас вниз головой на стене.
Они давали мне рыбы, приготовленной их женами, я пил их жидкое пиво и говорил:
— Убийство — самое гнусное из преступлений, какое может совершить человек, и убивать из добрых побуждений так же грешно, как и из злых. Надо не убивать, а исцелять от дурных помыслов.
Они прикрывали рот рукой, оглядывались по сторонам и говорили:
— Мы не хотим никого убивать, но если ты собираешься исцелять людей от их злобы и заменить неправедность справедливостью, то начни со знатных, богатых и судей фараона. Среди них ты найдешь больше зла и несправедливости, чем среди нас. Не вини нас, если за твои слова они отрежут тебе уши и пошлют в рудники или же подвесят тебя на стене вниз головой, ибо речи твои опасны. Хоремхеб, наш великий военачальник, без сомнения, велел бы убить тебя, услышав, что ты говоришь людям, ибо убивать на войне — подвиг.
Я выслушал их советы и покинул их. Босой, в сером рубище, я бродил по улицам Фив. Я говорил с купцами, которые подмешивали песок в муку, с мельниками, которые вставляли кляпы в рот своих рабов, чтобы они не ели зерно, которое мололи, и я разговаривал с судьями, которые крали наследство у сирот и творили неправый суд за взятки. Я говорил с ними со всеми и уличал их в злодеяниях, и они слушали меня с великим удивлением.
Они спрашивали друг друга:
— Кто этот Синухе, который так дерзко говорит в своем рабском одеянии? Будем осторожны, ведь он может оказаться шпионом фараона, иначе он никогда бы не осмелился говорить подобное.
Они выслушивали то, что я говорил им, и приглашали в свои покои, они предлагали мне подарки и угощали вином. Судьи искали моего совета и в тяжбах бедных с богатыми выносили приговоры в пользу бедных, что вызывало великое беспокойство в Фивах. Люди говорили:
— В наши дни нельзя доверять даже судьям фараона. Они еще более бесчестны, чем воры, которых они судят.
Когда я пошел к знатным, они оскорбляли меня, и спускали на меня своих собак, и гнали меня плетьми, к моему горькому унижению, и я бежал по улицам Фив в разорванном платье, и кровь капала с моих израненных ног.
Купцы и судьи видели мое унижение и более не слушали меня. Они гнали меня прочь, говоря:
— Попробуй только прийти к нам опять со своими лживыми обвинениями. Мы предадим тебя суду как клеветника и смутьяна.
Я вернулся в свой дом, понимая, что все мои усилия напрасны, а моя смерть не принесет никому пользы. И я опять уселся под сикомором в своем саду, и смотрел на молчащих рыбок в бассейне, и так обретал покой, тогда как ослы кричали на улице, а дети играли в войну и кидали навозом друг в друга.
Капта навестил меня, ибо наконец он решился вернуться в Фивы. Его появление у меня было обставлено торжественно: он прибыл в разукрашенных носилках, которые несли восемнадцать черных рабов. Он восседал в них на мягких подушках, по его лбу струились дорогие бальзамы, заглушая дурные запахи бедного квартала. Он заметно разжирел, а сирийские ювелиры изготовили ему новый глаз из золота и драгоценных камней, чем он чрезвычайно гордился, хотя искусственный глаз так сильно раздражал глазницу, что он вынул его тотчас же, как только уселся рядом со мной под сикомором.
Первым делом он обнял меня и прослезился, радуясь нашей встрече. Я ощутил его огромный вес, когда он положил свои широкие руки на мои плечи, а сиденье, которое Мути принесла для него, разлетелось под ним на куски. Подвернув полы своей одежды, он уселся прямо на землю. Он сообщил мне, что война в Сирии близится к концу и что Хоремхеб сейчас осаждает Кадеш. Он хвалился, что весьма удачно вел свои дела в Сирии, и рассказал мне, что купил старый дворец в богатом квартале и нанял сотни рабочих восстанавливать его, дабы он соответствовал его положению.
Он сказал мне:
— Я слышал о тебе дурное в Фивах, мой господин Синухе. Говорят, что ты подстрекал людей против Хоремхеба и что судьи и другие знатные люди разгневаны на тебя, ибо ты обвинял их во многих беззакониях. Я советую тебе быть осторожнее. Может быть, они и не посмеют вынести тебе приговор, ибо ты в милости у Хоремхеба, но они могут прийти однажды темной ночью, убить тебя и сжечь твой дом, если ты не перестанешь вести эти разговоры и подстрекать бедных против богатых. Скажи мне, что случилось с тобой и отчего такие вредные мысли завелись в твоей голове, ибо я мог бы помочь тебе, как добрый слуга должен помогать своему господину.
Я опустил голову и стал рассказывать ему обо всем, что я думал и делал. Он слушал меня, качая головой до тех пор, пока его толстые щеки не задрожали.
Когда я кончил, он сказал:
— Я знаю, что ты безумный, одинокий человек, мой господин Синухе, но я думал, что твое безумие может пройти с годами. Но кажется мне, что оно только усилилось, хотя ты своими собственными глазами видел, что совершалось во имя Атона. Мне кажется, что эти причуды появились у тебя от праздности. Лучше бы ты снова вернулся к своим занятиям, ибо, излечивая одного больного, ты приносишь гораздо больше пользы, чем все твои разговоры, которые только вредят и тебе, и тем, кого ты сбиваешь с пути. А если у тебя нет желания продолжать заниматься своим делом, ты всегда можешь проводить время за каким-нибудь полезным занятием, как и другие богатые люди. Ты мог бы собирать драгоценности и другие штучки, изготовленные во времена пирамид. По правде говоря, Синухе, есть много способов времяпровождения, которые могут отвлечь тебя от этих пустых выдумок. Женщины и вино — отнюдь не самое плохое средство для этого. Ради Амона, играй в кости, трать свое золото на женщин, напивайся до бесчувствия, делай что угодно! Но только не доводи себя до гибели пустой болтовней, потому что я нежно люблю тебя, мой господин Синухе, и хочу, чтобы тебя не коснулась никакая беда.
Он говорил также:
— Нет совершенства в этом мире. Корочка булки всегда подгорает, у всякого плода свои червяки, а когда выпьешь, то утром проснешься в похмелье. Вот потому и нет совершенной справедливости; даже добрые дела имеют дурные последствия, и самые лучшие побуждения могут привести к смерти и поражению, как ты мог убедиться на примере Эхнатона. Взгляни на меня, мой господин Синухе! Я доволен своей скромной долей и становлюсь все тучнее, пребывая в согласии с богами и людьми. Судьи фараона склоняются передо мной, и люди благословляют мое имя, тогда как даже собаки гадят на твои одежды. Принимай жизнь спокойно, не твоя вина, что мир таков, каков он есть, ибо гак было и так будет всегда.
Я видел его тучность и его богатство и сильно завидовал спокойствию его духа, но я ответил:
— Будь по-твоему, Капта, я вернусь к своему ремеслу. Скажи мне, помнят ли все еще имя Атона и проклинают ли его? Ведь ты упоминал его имя, хоть это и запрещено.
Капта отвечал:
— Воистину имя Атона было забыто, как только были стерты с лица земли обелиски Эхнатона. И все же мне встречались художники, рисовавшие в манере Атона, и есть люди, рассказывающие опасные истории; то там, то сям на песке или на стенах отхожего места можно увидеть крест Атона, так что, может быть, Атон еще не совсем мертв.
— Будь по-твоему, я займусь своим ремеслом, а для отдыха начну что-нибудь собирать, как ты посоветовал мне. А так как я не хочу никому подражать, я стану собирать тех, кто все еще помнит Атона.
Но Капта вообразил, что я шучу, ибо он не хуже меня знал, как много зла принес Атон Египту и мне самому. После этого мы мирно беседовали о многом. Мути принесла вина, и мы пили вместе до тех пор, пока не пришли рабы и не помогли ему встать, потому что из-за своего веса он с трудом поднимался на ноги.
Он покинул меня, но на следующий день прислал мне щедрые подарки, которые обеспечили мне такие удобства и такое изобилие, что нечего больше было и добавить к моему счастью, если бы я только мог быть счастлив.
6
И вот я поместил над своей дверью вывеску врача и вернулся к своему прежнему ремеслу, требуя за свой труд плату соответственно достатку больного. Но я ничего не брал с бедняков, и больные сидели на корточках в моем дворе с утра до ночи. Я очень осторожно расспрашивал их об Атоне, не желая испугать или дать повод для злых толков, ибо и так я уже пользовался в Фивах дурной славой. Но я обнаружил, что Атон забыт и никто более не помнит его. Только смутьяны и те, кто пострадал от несправедливости, помнили его, а крест Атона считался знаком зла, причиняющим вред человеку.
Когда воды Нила спали, умер жрец Эйе. Говорили, что он умер от голода, потому что страх перед ядом не позволял ему принимать пищу. Затем Хоремхеб завершил войну в Сирии и позволил хеттам оставить себе Кадеш, так как он не мог отвоевать его. Он с триумфом вернулся по реке в Фивы, где всегда праздновал свои победы. Он не установил срока траура после смерти Эйе, а объявил всенародно, что Эйе был лжефараоном, который своими непрестанными войнами и грабительскими налогами принес Египту одни лишь страдания. Положив конец войне и закрыв ворота храма Сехмет, он убедил народ в том, что он никогда не желал войны, а был вынужден повиноваться лжефараону. Поэтому народ очень обрадовался его возвращению.
Но, едва прибыв в Фивы, Хоремхеб послал за мной и сказал:
— Синухе, мой друг, я постарел с тех пор, как мы расстались, и твои обвинения в том, что я кровожадный человек, принесший один только вред Египту, тяжко гнетут мою душу. А теперь я исполнил свои желания — я восстановил мощь Египта, так что никакая опасность не угрожает этой земле. Я обломил острия хеттских копий и предоставляю завоевать Кадеш моему сыну Рамзесу. С меня уже хватит войн, я хочу построить для него могущественное государство. Египет грязен, как хлев бедняка, но вскоре ты увидишь, как я разгребу нечистоты, и на место зла поставлю добро, и воздам каждому по его заслугам. Поверь, мой друг Синухе, с моим приходом вернутся старые добрые времена и все будет, как прежде. Вот потому я хочу убрать из царской династии презренные имена Эйе и Тутанхамона, ибо имя Эхнатона уже убрано, дабы казалось, что их правления никогда и не было. Началом своего правления я буду считать ночь смерти великого фараона, когда я вошел в Фивы с копьем в руке, и мой Сокол летел впереди.
Он задумчиво склонил голову на руки. Война избороздила его лицо морщинами, и не было радости в его глазах, когда он сказал:
— Мир и в самом деле изменился с тех пор, как мы были детьми, когда даже у бедняка было всего вдоволь и в самых грязных хижинах не было недостатка в масле и жире. Но Египет вновь станет плодородным и богатым. Я пошлю корабли в Пунт, я возобновлю работы в каменоломнях и заброшенных рудниках, дабы построить более величественные храмы, и пополню сокровищницу фараона золотом, серебром и медью. Через десять лет ты не узнаешь Египет, Синухе, ибо ты не увидишь более нищих или калек в этой стране. Слабых заменят сильные, и я истреблю в Египте нездоровую кровь и взращу стойкий народ, который поведут на битву за покорение мира мои сыновья!
Меня не обрадовали эти слова. Все перевернулось у меня внутри, и смертельный холод сковал мое сердце. Молча, без улыбки я стоял перед ним.
Эго рассердило его, и, хмурясь, как в старину, он сказал:
— Ты такой же кислый, как всегда, Синухе. Ты, как бесплодный терновник, стоишь передо мной, и я сам не знаю, почему так радовался предстоящей встрече с тобой, я позвал тебя к себе даже прежде, чем взял на руки своих сыновей и обнял свою супругу Бакетамон, ибо война и власть сделали меня одиноким. Не было ни одного человека в Сирии, с которым я мог бы поделиться своей печалью и радостью, и, когда я говорил с кем-нибудь, я всегда должен был взвешивать свои слова. От тебя, Синухе, я хочу только дружбы. Но, оказывается, твоя дружба будто испарилась, и ты, как видно, и не рад моему возвращению.
Я низко склонился перед ним, и моя одинокая душа воззвала к нему. И я сказал:
— Хоремхеб, ты единственный, кто остался живым из всех друзей нашей юности. Я всегда буду любить тебя. Теперь власть принадлежит тебе, и скоро ты увенчаешь свою голову коронами двух царств, и никто не сможет обуздать твою власть. Я умоляю тебя, Хоремхеб, возроди Атона! Во имя нашего друга Эхнатона, возроди Атона' Заклинаю тебя самыми ужасными преступлениями, совершенными нами, возроди Атона, дабы все люди могли стать нашими братьями и дабы не было больше войны!
Когда Хоремхеб услышал это, он с сожалением покачал головой и сказал:
— Ты такой же безумец, как и был, Синухе! Разве ты не знаешь, что камень, брошенный Эхнатоном, упал в воду с сильным всплеском, но теперь я успокоил волны, словно этого никогда и не было. Неужели ты не видишь, что мой Сокол привел меня к золотому дворцу в ночь смерти великого фараона, дабы Египет не пал? Я возвращаю все на круги своя, ибо люди никогда не довольны настоящим, в их глазах хорошо только прошлое и будущее. Я объединяю прошлое и будущее. Я стану пользоваться богатством богачей и брать нужное мне у богов, которые слишком разжирели. В моем царстве не будет ни слишком богатых, ни слишком бедных, и ни бог, ни человек не смогут оспорить власть у меня. Но напрасно я говорю все это тебе, ибо ты не можешь понять мои мысли, а твои мысли — это мысли слабого человека, а слабым нет места в этом мире, они созданы, чтобы их попирали сильные. Также дело обстоит и с разными народами; так всегда было и так будет всегда.
Так мы и расстались, Хоремхеб и я, и наша дружба стала не такой тесной, как прежде. Когда я покинул его, он пошел к сыновьям и поднял их своими сильными руками.
От сыновей он направился в покои Бакетамон и сказал ей:
— Моя царственная супруга, ты сияла в моих мечтах, как луна, все эти годы, и моя тоска по тебе была велика. Теперь труды мои завершились, и вскоре ты воссядешь рядом со мной, как и положено тебе по праву твоей священной крови. Я пролил много крови ради тебя, Бакетамон, и ради тебя я жег города. Разве я не заслужил награды?
Бакетамон нежно улыбнулась ему и, робко поглаживая его по плечу, произнесла:
— Поистине ты заслужил свою награду, мой супруг Хоремхеб, великий воин Египта! Я построила в своем саду невиданный дворец, дабы принять тебя, как ты того заслуживаешь. Каждый камень в его стенах я собрала сама в моей великой тоске по тебе. Пойдем в этот дворец, чтобы ты нашел награду в моих объятиях и я могла бы усладить тебя.
Хоремхеба восхитили ее слова, и Бакетамон повела его в сад. Придворные попрятались, затаив дыхание и ожидая, чем это кончится. Рабы и конюхи тоже разбежались. И вот Бакетамон привела Хоремхеба к этому дому. Когда в нетерпении он хотел схватить ее, она мягко отстранилась и сказала:
— Сдержи пока свой пыл, Хоремхеб, чтобы я могла рассказать тебе, с какими тяжкими трудами я построила этот дом. Надеюсь, ты помнишь, что я сказала тебе, когда последний раз ты взял меня силой? Посмотри внимательно на эти камни. Каждый из них, а их немало, памятник моему наслаждению в объятиях мужчины. Я построила этот дом на радость себе и в твою честь, Хоремхеб. Этот огромный белый камень принес мне рыбник, который был очарован мною; этот зеленый дал мне золотарь с угольного рынка; а эти восемь коричневых камней, стоящие рядом, принес зеленщик, который был ненасытен и горячо превозносил мои достоинства. Потерпи, Хоремхеб, и я расскажу тебе историю каждого камня. У нас много времени. Многие годы у нас впереди, но я знаю, что рассказов об этих камнях мне хватит до старости, если продолжать их каждый раз, как ты будешь искать моих объятий.
Поначалу Хоремхеб не поверил ее словам и принял их за нелепую шутку, да и сдержанное поведение Бакетамон ввело его в заблуждение. Но, когда он вгляделся в ее миндалевидные глаза, он увидел там ненависть более ужасную, чем смерть, и он поверил тому, что она ему сказала. Обезумев от гнева, он схватил свой хеттский кинжал, чтобы убить женщину, которая так ужасно обесчестила его.
Она обнажила свою грудь и сказала насмешливо:
— Ударь, Хоремхеб! Сбей царские короны со своей головы! Ибо я — жрица Сехмет, кровь моя священна, и, если ты убьешь меня, не будет у тебя права на престол фараона!
Ее слова привели Хоремхеба в чувство. Она обуздала его, и месть ее завершилась. Он не посмел разрушить ее дом, который стоял перед ним, когда бы он ни выглянул из своих покоев. Поразмыслив, он не нашел ничего лучше, чем изобразить полное неведение. Снести дом означало бы показать всем, что ему известно о том, как Бакетамон позволила всем Фивам осквернить его ложе, и он предпочел смех за своей спиной явному позору. С тех пор он не прикасался к Бакетамон, а жил в одиночестве. К чести Бакетамон будет сказано, что она не начинала более никаких строительных работ.
Таким было возвращение Хоремхеба, и кажется мне, что мало радости было ему от его величия, когда жрецы помазали его на царство и возложили красную и белую короны на его голову. Он стал подозрителен и никому не доверял, думая, что все смеются над ним за его спиной из-за Бакетамон. И вот будто заноза сидела в его сердце, и душа его не знала покоя. Он заглушал свое горе работой и начал освобождать Египет от груза нечистот, возвращать все на круги своя и заменять добрым дурное.
7
По справедливости я должен сказать и о достоинствах Хоремхеба, ибо люди возносили ему хвалу и считали его добрым правителем. Всего через несколько лет своего правления он встал в один ряд с великими фараонами Египта. Он брал у богатых и знаменитых, чтобы никто не мог оспаривать его власть, и это было очень по душе народу. Он наказывал неправедных судей и защищал права бедных, он пересмотрел налоги и платил сборщикам налогов регулярно из царской казны, так что те не могли более обогащаться, вымогая у людей деньги. Он беспрестанно переезжал из провинции в провинцию, из селения в селение, следя за тем, чтобы никто не злоупотреблял своей властью. Его путешествие можно было проследить по обрезанным ушам и окровавленным носам продажных сборщиков налогов. Свист бичей и жалобные крики разносились повсюду, где он останавливался. Даже беднейший из бедняков мог прийти к нему, и он был неподкупным судьей. Он вновь послал корабли в Пунт. Снова жены и дети моряков рыдали у причалов и в кровь разбивали лица камнями, как того требовал обычай, а Египет процветал как никогда. Из каждых десяти кораблей три возвращались нагруженными сокровищами. Хоремхеб строил новые храмы и воздавал богам должное, отдавая предпочтение лишь Гору и храму в Хетнетсуте, где его собственному изображению поклонялись как богу, которому люди приносили в жертву быков. За все эти деяния люди превозносили его и рассказывали о нем невероятные истории.
Процветал и Капта, и вскоре ни один человек в Египте не мог сравниться с ним в богатстве. Не имея ни жены, ни детей, он сделал своим наследником Хоремхеба, так что теперь он мог прожить остаток своих дней в мире и спокойствии и еще увеличить свое состояние. Поэтому Хоремхеб брал с него меньше, чем с остальных богачей.
Капта часто приглашал меня в свой дом, вместе с садом занимавший целый квартал, так что у него не было соседей, которые могли бы нарушить его покой. Он ел из золотой посуды, а вода в его комнатах бежала из серебряных кранов на критский лад. Его ванна была из серебра, стульчик в его уборной — из черного дерева, а стены ее были выложены мозаикой из редких камней, составлявшей занятные картинки. Он угощал меня заморскими кушаньями и поил вином, настоенным в пирамидах. Во время трапезы слух его услаждали певцы и музыканты, а красивейшие и искуснейшие танцовщицы Фив, развлекая его, показывали чудеса мастерства.
Он говорил мне:
— Господин мой Синухе, так уж странно устроен мир, что, когда человек достигает какой-то степени богатства, он уже не может обеднеть, а становится все богаче, не пошевельнув для этого и пальцем. Я обязан своим богатством тебе, Синухе, и потому всегда буду считать тебя своим господином, и у тебя до конца жизни ни в чем не будет недостатка. Тебе же лучше, что ты не богат, ибо ты никогда толком не распорядился бы своим богатством, но сеял бы смуту и наделал бы всяких бед.
Каша также покровительствовал художникам; скульпторы делали его изображение в камне, наделяя его благородной и значительной внешностью. В этих изображениях у него были стройные ноги, маленькие руки и ступни, высокие скулы. На этих скульптурах оба его глаза были зрячими, и он сидел, погруженный в размышления, со свитком папируса на коленях и пером в руке, хотя никогда в жизни даже и не пытался научиться читать и писать. Только его писцы читали и писали и подсчитывали для него огромные суммы. Статуи эти очень забавляли Капта, а жрецы Амона, которых он щедро одаривал, чтобы жить в мире с богами, поставили его изображение в большом храме, и он покрыл все издержки, связанные с этим.
Я был рад за Капта, что он богат и счастлив. В самом деле, я был рад благополучию любого и не пытался избавить людей от их заблуждений, если эти заблуждения давали им счастье. Правда часто бывает горькой, и иногда милосерднее убить человека, чем отнять у него его мечты.
Но меня самого не посещали мечты, и моя работа не приносила мне умиротворения, хотя за это время я излечил многих больных. Из тех, кому я вскрывал череп, умерли только трое, так что за мною прочно укрепилась слава черепного хирурга. Но я постоянно был недоволен чем-то и у всех находил недостатки. Я порицал Капта за его обжорство, бедняков — за их леность, богатых — за себялюбие, судей — за равнодушие, и никем я не был доволен. На больных и детей я никогда не ворчал, но старался лечить их, не причиняя им ненужной боли, и позволял Мути оделять медовыми пряниками маленьких мальчиков с улицы, чьи глаза напоминали мне глаза Тота.
Люди говорили обо мне:
— Этот Синухе — нудный, озлобленный человек. У него увеличена печень, и с каждым словом он изрыгает желчь, он потерял вкус к жизни. Его злодеяния преследуют его, так что даже ночью нет ему покоя. Не будем же обращать внимания на его слова, ибо язык Синухе жалит больнее его самого, чем других.
Это было правдой.
Всякий раз, как я изливал свою горечь, я сожалел об этом и плакал.
Я порицал и Хоремхеба, и все его дела казались мне злом. Больше всего я поносил его «мерзавцев», которых он содержал за счет казны фараона и которые вели праздную жизнь в тавернах и увеселительных заведениях, хвастаясь своей удалью и насилуя дочерей бедняков, так что ни одна женщина не могла спокойно пройти по улицам Фив.
Хоремхеб прощал своим головорезам все, что бы они ни делали. Когда бедняки обращались к нему с жалобами на положение своих дочерей, он отвечал, что те должны гордиться, ибо от его людей родится здоровое потомство.
Хоремхеб становился все более и более подозрительным, и в один прекрасный день его стражники пришли в мой дом, прогнали со двора больных и привели меня к нему. Снова настала весна, вода в Ниле спала, и ласточки носились над медленной мутной рекой. Хоремхеб состарился. Его голова низко склонилась, и мускулы словно веревки, выступали на его длинном худом теле.
Он взглянул мне в глаза и сказал:
— Синухе, я предупреждал тебя много раз, но ты не слышал моих предостережений. Ты продолжаешь рассказывать людям, что ратный труд — самый презренный и унизительный из всех. Ты говоришь, что детям лучше было бы умереть во чреве матери, чем родиться воинами. Ты утверждаешь, что лучше одной женщине иметь двух или трех детей и быть счастливой с ними, чем несчастливой и бедной с девятью или десятью. Ты сказал, что бог лжефараона — величайший из всех богов. Ты сказал, что ни один человек не имеет права продавать и покупать другого как раба, и что тем, кто пашет и сеет, должна принадлежать земля, которую они возделывают, хотя бы она была землей фараона или бога. Ты заявил, что мои порядки не намного отличаются от порядков хеттов. Ты говорил многое еще более возмутительное. Любой другой давным-давно послал тебя в каменоломни. Но я был терпелив к тебе, Синухе, потому что некогда ты был моим другом. Пока жрец Эйе был жив, ты был нужен мне как единственный свидетель против него. Теперь ты не нужен мне больше, ты даже можешь навредить мне, ибо знаешь слишком много. Будь ты мудрее, ты попридержал бы язык, жил бы тихо и был бы доволен своей судьбой, поскольку у тебя действительно ни в чем нет нужды. Вместо этого ты пачкаешь меня своей клеветой, а этого я больше не буду терпеть.
Гнев его усиливался по мере того, как он говорил; он ударил себя хлыстом по тонким ногам, нахмурился и продолжал:
— Ты был песчаной блохой у меня под ногами, слепнем у меня на плече. В моем саду я не потерплю никаких бесплодных деревьев, на которых вырастают лишь ядовитые шипы! Я должен изгнать тебя из Египта, Синухе, и никогда более ты не увидишь земли Кем. Позволь я тебе остаться, настал бы день, когда я вынужден был бы предать тебя смерти, а этого я делать не желаю, ибо когда-то ты был мне другом. Твои безумные речи могут оказаться искрой, которая воспламенит сухой тростник. Если уж такая попадет в сухой тростник, он сгорает дотла. Я не позволю снова опустошить землю Кем, не позволю этого сделать ни богам, ни людям. Я изгоню тебя, Синухе, так как не может быть, что ты был истинным египтянином, ты, недоносок-полукровка. Твоя голова забита нелепыми выдумками!
Возможно, он был прав, и мои душевные муки происходили оттого, что в моих жилах смешалась священная кровь фараонов с угасающей, вялой кровью Митанни. Хотя я лишь улыбнулся в ответ на его слова, все же они ошеломили меня, ибо Фивы были моим городом. Я родился и вырос здесь и не желал жить нигде более.
Мой смех взбесил Хоремхеба. Он ожидал, что я повергнусь перед ним ниц и стану молить его о прощении. Щелкнув плетью фараона, он вскричал:
— Быть по сему! Я изгоняю тебя из Египта навеки. Когда ты умрешь, твое тело не привезут домой для погребения, хотя я могу дозволить, чтобы его сохранили согласно обычаю. Тебя похоронят на берегу Восточного моря, откуда корабли отплывают в землю Пунт, ибо это место станет местом твоего изгнания. Я не могу послать тебя в Сирию, ибо не угасли еще сирийские уголья и их незачем раздувать. Раз ты утверждаешь, что цвет кожи не имеет значения и что негры и египтяне — одинаково достойные народы, то я не могу выслать тебя и в землю Куш. Ты можешь вбить свои глупые выдумки в головы чернокожим. Но земля у моря пустынна. Пожалуйста, произноси свои речи перед черным ветром из пустыни, а с холмов ты можешь читать проповеди шакалам, воронам и змеям. Стражники определят границу твоих владений, и, если ты пересечешь эту границу, они пронзят тебя копьями. Кроме этого, тебя ни в чем не ограничат; ложе твое будет мягким, пища обильной и любая твоя разумная просьба будет выполнена. Действительно, одиночество само по себе — достаточное наказание, и, так как ты был некогда моим другом, у меня нет желания в чем-то еще притеснять тебя.
Я не боялся одиночества, так как всю свою жизнь был одинок и был рожден для этого. Но мое сердце сжималось от горечи при мысли о том, что никогда более я не увижу Фив, не почувствую у себя под ногами мягкой почвы Черной Земли и не выпью нильской воды.
Я сказал Хоремхебу:
— У меня мало друзей, ибо люди сторонятся меня из-за моей озлобленности и острого языка, но ты, конечно, позволишь мне попрощаться с ними. Я бы с радостью попрощался и с Фивами, прошелся бы еще раз по улице Рамс, чтобы вдохнуть дым жертвоприношений меж яркими колоннами великого храма и запах жареной рыбы в сумерках в бедных кварталах.
Хоремхеб, несомненно, исполнил бы мою просьбу, если бы я плакал и повергся перед ним ниц, поскольку он был очень тщеславен. Но, как ни был я слаб, я не хотел унижаться перед ним, ибо ученость не должна кланяться власти. Я прикрыл рот рукой и попытался скрыть свой страх за зевотой, так как всегда от сильного испуга меня одолевала дремота. Думаю, это качество отличает меня от других.
Тогда Хоремхеб ответил:
— Я не допущу никаких ненужных прощаний, ибо я воин и презираю слабость. Я облегчу тебе дорогу и отправлю тебя в путь немедленно, чтобы не давать пищи для народных волнений и выступлений. Ты известен в Фивах даже больше, чем думаешь. Ты покинешь город в закрытых носилках, но если кто-то захочет последовать за тобой в место твоего изгнания, я не воспрепятствую этому. Но он должен будет оставаться там до конца своих дней, даже если ты умрешь первым. Он тоже умрет там. Опасные мысли — это чума, которой легко заразиться, и я не желаю, чтобы другой человек занес эту чуму в Египет. Если же ты под своими друзьями подразумеваешь некоего раба с мельницы, у которого срослись пальцы, пьяницу-художника, который изображает божество присевшим у дороги, и пару негров, зачастивших в твой дом, тебе не нужно и искать их, чтобы попрощаться: они уже отправились в дальний путь и не вернутся никогда.
В эту минуту я ненавидел Хоремхеба, но себя ненавидел еще больше. Снова я посеял смерть, и друзья мои пострадали из-за меня. Я ничего не сказал, но склонился перед ним с простертыми руками и оставил его, и стража увела меня. Дважды он открывал рот, чтобы заговорить со мной, прежде чем я ушел, и сделал шаг вперед. Но затем остановился и произнес:
— Фараон сказал.
Стражники закрыли меня в носилках и унесли из Фив через три холма, а затем на восток, в пустыню, по вымощенной дороге, построенной по приказу Хоремхеба. Мы были в дороге двадцать дней, пока не пришли в гавань, где корабли грузили товары для земли Пунт. Там были местные жители, так что оттуда стражники несли меня еще три дня вдоль берега до покинутого селения, где когда-то обитали рыбаки. Здесь они отвели мне участок земли, где я мог ходить, и выстроили дом, в котором я прожил все эти годы. Я не нуждался ни в чем. Я жил жизнью богатого человека. У меня есть превосходные письменные принадлежности и бумага, ларцы из черного дерева, где я держу книги, которые я написал, и все, что требуется врачу. Но книга, которую я пишу сейчас, — последняя, и мне нечего больше сказать, ибо я стар и устал и зрение мое настолько слабо, что я едва могу различать знаки на папирусе.
Мне кажется, я не выжил бы, если бы не записал и таким образом не пережил бы заново всю свою жизнь. Я писал для того, чтобы уяснить для себя смысл своего существования, но теперь, когда я заканчиваю свою последнюю книгу, я еще меньше знаю о нем, чем когда я начал писать. Тем не менее писательский труд все эти годы доставлял мне великое удовольствие. Каждый день море было у меня перед глазами. Я видел его красным и видел черным, днем я видел его зеленым, а в темноте оно казалось белым. В дни иссушающего зноя оно представало передо мною ярко-синим. Этого вполне достаточно, ибо море кажется безбрежным и ужасным для человека, у которого оно вечно перед глазами.
Я смотрел и на красные холмы, окружавшие меня. Я изучал песчаных блох; скорпионы и змеи были моими собеседниками, и они не боялись меня, а слушали мои речи. Все же мне кажется, что они — неподходящая компания для человека, и они так же наскучили мне, как бесконечно катящиеся морские валы.
Мне следовало бы упомянуть о том, что в первый же год моего пребывания в этом селении, где были лишь побелевшие кости и полуразрушенные хижины, Мути приехала ко мне из Фив с одним из караванов фараона, когда корабли снова отплывали в Пунт. Она поздоровалась со мною и горько заплакала, увидев, как я был жалок: щеки мои ввалились, живот втянулся, а моя душа была ко всему безразлична.
Вскоре она оправилась и принялась журить меня, приговаривая:
— Разве не предупреждала я тебя тысячу раз, Синухе, чтобы ты не совал голову в капкан по-дурацки, как это всегда делают мужчины? Но мужчины глухи словно камни, ведь они всего лишь мальчишки, вечно разбивающие себе лбы о стенку. Тебе и впрямь хватит биться головой о стену, господин мой Синухе, пришло время тебе осесть где-то и жить, как подобает умному человеку.
Но я выбранил ее, сказав, что ей ни в коем случае не следовало покидать Фивы, ибо теперь у нее не было надежды на возвращение. Приехав сюда, она связала свою жизнь с жизнью изгнанника.
В ответ она долго ругалась:
— Наоборот, то, что произошло с тобой, — лучшее из всего, что с тобой случалось, и я уверена, что Хоремхеб поступил как твой искренний друг, послав тебя в преклонном возрасте в такое тихое место. Да и я порядком устала от суеты Фив и вечно хнычущих соседей, которые одалживают у меня кухонные горшки и не отдают и выливают помои мне во двор. Если поразмыслить, то дом медеплавильщика после пожара уже стал не тот. Мясо подгорало в жаровне, и масло в кувшинах делалось прогорклым. Из щелей в полу поддувало, а ставни беспрестанно дребезжали. А теперь мы начнем новую жизнь и устроим все так, как нам нравится. Я уже выбрала отличное место для сада. Я буду выращивать там ароматные травы и салат, который ты так любишь, мой господин. Я дам этим ленивым трутням, которых фараон приставил к тебе, чтобы они защищали тебя от разбойников и злодеев, достаточно работы. Каждый день им придется приносить тебе свежую дичь, ловить рыбу и собирать крабов и мидий на берегу, хотя я подозреваю, что морская рыба не так хороша, как речная. Вдобавок я бы хотела подыскать подходящее место для могилы, если ты позволишь мне, о господин мой. Прибыв так далеко, я не намерена больше уходить куда-то снова. Я устала от скитаний с места на место, пока искала тебя, и путешествия пугают меня, ибо до сих пор я никогда ни покидала Фивы.
Так Мути утешила и ободрила меня своим ворчанием. Думаю, что лишь благодаря ей я вернулся к жизни и начал писать. Она побудила меня к этому, хотя и не умела читать и в душе считала мои писания чепухой. Но она радовалась, что я нашел себе какое-то занятие, и приглядывала за тем, чтобы я время от времени отдыхал и наслаждался всеми чудесными блюдами, какие она готовила мне. Она выполнила свое обещание и заставила стражников фараона работать, сделав их жизнь такой тяжкой, что они проклинали ее у нее за спиной и называли ведьмой и крокодилом. Но они не смели перечить Мути, ибо та в ответ долго поносила их, а язык ее был острее, чем рогатина для быков.
Мне же думается, что внимание Мути было удивительно благотворным. Она следила за тем, чтобы люди не сидели без дела, так что время для них пролетало быстро. Она пекла им в награду вкусный хлеб и варила в огромных кувшинах крепкое пиво. Каждый день они ели свежую зелень с ее огорода, и она учила их, как разнообразить пищу. Каждый год, когда корабли отплывали в Пунт, Капта посылал к нам караваны с грузом из Фив. Он поручил своим писцам сообщать нам обо всем, что происходит в городе, так что я был в курсе событий. Все это шло на пользу моим стражникам. Они многому научились от Мути и разбогатели, ибо я одаривал их, так что они не слишком тосковали по Фивам.
Теперь я устал писать, и у меня болят глаза. Кошки Мути прыгают ко мне на колени и трутся головой о мою руку. Душа моя утомилась от всего, что я описал здесь, а тело мое жаждет вечного покоя. Хотя я и не могу быть счастлив, но я и не чувствую себя несчастным в моем уединении.
Я благословляю мой папирус и мое перо, ибо благодаря им я смог вновь стать маленьким мальчиком в доме отца своего Сенмута, я прошел по дорогам Вавилона с Минеей, и милые руки Мерит вновь обнимали меня. Я плакал с теми, кто горевал, и оделял бедняков зерном. Но я более не вспоминаю о своих злодеяниях и о горечи потерь.
Все это написал я, Синухе-египтянин, для себя. Не ради богов, не ради людей, не ради того, чтобы обессмертить свое имя, но лишь для того, чтобы принести мир своей измученной душе, чья чаша теперь испита до дна. Я знаю, что стражники уничтожат все, что я написал, как только я умру, и по приказу Хоремхеба снесут мой дом. Однако я не уверен, что это меня волнует. Тем не менее я заботливо храню написанные мною книги, а Мути сплела твердый переплет из пальмового волокна для каждой из них. Я храню эти переплетенные книги в серебряном ларце, а этот серебряный ларец находится в шкатулке из твердого дерева, а она в свою очередь — в медной шкатулке, точь-в-точь как были некогда спрятаны божественные книга Тота перед тем, как их опустили на дно реки. Будут ли мои книги таким же образом спасены от стражников или Мути спрячет их в моей могиле, не знаю, да мне и все равно.
Ибо я, Синухе, — человек. Я жил во всех, кто существовал до меня, и буду жить во всех, кто придет после меня. Я буду жить в слезах и смехе людей, в их печалях и страхах, в доброте и злобе, в справедливости и несправедливости, в слабости и в силе. Как человек я буду жить вечно в роде людском. Я не хочу никаких приношений на мою гробницу и никакого бессмертия для моего имени.
Это было написано Синухе-египтянином, который прожил в одиночестве все дни своей жизни.
Мика Валтари
НАСЛЕДНИК ФАРАОНА
ББК 84.4Фин
В15
Разработка серийного оформления художников Е. Кипяткова, А. Саукова, А. Хромова
Серия основана в 1995 году
Перевод И. И. Кедровской
Валтари М.
В15 Наследник фараона: Роман./ Пер. с фин. И. И. Кедровской.— М.: ЭКСМО,1995.— 560 с. (Серия «Олимп»).
ISBN 5-85585-288-1
Имя финского прозаика Мика Валтари известно читателям многих стран — его увлекательные исторические романы уже несколько десятилетий переиздаются огромными тиражами, прочно занимая первые места в списках бестселлеров.
Роман «Наследник фараона» — один из лучших романов писателя. Его главный герой — врачеватель Синухе по прозвищу Египтянин многое видел в своей долгой жизни: предательство и измену, заговоры и интриги, нищету и величие. Среди героев книги и подлинные исторические личности, такие, как фараон Эхнатон и прекрасная Нефертити, и вымышленные лица.
Тайна рождения Синухе-Египтянина держит читателей в напряжении до последних страниц.
В 4703040100-123
ЛР 061309-95
ББК 84.4Фин
ISBN 5-85585-288-1
© Издание на русском языке, оформление. АОЗТ издательство «ЭКСМО», 1995 г.
Литературно-художественное издание
Мика Валтари
НАСЛЕДНИК ФАРАОНА
Роман
Редактор Н. В. Крылова
Художник А. А. Хромов
Художественный редактор Е. В. Кипятков
Технические редакторы Н. Д. Теплякова, С. А. Рубис
Корректор Н. И. Кирилина
ЛР № 061309 от 17.06.92
Подписано в печать с оригинал-макета 03.08.95. Формат 84×1081/32. Гарнитура «Таймс». Печать офсетная. Усл. печ. л. 29,4. Уч. — изд. л. 33,2. Тираж 20 000 экз. Зак.№ 225
АОЗТ издательство «ЭКСМО», 123298, Москва, ул. Народного Ополчения, 38.
Отпечатано с оригинал-макета в Тульской типографии, 300600, г. Тула, проспект Ленина, 109

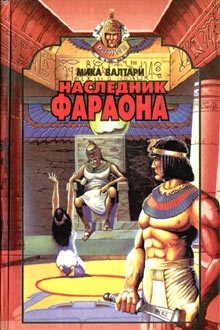

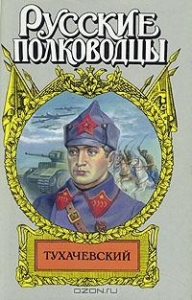


Комментарии к книге «Наследник фараона», Мика Валтари
Всего 0 комментариев