Дельфина де Жирарден
«Всевидящая лорнетка фельетона»[1]
Здесь изображена, неделя за неделей, вся наша эпоха с ее нравами и модами, с ее смешными причудами и условленными выражениями, с ее увлечениями и прихотями, праздниками и балами, вечерами и приемами, слухами и сплетнями…
Т. Готье[2]Издавать отдельной книгой сборник газетных статей, написанных на злободневные темы, — дело рискованное в любую эпоху. Темы устаревают стремительно, тексты становятся малопонятны без долгих разъяснений… Кажется, Дельфина де Жирарден (1804–1855), поэтесса и романистка, с 1836 по 1848 г. ведшая под псевдонимом виконт Шарль де Лоне еженедельную хронику в парижской газете «Пресса», сама относилась к перспективе войти в историю литературы именно благодаря своему «Парижскому вестнику» весьма скептически. После того как в августе 1843 г. издатель Шарпантье выпустил очерки 1836–1839 гг. отдельной книгой под названием «Парижские письма», Жирарден подводила итог:
«За последний год наша участь переменилась самым удивительным образом: мы сочиняем фельетоны, но перестали быть фельетонистом… — а такая перемена не пустяк. Вдобавок совершенно переменилась и наша точка зрения: теперь мы пишем не для тех, кто нас читает… — а такая перемена не может не повлиять на мысли писателя. Вот что произошло: один отважный издатель… — между прочим, он многим рисковал… — решил опубликовать под одной обложкой наши недолговечные фельетоны, набросанные впопыхах и осужденные, как мы думали, в лучшем случае на забвение. К нашему удивлению, это собрание сплетен и болтовни снискало большой успех. Один остроумный человек, познакомившись с ним, сделал нам примечательный комплимент: „Кто бы мог подумать, что это так читабельно!“ — согласитесь, что для книги не может быть похвалы более лестной. Однако если фраза эта лестна для книги, она куда менее приятна для автора. Мы с прискорбием открыли ужасную истину: из всех наших сочинений единственное, которое имеет шанс пережить нас, — то самое, над которым мы работали наименее тщательно и которое ставили ниже всех остальных. Впрочем, в этом нет ничего удивительного: наши стихи… это всего лишь мы сами; наши сплетни… — это вы, это ваша эпоха, столь великая, что бы о ней ни говорили, столь необычайная, столь чудесная, — одним словом, столь замечательная, что спустя какое-то время самые мелкие ее подробности будут бесконечно интересны и попросту бесценны. Таким образом, нас помимо нашей воли превратили если не в историка, то в мемориалиста — одного из тех сочинителей без дарования, к которому великие писатели обращаются за подробностями, в одного из тех скверных работников, которые ничего не умеют делать сами, но с грехом пополам подготавливают рабочее место для творцов[3]; по отношению к историку мы то же, что подмалевщик по отношению к живописцу, письмоводитель по отношению к прокурору, подмастерье по отношению к каменщику, а поваренок по отношению к повару».
Журналист, продолжает Жирарден, — это не кто иной, как «поваренок при историке» (2, 217–218; 31 марта 1844 г.)[4].
В этих словах есть, конечно, доля кокетства, но в основном они искренни; Дельфина де Жирарден в самом деле выше ценила другие свои сочинения, написанные в жанрах куда более престижных: стихи, романы, трагедии и комедии[5]. История показала, что писательница заблуждалась: хотя ее имя занимает законное место в истории французского романтизма, а три маленьких романа были переизданы в 1977 г.[6], самой живой (и самой переиздаваемой) частью ее наследия оказались именно те тексты, которые она считала не полотнами, а «подмалевкой». С 1843 г. «Парижские письма» переиздавались еще много раз: в 1853, 1857, 1862–1863, 1866, 1868, 1986 и 2004 гг. и всякий раз находили не просто читателей, но и страстных поклонников.
Мнение этих последних выразительно сформулировал известный прозаик Жюль Барбе д’Оревийи, вообще большой брюзга и ненавистник литературных «синих чулков», то есть пишущих женщин. Поставив «Парижские письма» Дельфины де Жирарден вровень с письмами маркизы де Севинье, этой «фельетонистки века Людовика XIV»[7], Барбе охарактеризовал соотношение в очерках «виконта де Лоне» злободневного и вечного с помощью эффектного сравнения: порой в цветке розы прячут брильянт или жемчужину; цветок увянет, но драгоценность останется…[8]
Однако Дельфина де Жирарден пришла к сочинению парижской хроники не сразу; к тому моменту, когда в сентябре 1836 г. вышел первый очерк виконта де Лоне, у его сочинительницы уже была за плечами долгая и славная литературная карьера.
* * *
Дельфина Гэ выросла в среде равно и светской, и литературной. Ее мать Софи Гэ (урожденная Нишо де Ла Валетт, 1776–1852) в два года, по семейному преданию, удостоилась поцелуя Вольтера, воспитание получила в аристократическом пансионе госпожи Лепренс де Бомон (писательницы, прославившейся сказкой «Красавица и чудовище») и еще в молодые годы свела знакомство со многими прославленными литераторами тогдашней эпохи. В разгар Революции отец-банкир выдал Софи замуж за коллегу — биржевого маклера Гаспара Лиотье; в эпоху Директории она была не последней из тогдашних щеголих и добилась развода с нелюбимым мужем ради того, чтобы выйти по любви за другого финансиста, Сигизмунда Гэ, будущего отца Дельфины (развод в это время был разрешен законом, но воспринимался как шаг весьма дерзкий). Для заработка Софи занялась литературой — вначале сделалась «литературным агентом», привозящим во Францию из Англии новые романы и романсы, а затем сама взялась за перо и сочинила множество романов и комедий, пользовавшихся немалым успехом[9].
Дельфине, родившейся 26 января 1804 г. в Ахене, где ее отец служил главным сборщиком налогов тогдашнего департамента Рур, что называется, на роду написано тоже заняться литературой и прославиться: имя ей было дано в честь героини одноименного романа Жермены де Сталь (1802), а крестной матерью ее стала графиня Дельфина де Кюстин, в честь которой прославленная г-жа де Сталь назвала свою героиню[10]. Крестили же девочку в том самом ахенском храме, где похоронен император Карл Великий. Читать и писать Дельфина училась в парижском пансионе мадемуазель Клеман, но гораздо сильнее влияла на нее домашняя атмосфера: в салоне ее матери бывали знаменитые драматурги и поэты, актеры и композиторы. У юной Дельфины обнаружился талант к декламации чужих стихов и к сочинению собственных. Талант требовал развития, и к Дельфине пригласили учителей: версификации ее учил поэт Александр Суме, а сочинению прозы — будущий историк литературы и министр народного просвещения Абель-Франсуа Вильмен. Будь у Дельфины другая мать, ее дарования, возможно, зрели бы втайне, но Софи Гэ была женщина экспансивная и деятельная. Как выразилась в своих воспоминаниях другая женщина-литератор, познакомившаяся с Дельфиной и ее матерью в середине 1820-х годов, графиня Мари д’Агу, «все в Софи было шумным: любовь, дружба, ненависть, недостатки, достоинства — ибо она была не лишена достоинств, — материнские же ее чувства выражались еще более шумно, чем все остальное»[11]. Именно поэтому Софи, не стесняясь, служила для своей одаренной дочери своеобразным импресарио. Софи приводила Дельфину в салоны своих светских друзей — например, к знаменитой г-же Рекамье, с тем чтобы юная поэтесса почитала там стихи, сначала чужие, а потом и свои… При этом Дельфина декламировала в самом деле превосходно (этот талант сохранился у нее на всю жизнь, и когда впоследствии она читала трагедии своего собственного сочинения, слушателям это казалось более впечатляющим, чем те же строки в исполнении знаменитой трагической актрисы Рашель, для которой они и были написаны). И вдобавок Дельфина была чрезвычайно хороша собой: высокая, прекрасно сложенная, с копной пышных белокурых волос[12]. Это ощущение удивительной, «разительной» красоты запечатлели многие мемуаристы, но, пожалуй, лучше всех — Теофиль Готье, который впервые увидел Дельфину 25 февраля 1830 г. в театре «Комеди Франсез» на премьере романтической драмы В. Гюго «Эрнани»: «Когда она вошла в свою ложу и наклонилась, чтобы оглядеть зал, который был почти так же достоин внимания, как и сам спектакль, ее ослепительная красота — bellezza folgorante — заставила всех на мгновение замолчать, а затем разразиться рукоплесканиями»[13].
Красота Дельфины заставляла свидетелей ее салонных успехов если не забывать, то извинять все то неловкое, что было в сеансах декламации, устраиваемых по инициативе ее матери. Дело в том, что юная особа, которая, «запыхавшись, бегает из одной гостиной в другую, чтобы повсюду декламировать стихи»[14], воспринималась как актриса, а не как девушка из хорошей семьи. Кроме того, злые языки утверждали, что Софи всюду вывозит дочь и выставляет ее на всеобщее обозрение, как на ярмарке, исключительно ради того, чтобы поскорее найти ей жениха (дело в том, что Софи в 1822 г. овдовела и финансовое положение семьи в самом деле оставляло желать лучшего). Наконец, когда Софи говорила о стихах дочери: «мы сочинили»[15] и подсказывала Дельфине забытые слова, то давала светским острословам превосходный повод для насмешек. Что же касается самих стихов юной поэтессы, они не блистали оригинальностью, но были звучными, обыгрывали злободневные литературные и политические темы[16], а главное — замечательно воспринимались из уст белокурой красавицы (типическое мнение запечатлел 11/23 декабря 1825 г. А. И. Тургенев, слышавший декламацию Дельфины в салоне Рекамье: «Читает хорошо, собой почти прекрасна и довольно мила; но стихи слабы, хотя и не без чувства»[17]).
Впрочем, юная поэтесса довольно быстро «профессионализировалась». В 1822 г. за поэму «Самоотверженность сестер ордена Святой Камиллы и французских врачей во время чумы в Барселоне», поданную на конкурс Французской академии, она удостоилась «экстраординарной премии», а первой премии не получила лишь потому, что осветила заданный сюжет только частично. В 1823–1824 гг. Дельфина вместе с матерью принимала участие в выпуске журнала «Французская муза» (1823–1824), сыгравшего большую роль в становлении французского романтизма, а в стихотворении «Видение», написанном в честь коронации Карла X в 1825 г., сама выразила уверенность, что в один прекрасный день французы назовут ее «музой родины», и с тех пор «десятой музой» называли ее почти все современники — кто с иронией, но кто и вполне восхищенно.
Самое удивительное, что все эти ранние успехи не вскружили Дельфине голову. По словам Готье, «ум быстро исправил те плоды первоначального воспитания, которые, будь Дельфина одарена не так щедро, могли бы сделать ее смешной»[18]. Дельфина не возгордилась и осталась «добрым малым»[19]. Она была очень хороша собой и сознавала это. В сборник 1824 г. она включила стихотворение «Счастье быть красивой»; как позднее выразился тот же Готье: «Ее прекрасная душа была счастлива обитать в прекрасном теле»[20]. Однако как ни красива и ни знаменита была муза, замуж ее никто не брал. В начале 1820-х годов она была влюблена в Альфреда де Виньи, и он отвечал ей взаимностью, но до брака дело не дошло, поскольку мать поэта-аристократа не желала видеть в невестках бесприданницу, да вдобавок с сомнительной репутацией декламаторши стихов. Ходили слухи о других возможных претендентах, включая некоего итальянского князя, которого Дельфина якобы покорила во время путешествия с матерью по Италии (1826–1827) и даже самого короля Карла X (к которому «добрые люди» намеревались пристроить белокурую поэтессу в качестве морганатической жены), но ни одна из этих затей не имела видимых последствий.
Дельфина была постоянно на виду, постоянно окружена молодыми людьми, поэтами и прозаиками; но одни были уже женаты, другие не предлагали себя в мужья, а между тем в 1830 г. музе исполнилось 26 лет — по тогдашним меркам возраст весьма солидный. Вдобавок после Июльской революции поэтесса лишилась пенсии в 800 франков, которую с 1826 г. выплачивал ей Карл X (один из «щедрых подарков» монарха, упомянутых в очерке 24 ноября 1836 г.). И тут нашелся жених, который, оказывается, уже два года мечтал о ее благосклонности. 1 июня 1831 г. Дельфина Гэ стала Дельфиной де Жирарден. Замужество переменило не только ее женскую судьбу, но и литературную карьеру, потому что человек, за которого она вышла, очень скоро сделался реформатором французской прессы, и именно в его газете Дельфина пятью годами позже начала печатать очерки за подписью «виконт Шарль де Лоне».
Однако прежде чем дать свою фамилию Дельфине, жених должен был сам добиться права эту фамилию носить. Дело в том, что Эмиль, появившийся на свет 21 июня 1806 г., был незаконным сыном графа Александра де Жирардена. При рождении ему была дана вымышленная фамилия Деламот и воспитывался он сначала в приемной семье недалеко от Парижа. Однако в 1811 г. граф де Жирарден женился на Жозефине де Вентимиль, не поощрявшей общение мужа с побочным сыном, и мальчика отправили в Нормандию. Вернувшись в Париж, восемнадцатилетний Эмиль стал завоевывать себе место в жизни и, перепробовав разные профессии, избрал журналистику. Начал он, впрочем, с того, что в 1828 г. выпустил анонимно маленький роман «Эмиль» — автобиографическое сочинение о родителях, бросающих своих детей, и о ребенке, вырастающем без родителей. После этого, в том же 1828 г., Эмиль вместе с приятелем, Сен-Шарлем Лотуром-Мезере, основал еженедельник с выразительным названием «Вор» — компиляцию из лучших литературных текстов, появившихся в периодике. Впрочем, по тогдашним законам подобные перепечатки настоящим воровством не считались, да и сами перепечатываемые авторы, как правило, не возражали против таких «краж». Вдобавок наряду с перепечатками Эмиль публиковал и новые тексты (среди прочих — стихотворения Дельфины Гэ). «Вор» оказался чрезвычайно успешным предприятием; на вырученные деньги Эмиль в 1829 г. основал другой еженедельник, рассчитанный на аристократических дам и выходивший под покровительством невестки короля Карла X герцогини Беррийской. Он назывался «Мода», а в подзаголовке стояло «обзор мод, галерея нравов, альбом салонов». В 1831 г. Эмиль продал «Моду» и в руках новых владельцев она сделалась журналом с направлением, партийным предприятием аристократов-легитимистов, не желавших принимать Июльскую монархию. Но первоначальная «Мода» была совсем иной — это был журнал «беспартийный», журнал для чтения и разглядывания; здесь публиковались модные картинки и литературные тексты будущих знаменитостей: Бальзака, Эжена Сю. Коммерческий успех «Моды» оказался еще большим, чем у «Вора».
Эмиль, однако, стремился расширить круг своих читателей. Его увлекала идея создания прессы неполитической, многотиражной, недорогой и просветительской, распространяющей сведения и познания, полезные в повседневной жизни. Именно эту цель преследовала основанная в октябре 1831 г. «Газета полезных знаний» — 32-страничный ежемесячник, публиковавший юридические и административные документы и практические советы. «Газета» стоила в четыре раза меньше, чем аналогичные издания конкурентов, и за год достигла огромного по тем временам тиража в 132 000 (для сравнения — накануне Июльской революции тираж самой популярной оппозиционной газеты «Конститюсьонель» равнялся 20 с небольшим тысячам)[21].
Впрочем, «Газету полезных знаний» Эмиль выпускал уже женатым человеком. До женитьбы же, как уже было сказано, ему надо было завоевать право носить фамилию Жирарден. Собственно, Эмиль взял себе эту фамилию сразу после того, как приехал из Нормандии в Париж, и отец, хотя официально не признал сына, смотрел на это сквозь пальцы (по слухам, один из друзей старшего Жирардена, наблюдая за стремительной литературной карьерой Эмиля, сказал графу: «Признай его своим сыном, иначе впоследствии он не захочет признавать тебя своим отцом, а ты об этом пожалеешь»[22]), но теперь требовалось закрепить такое положение дел юридически. 30 апреля 1831 г. суд департамента Сена удовлетворил просьбу Эмиля, который объявлял, что не знает ни имени родителей, ни места своего рождения, но просит закрепить за ним фамилию Жирарден, под которой он известен, что и подтвердили семеро свидетелей — приятелей и коллег по литературной деятельности, одним из которых был Оноре де Бальзак. Так жених Дельфины получил документы на имя Эмиля Жирардена, а затем «явочным порядком» приставил к своей фамилии аристократическую частицу «де» (точно так же, впрочем, поступил и вышеупомянутый Бальзак).
У Эмиля были деньги и появилось имя; у Дельфины были красота и талант, но не было приданого. 1 июня 1831 г. в мэрии тогдашнего XI округа, а затем в церкви Святого Роха на улице Сент-Оноре состоялась свадьба[23]. Поскольку Эмиль был не слишком хорош собой и не очень высок ростом, у недоброжелателей сразу появились сомнения в том, что «колоссальная и белокурая»[24] Дельфина вышла за него по любви. Если судить по стихотворению «Матильда», которое она посвятила жениху (и назвала тем именем, которое Жирарден в своем «Эмиле» дал невесте автобиографического героя), недоброжелатели были неправы: Дельфина отдала Эмилю не только руку, но и сердце.
Был ли их брак счастливым? Если судить по количеству «романов», заведенных Эмилем на стороне (среди героинь этих романов были не только безвестные женщины легкого поведения, но и женщины знаменитые: возлюбленная Листа графиня Мари д’Агу и актриса Рашель), — нет. Если судить по тому, что Дельфине, несмотря на ее страстное желание, так и не удалось стать матерью, — тоже нет. Больше того, в 1844 г. Эмиль привел к Дельфине сына своей любовницы, пятилетнего Александра, и Дельфина приняла его как собственного ребенка[25]. Наконец, о том, что личную жизнь Дельфины трудно назвать счастливой, свидетельствует и эпизод 1838 г. В эту пору у Дельфины завелся поклонник — денди по фамилии Дюрантон. Поскольку она отвечала ему недостаточно пылко, Дюрантон решил возбудить ее ревность, разорился на оперных красотках и покончил с собой едва ли не на глазах у своей возлюбленной, причем, если верить тогдашней скандальной хронике, «застрелился и повесился»[26]. Эмиль был крайне недоволен оглаской этого эпизода; с этих пор супруги, продолжая жить под одной крышей, на ночь расходились по разным спальням.
И тем не менее, несмотря на все эти (порой граничащие с мелодрамой[27]) эпизоды, союз Дельфины и Эмиля в интеллектуальном и профессиональном отношении оставался крепок до самой смерти Дельфины (она умерла в 1855 г., а Эмиль пережил ее на 26 лет). В трех парижских домах, где жила чета Жирарденов: в особняке на улице Сен-Жорж (1832–1838), в квартире на улице Лаффита (1838–1842)[28] и в особняке графа Шуазеля-Гуфье на пересечении улицы Шайо и Елисейских Полей, представлявшем собой копию древнегреческого храма Эрехтейон (1843–1855), — Дельфина вела тот образ жизни, какой был ей приятен и для которого она была создана. В определенный день недели (на улице Сен-Жорж по понедельникам, на улице Лаффита и на Елисейских Полях по средам) она устраивала большие приемы, а каждый вечер ближе к полуночи, после театра или перед балом, к ней заезжали любимые друзья и собеседники, среди которых были Готье, Гюго, Ламартин, Альфонс Карр, Дюма, Бальзак (до тех пор пока не поссорился с Жирарденом) и другие «звезды» парижского артистического мира. О том, что нужно сделать, чтобы гости могли показать себя с наилучшей стороны и чтобы беседа не была принужденной и тусклой, Дельфина сама рассказала в фельетоне от 23 июня 1844 г. (наст. изд., с. 423–424[29]). Эмиль, как правило, либо отсутствовал, либо просто дремал в кресле и не принимал участия в беседе, но для создания репутации салона тот факт, что муж хозяйки — редактор популярной газеты, значил немало.
Супруги поддерживали друг друга. Когда журналисты из конкурирующих изданий подвергли Эмиля злобным и во многом несправедливым нападкам, Дельфина ответила обидчикам пьесой «Урок журналистам» (1839), в которой изобразила журналистскую среду такими черными красками, что цензура не позволила представить пьесу на сцене. Еще прежде, весной того же 1839 г., когда депутатский мандат Эмиля был оспорен под тем предлогом, что не доказано его французское гражданство, Дельфина опубликовала стихи с неопровержимым аргументом: она, «муза родины», не избрала бы его себе в супруги, не будь он французом. Эмиль ценил жену не меньше, чем она его. Именно по его предложению она начала сочинять очерки о парижской жизни для основанной им газеты «Пресса». «Пресса» начала выходить 1 июля 1836 г., а уже 29 сентября того же года в ней появился первый очерк Дельфины, подписанный псевдонимом «виконт Шарль де Лоне».
* * *
Современные исследователи, посвятившие «Прессе» Эмиля де Жирардена целую книгу, назвали ее «1836, первый год медиатической эры»[30]. В самом деле, Жирарден совершил революцию во французской периодике. Суть этой революции заключалась в следующем: до 1863 г. газеты во Франции не продавались в розницу, приобретать их можно было только по подписке; подписка на ежедневную политическую газету стоила дорого: 80 франков в год. Жирарден уменьшил эту цену вдвое; недостающие деньги он получал за счет публикации рекламы, а для того чтобы увеличить число рекламодателей, резко расширил свою потенциальную аудиторию, предложив читателям, в сущности, две газеты в одной: верхняя часть страницы была отдана политическим передовицам, французским и международным новостям, отчетам о заседаниях палаты депутатов, нижняя же — материалам наполовину, а порой и полностью беллетристическим. До Жирардена ежедневная политическая газета в точности отвечала своему названию — она была в первую очередь политической. Правда, уже с 1800 г. в газетах появилось то, что по-русски называется «подвалом», а во Франции именовалось «фельетоном»; закон позволял увеличить газетную полосу на треть печатного листа, не платя дополнительного налога, и газетчики воспользовались этим для удлинения страницы. Первоначальный «фельетон» вовсе не имел того сатирического оттенка, который связывает с ним современное сознание; в газетных подвалах-фельетонах печатались по преимуществу рецензии на новые спектакли или книги, а также статьи научно-популярного содержания. Однако постепенно тематика «фельетонов» расширялась: уже в начале 1830-х гг. здесь начали публиковаться материалы нравоописательного свойства, сказки и новеллы, а порой даже отрывки из новых романов[31].
Жирарден, таким образом, не изобрел ничего абсолютно нового, он лишь придал новое качество тому, что вызревало в периодике[32]. 21 сентября 1836 г. он объявил в «Прессе» программу своей «газеты в газете», а именно тех очерков, которые будут печататься в «подвале» под рубрикой «Фельетон „Прессы“»: в воскресенье — театральный или исторический очерк, в понедельник — статья об изобразительном искусстве, во вторник — очерк нравов или рецензия на новый спектакль, в среду — известия из Академии наук, в четверг — сообщения о «новых книгах, готовящихся к постановке пьесах, новых модах, новых обычаях, модной музыке и прочих достопримечательностях»[33]. Именно этот четверговый фельетон Жирарден предложил писать своей жене.
К этому времени Дельфина уже переключилась со стихов на прозу и выпустила несколько небольших романов, в которых показала себя внимательным и остроумным наблюдателем парижской жизни. В двух из них, «Лорнете» (1832) и «Трости господина де Бальзака» (1836), использован один и тот же прием: фантастический прибор (в первом случае лорнет, позволяющий читать чужие мысли, во втором — трость, позволяющая делаться невидимым) помогает увидеть парижскую жизнь изнутри и, отчасти, с неожиданной стороны. По этой прозе было видно, что нравоописательные эскизы удаются Дельфине лучше, чем романический сюжет[34], — и Эмиль предложил жене раз в неделю сочинять для новосозданной «Прессы» именно очерки парижских нравов. Дельфина стала официальным сотрудником «Прессы» — за еженедельные публикации ей платили фиксированное жалованье 6000 франков в год плюс по 14 сантимов за строку[35].
Фельетоны Дельфины носили название «Парижский вестник». Первый из них был опубликован в «Прессе» в четверг 29 сентября 1836 г.[36] По четвергам «Парижский вестник» появлялся в «Прессе» до 10 августа 1837 г. В этот день Дельфина объявила о «великой перемене в жизни четвергового фельетона — отныне он будет выходить по субботам» и не без ехидства прокомментировала причины этого изменения: «редакционному комитету понадобился год, чтобы прийти к выводу, что суббота ближе к воскресенью, чем четверг, и по этой причине отвести ее нам»[37]: дело в том, что все важные театральные и литературные события в Париже происходили по средам и четвергам, и надо было дать хроникеру возможность их осветить. До 1840 г. включительно «Парижский вестник» выходил по субботам, и лишь в редких случаях — по воскресеньям. После 1840 г. фельетоны Дельфины выходили преимущественно по воскресеньям, но также и в другие дни недели; жесткой системы уже не наблюдалось, да и вообще периодичность нарушилась: за 1842 и 1843 гг., например, Дельфина напечатала всего два фельетона[38].
«Парижский вестник» имел успех у публики; в те моменты, когда рубрика надолго исчезала из газеты, читатели требовали ее возобновления. Злобный биограф тогдашних знаменитостей, автор «Галереи современников» Эжен де Мирекур в своей брошюрке о Дельфине утверждал, что самолюбивый Эмиль ревниво относился к славе Дельфины и приходил в ярость от ее фельетонов[39] — но это очевидная клевета (Мирекур, ненавидевший Жирардена, вообще кончает книгу — опубликованную еще при жизни Дельфины! — утверждением, что у этой писательницы есть один-единственный недостаток — ее муж…). Дело обстояло противоположным образом: Эмиль дорожил женой как сотрудником своей газеты. В фельетоне 14 марта 1840 г. Дельфина восклицает: «Разве спутницу боготворят так, как боготворят возлюбленную?» — и доказывает, что «спутницей» мужчины женщина быть не должна (наст. изд., с. 303 [40]), однако сама она была Эмилю в его издательских начинаниях именно верной спутницей.
Очерки, выходившие под названием «Парижский вестник», были, как я уже сказала, подписаны псевдонимом «виконт Шарль де Лоне». Причем если после 1843 г., когда вышло первое книжное издание фельетонов с именем Дельфины де Жирарден на обложке, ее авторство перестало быть секретом, поначалу многие современники были в недоумении[41].
Вообще «поэтика литературной мистификации», печатание под псевдонимом или под именем «вымышленного автора», которому порой сочинялась целая биография, было в ту эпоху явлением в высшей степени распространенным даже среди мужчин (помимо широко известных эпизодов: Мериме-Клара Гасуль или Сент-Бёв-Жозеф Делорм — можно назвать еще множество случаев, когда произведения подписывались именами вымышленных сочинителей). У женщин же было еще больше оснований скрываться под псевдонимами (желательно мужскими), потому что под собственным именем даме из хорошего общества считалось приличным печатать только нравоучительные сочинения, но, например, не фривольные или «социальные» романы (во всяком случае, свекровь Жорж Санд запретила ей ставить ее имя — Дюдеван — на обложках печатных книг) и уж тем более не сатирические зарисовки современной жизни. В XIX веке от женщины уже не требовали, чтобы псевдоним непременно был аристократическим, однако логично, что, публикуя очерки о светской жизни Парижа, Дельфина предпочла именовать себя благородным виконтом, а не избрать простое «демократическое» имя, как сделала это упоминавшаяся выше Жорж Санд[42].
Дельфина не только скрывается под именем мужчины-виконта, она еще и последовательно именует себя в первом лице множественного числа — «мы»[43]. Это «мы» — обычное конвенциональное «мы» ученых статей или рецензий и вовсе не исключительное свойство фельетонов Дельфины (у Теофиля Готье, например, от первого лица множественного числа написаны не только фельетоны об изобразительном искусстве, печатавшиеся в «Прессе», но даже очень личный мемуарный очерк о Дельфине). Однако в ироническом контексте «Парижского вестника» это гордое королевское (или занудное педантское) «мы» обретает дополнительную функцию: оно придает очерку отчетливо комическое звучание — особенно если речь, например, идет о недопитой чашке чая, которую «нам» помешали выпить надоедливые любители дармовой рекламы (см. фельетон от 25 ноября 1837 г. — наст. изд., с.179[44])[45]. Кроме того, рассказ от первого лица множественного числа позволяет автору избежать прямых указаний на свой пол (которые при рассказе в единственном числе были бы неизбежны по причинам чисто грамматического свойства). Лишь иногда виконт де Лоне начинает говорить откровенно мужским голосом (да и то мужская интонация здесь маскирует чисто женский восторг перед шедевром ювелирного искусства):
«На днях нас привел в восторг великолепный аграф, настоящий королевский цветок, брильянтовая астра с огромной жемчужиной в середине: и стебель, и листья, все выполнено с величайшим изяществом, а цена умеренная, так что мы умирали от желания доставить себе удовольствие и купить этот шедевр — но кому его подарить? Та, которая приняла бы дар, его не заслуживает; та, которой мы бы хотели его вручить, его бы не приняла; пришлось смириться и сохранить благоразумие; вот так всегда — и в карьере, и в любви: то, что нам доступно, нас недостойно; то, что нас влечет, остается недостижимым» (30 марта 1837 г.; 1, 118).
Во всех же прочих случаях, даже когда виконт де Лоне пускается в разговор о любимом предмете — о моде, или, как он часто выражается, «о тряпках», он тщательно избегает указания на свой пол. Жюль Жанен — современник Дельфины, подчас страдавший от ее колкостей, — описал эту «гермафродитическую» манеру изложения: «Вы живете спокойно и счастливо, ни о чем не тревожась, и вдруг в вас вонзаются чьи-то когти. Кто вас поцарапал? Мужчина? Но в таком случае слишком уж тяжелая у него рука. Женщина? Но в таком случае слишком уж острые у нее когти. Нет, это не мужчина и не женщина, это кошка»[46].
Фельетоны виконта де Лоне написаны в жанре газетной хроники. Точно так же как Жирарден не изобрел «с нуля» ни использование рекламы, ни печатание литературных текстов с продолжением, а лишь энергически развил и довел до блеска то, что существовало до него, точно так же сам по себе жанр газетного нравоописательного очерка существовал, разумеется, и до Дельфины де Жирарден. Самый отдаленный его прообраз — это «Болтун» (1709–1711) и «Зритель» Аддисона и Стила (1711–1712); более близкий — очерки, которые начиная с 1812 г. еженедельно публиковал в «Газет де Франс» за подписью «Отшельник из квартала Шоссе-д’Антен» В.-Ж.-Э. де Жуи (между прочим, хороший знакомый Софи Гэ и один из завсегдатаев ее салона)[47]. Прототипом «Парижского вестника» нередко называют также «Парижские письма», которые Бальзак публиковал с 30 сентября 1830 по 31 марта 1831 г. в жирарденовском «Воре»[48], да и вообще рубрика «Очерки нравов» (а именно зарисовкам нравов были посвящены газетные «хроники») присутствовала в начале 1830-х гг. во многих периодических изданиях[49].
Тем не менее все современники воспринимали именно «виконта де Лоне» как основателя жанра. Сама Дельфина гордо сообщала в очерке, датированном 29 июня 1839 г.:
«Кстати о коварном Альбионе, в Лондоне недавно основали газету под названием „Парижский вестник, континентальное обозрение“. Для нас это очень лестно. Скромный Парижский вестник, выдуманный нами три года назад, уже породил множество подражаний: „Руанская газета“ публикует „Эхо Парижа“, „Век“ — „Парижское обозрение“, „Время“ — „Городскую хронику“, „Конститюсьонель“ — „Двор и город“. „Котидьен“ — „Светские беседы“, и проч., и проч. А теперь у нас объявились подражатели на другом берегу Ла-Манша. Мы очень горды этим успехом. Если авторам приятно знать, что их переводят на иностранный язык, как же должны они радоваться при известии о том, что им подражают? Ведь перевод — куда более слабая дань уважения, нежели подражание; переводчик смотрит на автора с пренебрежен!! — ем и возлагает всю ответственность за книгу именно на него; подражатель смотрит на автора с восхищением и находит его идею такой прекрасной, что объявляет ее своей и ставит под ней свое имя. Какая великая честь! может ли быть что-нибудь более лестное?» (1, 486).
Так вот, по прочтении этих строк никто не упрекнул Дельфину в безосновательном хвастовстве. Напротив, общепризнано, что все сочинители светских хроник 1840-х гг.: Эжен Бриффо в газете «Время» (Temps), Эжен Гино (псевдоним Пьера Дюрана) в газете «Век» (Siècle), Луи Люрин во «Французском вестнике» (Courrier français) и даже Альфонс Карр, выпускавший свою хронику «Осы» (Guêpes) не в газете, а отдельными выпусками, но работавший в схожем жанре, — все они выступали лишь подражателями и продолжателями виконта де Лоне[50]. Известно также, что светские хроникеры второй половины века признавались: перед тем как приступить к сочинению собственных хроник, они перечитывают «Парижский вестник» Дельфины[51].
* * *
Что же представляет собой этот «Вестник»?
Начнем с очевидного: это рассказ о парижской повседневности, следующий за ее течением и отзывающийся на ее происшествия (именно поэтому Дельфина не раз называет свои фельетоны хроникой). В 1820-е гг. Дельфина запечатлевала важнейшие события французской жизни в лирических стихах; теперь она реагирует на события — причем не только крупные, но и куда менее значительные — иронической прозой.
Фельетоны виконта де Лоне нередко называют хроникой светской, однако тематика их гораздо шире, чем рассказ о жизни салонов. Из них можно узнать о том, как воздвигали Луксорский обелиск на площади Согласия и как праздновали в Париже годовщину Июльской революции, как вручали награды в коллеже и как открывали первую в Париже железную дорогу, как запускали воздушный шар и как посещали Версальский музей, как покупали новогодние подарки и как переезжали на новую квартиру, какие рукава вышли из моды и какие шляпы в моду вошли, что танцевали на аристократических балах и что — на балах простонародных. В этом отношении «Парижский вестник» виконта де Лоне — бесценное свидетельство о парижской повседневности, и не случайно в одной из лучших книг о светской жизни этой эпохи, книге А. Мартен-Фюжье «Элегантная жизнь, или Как возник „весь Париж“, 1815–1848»[52], ссылки на Дельфину как на осведомленного и надежного свидетеля — едва ли не самые частые.
Но фактическое богатство — не единственный и не главный источник оригинальности «Парижского вестника». Многочисленные сведения о парижской жизни можно почерпнуть и из очерков, написанных предшественниками виконта де Лоне, в частности упоминавшимся «Отшельником из квартала Шоссе-д’Антен» и его многочисленными подражателями; они рассказывали о парижских улицах и парижских типах, не скупясь на подробности[53]. Однако рассказы «отшельников» были куда меньше похожи на светскую беседу или даже светскую болтовню, стремительно переходящую от одного предмета к другому, — ту беседу, интонацию которой блестяще воспроизводит в своих фельетонах Дельфина де Жирарден.
Недоброжелательный критик Лаженеве (псевдоним барона Анри Блаза де Бюри), рецензируя первое книжное издание фельетонов Дельфины, сослался на Жозефа де Местра, утверждавшего, что настоящая беседа за четверть часа может коснуться и существования Божия, и премьеры в Комической опере[54]; Лаженеве был убежден, что Дельфина на это не способна, но он ошибался. Именно это умение непринужденно переходить от серьезного к смешному, от важного к второстепенному и обратно было присуще Дельфине в высшей степени.
Французская светская беседа постепенно стала своеобразной «культурной институцией» и «памятным местом» французской цивилизации[55], однако судить о том, как именно она протекала, мы можем лишь по теоретическим трактатам[56] или по отзывам мемуаристов. Звукозаписывающих устройств во времена Дельфины еще не существовало: тем ценнее ее фельетоны, которые, как свидетельствуют те, кто мог сравнить письменные тексты с устной речью, представляли собой весьма близкий аналог ее же блестящей светской беседы[57]. В фельетоне от 23 июня 1844 г. Дельфина сама объяснила, как, по ее мнению, должна протекать настоящая беседа — «завязывается разговор ни о чем; каждый говорит без затей все, что приходит ему в голову» (наст. изд., с.424[58]). Эту непринужденность она виртуозно имитирует в своих фельетонах.
О чем ведется разговор? На первый взгляд — о вещах самых разнородных. От жалоб на то, что в Париже невозможно молиться, потому что в церквях слишком тесно, виконт де Лоне легко переходит к истории юного кабана, который вырвался на парижские улицы и забежал в парфюмерный магазин (наст. изд., с.313[59]), от короля Луи-Филиппа к новому роману Поля де Кока, от опечаток в собственных фельетонах — к придворным балам. Интересы предполагаемого читателя Дельфина не без иронии лаконично описывает в начале очерка от 30 ноября 1838 г.: «Минуточку терпения, сейчас мы расскажем вам о том, что вас интересует, — о пустяках и о тряпках» (1, 350). Пустяки — это слухи и забавные происшествия; тряпки — моды. Тон задает первая же фраза первого фельетона, опубликованного 29 сентября 1836 г., — фраза, которую неизбежно цитируют все, кто пишет о Дельфине: «На этой неделе не произошло ничего особенно примечательного: в Португалии случилась революция, в Испании возникла республика, в Париже назначили министров, на Бирже упали котировки, в Опере поставили новый балет, в саду Тюильри показались два капота из белого атласа» (наст. изд., с. 41[60]), — и в конце концов оказывается, что достойны внимания только два капота, то есть пресловутые «тряпки».
Многие замечания Дельфины относительно моды могут показаться просто демонстрацией насмешливого ума, как, например, рассказ о тканях в фельетоне от 4 апреля 1840 г.: «В нынешнем году в моду вошли ткани с самым причудливым рисунком […] тафта в точности повторяет окраску плинтусов и трактирных обоев. Стены берут реванш: ведь последние несколько лет во всех без исключения квартирах их обивали платьевыми тканями» или — в том же фельетоне — ремарка относительно мужского костюма (постоянного предмета сарказмов Дельфины): «По вечерам мужчины являются в позолоченные гостиные все в черном. Однако мысль их не стоит на месте: с недавних пор они стали выходить на наши грязные улицы все в белом. Пальто моряков сменились в мужском гардеробе рединготами мельников. […] Все предвещает революцию в мужском костюме. Многие годы мужчины одевались уродливо из страха показаться смешными; наконец они все-таки сделались смешными — это вселяет надежду, что рано или поздно они дерзнут не быть уродливыми!» (1, 648–649).
Была у фельетонов Дельфины и другая особенность; порой здесь встречаются лестные упоминания торговцев или портних, которые сейчас назвали бы скрытой рекламой. Хотя Дельфина всегда утверждала, что пишет не рекламные очерки (см., например, фельетон от 25 ноября 1837 г. наст. изд., с. 179–180[61]), свою влиятельность в этой сфере она сознавала и, по слухам, говорила наполовину в шутку, наполовину всерьез, что знает безотказный способ воздействовать на нерасторопную портниху — пригрозить оглаской в очередном фельетоне[62].
Однако и шутки, и реклама вовсе не главные цели «Парижского вестника». Дельфина сознавала, что из «пустяков» и «тряпок» создается история, пусть и не с прописной, а со строчной буквы. Если в коротком предуведомлении к первому книжному изданию 1843 г. (подписанном «Издатель», но сочиненном, по всей вероятности, самой Дельфиной) говорится просто, что публикуемые фельетоны ценны как «верное изображение духа, нравов, обычаев, мод, смешных претензий и изъянов нашего времени», то в предисловии к изданию 1853 г. (вышедшему также при жизни Дельфины и также, очевидно, при ее участии) вводится оппозиция истории Парижа и Истории с большой буквы: «Парижские письма» — это «история Парижа, не подлежащая ведению Истории. Та История, чей резец изображает битвы и победы, поражения и триумфы, заблуждения и гонения чередующихся царствований, пренебрегает зарисовками обычаев, мод, причуд, смешных изъянов и претензий сменяющихся эпох». Дельфина пишет историю с маленькой буквы, которая, однако, кажется ей по-своему ничуть не менее важной, чем большая История. Размышления на эту тему встречаются не только в предисловиях, но и в самих текстах фельетонов.
Так, 28 апреля 1844 г. Дельфина жалуется на чрезмерное обилие в Париже праздников (разом и летних, и зимних, и прогулок, и балов), размышляет над тем, какой из двух вариантов поведения выбрать: то ли побывать на всех праздниках, но не успеть рассказать ни об одном, то ли не побывать ни на одном, но обо всех рассказать, и наконец предается «метатекстуальной» рефлексии: «Хорошо историкам: описывать историю прошлого нетрудно, достаточно капли воображения, и дело сделано; куда хуже тем, кто пишет историю настоящего. Смотреть и одновременно понимать — нелегкая задача; вдобавок настоящее ускользает от описаний; оно сваливает все события в одну кучу, чтобы запутать следы, и вечно оставляет рассказчиков в дураках, — так директора всех театров назначают премьеры на один и тот же день, чтобы сбить с толку критиков» (2, 242–243).
Задача трудна, но Дельфина по мере сил ее решает. Мнимые «пустяки» при ближайшем рассмотрении оказываются вещью весьма значительной: «для истинного наблюдателя нет ничего серьезнее, чем пустяки, ибо чувства первозданные, невольные, а следовательно, искренние выражаются только в пустяках. Совершая великие деяния, люди следят за собой, приукрашивают себя, порой даже надевают маску… В повседневных пустяках они себя выдают. Великие деяния сообщают наблюдателю о том, чем люди хотят быть; пустяки открывают, кем они являются на самом деле» (22 декабря 1844 г.; 2, 364).
«Пустяки» выполняют роль социологического и психологического «маркера»: «чепчик прачки так же ясно выдает все ее мысли, как тюрбан герцогини — все ее планы. Взгляд лжив, улыбка обманчива; убор всегда говорит правду» (10 августа 1839 г.; 1, 505)[63].
29 июня 1841 г. Дельфина излагает целую «теорию» наблюдения за «пустяками». Наблюдатель должен непременно жить в свете и собирать урожай наблюдений «легко и почти того не желая»; в этом случае перед его взглядом «все предметы преображаются: цветы в вазе, складки занавеси, стол и мольберт перестают быть незначащими деталями обстановки и превращаются в свидетельства вкусов, маний и притязаний; элегантный чепчик, кокетливая лента перестают быть просто украшениями и становятся симптомами ожидания, признаниями в любви; ветхая мебель, сломанные звонки, разорванные книги, колченогие табуреты, треснувший мрамор перестают быть печальными руинами и оповещают о чертах характера: ведь все эти злополучные вещицы умерли насильственной смертью, каждая из них пала жертвой хозяйского гнева» (2, 126–127).
Разумеется, в этой «науке наблюдения» Дельфина не была первооткрывательницей. 1820–1840-е годы справедливо считаются эпохой «таксономий» и «панорамической литературы»[64]. И сочинители отдельных брошюр-«физиологий» (описаний бытовых предметов или социальных типов), и авторы очерков для монументальных сборников вроде «Французов, описанных ими самими» (1840–1842) или «Дьявола в Париже» (1845–1846) занимались построением «серий», «рядов», «типологий», призванных описать разнообразие мира и тем самым облегчить его понимание[65].
«Таксономическая озабоченность» проявляется и во многих фельетонах Дельфины. Их содержание — полушутливая-полусерьезная типологизация и материального, и нравственного мира. Дельфина классифицирует моды («крикливая» и «загадочная»), балы (грандиозный и тщеславный, туземный и холостяцкий, придворный и вынужденный), женские и мужские характеры, способы быть красивой и способы относиться к политическим событиям, профессиональные недостатки и достоинства, переезды, салоны, кварталы Парижа, гостей, служащих «балластом», и многое другое. Некоторые из этих классификаций и перечислений принадлежат исключительно своему времени, с другими дело обстоит иначе.
Именно эти последние позволяют хотя бы отчасти понять, отчего многие другие «физиологические очерки» 1830–1840-х гг. читаются сейчас только как исторический документ, а классификации Дельфины могут быть использованы и сегодня. Вот один пример: 21 октября 1837 г. Дельфина предложила разделять людей на тех, которые моют руки, и тех, которые рук не моют. В принципе таких классификаций — и в частности, связанных с руками и их внешним видом, — существовало множество. Например, Альфонс Карр, приятель и коллега Дельфины по журналистскому цеху, в 1841 г. писал в своем сатирическом журнале «Осы»: «Во Франции люди делятся на два разряда: тех, кто носит желтые перчатки, и тех, кто их не носит. Когда о человеке говорят, что он носит желтые перчатки, или даже называют его самого желтыми перчатками, тем самым удостоверяют, что это человек приличный. В самом деле, ничего большего от человека, притязающего на звание приличного, и не требуется». Это остроумно, но для того, чтобы в полной мере ощутить иронию, следует знать, что желтые перчатки были в описываемую эпоху атрибутом денди; к современности впрямую эту классификацию не приложишь, поскольку атрибуты «приличности» и/или модности с тех пор успели измениться. Зато оппозиция между людьми, которые моют руки, и теми, которые рук не моют, понятна без комментариев. То же касается и классификации женских характеров в фельетоне 29 марта 1840 г., где упомянуты дамы-привратницы, дамы-куртизанки, дамы-полицейские и проч.: она тоже, с легкими переменами, приложима к нашим и вашим знакомым.
«Современность» очерков виконта де Лоне имеет вполне материальную причину: «Парижский вестник» — это рассказ о большом городе, который еще в 1840-е гг. столкнулся с теми проблемами, которые — только в неизмеримо большем масштабе — мучают жителей индустриального города сегодня. Не случайно именно тексты о Париже первой половины XIX века заставили немецкого писателя следующего столетия Вальтера Беньямина заполнить выписками сотни страниц с одной целью — отыскать в тогдашних «забытых и на первый взгляд второстепенных формах» не что иное, как «сегодняшнюю жизнь, сегодняшние формы»[66]. В хрониках виконта де Лоне эти сегодняшние проблемы присутствуют во множестве: дома, где сквозь стены слышна вся жизнь соседей (и апреля 1840); ремонтные рабочие, которые занимаются чем угодно, кроме собственно ремонта (4 января 1840); навязчивая реклама (25 ноября 1837 г.); «пробки» на улицах[67], — это лишь неполный перечень проблем, роднящих жителей Парижа 1840-х гг. с нами сегодняшними[68].
Еще разительнее совпадения не бытовые, а, так сказать, нравственно-философские. Здесь Дельфина нередко выступает предшественницей Паркинсона или Мёрфи с их шутливыми, но, увы, более чем верными «законами» социального поведения; назову хотя бы фельетон от 23 мая 1840 г. «Что нам делать с Огюстом?» (наст. изд., с.318[69]) — про то, как родственники не обращают внимания на даровитого племянника (он справится сам) и доставляют самые выгодные места бездарному (ибо он-то сам не способен ни на что).
На фоне сегодняшних рассуждений о том, что новый чиновник опаснее старого, ибо он еще не успел разбогатеть и больше нуждается во взятках, весьма актуально звучит ирония Дельфины по поводу академической речи, произнесенной в декабре 1840 г.: оратор, пишет Дельфина, превозносил «людей, которые сохранили верность всем тем правительствам, что за последние четыре десятка лет сменились во Франции: людей, которые после Республики служили императору, после императора служили Бурбонам, после Бурбонов служили Июльскому правительству, а после Июльского правительства слу… Простите! мы, кажется, зашли слишком далеко… Что сталось бы со страной, восклицал почтенный академик, если бы все государственные мужи разом подавали в отставку сразу после смены власти? Какими опасностями грозила бы такая отставка! Сами видите: надобно, чтобы они сохраняли свои места! Утверждение странное, но обнадеживающее» — и далее Дельфина объясняет, что именно обнадеживает ее в тезисе академика Дюпена. Революции совершаются ради того, чтобы хлебные места достались новым людям, рассуждает Дельфина; но если будет заранее известно, что при любых обстоятельствах высокопоставленные чиновники сохранят свои места, «сохранят, несмотря на то, что убеждения их поруганы, чувства обмануты, а знамя изорвано» и даже возведут свое поведение в принцип, — если это будет известно, то ни у кого не будет повода для мятежей: ведь места заняты прочно, раз и навсегда; быть может, политическая нравственность от такого подхода пострадает, зато «социальная гигиена» безусловно выиграет (1, 757–758; 31 декабря 1840 г.).
Очень знакомо звучат многочисленные пассажи, посвященные нравам и риторическим навыкам депутатов. Наконец, в очерках виконта де Лоне можно найти даже насмешку над доведенной до абсурда политкорректностью: в апреле 1845 г. Дельфина пародирует «демократов», из почтения к идеалам равенства отказывающихся награждать солдата, которому оторвало ногу в бою: «И то сказать, ведь вознаграждая храбрецов, мы рискуем обидеть трусов! А это было бы несправедливо, это было бы жестоко. Бедные трусы! Они и без того дрожат перед всеми, кто сильнее их, зачем же огорчать их еще сильнее, награждая тех, кого они боятся? Вот поэтому-то вы и не награждаете храброго инвалида» (2, 404).
Начиная писать свои парижские хроники, Дельфина мыслила их как рассказ о последних парижских событиях, адресованный провинциалам, которые не могут их увидеть собственными глазами или не способны правильно их понять[70]. Но события повторялись[71], слухи приедались, и с каждым годом становилось все более очевидно, что Дельфина не только описывает быт, но и оценивает нравственное состояние общества, что у нее есть собственная моральная шкала для оценки речей и поступков соотечественников. Сама она оправдывала свой морализм «мертвыми сезонами»: якобы она сочиняет «философские» фельетоны в те моменты, когда в Париже замирает светская жизнь и ей не о чем рассказывать. На самом же деле морализм (только не скучный, а яркий и зачастую язвительный) присущ почти всем ее фельетонам, даже тем, которые на первый взгляд посвящены стихии легковесной и сиюминутной; Барбе д’Оревийи недаром назвал Дельфину «моралисткой и модисткой в одном лице»[72].
Больше того, Дельфина, в самом первом фельетоне отдавшая предпочтение белым капотам перед революцией в Португалии или Испании, очень скоро начинает писать и о политике, хотя сам жанр фельетона, который современная исследовательница называет «антигазетой»[73], этого, казалось бы, не предполагал. Поначалу Дельфина делает вид, что политика подлежит ее ведению только в тех случаях, когда вырождается в фарс, становится «пустяком». 30 марта 1837 г. она начинает рассказ о «министерском кризисе» следующими словами: «На прошедшей неделе политическая жизнь шла таким образом, что мы имеем полное право рассуждать о ней в нашей хронике; напротив, серьезной газете пересказывать все эти сплетни не пристало. Да-да, именно сплетни, слухи, интриги и жалкие козни» (наст. изд., с. 106[74]). Однако Дельфина немного лукавит; она прекрасно сознавала, насколько тесно парижская светская жизнь в эпоху конституционной монархии связана с жизнью политической. Конечно, она всячески подчеркивает, что позиция «Парижского вестника» и обязанности фельетониста не совпадают с позицией и обязанностями редактора самой «Прессы» (см. наст. изд., с. 383–384[75]), однако это не мешает ей, например, сочинять вослед серьезным стенограммам, которые публиковались в той же «Прессе» и в других ежедневных газетах, пародийные отчеты о заседаниях палаты депутатов. Кстати, из некоторых фельетонов Дельфины недвусмысленно вытекает, что и «тряпки» вовсе не так далеки от политики, как можно было бы подумать. Восхитивший Барбе д’Оревийи очерк о платье с восемью воланами (наст. изд., с.259[76]) доказывает: у легитимистского Сен-Жерменского предместья совсем не те требования к воланам, что у кварталов более современных и «продвинутых».
И частную, и политическую жизнь парижан Дельфина оценивает с помощью одного главного критерия: прилично или неприлично?
Неприлично выставлять напоказ частную жизнь, например печатно извещать не просто о смерти госпожи такой-то, тетушки или кузины, но и о том, что она умерла, причастившись Святых Тайн. Такая демонстративная набожность нравится Дельфине ничуть не больше, чем вольтеровская ирония; больше того, она даже объявляет, что безбожники ей милее, чем ханжи, — их по крайней мере можно обратить в христианскую веру, а ханжи компрометируют религию так же, как республиканцы последние полвека компрометируют республику (2, 385). Но точно так же неприлично слушать реквием и заедать его сладостями: «Нынче вечером в одном из роскошнейших парижских салонов будут исполнять прекрасный „Реквием“ Моцарта. Достойные похороны года. Однако не профанация ли — исполнять эту заупокойную мессу в салоне, перед разодетыми женщинами, чьи плечи и руки обнажены, чье чело украшено брильянтами, а глаза сияют кокетством? Любопытно было бы знать, когда будет подано мороженое: до или после De profundis?.. О счастливцы! Вы, должно быть, никогда не были свидетелями смерти…» (1, 760–761; 31 декабря 1840 г.). Неприлично республиканским министрам размещаться в роскошных министерских особняках и подражать всеми своими обыкновениями представителям той власти, которую они свергли; неприлично сидеть в шляпе в церкви, даже если ты депутат; неприлично не носить траура по умершим, даже если они не разделяли твоих политических убеждений; неприлично в знак аристократического несогласия с «буржуазной» монархией проводить дни в праздности и пьянстве; неприлично пренебрегать своими домашними ради выставляемой напоказ филантропии…
Очевидно, что приличное от неприличного виконт де Лоне отличает не по сословному признаку, а по велению здравого смысла и хорошего вкуса. В фельетоне от 8 декабря 1844 г. Дельфина описывает «несчастнейшего в мире человека», которому причиняет мучения буквально все, что он видит в свете (следует перечисление на три страницы, от манеры строить фразы до манеры курить в лицо собеседнику или держать себя за столом); в конце она задает вопрос: «кто же этот несчастнейший? Вечный жид или мольеровский Альцест, свергнутый с престола король или падший ангел? Нет, это просто-напросто тот, кого на бесцветном светском жаргоне именуют человеком хорошо воспитанным» и который — Дельфина на этом настаивает — может быть рожден в любом сословии: и при дворе, и среди народа (2, 358).
Сама Дельфина де Жирарден принадлежала — если не по рождению, то по воспитанию — к самому хорошему парижскому обществу; поэтому высший свет в ее сочинениях (и романах, и фельетонах) был, по словам Готье, «нарисован человеком, который его видел и к нему принадлежит, — вещь среди профессиональных литераторов нечастая»[77]. Тех, кто описывал свет снаружи, не слишком разбираясь в предмете, Дельфина безжалостно ловила на ошибках (см. в наст. изд., с. 183[78], насмешки над провинциальным романистом, который путает шляпницу с сапожником, а портниху с ювелиром). И тем не менее приличия она понимала, выражаясь ее языком, эмансипированно (в том смысле, в каком в одном из фельетонов она говорит об «эмансипированном Сен-Жерменском предместье», — наст. изд., с.259[79]).
В этом отношении подход Дельфины к приличиям и вообще к свету отражает ту эволюцию светской жизни, которую можно коротко определить совсем несветским словом «демократизация». Конечно, демократизация в том смысле, в каком она присутствует в очерках Дельфины, не имеет ничего общего с размыванием границ между, например, господами и лакеями. Дурно воспитанную даму Дельфина характеризует, среди прочего, тем, что у нее дворецкий так же бесцеремонен, как тот слуга, «который однажды, разнося пирожные, сказал одному из гостей, от них отказавшемуся: „Вы неправы, пирожные превосходные“» (наст. изд., с.433[80]). Но при этом Дельфина не только допускает, но и приветствует появление в светском обществе актрисы Рашель и напоминает, что в Париже живут столяры, по душевным качествам ничем не уступающие вельможам, и вельможи, по тем же самым душевным качествам ничем не отличающиеся от каторжников (наст. изд., с. 303–305[81])[82].
Иначе говоря, очерки Дельфины — один из этапов того процесса проникновения неаристократических элит в большой свет, который подробно описан исследовательницей «всего Парижа», — описан, как уже было сказано, не в последнюю очередь с опорой на фельетоны виконта де Лоне[83]. Эта попытка Дельфины изображать парижскую жизнь, пренебрегая узкосословными, кастовыми критериями, была вполне сознательной. В предисловии к изданию 1853 г. говорится: «Парижские письма говорят правду всем и вся: тому, кто падает, и тому, кто поднимается; тому, кто сражается, тому, кто проигрывает, тому, кто побеждает; роялистам, чья слепота толкает к гибели монархию, и республиканцам, чья глухота увлекает в пропасть республику»[84]. Правду Дельфина высказывала и о французском национальном характере; как бы сильно «муза родины» ни любила свою страну, это не мешало ей отпускать по поводу «нас, французов» реплики, исполненные величайшей язвительности. Относясь с иронией к самой себе, она считала себя вправе писать с той же иронией о привычках соотечественников; отсюда такие резкие выпады, как финал фельетона от 25 ноября 1837 г., где объясняется, отчего в Париже «все, что запрещено, охраняется законом», или фельетон от 31 августа 1839 г., где перечислены «истинные радости» французов — «обманывать, жульничать, нарушать условия», и тезис этот иллюстрирован примером: «сама любовь повинуется этому роковому закону: любовницу у нас страстно любят только в том случае, если она чужая жена» (наст. изд., с. 273[85]).
Дельфина очень гордилась тем, что в политическом отношении она лицо беспристрастное, или, как она однажды скаламбурила, «непристрастившееся», и что, в отличие от газеты «Пресса», «Парижский вестник» «не исповедует ни одной системы, не входит ни в одну партию, не принадлежит ни к одной школе» (наст. изд., с. 383[86]). Конечно, свою беспристрастность писательница сильно преувеличивала и в оценках текущей политики следовала за своим мужем и его газетой[87]. Но дело в том, что и Жирардена невозможно причислить к какой-либо политической партии.
Легитимистский критик А. Неттман возмущенно писал в 1845 г., что если раньше газетчики имели политические убеждения, то теперь, по вине Жирардена, определить убеждения редактора газеты стало невозможно: ведь поскольку для него важнее всего реклама, он стремится завлечь читателей любых взглядов и публикует материалы любой политической направленности[88]. Неттман видел в такой позиции доказательство продажности и беспринципности Жирардена, на самом же деле издатель «Прессы» преследовал отнюдь не только коммерческие цели. Жирарден имел выношенные представления о том, каким путем должна развиваться Франция для того, чтобы процветать и не становиться жертвой разрушительных революций. Этот путь — развитие общественных работ, рост промышленности, невозможные без просвещения и народа, и политиков, которые, как правило, думают о своих узкопартийных интересах куда больше, чем о благе Франции. Прагматик Жирарден был готов сотрудничать со всякой партией и всякой властью, которая могла помочь ему в осуществлении его плана, но при этом оставлял за собой право быть к этой партии в оппозиции и критиковать ее злоупотребления[89]. На своем «пустяковом» уровне то же самое делала и Дельфина. Она дорожила правом не смешиваться ни с твердокаменными легитимистами, ни с «приторными мещанками», которые блюдут аристократические правила куда строже самих аристократок (наст. изд., с. 444–448[90]); она спорила и с хулителями салонов, и с ханжами, которые не желают покидать салонов и презирают народные праздники. И та и другая сторона ответили ей ненавистью.
Особенно сильно нападали на Дельфину после революции 1848 г. Когда 24 ноября 1848 г. Учредительное собрание одобрило июньские действия генерала Кавеньяка, жестоко подавившего июньское восстание в Париже, Дельфина, осуждавшая жестокость генерала, опубликовала в «Прессе» стихотворение «24 июня и 24 ноября», в котором восклицала: «Я, женщина, его пред Богом обвиняю!», журналисты осыпали ее насмешками и даже оскорблениями (они не преминули напомнить, что женщине не пристало высказываться о политике, да еще в дурных стихах). При Второй республике Дельфину не щадили; 15 декабря 1848 г. Домье опубликовал в газете «Шаривари» злой шарж «Муза в 1848 году»: на нем карикатурная, но узнаваемая Дельфина пишет статью для «Прессы», причем вместо знаменитых белокурых волос лицо ее обрамляют змеи, как у Медузы Горгоны, а все пальцы испачканы чернилами[91].
Но и те литераторы, которые исходили из вполне классических и аристократических представлений о словесности и месте женщины в свете, точно так же не щадили Дельфину. Высокородные читатели просто выражали сожаление, что «г-жа де Жирарден с ее наблюдательностью и прекрасным поэтическим даром пишет лишь статьи-однодневки»[92]. Профессиональные критики высказывались более жестко. Первое книжное издание фельетонов Дельфины вышло в августе 1843 г., а уже в октябре «Ревю де Де Монд» напечатал рецензию уже упоминавшегося Лаженеве, который обрушил на г-жу де Жирарден резкую критику и упрекнул ее в том самом, в чем она обычно упрекала других, — в забвении приличий. Рецензент утверждал, что она из светской дамы сделалась «синим чулком», педантичной профессоршей и даже «кондотьером из спальни»[93]. Бывшая подруга Дельфины Мари д’Агу назвала «Парижский вестник» статьями «во вкусе горничных»[94] но она, по крайней мере, сделала это в частном письме, а рецензент «Ревю де Де Монд» высказал, в сущности, то же самое публично, в газетной статье.
Логика у Лаженеве простая: светские люди могут читать газеты, могут иронизировать по поводу их содержания, но истинно светским людям (даже мужчинам, что уж говорить о дамах!) неприлично печататься в газетах и описывать там светскую жизнь. Эти описания должны оставаться достоянием узкого круга посвященных; время печати и гласности может наступить для них лишь через много лет после того, как все фигуранты анекдотов уйдут в мир иной. Госпожа де Севинье не отдавала своих писем в печать, барон Гримм сочинял свои корреспонденции для коронованных особ, а не для типографии. «Вы знаете это не хуже меня, — обращается Лаженеве к сочинительнице „Парижских писем“, — газета — это демократия. Зачем же вы печатаетесь в ней, при этом изъясняясь со светской надменностью? Вы рассказываете, и не без изящества, о приличном обществе; вы его превозносите, оно вызывает у вас сочувствие и интерес, и вы охотно в этом признаетесь. Зачем же в таком случае вы швыряете этот цвет учтивости под ноги первому встречному? Свет и фельетон — две вещи, глубоко чуждые друг другу. В результате вы, как говорил Ривароль, демократизируете аристократию»[95]. Скрепя сердце Лаженеве признает за Дельфиной право первооткрывательницы: именно она первой соединила хронику элегантной жизни с банальной формой фельетона. Но — тем хуже для нее, раз она потакает низменному вкусу и швыряет ленивым умам легкую пищу — историю и философию, разорванную на клочки; в таком случае именно на нее критик вправе возложить ответственность за развращение публики, за то, что читателей приучают предпочитать великому мелкое. Лаженеве повторяет общие места критики, направленной против «легкой литературы», против романов-фельетонов[96], но характерно, что объектом своей полемики он избирает именно фельетоны виконта де Лоне. Он разглядел (пожалуй, даже сильно преувеличив) в светском виконте представительницу новой, демократизирующейся, «газетной» литературы. Он был несправедлив в оценках, но не так уж неправ в констатации.
Что касается критики, которой подвергали очерки виконта де Лоне современники, то нельзя не сказать и еще об одном ее аспекте: критики-мужчины не могли простить женщине-фельетонистке ее сатирического дара. Сент-Бёв объявил главным недостатком Дельфины то — по его мнению, прискорбное — обстоятельство, что она слишком умна, и острый ум в ней убил поэта[97], а пурист Лаженеве за пять лет до демократа Домье уподобил Музу Медузе и сослался на авторитет Вольтера, который утверждал, что «женщина-сатирик похожа на Медузу и на Сциллу — двух красавиц, превращенных в чудовищ». И даже симпатизировавший Дельфине Ламартин признался (правда, не при жизни Дельфины, а в мемуарном очерке, написанном уже после ее смерти), что находил в ней одно несовершенство: «она слишком часто смеялась»[98].
Между тем то, что серьезным мужчинам казалось недостатком, было, вне всякого сомнения, одним из главных достоинств Дельфины. У нее было замечательное чутье на смешное; она сама в одном из ранних стихотворений писала об охватывавшем ее «безумном смехе», который не имеет ни причины, ни конца, и признавалась, что ее идеал — «ради смеха смех, ради любви любовь». Именно это умение подмечать смешное в повседневной жизни и описывать его изящно и метко позволяет очеркам Дельфины оставаться, как она сама выразилась, «читабельными» через много лет после их написания. Это ее свойство, кстати, не оставляло равнодушными даже недоброжелательных современников. Сент-Бёв, например, вообще оценивавший очерки виконта де Лоне весьма сдержанно, не мог не признать, что фельетон от 16 марта 1837 г. (наст. изд., с. 98[99]) — об олене-руссоисте, который, убегая от охотников, якобы нарочно пробежал мимо места, где некогда был похоронен Жан-Жак Руссо, — «выдумка бесконечно сумасбродная, но и бесконечно забавная»[100].
Дельфина, конечно, чаще избирала предметом своих насмешек не конкретные личности, а комические ситуации, не глупых людей, а глупости как таковые. 9 сентября 1837 г. она, например, цитирует два объявления. Одно она увидела в лавке торговца птицами: «Два неразлучника, продаются порознь. — Но ведь если вы их разлучите, они умрут. — Нет, сударь, если действовать с умом, эти птички прекрасно переносят разлуку; на зиму их оставляют в одной клетке, а потом, как наступит весна, разлучают, и они не возражают». Другое услышала перед балаганом, где демонстрировали «дикаря»: «Входите, господа, — кричал балаганщик, — вы увидите дикаря, какого никогда не видели, вы услышите, как он разговаривает; этот дикарь существует, и вот вам доказательство: он сам вам это объяснит!.» (1, 241). Попугайчики-неразлучники, которые не возражают против разлуки; дикарь, который объясняет публике, в каком смысле он является дикарем, — Дельфина не может пройти мимо этих — и многих других — «подсмотренных» глупостей[101], точно так же как она не может не насмехаться над неудачливыми охотниками, которые выуживают оленя из пруда (если дичь приходится вылавливать из воды удочкой или вытаскивать сетью, пишет она, это уже не охота, а рыбная ловля), над капризными министрами или неотесанными депутатами.
Однако нередко в фельетонах виконта де Лоне встречаются конкретные фамилии, и носителям этих фамилий даются весьма ехидные аттестации. Конечно, речь идет о людях публичных — членах кабинета, политических ораторах. Однако когда Дельфина пишет об Адольфе Тьере: «Мы, французы, любим господина Тьера именно потому, что он человек худого рода, дурного сложения и плохого воспитания; именно благодаря этому мы прощаем ему острый ум, незаурядные таланты и великодушные чувства. Недостатки его извиняют в наших глазах его достоинства» (наст. изд., с. 334–335[102]), — она совершает переход от светской, салонной журналистики к политической сатире и почти уничтожает ту грань, которая отделяет легкий фельетон от серьезных статей, печатающихся на верхней половине газетной полосы. А уж это-то женщине, по понятиям традиционалистской критики, вовсе не пристало.
* * *
Даже когда Дельфина в своих фельетонах касается серьезных социальных вопросов, она решает их на свой иронический лад, переводя на язык бытовой психологии. 30 июня 1848 г. она размышляет о ситуации во Франции после февральской революции и июньского народного восстания:
«Говорят, чтобы нас спасти, нужен гений, который возьмет бразды правления в свои сильные руки; нужно мощное правительство, составленное из людей способных и опытных; меж тем нужно нечто куда более простое — правительство, которое не плетет заговоров. Как может государственная колесница двигаться быстро и прямо, если те, кто ею правят, желают опрокинуть ее в канаву? Заговорщик и устроитель — профессии совсем разные. Кто умеет разрушать, редко умеет строить. Те, кто совершил революцию, не способны устроить жизнь после нее. Виданное ли дело, чтобы для жатвы использовали плуг?» (2, 512–513)[103].
В мирное время подобные бытовые метафоры (люди-кошки и люди-собаки, женщины-сиделки и женщины-пастушки) прекрасно объясняли мир, но против выстрелов и крови метафоры оказались бессильны. Дельфина еще в 1847 г. жаловалась на то, что «революционные методы хромают», и просила объяснить, «отчего в такой просвещенный век, как наш, в стране, где промышленность делает чудеса, люди убеждены, будто единственный способ обогатить бедняка — это обезглавить богача; средство, конечно, действенное, но, сказать по правде, не слишком остроумное. Нам кажется, что, если подумать, можно изобрести что-нибудь поинтереснее» (2, 457–458). Однако не прошло и года, как революция доказала, что ничего более интересного никто не изобрел.
Наступление демократической стихии на деле оказалось еще более страшным, чем ожидалось; спустя два с половиной месяца после революции Дельфина приходит к выводу: «Да, республика могла быть прекрасной… могла — когда бы не республиканцы» (наст. изд., с. 451[104]), а спустя полгода, запечатлев последние картины парижской светской жизни (вернее, того, во что она превратилась при новой власти), вообще перестает печатать фельетоны.
Последний очерк виконта де Лоне появился в «Прессе» 3 сентября 1848 г. Кончилась эпоха, и кончились фельетоны. По слухам, в 1849 г., уходя с бала у кузины новоизбранного президента Бонапарта, принцессы Матильды, Дельфина бросила: «Прощайте, сударыни, сегодня мы присутствовали на последнем парижском балу!»[105]; конечно, у этой реплики были конкретные причины (в 1849 г. парижское общество жило под страхом «социалистической Варфоломеевской ночи» и красной угрозы), но дело было не только в этом. Дельфина ощущала конец той парижской светской жизни, где жители разных кварталов и сторонники разных политических убеждений составляли все-таки единое целое. Теперь это целое раскололось, и у Дельфины было ощущение, что склеить его не удастся никогда.
В 1857 г., через два года после смерти Дельфины и через девять лет после того, как она перестала сочинять «Парижский вестник», ее верный друг Теофиль Готье уже воспринимал содержащиеся там «по видимости легкомысленные» детали как «почти исторические», как «неисчерпаемый источник для будущих романистов, которые захотят описать эту эпоху»[106]. Еще через семь лет Пьер Ларусс начал выпускать свой «Большой универсальный словарь XIX века». Дельфина здесь упомянута в четвертом томе, в статье «Хроникер», а к хроникеру Ларусс относится уважительно; он видит в нем не просто «литературного ветошника», подбирающего крохи повседневности, но создателя «мемуаров нации». Современная исследовательница замечает по этому поводу: «Лаженеве пришел бы в ужас, узнай он, что в 1869 году, когда полусвет окончательно восторжествовал над светом, „пустяки“ виконта де Лоне удостоились звания „мемуары нации“»[107].
А между тем они этого удостоились — и вполне заслуженно.
* * *
При жизни Дельфина де Жирарден была известна в России, и некоторые ее прозаические и драматические произведения были напечатаны в русских переводах[108]. Однако «Парижские письма» выходят на русский язык впервые[109].
Первое книжное издание фельетонов виконта де Лоне 1836–1839 гг. появилось в 1843 г. под названием «Парижские письма»; фельетоны за 1840–1848 гг. были впервые изданы отдельной книгой в 1853 г. под названием «Парижская корреспонденция». В 1857 г. обе эти книги были соединены в одно издание, получившее общее название «Парижские письма». С тех пор переиздавался всегда именно этот корпус текстов, в который, впрочем, вошли не все очерки, опубликованные «виконтом де Лоне» в «Прессе». Поскольку издания 1843 и 1853 гг. выходили еще при жизни Дельфины и, по-видимому, при ее участии, она произвела отбор и исключила все, что, как ей казалось, к моменту превращения газетных фельетонов в книгу уже устарело. К этому выбору можно относиться по-разному. Например, Эмиль Фаге (вообще большой поклонник фельетонов Дельфины) полагал, что с точки зрения потомства в книжном издании осталось еще много лишнего, того, что интересно только историкам, а лучше было бы выбрать из всех фельетонов виконта де Лоне четыре сотни моралистических рассуждений и тем ограничиться[110]. Позволю себе не согласиться и приведу один-единственный пример из фельетона от 3 ноября 1836 г., в книжное издание не вошедшего. Дельфина рассказывает там о новой мужской моде — плотных мужских пальто, в которых денди становится похожим, по одной версии, на медведя, а по другой — на кучера дилижанса. Так вот, продолжает Дельфина, соедините эти два сравнения, и вы получите медведя, сделавшегося кучером дилижанса, — вот именно на него-то и похож элегантный обладатель пальто.
Тем не менее я последовала за французской традицией и переводила фельетоны Дельфины де Жирарден по изданию, подготовленному Анной Мартен-Фюжье (Girardin D. Lettres parisiennes du vicomte de Launay. P., 1986. T. 1/2), которое воспроизводит издание 1857 г. Точно так же я следую традиции называть это собрание «Парижскими письмами» (а не «Парижским вестником», как в газетном оригинале) и сохраняю перед каждым фельетоном те заголовки-абреже, которые сопровождают тексты Дельфины начиная с первого книжного издания.
От французской традиции я позволила себе отклониться лишь в датировке фельетонов. Дело в том, что Дельфина порой выставляла перед текстом дату сочинения фельетона, как делали вообще все журналисты «Прессы», включая авторов политических передовиц, однако в газете фельетон, естественно, появлялся на следующий день после написания. Во французских изданиях (начиная с самых первых) фельетоны датируются иногда днем написания, а иногда днем публикации. В интересах единообразия в настоящем издании все фельетоны датированы днем их реального появления в газете.
Наконец, последнее: в настоящее издание вошла примерно треть французского двухтомника. Предпочтение отдавалось текстам, содержащим картины повседневной жизни Парижа и наиболее яркие и остроумные образцы «нравственной философии» Дельфины. Пропуски внутри фельетонов отмечены отточиями в квадратных скобках; пропуски фельетонов целиком не отмечены никак. Некоторые фрагменты из фельетонов, не вошедших в основной текст, переведены в статье и в примечаниях; в этих случаях в скобках даны отсылки к французскому изданию 1986 г. с указанием тома и страницы.
Вера МильчинаПАРИЖСКИЕ ПИСЬМА ВИКОНТА ДЕ ЛОНЕ
1836
29 сентября 1836 г.
Последние новости. — Провинциальный Париж. — Скучающий и Докучный. — Эсмеральда.
— Докладная записка командующему национальной гвардией касательно поведения Фемистокла и Сципиона Африканского
На этой неделе не произошло ничего особенно примечательного: в Португалии случилась революция, в Испании явился призрак республики, в Париже назначили министров[111], на Бирже упали котировки, в Опере поставили новый балет, в саду Тюильри показались два капота из белого атласа.
Революция в Португалии была предсказана заранее, о псевдореспублике в Испании толковали уже давно, министров осудили еще прежде, чем они вступили в должность, падение на Бирже было использовано сведущими людьми три недели назад — тогда же, когда афиши возвестили о новом балете; таким образом, поистине достойны внимания только капоты из белого атласа, ибо они явились слишком рано: нынешнее время года не заслужило подобного оскорбления. Топить камины в сентябре, если на улице уже холодно, — это еще куда ни шло, но обряжаться в атлас, когда зима еще не наступила, противно природе[112].
Сегодня столицу занимают только две вещи: театр и прогулки. Скачки, благодарение Богу, закончились; в последнее время их трудно было назвать блестящими: одни и те же дамы среди публики, одни и те же лошади на дорожке, а главное — одно и то же утомительное зрелище одинокой лошади, оторвавшейся от всех остальных; вам не остается ничего другого, кроме как бессмысленно глазеть на этого борца без противника, триумфатора без соперников. По нашему мнению, это конное соло доказывает, что нас уже давно морочат самым ловким образом. Говоря короче, все увиденное на скачках было весьма посредственным, и злые языки имели все основания утверждать, что бедняги из «Общества соревнователей»[113] никакой ревности вызвать не способны.
Огюст Пюжен. Сад Тюильри.
Огюст Пюжен. Площадь Согласия.
Иные утверждают, что Париж сделался скучен; нам, напротив, представляется, что жить в нем нынче весьма приятно: знакомых нигде не встретишь, город нынче населен одними провинциалами. Чувствуешь себя независимо, как в путешествии, но при этом наслаждаешься всеми удобствами собственного жилища. Тот, кто изучает Париж в это время года, проникается любовью к этому городу, потому что встречает здесь только тех людей, которые от него в восхищении; по улицам бродят толпы восторженных зевак; это прелесть что такое: зеваки заморские, зеваки заграничные, зеваки зарейнские, все, кроме зевак замогильных, как выразился бы господин де Шатобриан[114], — впрочем, не станем ручаться, что кто-нибудь из этих последних не замешался в уличную толпу.
Наконец, в подобные дни Париж ненадолго обновляется и добреет: пресыщенные люди его покинули, скучающие люди из него бежали. Воздух от этого кажется более чистым, улицы — более просторными. Ведь человек СКУЧАЮЩИЙ занимает так много жизненного пространства! его присутствие так обременительно! своими всхлипами и зевками он поглощает столько воздуха! А нынче человека СКУЧАЮЩЕГО в Париже не встретишь; он охотится в обществе человека ДОКУЧНОГО, и тот перечисляет ему всю когда-либо подстреленную дичь, а затем оба принимаются злословить о Париже, который их отсутствие так чудесно преображает. Поскольку оба они, и СКУЧАЮЩИЙ, и ДОКУЧНЫЙ, — люди тщеславные, они отсылают свою добычу в Париж, а сами остаются за городом! — Да, благословенна осень в Париже! — Театры возрождаются, публика молодеет; партер заполняет не та многоопытная, привередливая и нелюбезная зимняя публика, которая ревниво тиранит актеров, нанятых для ее развлечения; не та публика, которую все возмущает и ничто не вдохновляет; не та пресыщенная удовольствиями фатоватая публика, которая провела всю жизнь в театральных коридорах и не смеет улыбнуться, потому что от старости лишилась всех зубов; не та старая кокетка, которая не смеет заплакать, потому что боится смыть румяна. — Нет, в партере располагается публика наивная, радостная и доброжелательная, публика, в которой каждый для актеров и судья, и сообщник, публика, которая с чистым сердцем помогает вам себя рассмешить и которую приятно растрогать; добродушная публика, которая не возражает против того, чтобы ее развлекали; одним словом, публика, которая верит в удовольствия.
Поэтому театры торопятся сыграть перед нею все свои новинки; так истец стремится, чтобы дело его рассмотрели, пока в суде председательствует его друг.
В Опере спешно репетируют сочинение Виктора Гюго и мадемуазель Бертен[115].
Некоторые отрывки уже удостоились похвал. Одни говорят: «Право, это прекрасно!» — И слышат в ответ: «Ничего удивительного, ведь сочинял-то Берлиоз». Другие восклицают: «Какая восхитительная музыка!» Им отвечают: «Само собой разумеется, ведь автор-то Россини».
Выскажем свое мнение и мы:
Если эта музыка дурна, значит, ее сочинил Берлиоз; если хороша, значит, ее написал Россини. Если же она в самом деле великолепна, значит, автор ее — мадемуазель Бертен.
Вот ход наших рассуждений:
Если сочинять музыку для «Эсмеральды» вместо мадемуазель Бертен взялся господин Берлиоз, значит, поскольку славы ему эта работа не сулит, он выполнит ее как попало, а все хорошие ходы сохранит для своих собственных творений.
Если эту музыку согласился написать Россини, она будет хороша, потому что у Россини прекрасно все, даже то, что сделано как попало.
Наконец, если музыка окажется прекрасной, придется признать, что ее сочинила сама мадемуазель Бертен, каких бы тайных помощников ни приписывала ей молва; ибо не родился еще такой глупец, который стал бы раздавать свои шедевры даром.
Те, у кого много ума, ничуть не более щедры, чем те, у кого много денег, и какую бы власть ни имели нынче газеты, мы не верим, что великий композитор подаст на бедность одной из них толику своего гения.
Еще о новинках: Французский театр[116] показал «Тартюфа» и «Игру любви и случая» с мадемуазель Марс. И вообразите, зал был полон. Узнаю тебя, добрая сентябрьская публика! — Тебя еще можно пленить нежным голосом — ведь ты не успела вдоволь насладиться им в прошлые годы[117].
В литературе решительно ничего нового; кабинеты для чтения страдают от недорода. Жорж Санд приходит в себя после судебных процессов[118]; господин де Ламартин возглавляет Генеральный совет родного департамента[119]. Простите ему, о музы! Жюль Жанен покинул город; подобно Святому Людовику, он вершит суд, восседая у подножия дуба: именно оттуда он критикует новые пьесы, представляемые в парижских театрах: в «Драматической гимназии», «Амбигю» и «Водевиле»[120]. На приговоры, выносимые под дубом, не влияет ничто, включая сами осуждаемые спектакли, фельетоны же критика не становятся от этого ни менее справедливыми, ни менее остроумными. И кто-то еще смеет утверждать, что этому человеку недостает воображения! Альфред де Мюссе курит и прогуливается. Ясент де Латуш удалился под сень лесов[121]; у всех умных людей теперь каникулы. Что же касается наших арбитров элегантности, в дождливые дни они коротают время, играя и заключая пари. Один из них, говорят, выиграл на прошлой неделе 150 000 франков! Бедняга![122]
Элегантный мир еще не приготовился наслаждаться жизнью. Супруги послов принимают только друзей. Некоторые хозяйки влиятельных салонов уже воротились в город, но больших приемов пока не устраивают. В гостиных занавески еще не повешены, люстры еще не освободились от покровов, золоченые кресла еще покрыты чехлами и оттого имеют вид весьма печальный; бабочка еще не вышла из кокона, но потерпите совсем немного — пора празднеств, усталости и скуки не за горами. Пока же наш удел — беседы с глазу на глаз. Сводятся они все к рассказам о путешествиях, к учтивым вопросам и рассеянным ответам. — Госпожа такая-то уже вернулась? — Да, вчера; я ее видела: почернела, подурнела чудовищно. — А ее сестра? — Сестра по-прежнему мила, но очень растолстела; к ней это не идет. — На обратном пути из Нисбадена я хотела заехать в Б… к Клементине, но не успела. — Вы ничего не потеряли, она давно в Париже. — Уже? да ведь обычно она возвращается не раньше января. — Она утверждает, что тяжело больна, и призвала на помощь весь медицинский факультет. По ее виду ничего такого не подумаешь; свежа и мила, как ангел; отлично придумано: сказаться умирающей, чтобы воротиться в город на два месяца раньше срока.
Такие речи ведутся в салонах, и увлекательными их не назовешь; кроме того, дамы хвастают друг перед другом платьями и безделушками, привезенными из дальних мест, и дорожными приключениями, выдуманными по возвращении: одна едва не свалилась в пропасть, другая познакомилась на водах с множеством любезных кавалеров, третья заехала засвидетельствовать свое почтение Карлу X и нашла, что он помолодел, а герцог Бордоский похорошел и чувствует себя превосходно[123]. Заметьте, что мы говорим здесь только о тех дамах, которые провели лето в странствиях; те, которые отправились в свои поместья, покамест там и остаются, и о них речи нет. Обсуждают в салонах и книги, вышедшие в свет этим летом; отставшие от жизни читатели берут напрокат целую библиотеку новых романов. Гости проводят вечер в незначащей болтовне, поют романсы вроде «Бегства» госпожи Дюшанж или «Грезы» мадемуазель Пюже, играют в вист или реверси[124], а в полночь откланиваются: и в Париже можно вести сельский образ жизни[125].
На бульварах полно провинциалов, но остальные променады почти так же унылы, как и салоны; вид сада Тюильри наводит тоску: клумбы усыпаны опавшими листьями; дамы разряжены и уродливы; они мерзнут, но не желают в этом сознаться. Многочисленные англичанки выходят на прогулку в шляпках, украшенных тремя рюшами из выцветшего и обветшавшего тюля — тюля-странника, оплакивающего лондонские туманы и насквозь пропитавшегося лондонской угольной пылью; по вине этого бесполезного убора лицо утопает в сероватом облаке, которое его вовсе не красит. Эти англичанки — третьеразрядные жительницы Британии, которых пароходы доставляют на континент задешево; что же до тех хорошеньких розовощеких и пышноволосых англичанок, которые являются в Париж, чтобы научить наших законодательниц элегантности быть свежими и прелестными, и превращают парижскую улицу Мира[126] в аллею лондонского Гайд-парка, их пока не видно: нынче для них еще не сезон. О юные красавицы Севера! возвращайтесь поскорее и замените ваших недостойных соотечественниц! Есть множество весьма странных вещей, которые без вашей помощи нам не удастся вычеркнуть из памяти.
Англичане обожают статуи в саду Тюильри; однако они, как и мы, не могут понять, отчего местные власти вовсе не заботятся об их внешнем виде, хотя — мы в этом убеждены — вернуть им прежнюю белизну не составило бы особого труда. Половину денег, которые король, по слухам, тратит на стрижку своих померанцевых деревьев, он мог бы употребить на омовение своих же чумазых богов[127]. Фаэтуза почернела так, что уже непонятно, в тополь ее превратили или в негритянку[128]; Венера, даром что последние три или четыре десятка лет без устали моет ноги, остается замарашкой; что же до Фемистокла, выигравшего битву при Саламине, и Сципиона Африканского, вышедшего победителем из сражения при Заме, спешим обратить внимание господина командующего национальной гвардией на их снаряжение: оно остро нуждается в чистке.
Впрочем, в прудах Тюильри по-прежнему плавают белые лебеди и золотые рыбки; по аллеям по-прежнему бегают дети и катаются обручи; дворцовые часы по-прежнему показывают точное время, а над всем этим по-прежнему реет трехцветное знамя: деталь мелкая, но по нынешним временам довольно существенная[129].
20 октября 1836 г.
Осеннее переселение народов. — «Мария». — Портрет господина Вату
Самое главное событие прошедшей недели — переезды с квартиры на квартиру; невозможно даже вообразить количество каминных часов, роялей, кроватей и комодов, которые были перевезены на новое место за последние несколько дней; весь Париж сделался передвижным мебельным магазином; кажется, будто все обитатели квартала Шоссе-д’Антен решились искать приюта в Маре, а все жители Маре пожелали переселиться в квартал Шоссе-д’Антен[130]. В городе не осталось человека, который бы не играл в эту чехарду. Невозможно сделать два шага, не увидев телегу, перевозящую вещи; невозможно перейти улицу, не наткнувшись либо на секретер, либо на комод, либо на канапе, с которого угрожающе свешиваются стулья. Поверните за угол… и вы столкнетесь с бюстом великого человека, который движется задом наперед; по правую руку катится рояль, увенчанный табуреткой и отвинченными педалями; по левую руку влачится круглый столик, который, кажется, не может взять в толк, куда подевалась его мраморная столешница. Поверите ли? вчера нам на глаза попался молодой человек, который преспокойно поправлял галстук перед прекрасным высоким зеркалом, неспешно плывшим перед ним; невозможно было без смеха смотреть на эту походную туалетную комнату. Комиссионеры[131], должно быть, падают с ног от усталости: для них октябрь — самая страда. Может ли быть дата печальнее, чем 15 октября, день переезда? Может; это не что иное, как день накануне переезда. Ибо нет ничего печальнее мысли: не пройдет и суток, как часть этих вещей наверняка будет разбита. Глядя на красивую чашку, вы горюете: возможно, жертвой падет именно она! Окинув взором старые, выцветшие кресла, вы говорите им с жалостью: «Бедолаги, в вашем возрасте тяжело трогаться с места!» Муж засыпает с мыслью о новой мебели, которую придется купить; жена — с мыслью обо всех огорчениях, которые выпали на ее долю за шесть лет, прожитых в старой квартире. Очень вероятно, что она надеется быть счастливее на новом месте. Что ж, ступай, бедняжка! в какой бы квартал города ты ни переехала, печали твои последуют за тобой вместе с мебелью, серебряной посудой и кухонной утварью; причина их — не в событиях, а в характерах, а характер ни у тебя, ни у твоего мужа не изменится, в какой бы стране, на какой улице и в какой квартире вы ни поселились. Впрочем, следует признать, что нередко место мучит человека. Неудобная квартира может доставить массу неприятностей; смежные комнаты могут стать причиной ужасных раздоров; никто не поручится за будущее женщины, у которой в спальне нет камина. Слишком маленькая столовая может довести делового человека до разорения; слишком просторная гостиная может довести почтенного рантье до больницы. Мы знаем молодоженов, которые совершенно серьезно заверяли нас, что не хотят иметь детей, потому что живут в слишком тесной квартире. Доводим до сведения господ переезжающих все эти досадные обстоятельства: пусть выберут то, которое кажется им наиболее опасным, и постараются его избежать.
Фешенебельные парижане возвращаются в столицу, это не подлежит сомнению: за последнюю неделю театры и бульвары совершенно переменили свой облик. Парижские улицы вновь сделались парижскими. На них больше не увидеть странных особ в пестрых нарядах, неприятно поражающих взор своей дисгармонией. Теперь, куда ни глянешь, всюду замечаешь прелестных особ, чьи лица так отрадно увидеть вновь, элегантных красавиц, чьи имена так приятно произнести вполголоса, чьим приветствием так лестно гордиться. — Так вы знакомы с госпожой Икс? — с завистью осведомляется ваш сосед. — Да, три месяца назад мы вместе были на водах в Нери, — отвечаете вы и помимо воли обретаете вид более любезный, начинаете держаться более прямо и даже становитесь чуть повыше ростом. Даже люди, вовсе лишенные тщеславия, в такие минуты испытывают прилив гордости, ибо всякому лестно удостоиться приветствия от хорошенькой женщины. Этим удовольствием многие наши любители элегантности могли насладиться на днях во Французском театре. Последнее представление «Марии» превратилось в блестящий парад воротившихся. От восхищения и волнения обворожительные путешественницы делались еще краше; молодые женщины приписывали себе все добродетели Марии и совершенно искренне почитали себя такими же великодушными и самоотверженными, как она; другие зрительницы казались себе такими же юными и прекрасными, как мадемуазель Марс[132]. Каждый мог сыскать себе иллюзию по вкусу. Успех сочинения госпожи Ансело лишний раз укрепляет нас в том мнении, какое мы составили себе уже давно: французская публика более всего чувствительна к лести и любит тех художников, которые изображают ее наименее близко к истине. Истины французская публика боится, как огня. Ее влекут чудовища в любом роде — чудовища преступные и чудовища добродетельные. Видеть людей такими, как в жизни, переменчивыми и непостоянными, она не желает. Ей потребны воплощения абсолютного добра или абсолютного зла: нотариус, который на протяжении пяти актов будет вести себя как ангел, и герцог, который на протяжении тех же пяти актов останется сущим демоном. Именно этим и объясняется успех «Герцогини де ла Вобальер»[133]; когда в пятом акте нотариус поступает точно так же, как в предыдущих четырех, партер замирает от восхищения: это все тот же нотариус! это он, он самый; он и прежде говорил и поступал точно так же; он не меняется; узнаю тебя, честный нотариус! это ты, нотариус нашей мечты! Браво! — Все дело в том, что партер принимает за драматическую истину ту ложную посылку, которую ему навязывают в первом акте и которой его пичкают до конца последнего. Точно так же обстоит дело с комедией госпожи Ансело. Мы не хотим сказать, что очаровательный характер Марии есть ложь; напротив, нам прекрасно известно, что жизнь многих женщин представляет собой не что иное, как непрерывную цепь самопожертвований; мы хотим сказать другое: что подобная возвышенная добродетель есть истина не абсолютная, а всего лишь исключительная; что эта истина безнравственна, потому что лжива; что эта истина губительна, потому что отвращает от всех прочих; что эта истина бесплодна, потому что предает нашу душу во власть беспомощных грез, толкает ее на бесполезные поиски; что эта истина преступна, потому что заставляет нас быть неблагодарными по отношению к существам не вполне добродетельным, которые нас окружают и которыми мы пренебрегаем ради вымышленных героев, изображенных в пьесе; что эта истина подобострастна и льстива, иначе говоря, что она и есть та единственная истина, какая допущена на сцену и какой алчет публика. Недаром все добродетельные газеты в один голос восклицают: «Вот она настоящая, правильная комедия; здесь никто не рвет страсти в клочья; это вам не драмы новейшей школы, изображающие женщин жалких и преступных; здесь автор рисует жизнь, как она есть». Все достопочтенные мужья с восторгом наблюдают за тем, как госпожа Форестье приносит любовь д’Арбеля в жертву своему супругу, и доверчиво восклицают: «Да, так, именно так!», не обращая внимания на разнообразных д’Арбелей, толпящихся в их ложе; мало того, вышеупомянутые д’Арбели с не меньшим восторгом наблюдают мужчину, который в течение семнадцати лет хранит верность одной и той же женщине, и одобрительно восклицают при виде этого бессовестного вымысла: «Да, так, именно так!»[134]… О комедия, комедия! Вот это и есть комедия! Настоящая комедия разыгрывается в зрительном зале, когда на сцене представляют добродетельную драму. Да, госпожа Ансело — женщина острого ума, мы знали это и раньше, но своей новой драмой она лишний раз доказала, что лучше всех во Франции знает способ понравиться соотечественникам и польстить им. Она обошлась с публикой по-дружески. Она слишком тонка, чтобы высказывать все, что ей известно: успеха это не принесет; она слишком хорошо знает свет, чтобы изображать его таким, каким он ей видится.
Да, бедная старушка публика! тебе потребны либо Нероны и Агриппины, потому что в этом случае тебе не грозят применения[135], либо героические нотариусы и великодушные жены, потому что в этом случае ты сама применяешь к себе эти лестные вымыслы. Мольер, творивший при Людовике XIV, сегодня ничем не осмелился бы тебя попрекнуть; бросить тебе в лицо настоящую правду можно было, лишь пользуясь покровительством короля, превосходящего тебя могуществом; ты любишь только сказки, и тебя потчуют пищей по твоему вкусу; зеркало, которое отразило бы твои истинные черты, привело бы тебя в ужас; голос, который произнес бы твое настоящее имя, обратил бы тебя в бегство; ты прокляла бы гения, который объяснил бы тебе, кто ты есть; ты не пустила бы его на порог и поступила бы совершенно правильно: знать правду о себе — дело невеселое.
Впрочем, вот что хорошо: все матери семейств не преминут показать «Марию» своим дочерям, и месяц спустя все парижские барышни проникнутся верой в то, что их юные кузены или соседи, Шарли, Эрнесты и Альфреды, будут, что бы ни случилось, любить их семнадцать лет подряд; что же до вас, Шарли, Эрнесты и Альфреды, вы всласть посмеетесь, приговаривая: «Театр есть зеркало нравов».
Между тем дамы лишний раз доказали, что они существа самоотверженные. Почти все они являются в театр в чепцах, чтобы не заслонять сцену мужчинам, сидящих позади них[136]. Поступок в высшей степени великодушный, ибо издали чепец смотрится куда хуже, чем шляпа. Мы, правда, готовы сделать исключение для чепцов, украшенных цветами; это убор, не лишенный элегантности; но чепцы с лентами от нас снисхождения не дождутся. В гостиной, вблизи, они не лишены прелести, но в театре, издали, сообщают вам такой вид, словно вы только что вышли из спальни. Женщина, явившаяся на представление в душегрее из бурого шелка и в тюлевом чепце, обшитом розовыми лентами, напоминает капельдинершу, в нарушение всех законов забредшую в зрительный зал; всякий вправе попросить у нее скамеечку для ног[137]. Издали все чепцы похожи; не угадаешь, какой из них шелковый, а какой ситцевый, какой утренний, а какой вечерний; поправить дело способны только цветы. Ибо в конечном счете что такое чепец без цветов? кружевной парик, и ничего больше. А париками, скажем прямо, увлекаться не стоит.
На прошедшей неделе модным считалось носить старые платья и потертые шляпы; эта мода ушла в прошлое, как и многие другие; сейчас ей ищут замену.
Мы осудили театры за их приверженность к поддельной правде; посмотрим теперь, насколько правдивы газеты. Несколько дней назад один из самых остроумных и язвительных наших журналистов, человек насмешливый и безжалостный, встретился в доме своего друга-депутата с господином Вату[138], которого он никогда не видел, но уже давно избрал мишенью для эпиграмм. Завязался оживленный разговор; обсуждаемые вопросы были весьма серьезны, и каждый из собеседников, угадывая в другом единомышленника, высказывал свои мысли с удивительной прямотой. То был один из тех разговоров, в котором собеседники судят друг о друге не только по тому, что говорят, но и по тому, о чем предпочитают умолчать. Прошло немало времени, прежде чем господин Вату удалился. Не успел он закрыть дверь, как журналист воскликнул: «Право, этот человек мне нравится! он разделяет все мои мысли. Сразу видно человека умного. Как его имя?» — «Это господин Вату». — «Как?! тот самый Вату, о котором я наговорил столько глупостей!» Журналист расхохотался, а затем добавил с тонкой усмешкой: «Ну что ж, я воображал себе его совсем иным, судя по портрету… мною же нарисованному».
27 октября 1836 г.
Луксорский обелиск[139]
Поистине, нашим глазам предстало прекрасное зрелище: двести тысяч человек, запрудившие огромную площадь, длинную террасу сада Тюильри и длинную аллею Елисейских Полей, стояли не шевелясь и не говоря ни единого слова, не создавая никакого беспорядка и не производя никакого шума! то был не народ и не толпа, то была публика — партер, заполненный двумя сотнями тысяч отборных зрителей. Роль лож играли две террасы сада Тюильри, роль литерных лож — особняк морского министерства и великолепные особняки, стоящие по соседству. Королевское семейство располагалось на балконе министерского особняка, выходящем в сторону сада; королевская ложа была обита синим; члены дипломатического корпуса и первые красавицы июльского двора занимали прекрасную галерею. Родственники и друзья министерских горничных и привратника расположились на верхней террасе, которую, можно сказать, превратили в амфитеатр новоявленной залы. В окне, выходящем на Королевскую улицу, можно было разглядеть графиню Липано[140], прятавшуюся там, как в закрытой ложе; в райке мы знакомых не обнаружили. Представление длилось четыре часа. В антрактах звучал военный оркестр. Затем посреди неподвижной толпы работники вновь принимались за работу и продолжали свое круговое движение. «Кабестан! кабестан!» — шелестело в толпе, и обелиск вновь начинал плавно подниматься[141].
Последний антракт оказался самым длинным; слышались удары молотка, как в Опере, когда за занавесом устанавливают сложную декорацию. Как бы там ни было, спектакль удался. Он снискал бурные аплодисменты. В самом деле, когда обелиск встал прямо, а оркестр заиграл дуэт из «Пуритан»[142], все захлопали в ладоши; правда, в этой колоссальной зале аплодисменты двухсот тысяч человек были еле слышны, но это, в сущности, даже мило. Правда и то, что некоторые молодые зрители, заразившиеся новыми идеями, с досадой вспоминали о четырех миллионах, затраченных на подготовку этого блистательного представления. Они задавались вопросом, не слишком ли дорого обошлось воздвижение гордого монолита. Другие зрители, прожившие более долгую жизнь, судили снисходительнее; они помнили, что на той же сцене было разыграно представление, обошедшееся Франции куда дороже, — страшная, кровавая драма, при мысли о которой у них сжимается сердце. Им не терпелось убедиться, что эшафот разрушен окончательно, они признавались, что с тех пор, как на площади Людовика XV[143] обосновались все эти смертоносные механизмы, не могли ступить на нее без душевного содрогания, и были благодарны монументу, чья родина — египетская пустыня, а возраст исчисляется тремя тысячами лет, за то, что он уничтожит эти ужасные воспоминания. Все обсуждали последнюю новость — что никто не покусился на жизнь короля; об этом говорили в присутствии жены Мюрата, вдовы расстрелянного короля; об этом говорили на площади Революции, где упала в корзину голова короля гильотинированного; и вот, размышляя обо всем этом, мы, не принадлежащие ни к какой партии, мы поступили так же, как народ, мы вместе с ним вскричали: «Да здравствует король!» — потому что сердце у нас доброе, а царственных особ нам очень жаль. Королевское семейство было встречено самыми радостными возгласами. Принцессы сидели в глубине экипажа, король французов и король бельгийцев помещались впереди[144]. Господин герцог Орлеанский сидел между ними, причем старался оставить обоим королям побольше места, но при этом почти полностью заслонить отца. В этой позе юного принца было немало благородства, и всякий, кто помнил о недавнем покушении Алибо[145], не мог видеть ее без волнения.
Когда представление окончилось, толпа бесшумно разошлась. В эти минуты зала показалась нам похожей на огромный бассейн, наполненный народом, — бассейн, откуда вода стала выливаться в город по четырем разным направлениям. Первый поток затопил мост Людовика XVI[146]; второй двинулся по улице Риволи. Третий, менее мощный — не река, а всего лишь рукав, — направился в сторону улицы Елисейских Полей[147]. Наконец, четвертый, самый мощный и величественный, подобный полноводной Луаре, устремился по Королевской улице. Внезапно в центре водоема возник небольшой водоворот: народ узнал архитектора господина Леба и радостно его приветствовал. Одним словом, все прошло удачно. Погода стояла не то чтобы великолепная, но хорошая. Солнце пряталось за облаками, и это пришлось очень кстати, иначе нелегко было бы долго смотреть в одну и ту же сторону. Партер проявил себя наилучшим образом: зрители провели четыре часа на ногах, не интригуя и не ропща. Когда все кончилось, два человека взобрались на самую верхушку обелиска, чтобы увенчать ее флагом, на котором можно было разглядеть якорь — символ флота; двое других украсили шпиль ветками ивы — этими лаврами каменщиков. Трофеи, не уступающие тем венкам, которые получают от своих поклонников мадемуазель Тальони и мадемуазель Эльслер.
9 ноября 1836 г.
Принц Луи Бонапарт
[…] Один из наших друзей имел нескромность выписать несколько слов из рукописи нового романа господина де Латуша, оставленной неосторожным автором без присмотра; в этих словах заключается весь смысл книги; «Нашему веку суждено было наградить юношество меланхолией более разрушительной, нежели горе Вертера, печалью более губительной, нежели тоска Рене, а именно мучительным отсутствием какого бы то ни было страстного чувства. Вертеру недоставало любви, Рене — поэзии; Эмару не хватало отечества»[148].
Эта последняя фраза обращает наши мысли к тому молодому принцу, что нынче арестован в Страсбурге вследствие дерзкой попытки, которую мы не могли даже предвидеть[149]. Луи Бонапарт — человек честный и здравомыслящий; одни лишь тяготы изгнания могли внушить ему безумное намерение сделаться императором во Франции! Несчастный юноша! вместо того, чтобы наслаждаться свободой на чужбине, он решился рискнуть этой свободой на родине. Праздность несносна для человека, который носит такое имя и у которого в жилах течет такая кровь. Быть может, получи принц право стать гражданином Франции, он бы этим удовлетворился. Мы часто слышали от него, что он мечтает лишь об одном — сделаться французским офицером и служить в нашей армии; чин полковника, говорил он, ему милее трона. Право, не королевство искал он во Франции, а отечество.
В нашем присутствии принц часто подтрунивал над своим придворным воспитанием. Однажды он со смехом рассказал нам, что в детстве больше всего на свете любил поливать цветы и госпожа де Б…, его гувернантка, боясь, как бы он не простудился, наполняла лейку горячей водой. «Бедные мои цветочки, — говорил принц, — они не знали, что такое прохлада; я был совсем мал, но уже тогда понимал, сколь смехотворна эта предосторожность». О Франции он всегда говорил с нежностью; в этом он схож с герцогом Бордоским. Мы вместе находились в Риме, когда туда пришла весть о смерти Тальма; все принялись оплакивать потерю, и каждый вспоминал, в какой роли видел Тальма в последний раз. Слыша эти разговоры, принц Луи, которому еще не исполнилось шестнадцати, нетерпеливо топнул ногой и вскричал со слезами на глазах: «Подумать только, я француз — и никогда не видел Тальма!»
Рассказывают, что, не успел принц Луи объявиться в Страсбурге, как, охмеленный первым успехом, послал к своей матери гонца с вестью о том, что Страсбургом он уже овладел и теперь идет на Париж; три дня спустя, сидя в тюрьме, он получил ответ от герцогини де Сен-Лё; та, полагая, что он одержал победу, заклинала его оберегать королевскую фамилию от мести своих сторонников и обходиться с королем так почтительно, как того требует его сан. Вот как сильна власть иллюзий над людьми, живущими вдали от родины, и как сильно заблуждаются все они, включая принцев-изгнанников.
Самые ревностные бонапартисты приняли известие об экспедиции принца Луи с возмущением. «Наш законный император, — гордо восклицали они, — это Жозеф[150]». Слово законный применительно к любому из Бонапартов звучит прелестно! Эти люди, вероятно, не знают, что Наполеон не был королем! он был героем. Сын героя может ему наследовать, ибо на него переходит часть отцовской славы, однако до племянников лучи этой славы не досягают. Герцога Рейхштадтского законным наследником престола делало не право, а власть воспоминаний. Увы, власть эта умерла вместе с ним, и родственникам ее не воскресить. Слава не приносит процентов; нет нотариуса, который бы взялся составлять опись лавровых венков. Орел рождает орлят, но не заводит родственников по боковой линии.
А вот грандиозная новость, о которой никто еще не слыхал! великолепный сюрприз к новому году! Художники, возрадуйтесь; бравые ветераны, подкрутите усы; кучера «гондол», «кукушек» и «торопыг»[151], «Парижанок» и «Горожанок», «Сильфид», «Зефирин» и «Аталант», «Бдительных» и «Предупредительных»[152], готовьте кнуты, окрики и овес; дорога хороша, а проделать ее вам предстоит не однажды! Благородные чужестранцы, прежде стремившиеся побывать только в Париже, возрадуйтесь и вы, теперь у нас целых две столицы! Город Людовика XIV скоро вновь обретет прежнее величие; король делает французам к новому году роскошный подарок! Он преподносит им прекрасный кипсек[153], каждая страница которого льстит их тщеславию! богатый альбом, в котором каждый рисунок изображает одну из наших побед! Так угодить подданным может только тот, кто превосходно знает свою страну и ее гордыню!
Да здравствуют нынешние короли, умеющие льстить! Грандиозная новость, которую мы имели вам сообщить, заключается вот в чем:
1 ЯНВАРЯ 1837 ГОДА БУДЕТ ОТКРЫТ ВЕРСАЛЬСКИЙ МУЗЕЙ[154].
24 ноября 1836 г.
Карл X[155]. — Он хотел царствовать, потому что был королем. — Двор траура не надел
Когда молния поражает пальму, растущую среди пустыни, все племя оплакивает утрату; каждый горюет о том, что любил, каждый приносит погибшей дань воспоминаний; сожаления эти единодушны, но каждый вкладывает в них свой собственный смысл; один восклицает: «То была наша гордость!», другой говорит: «Мы укрывались в ее тени!», третий прибавляет: «Из-под ее корней выбивался источник!», четвертый вспоминает: «Она указывала дорогу заблудившимся путникам!» Каждый, таким образом, приискивает своей печали уважительную причину, и только малые дети, не в силах оценить серьезность потери, не понимая, что стряслось, ищут на бесплодном песке вкусные финики — и ничего не находят. Точно так же сегодня, когда все политические партии, оспаривающие право руководствовать Францией, толкуют о смерти Карла X лишь ради того, чтобы оплакать свои несбывшиеся надежды или подсчитать свои возможные выгоды, мы, вскормленные элегантностью и гармонией, наскучившие депутатскими распрями и засыпающие от разговоров о политике, мы, ни на что не притязая и слушаясь лишь голоса собственного сердца, оплакиваем короля старой Франции, Франции рыцарской, блистательной и поэтической, Франции благороднорожденной, одним словом, той Франции, которой уж нет; и так же как дети, не желающие знать, чем именно была полезна рухнувшая пальма — высоким стволом или густой листвой, мы горюем прежде всего об утрате плодов; сколько ни ищи в буржуазной Франции ту придворную учтивость, ту царственную стать, ту величественную доброжелательность, которыми одаряло нас древо монархии, поиски окажутся тщетны.
Нас уверяют, что на смену хорошим манерам пришли добрые дела, и это очень кстати. Нашим нравам король-гражданин пристал больше, нежели король-джентльмен. Государственный корабль больше никогда не будет великолепным парусником, бороздящим морскую гладь по прихоти ветров; отныне это тяжелый пароход, груженный углем и картошкой, отплывающий точно по расписанию и с такою же точностью прибывающий в порт назначения. Он уже никогда не скажет, как Агамемнон:
И войско крепко спит, и ветры, и Нептун![156]Что ему Нептун? пока горит уголь и жарится картошка, он идет: именно так, ибо отныне о государственном корабле уже нельзя сказать, что он плывет. Разумеется, это гораздо лучше для пассажиров, да и вообще для всех, а особенно для вас, тех, чья жизнь состоит из мелких депутатских поправок и длинных министерских отчетов, тех, кто способен месяцы напролет обсуждать законы о табаке и сахарной свекле; но мы, ценящие лишь искусства и наслаждения, мы сожалеем об этом прекрасном корабле и о старом монархе ушедших времен, ибо он уносит с собой наши воспоминания, ибо никто не умел так милостиво говорить добрые слова и так кстати делать щедрые подарки, ибо он был король до мозга костей — что в его положении уже немало, — ибо, наконец, он, как говорят в театре, хранил традицию, а теперь эта традиция покидает нас вместе с ним.
Теперь, когда Карл X скончался, ему начинают отдавать справедливость; начинают сознавать, что ошибки, за которые он был столь сурово наказан, были лишь продолжением его достоинств[157]; к несчастью, достоинства эти принадлежали ушедшей эпохе; именно в этом и заключалось преступление покойного короля; ибо, как ни прискорбно, приходится признать: есть мода на платье, и есть мода на добродетели, из чего кто-то, пожалуй, сделает вывод, что и добродетели суть не что иное, как украшения. Иные добродетели устарели настолько, что могут повредить человеку светскому; некогда твердость слыла добродетелью королей, сегодня ее именуют королевским произволом; некогда милосердие казалось прекрасным в любых обстоятельствах, сегодня в нем видят политическую ошибку, и самый ничтожный из министров не прощает королю, дерзнувшему помиловать преступника без согласия кабинета. Некогда люди отличали добро от зла по наитию, сегодня они тратят на изучение этого вопроса целую жизнь, да и то благородным душам случается допускать ошибки. Карл X был слишком стар, чтобы отказаться от своих убеждений и запастись новыми верованиями. В нас он видел не просвещенный народ, отстаивающий свои права, а мятежных подданных, которых следует наказать за дерзость. Как быть? он питал иллюзии относительно своих «верных подданных», королевские предрассудки не позволяли ему понять, что такое законные мятежи палат; одним словом, он хотел править просто потому, что был королем. Вот почему он умер так же, как и жил, — в изгнании. О! какое это грустное зрелище — короли, которых изгоняют, казнят, убивают оттого, что они и народ говорили на разных языках. Прежде государь отправлял подданного, который его прогневил, в Бастилию; сегодня народ отправляет государя, который ему не потрафил, в изгнание. Изгнание стало Бастилией для королей.
Одна из газет, стремящаяся быть резкой, но остающаяся всего-навсего чувствительной, опубликовала в последнем номере письмо или, скорее, статью, подписанную МАРИЯ-КАРОЛИНА, которую мы прочли с величайшим изумлением; в самом деле, мы не можем взять в толк, какое влияние может иметь сегодня на легитимистскую партию княгиня Луккези-Палли[158]. По нашему мнению, с тех пор как госпожа герцогиня Беррийская вышла замуж, ее политическая роль совершенно переменилась. В МАРИИ-КАРОЛИНЕ, вдове французского принца, зарезанного на наших глазах, мы видели французскую изгнанницу, до сих пор покрытую благородной кровью своего супруга, и несчастья ее вызывали в нас самое благоговейное сочувствие; в МАРИИ-КАРОЛИНЕ, супруге господина Луккези-Палли, видим мы всего лишь чужеземную принцессу, счастливую новобрачную, чьей отвагой и героизмом мы по-прежнему восхищаемся, но чья судьба не может более нас занимать. По нашему мнению, хотя герцог Бордоский обязан по-прежнему питать к Марии-Каролине сыновнюю любовь, своей политической матерью он должен отныне почитать герцогиню Ангулемскую, чей характер есть священный залог постоянства[159]: того, чего иные надеются достичь с помощью гражданской войны, госпожа супруга дофина великодушно ожидает от Провидения; в бедствиях своих она никогда не забывала, что она дочь короля Франции; мы поступим так же, как она, мы никогда этого не забудем.
Двор не надел траура, что кажется нам довольно странным. Легитимисты будут носить траур полгода: одни потому, что в самом деле горюют об утрате; другие — потому, что руководствуются соображениями политическими и желанием напомнить о себе; третьи — потому, что радуются возможности не тратиться на новое платье. Что же до людей независимых, которые слишком умны, чтобы слепо следовать за какой бы то ни было партией, людей, которые не бывают при дворе, потому что не любят кланяться, которые окружают себя сторонниками всех убеждений, потому что ценят ум в любых его проявлениях, они, чтобы не оскорблять ничьих чувств, не облачаются в траур, но одеваются в черное. В чем же разница? спросите вы. Разница очень большая, и мы сейчас это докажем. Разница эта точно такая же, как между крепом и атласом, между глубоким горем и светлой печалью, между страданием напоказ и деликатным уважением приличий[160]. На наш взгляд, дама, которая сегодня, не имея на то особых причин, станет носить полный траур по Карлу X, ничем не отличается от дамы, которая в 1830 году украшала себя трехцветными лентами; мы вообще убеждены, что тряпки вне политики.
1 декабря 1836 г.
О чем говорят в свете. — Честолюбивые барышни.
— Нынче Юния вышла бы за Нерона, а Виргиния — за господина де Лабурдонне
[…] Сегодня много говорят — причем весьма неодобрительно — о забавной причине, на которую ссылаются люди из правительства, когда их спрашивают, отчего королевская фамилия не носит траура по Карлу X. Причина эта — сугубо политического свойства. Вы еще не поняли? Правительство боится прогневить буржуазию. Буржуазии, утверждают эти господа, может не понравиться такая уступка монархическим идеям. Между тем буржуазия носит траур по своим родственникам, так что, если вы в угоду ей нарушите приличия, эта странная лесть оставит ее равнодушной. Что бы вы сказали о человеке, который не стал бы носить траур по своему дядюшке, потому что дядюшка этот перед смертью лишил его наследства? Так вот, если приличия требуют носить траур по родственникам, не оставившим нам наследства, тем больше у нас оснований облачиться в траурное платье после смерти тех, чье наследство мы получили еще при их жизни. Страх не угодить ничуть не благороднее всех прочих; да и вообще страх, как нам кажется, слишком давно служит правительству оправданием многих его действий. Предлог поднадоел; нельзя ли выдумать новый?
Король по-прежнему внимательно наблюдает за работами в Версальском музее[161]. Он по многу часов прогуливается по длинным галереям, и господа из его свиты, не разделяющие королевского энтузиазма, подчас падают с ног от усталости. После захода солнца прогулки продолжаются при свете факелов; за королем неотступно следуют бродячие канделябры, иначе говоря, подносы со свечами, каждый из которых снабжен длинной ручкой и ливрейным лакеем; если король останавливается перед каким-то полотном, канделябры окружают его со всех сторон. Эти странствующие кариатиды, эта мерцающая процессия сообщают галереям дворца, и без того восхитительным, волшебную прелесть. Версальский музей будет одним из чудес света.
Новый роман Поля де Кока носит название «Зизина»: это имя вселяет в нас самые добрые предчувствия. Репутация Поля де Кока упрочивается с каждым днем, несмотря на презрение, которое питают к нему наши чересчур взыскательные авторы. Мы, со своей стороны, полагаем, что можно выказывать превосходный талант, даже работая в заурядном жанре, и предпочитаем хорошее полотно Тенирса дурному подражанию Миньяру[162]. Мы предпочитаем гризетку, которая чисто говорит на своем языке, княгине, которая на сцене «Драматической гимназии»[163] изъясняется, как прачка. Наконец, мы предпочитаем узкий круг, изображенный правдиво, большому свету, выдуманному нашими модными авторами, и объявляем им со всей откровенностью: для того чтобы изобразить хорошее общество, у них не хватает фантазии.
Жюль Жанен сочинил очень забавную статью о новой драме господ Ансело и Поля Фуше, представленной недавно на сцене «Водевиля»[164]. Ответственность за: 1) комедию госпожи Ансело; г) драму господина Ансело; 3) влюбленность всех сорокалетних женщин — господин Жанен возлагает на господина де Бальзака. Господин Жанен судит слишком сурово. Если верить ему, сорокалетнюю женщину открыл нам не кто иной, как господин де Бальзак; господин Жанен называет его Христофором Колумбом сорокалетней женщины[165]. «Женщина тридцати-сорока лет, — пишет Жюль Жанен, — слыла в прошлом неподвластной страстям, а следовательно, не существовала ни для романа, ни для драмы; сегодня же, благодаря этим триумфальным открытиям, сорокалетняя женщина царит в романе и драме полноправно и единолично. На сей раз Новый свет одержал полную победу над Старым, сорокалетняя женщина вытеснила из литературы шестнадцатилетнюю барышню. — Кто там? — грубым голосом осведомляется драма. — Кто там? — нежным голоском спрашивает роман. — Это я, — отвечает шестнадцатилетняя краса с жемчужными зубками и белоснежной кожей, с прелестным овалом лица, чарующей улыбкой и кротким взором. — Это я! Я ровесница Расиновой Юнии, Шекспировой Дездемоны, Мольеровой Агнесы, Вольтеровой Заиры, ровесница Манон Леско аббата Прево и Виргинии Бернардена де Сен-Пьера. Это я! я ровесница всех юных и невинных героинь Ариосто и Лесажа, лорда Байрона и Вальтера Скотта. Это я — юность, недолговечная, но полная надежд и без страха глядящая в будущее! Я — ровесница Цимодоцеи и Атала, Эвхарис и Хименьр[166]! Я нахожусь в том возрасте, какому пристали все целомудренные желания и все благородные инстинкты, в возрасте нежности и невинности. Дайте мне приют, господа! — Так обращается шестнадцатилетняя краса к романистам и драматургам, а вот как они ей отвечают: Мы, дитя мое, заняты вашей матушкой; зайдите к нам лет через двадцать, мы посмотрим, что можно для вас сделать».
Ах боже мой, да разве господин де Бальзак виноват в том, что нынче возрастом любви считается возраст тридцатилетний? Господин де Бальзак вынужден брать любовь там, где он ее находит; между тем где-где, а в шестнадцатилетнем сердце ее сегодня не сыщешь. Прежде барышня позволяла себя увезти; повинуясь зову мушкетера, она взбиралась по приставной лестнице и сбегала из монастыря; поэтому тогдашние романы полны монастырей и мушкетеров, приставных лестниц и увезенных девиц. Юлия полюбила Сен-Прё в восемнадцать лет; в двадцать два она по воле родителей вышла за господина де Вольмара: такая тогда была эпоха[167]. В ту пору сердце пробуждалось в шестнадцать лет; сегодня оно подает голос куда позже. Сегодня Юлия, тщеславная и суетная, по доброй воле выходит в восемнадцать лет за господина де Вольмара, а в двадцать пять, разочаровавшись в обольщениях тщеславия, убегает с Сен-Прё — по любви. В наши дни смолоду сердца исполнены гордыни. Девушка согласна выйти только за такого жениха, который обеспечит ей положение в свете, большое состояние, хороший дом. Жених, который не имеет за душой ничего, кроме надежд, будет отвергнут; ему предпочтут старика, у которого все надежды давно сбылись. Вы ссылаетесь на старинных авторов: они изображали свое время. Позвольте же господину де Бальзаку изображать наше. Вы упомянули Расинову Юнию? — Нынче она недолго думая согласилась бы на предложение Нерона и стала императрицей. — Манон Леско? — Она только что променяла Де Грие на старого маршала Франции. — Виргиния? — И эта чистая душа, живи она в наши дни, оставила бы Поля и вышла за господина де Лабурдонне[168]. — Атала? — Даже Атала предпочла бы красавцу Шактасу старого отца Обри, не принеси он обета бедности. — Да что там, взгляните на всех тех страстных женщин, которые в наши дни являются предметом пересудов: все они начали с брака по расчету; все пожелали сделаться богатыми, получить титул графини, маркизы или герцогини, а уж потом стать любимыми. Только убедившись, что тщеславие есть не более чем суета сует, они решились отдаться любви; есть даже такие, которые со временем простодушно признали прежнюю ошибку и в двадцать восемь или тридцать лет влюбились без памяти в того безвестного молодого человека, которого отвергли в семнадцать. Итак, господин де Бальзак совершенно прав, когда берет страсть там, где ее находит, и описывает, невзирая на возраст дамы. Прав и господин Жанен, когда утверждает, что это очень скучно; однако если это скучно для читателей, то каково же приходится влюбленным молодым людям, вынужденным восклицать в порыве страсти: «О, как я ее люблю! О, как она, должно быть, была хороша!»
15 декабря 1836 г.
«Парижский вестник». — Двор Тюильри. — Политические салоны
Знаете ли вы, что сочинять «Парижский вестник» может только человек, у которого очень мало честолюбия? Настоящий автор за это дело не возьмется ни в коем случае; двое уже отказались: не все обладают нашей беспечностью, а те, кто дорожат репутацией людей остроумных, не спешат поставить эту репутацию в зависимость от прихотей типографского справщика. Люди желают видеть свою подпись под теми словами, которые они придумали и написали, но никто не хочет отвечать за то, что написал другой человек, и притом вовсе не думая. «Парижский вестник» обречен кишеть опечатками; лишь этой ценой он может остаться живым и злободневным; «Вестник», выходящий в четверг, следует сочинять не раньше чем в среду вечером, а значит, набран и отпечатан он должен быть в полночь; если верить поварам, заяц любит, чтобы кожу с него сдирали, пока он еще жив; между прочим, вверять свои корректурные листы справщику, который, скорее всего, падает с ног от усталости и отправит в печать те строки, которые сейчас у вас перед глазами, даже не заметив, что они направлены против него, — точно то же самое, что дать содрать с тебя кожу, пока ты еще жив. Однако иначе поступить невозможно. Нам случалось сочинить наш «Вестник» в воскресенье — и в среду бросить его в камин, ибо за три дня болтовня успевала устареть: а ведь она хороша только в свежем виде. Вот почему мы вынуждены положиться на волю типографского случая, точно так же как художники, расписывающие фарфор, полагаются на волю случая печного; в конце концов мы, как и они, свыкнемся с опасностями и научимся заранее их предвидеть; художники знают, что, если синий цвет передержать в печи, он становится зеленым, а пережаренный красный превращается в коричневый; вот так и мы научимся предвидеть возможные искажения, грозящие нашим мыслям, или, что было бы гораздо умнее, приучим читателя считать все, что ему не понравится в нашем слоге, не более чем опечатками. Покамест же мы лишь предупредим, что в фельетоне, опубликованном в прошлый четверг, господин де Кюстин вел речь не о «хорошем нюхе», что звучит вовсе не элегантно, но о «хорошем вкусе», и что он написал «мой дядя господин де Сабран», а не «мой дядя граф де Сабран»[169]. Только выскочки не опускают титулов, обращаясь к людям своего круга. Это письмо мы сочиняем, прекрасно сознавая, на что идем; увы! положение наше хуже, чем у того множества людей, которые не знают, что говорят: мы не знаем даже того, что уже сказали[170].
[…] Нынешний двор упрекают в чрезмерной любви к иностранцам: любовь эта, кажется, возрастает с каждым днем. Для того чтобы быть обласканным при нашем дворе, не нужны ни великие заслуги, ни славная репутация, ни даже громкое французское имя; нужен только иностранный акцент; особенно приветствуется акцент английский — это талисман, чудом открывающий все двери во дворце Тюильри. Всем известно, что нет пророка в своем отечестве; однако нельзя не заметить, что иностранцы в Париже становятся пророками очень быстро. Гостеприимный прием — награда, которую следует вручать избранным, а не раздавать первым встречным; прислуживать надобно тем, в ком нуждаешься, а мы не нуждаемся ни в ком. Лорд*** как-то сказал: «Нынче я обедал в Тюильри; там был большой обед для иностранцев». Несколько дней назад он опять сказал: «Нынче я опять обедал в Тюильри: там снова был большой обед для иностранцев». Тут все кругом засмеялись, и пришлось объяснить лорду, отчего они смеются, пришлось сообщить ему, что всякий раз, когда король устраивает большой обед, это оказывается большой обед для иностранцев, а из французов туда приглашают только тех, кого решительно невозможно не пригласить. В результате королевский стол более всего напоминает табльдот. Иностранцев оказанная им честь не радует; они приезжают к нам не для того, чтобы общаться друг с другом; они рассчитывают встретить во дворце представителей наших древних и славных родов, наших красавиц и наших гениев, наших государственных мужей и наших знаменитых художников, одним словом, всех, кто делает честь нашей стране, всех, кем может гордится король, — а вместо этого их взору предстают привычные лица тех путешественников, которые давно примелькались им во всех уголках Европы. Тот, кто думает пленить иностранцев таким образом, сильно заблуждается; распространяя милости нашего двора только на приезжих, наши власти желают внушить им лестное представление о нашем гостеприимстве, внушают же мысль совсем иного рода: а именно ту, что великие люди, которых король почел бы за счастье принять при дворе, не почитают за счастье туда являться. По нашему мнению, не стоит тратить столько денег на то, чтобы внушать представления совершенно ложные.
Свет постепенно оправляется от траура; легитимисты уже положили предел своему горю: горевать они будут до января включительно. С первых дней февраля самые прославленные салоны откроют свои двери, а до тех пор для дам, хранящих верность старому двору, единственным дозволенным развлечением останутся посольские рауты. Женщины с другого берега Леты… то есть, простите, с другого берега Сены съезжаются по вторникам к бывшему главе кабинета, чей нарядный особняк служит местом сбора для всех отважных, оппозиционных и утонченных представителей «золотой середины»[171]. И что же вы думаете? трудно поверить, но таковых немало. По правде говоря, господину Тьеру суждено такое большое будущее, что люди могут хранить ему верность, ничем не рискуя. Единственное, что ему вредит, — это его политическое окружение. Господин Тьер достоин иметь лучших льстецов. Послушайтесь нас, господин Тьер, остерегайтесь мелочных умов, мелочных советов и мелочных дрязг! От глаз того, кто спустился в долину, самый крошечный кустик может скрыть гору, зато между самыми высокими деревьями всегда виднеется небо.
После салона господина Тьера следует назвать еще два парижских политических салона: один принадлежит графине де Флао[172], другой — княгине Ливен[173]. Госпожа де Флао избрала политическую карьеру, потому что сочла ее наиболее подходящей для себя; она поступила так не по призванию, а вследствие обдуманного решения. Вообще у англичанок самые малозначащие поступки всегда суть плоды обдуманного решения. Англичанкам неведомы беспечность или горячность, какие часто толкают француженок на деяния самые опрометчивые; они никогда ничего не делают наобум; у них все — манера ходить и говорить, любить и молиться — продумано заранее. Они не сгорают от желания, а высказывают пожелания; они не прогуливаются, а идут, потому что решили идти; они идут прямо… неведомо зачем; они пускаются в путь, чтобы прибыть… неведомо куда. Неважно; раз решение принято, оно должно быть исполнено, и каждым шагом англичанка, кажется, говорит: я иду в правильном направлении и ни за что от него не отклонюсь. Англичанки повинуются своим собственным законам; у каждой есть внутренний судья, который без промедления выносит приговоры, не подлежащие обжалованию. В англичанках не бывает ничего невольного; в них все обличает сознательный выбор и предварительную подготовку, словно перед дальней дорогой; ко всякому делу они приступают. Быть может, это связано с тем, что они живут на острове, откуда нельзя выехать случайно, по рассеянности, который можно покинуть только вследствие твердой решимости и острой необходимости отправиться на континент. Решимости этой недостает изящества, когда она тратится на повседневные мелочи, однако в серьезных обстоятельствах она дорогого стоит. Госпожа де Флао наделена высоким умом и незаурядными способностями; если бывают женщины-авторы, то госпожу де Флао следует назвать женщиной-администратором. Влияние ее очевидно, ощутительно и осознанно; его источник — в деятельности; бездеятельность тотчас положила бы ему конец.
Влияние княгини Ливен более существенно, быть может потому, что менее откровенно. Госпожа Ливен обладает спокойствием, какое даруется могуществом, уверенностью, какую дает сознание собственных прав, терпением, какое сообщает сильная воля и каким могут похвастать люди, которые умеют ждать, потому что умеют предвидеть. Она никогда не суетится, не плетет интриг, не страдает ничем, хотя бы отдаленно напоминающим политический педантизм; она планета, у которой есть спутники, ибо дело планеты — быть окруженной спутниками, однако сама она не делает никаких попыток их привлечь. Из всех светских дам госпожа Ливен лучше всех умеет завести беседу, причем делает она это совершенно естественно, не выказывая никаких исключительных познаний. Если она начинает говорить, то не для того, чтобы навязать вам свои убеждения, но для того, чтобы вы могли выразить ваши. На наш взгляд, по салону госпожи Ливен можно судить о том, чем становится политика в обществе высокоцивилизованном: это политика элегантная, простая и холодная, более напоминающая салонную беседу, нежели клубную болтовню; это нейтральная почва, где все идеи представлены в равной мере, где прошедшее растворяется в будущем, где старые системы еще пользуются уважением, а новые мысли уже находят понимание; это приют для тех, кто сделался не нужен, прибежище для тех, кто слывет опасным. Госпожа Ливен избрала единственную политическую роль, какая пристала женщине: она не действует, она вдохновляет тех, кто действует; она не вершит политику, она позволяет, чтобы политика вершилась с ее помощью, и если уж каждому на роду написано рано или поздно произнести эту фразу, произнесем ее и мы: в своем салоне она царствует, но не правит[174].
Приносим вам тысячи извинений, сударыни, за то, что осмелились говорить о вас; но отчасти вы сами тому виной. Те женщины, которые довольствуются семейственными удовольствиями и супружескими ссорами, вправе оставаться в безвестности, и мы это право уважаем; но вы — другое дело; вы вмешиваетесь в ссоры европейских держав, а значит, не подлежите общим законам. Вы пошли на все, чтобы стать влиятельными, а значит, дали нам право об этой влиятельности возвестить.
29 декабря 1836 г.
Вечные покушения. — Париж в снегу. — Пироги и канапе
Ах боже мой! что у нас за страна!.. Право, во Франции стало страшно жить; ни единого дня покоя, ни единого часа, когда можно было бы всласть посмеяться; мы обречены бояться и возмущаться, сострадать и проклинать; каждые полгода то покушение, то казнь — право, это скучно. Последние два дня со всех сторон слышны только две фразы: мужчины восклицают «Какой стыд!», а женщины — «Бедная королева!»[175]. О жалкая страна, где народ жалеет королевскую власть.
Париж в снегу — зрелище фантастическое. Молчаливый Париж!.. — да разве это не сон? Кареты катятся бесшумно; прохожие идут и даже падают беззвучно. Если бы не крики торговцев, можно было бы подумать, что мы все оглохли. Улицы обрели странный вид; в городе не осталось никого, кто за день не упал бы несколько раз или не помог подняться другим жертвам гололеда. Вчера на скользкой мостовой равновесие потеряли две лошади, запряженные в фиакр; кучер тотчас слез с козел, чтобы заставить их встать, и тоже поскользнулся; тогда пассажир фиакра, выглянув в окошко и увидев лошадей и кучера лежащими на снегу, решил, что поднимутся они еще не скоро, и, будучи истинным философом, уселся поудобнее и задремал; возможно, он до сих пор коротает время в этом экипаже. В Риме, когда идет снег, лавки запираются, конторы закрываются, дела стопорятся, а горожане укладываются спать. В Париже, даже если на улице мороз, все продолжают расхаживать по улицам как ни в чем не бывало; у женщин глаза становятся красными, а щеки фиолетовыми; неважно, они наряжаются и отправляются с визитами точно так же, как в те дни, когда имеют самый соблазнительный вид. Да и как можно оставаться дома? ведь скоро Новый год, нужно покупать подарки; долг зовет нас в лавки Лесажа, Жиру и Сюсса[176]; все мы отправляемся за дешевыми безделушками, которые велит покупать разум, и при этом с сожалением смотрим на все то, что нам действительно нравится и что разум покупать не велит.
Те бульварные зеваки, что на прошлой неделе любовались желтой почтовой каретой, запряженной белыми лошадьми, которая доставила в столицу очередного депутата, нынче с восторгом созерцают внезапное явление саней. Сани едут по бульварам, а зеваки, воображая, будто попали в Россию, мерзнут еще сильнее; они старательно поднимают воротник, надвигают на глаза шляпу и прячут нос в шарф, так что от лица остаются одни глаза. Вчера несколько человек попались нам навстречу в этом странном виде и поздоровались; приносим тысячу извинений всем, кого мы не узнали; ведь среди них могли быть наши лучшие друзья.
Самое странное в нынешней уличной атмосфере — смесь возбуждения и тишины. Все движутся очень быстро, в надежде согреться, и у каждого в руках какой-нибудь пакет: один несет картонного осла, чьи нескромные уши проткнули оберточную бумагу; другой с самым серьезным видом тащит огромную деревянную лошадь; третий прижимает к груди куклу, четвертый — собаку или барашка, все спешат и толкают встречных прохожих; можно подумать, что тот, кому предназначена игрушка, не проживет без нее и часа. Лавки полны народу, у Сюсса не протолкнуться. Стоит вам заинтересоваться какой-либо безделушкой, как выясняется, что она уже продана. Взамен вам любезно предлагают нечто уродливое и отвратительное, от которого отказались все предыдущие покупатели, и вы торопливо платите за вещь, которая вам не нравится, лишь бы поскорее выбраться из этой толпы, где вы на беду уже увидели множество знакомых; между тем выбор новогодних подарков — дело тонкое, и предаваться ему лучше в одиночестве, без нескромных свидетелей, которые не преминут сообщить даме, получившей от вас в подарок чернильницу или альбом: «Как же, как же! Он при мне покупал их у Жиру; отдал 75 франков».
Пироги больше не в моде; старые пока никто не выбрасывает, но новых уже не заказывают. Пирог, о котором мы ведем речь, — не страсбургский, не тулузский и не шартрский[177] (их славу смело можно назвать вечной), нет, наш пирог — это четыре дивана с общей спинкой, которые нынче можно увидеть в любой англоманской гостиной. Такой пирог— нечто вроде кадрили, где восемь танцоров сидят друг к другу спиной. Как бы фешенебельны ни были пироги, мы ничуть не жалеем о их закате. Не было ничего менее удобного для общения: всякое слово, которое вы обращали к соседу справа, было прекрасно слышно соседу слева, тем не менее общий разговор был решительно невозможен: ибо как можно разговаривать, не видя друг друга! Вы ни на минуту не оставались в одиночестве, но ни на минуту не ощущали себя в обществе; зачастую ответ на свою фразу вы получали отнюдь не от того, кому она была адресована, а если вам приходило на ум обратиться к тому, кто сидит к вам спиной, вы были вынуждены принимать позы совсем не изысканные и выставлять ваши изящные формы напоказ без всякого стеснения; одним словом, нравственность только выиграет от забвения «пирогов». Тем более что на смену им пришли канапе с ажурной спинкой! Что может быть прелестнее такого канапе, помещенного посередине гостиной! Вести беседу становится так легко: можно шептаться с соседом, можно поддерживать общую беседу, а при желании можно заняться и тем и другим одновременно.
Огюст Пюжен. Улица Риволи.
Вообразите себе эту пленительную картину: две дамы сидят на канапе, другие устроились напротив них в креслах; позади канапе расположились двое молодых людей на легких стульях; ажурная спинка канапе так невысока, что вовсе не отгораживает кавалеров от дам; стоит, однако, им завести разговор между собой, как они обретают полную независимость; беседа легкокрылой бабочкой невзначай опускается на канапе, проводит там несколько минут и отправляется далее — к тем, кого ей еще только предстоит пленить. В гостиной, где есть канапе с ажурной спинкой, вам не грозит скука; здесь люди сближаются с величайшей легкостью; здесь они встречаются, не показывая виду, что искали друг друга; здесь все происходит само собой; здесь вы самым непринужденным образом кланяетесь женщине, с которой давеча порвали навсегда; вы говорите с нею, несмотря на все гордые клятвы, данные самому себе накануне, ибо она здесь, перед вами, и вам нет нужды пробиваться к ней через толпу. В салоне, обставленном разумно, примирения между любящими не заставляют себя ждать. Напротив, в салонах, где гости стеснены в передвижениях, влюбленные обречены вечно оставаться в ссоре, так что тем, кто дуется друг на друга, внутренний голос подсказывает в такие салоны не ездить. Ведь там невозможно подойти к предмету своей симпатии, не уронив собственного достоинства, а между тем какое же кокетство без достоинства! Гостиная, где мебель расставлена неуклюже, способна навсегда погубить будущность существа чувствительного. Недостаток пирогов состоял именно в том, что они затрудняли передвижение; ведь мы, французы, бросаемся подражать другим бездумно и бессмысленно: мы v-видели пироги в английском посольстве, где залы громадны и где, следственно, никакого неудобства от пирогов произойти не могло, — и вот уже мы водружаем их в наши тесные гостиные, которые становятся от этого еще теснее. Мы пришли в восторг от дюнкерочек[178], украшающих салоны госпожи де Р… или госпожи де Д…, каждая из которых обитает в роскошном особняке и может с легкостью позволить себе отвести под изящные статуэтки и экзотические вазы две или три комнаты, — и вот уже мы загромождаем безделушками нашу единственную крохотную гостиную; вот уже мы заставляем все столы бесполезным фарфором, так что положить одну-единственную книгу становится решительно некуда; если вы приглашены на обед, не надейтесь, что вам удастся пристроить куда-нибудь свою шляпу; если вы захотели выпить чашку чаю или стакан воды, вам придется держать их в руке до тех пор, пока мимо не прошествует слуга с подносом. В разговоре остерегайтесь выразительных жестов — иначе вы рискуете опрокинуть на голову собеседника китайскую вазу, а тот может ненароком ответить вам взаимностью с помощью саксонского чайника. Я уж не говорю о том, что в не слишком богатых домах все эти произведения искусства покрыты пылью; один-единственный Батист не успевает их вытирать: ведь Батисту надобно успеть присмотреть за лошадью и кабриолетом, за лампами и серебром. Поэтому Батист ненавидит дюнкерочки. Батист именует их рассадниками пыли, и он совершенно прав. Когда же мы научимся подражать с умом? Когда наконец догадаемся, что обычай, который делает честь одному, другого способен лишь выставить в смешном свете? что если для богача жизнь в роскоши — долг и обязанность, то для человека с малым достатком такая жизнь есть поведение антиобщественное? Впрочем, чтобы все это понять, потребен здравый смысл, а мы во Франции притязаем лишь на остроумие. […]
1837
5 января 1837 г.
Первый день нового года. — Выборы господина Минье
Мы, французы, обладаем удивительным, редкостным, только нам свойственным умением превращать любое дело, которое обещало доставить нам удовольствие, в пытку; всему виной наше жалкое тщеславие: из-за него великодушный дар кажется нам тяжкой податью, а нежная забота — докучной обязанностью; нет ни единого разумного установления, которое мы бы не извратили чудовищными злоупотреблениями. Вот пример: есть ли в году день более долгий, более мучительный и менее желанный, чем первый день нового года… жалкий день, когда любезнейшая из женщин является вам в облике кредитора, когда ваши собственные слуги преследуют вас не хуже судебных исполнителей, когда за каждое доброе пожелание приходится платить, когда каждый поцелуй стоит денег; день подневольного труда, день печали и тревоги, хуже которого не бывает, — и все потому, что вы сами испортили его глупыми обычаями; потому что вы вообразили, будто в этот день нельзя обойтись без роскошных подарков; потому что вас охватило безумное желание раз в год оповещать всех о размерах вашего состояния и о глубине ваших чувств; потому что вы принудили людей выполнять по обязанности то, что они должны были бы делать из каприза, и не позволили первому дню нового года стать счастливейшим из всех! А ведь к этому располагало многое: обычай обмениваться пожеланиями в начале нового года прелестен; суеверное желание друга начать год в вашем обществе исполнено нежности. А малые дети, которые считают время до следующих новогодних конфет; которые определяют, что стали на год старше, по новогодним игрушкам, а по изменению набора этих игрушек догадываются, что повзрослели; которые, видя, что марионетка сменилась книгой, что кукольный дом уступил место парте, а парта — футляру со счетными принадлежностями, сознают, что детство кончилось, — разве эти дети не очаровательны? В юном возрасте год — это очень много; в этом возрасте время учит, а усвоенные уроки определяют судьбу; нужно научить ребенка понимать, как он распорядился истекшим годом; если хорошо, его следует наградить, если плохо — объяснить, как с большим толком прожить год наступающий. Да, когда речь идет о детях, да здравствуют подарки!.. Для детей это урок, это мысль, это первое волнение, охватывающее юную душу, а также превосходное учебное пособие; за один день они знакомятся с двумя вечными законами: могущественнейшим из законов природы и могущественнейшим из законов общества; имя первого из них — ВРЕМЯ; имя второго — СОБСТВЕННОСТЬ. Смейтесь, сколько хотите, но это правда: в первый день нового года ребенок узнает, что он прожил год и года этого уже не вернуть; он узнает также, что игрушка, полученная им в подарок, принадлежит ему одному, что он может сломать ее безнаказанно, что никто не вправе ее у него забрать, наконец, что он и сам может ее кому-нибудь подарить, а это ли не главное доказательство обладания?
Кстати, о подарках и собственности, вчера нам рассказали историю одного маленького мальчика, который, когда вырастет, сделается либо великим философом, либо чудовищным скрягой. Жюлю де М… недавно исполнилось четыре; в воскресенье он явился поздравить дедушку с новым годом. «Ах, вот и ты! — воскликнул господин Б…, обнимая внука. — Прости, мой хороший, из-за того, что стряслось 27 числа[179], я совсем забыл о тебе; я не купил тебе никакого подарка, но в обиде ты не останешься», — и с этими словами господин Б. протянул мальчику тысячефранковый билет. «Скажите же спасибо дедушке», — приказала мальчику гувернантка. Ребенок оцепенел; на глазах у него выступили слезы. Приятель господина Б., вошедший в комнату как раз в эту минуту, увел маленького Жюля к его матери. «Ну что, Жюль? — спросила госпожа де М… — ты доволен? дедушка приготовил тебе хороший новогодний подарок?» Жюль залился горючими слезами. «Неужели он тебе ничего не подарил?» — «Подарил…» — «Что же именно?» — «Он мне подарил старую рваную бумажку» — и ребенок с плачем вручил матери тысячефранковый билет. Вот она, философия детства!
Англичане — большие мастера упрощений во всех областях жизни без исключения. Мы, не жалея времени, обращаемся к каждому собеседнику с пространной фразой: «Добрый день, желаю вам счастливого нового года»; меж тем один знакомый нам англичанин замечательно усовершенствовал эту фразу. Уходя, он говорил всем присутствующим: «Добрый год!» — сокращение, ничем не уступающее прочим английским сокращениям; зовут же англичане Ричарда Диком, Уильяма — Биллом.
[…] Главный скандал прошедшей недели — решение, принятое академиками[180]; Виктору Гюго они предпочли господина Минье; заметьте, что скандал вовсе не в принятии господина Минье, но в том, что его предпочли господину Гюго. Если господину Минье это предпочтение льстит, нам его очень жаль. Господин Минье, вне всякого сомнения, не лишен таланта, но Виктор Гюго отмечен гением, и Французской академии следовало бы обратить на это внимание; однако академиков очень мало волнуют заслуги кандидата, их заботят только приличия. Этого кандидата отвергают из-за жены, которая ведет себя чересчур легкомысленно; того — из-за несговорчивого характера; этот раздражает, тот пугает. А как же талант?.. да при чем тут талант!.. А как же успехи?.. — они не в счет; господа академики ценят прежде всего любезность; нового сочлена встречают с распростертыми объятиями, если он знает толк в радостях жизни, умеет веселиться и поддержать беседу. Академия — романическая барышня, слушающаяся только голоса своего сердца. По правде говоря, зрелище это довольно жалкое; неужели, господа, ваша Академия ничем не отличается от клуба и вы вправе бросать черный шар тому, кто вам не по нраву? Неужели вы ничем не отличаетесь от членов «Погребка»[181] и принимаете в свои ряды только веселых сотрапезников? Неужели ваше собрание — просто-напросто общество литераторов? Неужели вы вправе выбирать тех, к кому благоволите и кого осыпаете милостями? Нет, господа, конечно же нет, вы не вправе ни любить, ни ненавидеть. Переступив порог Академии, вы утрачиваете индивидуальные черты. Вы больше не поэты, не историки, не трагические авторы, не ораторы; вас больше не зовут господин Дюпати, господин Скриб, господин де Сальванди или господин Казимир Делавинь. Вы стали членами Французской академии, вы входите в почтенную государственную корпорацию; вам вверена независимая власть — независимая от общественного мнения, от правительства, а главное, независимая от вас самих, от ваших мелких дрязг и жалких интриг, от ваших капризов и ваших слабостей. Не для того вам, господа, платят полторы тысячи франков в год и выдают жетоны по четвергам[182], чтобы вы собирались по-дружески поболтать и обсудить ваши личные дела с приятными собеседниками; не для того вас облачили в мундир, расшитый пальмовыми ветвями, и дали право носить шпагу, чтобы вы беспрепятственно окружили себя несменяемой котерией. Вы, господа, представительствуете за идею, идею великую и прекрасную, и вам не следовало бы терять ее из виду — конечно, в том случае, если вы ее постигли. Академическое кресло есть кресло судьи, а первая обязанность правосудия — беспристрастие; академик, точно так же как и судья, должен забыть свою частную жизнь, отбросить ревность, пожертвовать нежнейшими привязанностями и помышлять об одной лишь литературной справедливости, об одной лишь правде искусства ради него самого. А что может быть справедливее, чем освящение успеха! Что может быть легче, чем согласиться с приговором всеобщего суда, чем призвать избранных! Франция, господа, вовсе не требует от вас, чтобы вы любили друг друга и друг с другом ладили; она требует, чтобы вы чествовали тех, кем восхищается она, чтобы вы увенчивали таланты, которые составляют славу нашего отечества в чужих краях. К чести Франции, в Академии за Виктора Гюго подали голоса Шатобриан и Ламартин: как видите, правосудие нисходит с вершин. Некто заметил по этому поводу: «Если бы голоса взвешивали, Гюго был бы избран; к несчастью, их подсчитывают».
12 января 1837 г.
Полет господина Грина. — Бал в австрийском посольстве.
— Тайный бал в Сен-Жерменском предместье. — Бал Мюзара
Последний полет господина Грина и большой бал в посольстве Австрии — два события, более всего занимавшие парижский свет на прошедшей неделе; не одна причудница[183] насладилась обоими этими развлечениями. Утром присутствовать при взлете воздушного шара, а вечером блистать на одном из прекраснейших празднеств года — вот последнее слово элегантности. Говорят даже, что один из воздушных путешественников, пользующийся большим успехом у женщин благодаря своему умению вальсировать, начал приглашать дам на танец еще до взлета; узнав среди зрительниц красавицу герцогиню де С…, он, говорят, прямо из корзины попросил ее оставить за ним первый вальс, а улетая, напомнил: «Так не забудьте, сударыня, первый вальс за мной!» Вечером храбрец был на балу и вальсировал с таким безмятежным видом, что догадаться о том, чем он занимался утром в лесу Бонди, было решительно невозможно[184].
Другому пассажиру воздушного шара пришла на ум мысль куда менее элегантная — облить зрителей водой в самый миг взлета; впрочем, у князя П… есть оправдание; он недавно побывал близ Ниагарского водопада и не может забыть увиденного. Когда корзина стукнулась о каменную стену, вся толпа испустила вопль ужаса; единодушие их было достойно восхищения; волнение оказалось столь заразительно, что даже те, кто ничего не видели сами, были испуганы не меньше других; впрочем, все успокоились, лишь только увидели, как господин Грин размахивает флагом, а вскоре никто уже не видел ровно ничего. Тогда зрители, расположившиеся на крышах и на заборах, отправились восвояси; начала расходиться и толпа, запрудившая двор Рыбной казармы, откуда взлетел воздушный шар; происходило это не просто медленно, а очень медленно! — нам, например, пришлось дожидаться экипажа не меньше получаса. Солдаты из местной казармы тем временем вернулись на квартиры, один из них в самый момент взлета пришел в величайшее возбуждение. «Глянь-ка, глянь! — закричал он. — Дама в моем окошке! в моей комнате!» Радость так переполняла его, что на это нельзя было смотреть без улыбки. Надо думать, он поспешил на квартиру одним из первых. Но как дурно все это было устроено! сколько грязи во дворе казармы! какое столпотворение при входе, при выходе! сколько красавиц промочили ножки, сколько нежных голосков охрипли, сколько все мы претерпели мук ради этой забавы! Право, так и кажется, что в Париже устроители празднеств вошли в долю с докторами.
Этот полет восьми путешественников привел нам на память первый опыт такого рода — он состоялся в 1784 году в Лионе, и весь город только о нем и толковал, g января Жозеф Монгольфье, принц де Линь, граф де Лорансен, маркиз де Дампьер и господин Ленуар взлетели из квартала Бротто на левом берегу Роны в монгольфьере, наполненном дымом. Воздушный шар — веревочная сетка, изнутри и снаружи оклеенная бумагой, — двадцать дней подряд, в самую скверную погоду, подвергался на глазах у всего города самым разным испытаниям. Наконец шар взлетел; две с лишним сотни тысяч зрителей съехались со всей округи, чтобы присутствовать при этом событии, — ведь в те далекие годы взлет воздушного шара был в новинку. Пассажиров едва не погубило странное происшествие. Девятнадцатилетний юноша по фамилии Фонтен, хороший знакомый семейства Монгольфье, тщетно домогался чести быть включенным в состав воздушных путешественников; господин Жозеф Монгольфье был неумолим. Тогда юноша прибегнул к отчаянной мере, к хитрости немыслимо дерзкой, однако превосходной — ибо она удалась; он примостился на самой высокой точке ограды и, когда шар стал подниматься в воздух и проплыл мимо него, со всего размаху прыгнул в корзину и приземлился там среди пассажиров, немало изумившихся этому новому способу догонять дилижанс; сотрясение было так сильно, что сетка в нескольких местах порвалась. Шар, правда, продолжал подъем, однако дыра с каждой минутой становилась все больше, и путешественники рисковали вот-вот упасть в Рону, над которой летели; воздушный корабль грозил стать водным, и встревоженная толпа следила за ним с ужасом; в ту же секунду, хотя никто не отдавал приказа и вообще не произнес ни слова, лионцы в едином стихийном порыве бросились к лодкам; вся река вмиг покрылась судами, и каждый лодочник, застыв неподвижно, выискивал в небесах того, кого был уже готов выловить из воды. В корзине тем временем воцарилось уныние; присутствие духа сохраняли только Жозеф Монгольфье и юный Фонтен: они стремились раздуть огонь в горелке и поддержать температуру воздуха внутри шара. Когда путешественники достигли того места, где в Рону впадает Сона, сильный порыв ветра швырнул их в направлении болота Жениссьё, куда они и рухнули. Господин де Лорансен вывихнул руку, господин Монгольфье лишился трех зубов, другие пассажиры более или менее сильно ушиблись. Всех их с почетом доставили назад в Лион, и вечером они явились в театре в ложе наместника; приветствовали их с энтузиазмом, доходившим до исступления. Брат господина Монгольфье занимал место в партере; его узнали и тотчас устроили ему своего рода триумфальное вознесение — подняли его на руках и вынудили расположиться в ложе наместника вместе с героями дня. Что, впрочем, не помешало местным шутникам сложить насчет этого происшествия не одну песенку; лионские ткачи помнят кое-какие из них и по сей день, например ту, что рассказывает о любителях полетов, которых их стремление к небесам привело прямиком в болото.
Теперь, покончив с воздушными шарами 1837 и 1784 годов, перейдем к брильянтам на балу в австрийском посольстве[185]; там их блистало великое множество. Крупные брильянты и длинные волосы снова в моде. Нынче дамы надевают все брильянты, какие имеют, — и даже более того; нынче дамы выставляют напоказ свои волосы — и даже чужие[186]. На балу только и было разговоров что о великолепных брильянтах герцогини де С… «Вы видели? — спрашивал один другого. — Она носит на голове миллиона два, не меньше», — после чего оба отправлялись любоваться роскошной диадемой; впрочем, прекрасные глаза и очаровательное лицо герцогини де С… заставляли столпившихся вокруг нее на мгновение позабыть даже о брильянтах.
Париж пляшет, Париж скачет, Париж забавляется без перерыва; он спешит, поскольку начало Великого поста не за горами. Все кварталы охвачены тревогой; вы ведь слышали, что предместье Сент-Оноре скакнуло так высоко, что едва не взлетело на воздух[187]; от газа случается и не такое; впрочем, сейчас это предместье опять пляшет как ни в чем не бывало; начались большие балы. Что же касается Сен-Жерменского предместья, оно не скачет, оно рушится; но и оно тоже вальсирует, ибо сочло возможным в угоду юным особам прервать траур и в нарядах, и в обрядах. В Сен-Жерменском предместье устраивают скромные вечера для немногих и тщательно избегают всего, что хоть как-то напоминает бал; например, здесь не танцуют — не танцуют, но вальсируют; вальс — это более печально и более прилично; это, можно сказать, дело случая. Кто-то, например, садится к роялю и начинает наигрывать вальс просто так, потому что мелодия нравится; тут все приходят в восторг, просят сыграть этот вальс еще раз и восторгаются еще громче; меж тем единственный способ воздать должное вальсу — это начать вальсировать; сказано — сделано, и вот вам контрабандные радости; бала никто не устраивал, приглашений никто не рассылал, матери по-прежнему облачены в траур, ну а если юные девицы надели белые платья и невзначай сделали несколько туров вальса под аккомпанемент господина де Икс или Леона де Б… — что же в этом дурного? Право, что ни говори, а дух партий дышит, где и как хочет.
Что же касается центра Парижа, он не вальсирует и не танцует, не скачет и не рушится; он кружится, мчится, падает, несется, стремится, клубится, валится, наступает, как армия, налетает, как ураган, обрушивается, как лавина, проносится, как самум; ад разверзается, демоны являются погостить на земле; кажется, что Шарантон[188] опустел, а Вечный жид пустился в свое бесконечное странствие; Мазепа мчится, привязанный к спине дикой лошади[189]; Ленора в объятиях мертвого жениха скачет сквозь леса и пустыни и не остановится, пока не умрет[190]; бредовые видения, кошмары, шабаш — все эти чудовищные наслаждения именуются двумя словами: галоп Мюзара[191]. Балы-маскарады на улице Сент-Оноре в нынешнем году пользуются таким же успехом, как и в прошлом. Наше положение… наш… траур[192] не позволяет нам их посетить; но мы можем рассказать о том, что там происходит… то есть нет, мы, конечно, не можем об этом рассказать, но можем приблизительно повторить то, что рассказывают о них другие. Кадриль из «Гугенотов»[193] имеет вид чудесный и в высшей степени фантастический; люстры гаснут, и зала озаряется красноватым светом, словно при пожаре; странное впечатление производят в подобном освещении радостные лица и развеселые маскарадные костюмы всех сортов и цветов. Все эти шумные призраки, все эти демоны наслаждения и безумия обрушиваются сверху, подступают сбоку, и все это кружится и кружится, катится и катится, мчится и мчится, толпится, пихается, толкается, спотыкается, уходит и возвращается, отступает и наступает, наступает еще, и еще, и еще, ни на секунду не останавливаясь, а набат гремит, а тамтам звучит, а оркестр неумолим: он ускоряет темп, он не дает ни секунды роздыха; он мастерски воспроизводит звуки стрельбы; слышатся крики, жалобы и хохот; идет гражданская война, настал час всеобщей резни: иллюзия самая полная. Как видите, в Париже по-прежнему все развлекаются: одни печально, другие роскошно, третьи откровенно; каждый на свой лад, но развлекаются все — за исключением тех, кому развлечения наскучили.
26 января 1837 г.
Да здравствует ложная весть! Да здравствуют вздор и выдумка!
Беседа умирает. Поддержим беседу любой ценой
Кроме гриппа, третьеразрядного наказания Господня, недавно завезенного к нам из Лондона, рассказывать на этой неделе решительно не о чем, но поскольку у нас все убеждены, что если тебе нечего сказать — это еще не причина для того, чтобы ничего не говорить, то, когда новостей нет, их изобретают. В Париже ложная весть существует примерно неделю; разумеется, существование это нельзя назвать всеобщим и полноценным, ибо в тот момент, когда она начинает свою жизнь в том квартале, где ей суждено умереть, в том квартале, где родилась, она уже близка к смерти; впрочем, как бы там ни было, окончательно опровергнуть ее прежде чем через неделю никому не удается, с другой стороны, распуская слух, которому суждено просуществовать всего неделю, вы ничем не рискуете. В этом году воображение парижан отличается весьма малым разнообразием и еще меньшей веселостью. Все, на что оно способно, — это известие об очередной смерти; забавы ради парижане не погнушались похоронить даже Мюзара: поистине, у них нет ничего святого. Но самое восхитительное заключается в том, что, сколько бы якобы умершие люди ни доказывали, что они живы, это нисколько не мешает слухам об их смерти разгуливать по огромному городу; стоит только пустить слух — и его уже не остановишь; ложная весть дает побеги повсюду, и для того, чтобы выкорчевать ее из нечистой почвы человеческого разумения, приходится совершать самые громкие подвиги: только так мнимый покойник сможет убедить людей, его оплакивающих, что он принадлежит к сонму живых; возможно, впрочем, что не поможет и это: найдутся упрямцы, которые, увидев вас, скорее согласятся поверить, что вы воскресли, чем признать, что напрасно принимали на веру россказни о вашей смерти. Да! для людей с богатым воображением Париж — великий город; в провинции жизнь куда беднее, так что ложные вести приходится доставлять туда из столицы вместе со шляпами, лентами и охотничьими ружьями; жителя маленького городка так запросто не уморишь. Вы скажете: «Такой-то умер», а он через пять минут выйдет прогуляться по главной улице городка; провинциалы обречены вышивать по реальной канве, а это дело неблагодарное; ведь провинциальная действительность сводится к событиям совсем простым: тут умер кот, там из яиц вылупились канарейки, у одного подгорел омлет, у другого собака свалилась в пруд, супрефект дал обед, через город без остановки проследовал никому не известный путешественник, одна дама отдала покрасить занавески в белый цвет, одна барышня явилась в церковь в новом платье, семейство Буржино выписало из Парижа рояль, девицы П… нарядились в платья с узкими рукавами, и прочие известия в том же роде, за неимением лучшего исполняющие роль свежих новостей. Провинциальные жители сами смеются над собой и говорят совершенно справедливо: «Для нас все это — настоящие события; больше-то нам говорить не о чем!» Да зачем же в таком случае говорить? Говорить ради того, чтобы говорить, — это чистое безумие. Вы ведь не поете, если у вас нет голоса, отчего же вы почитаете необходимым беседовать, не имея предмета для беседы? О, все дело в этой роковой мании, которая причиняет нам, французам, огромный вред, — в этой потребности, более пагубной, чем самая неумеренная любовь к роскоши, в этой утомительной необходимости во что бы то ни стало поддерживать беседу; долг хозяйки дома — придавать разговору живость любой ценой, если же беседа угасает, это пытка, позор. Чтобы защитить себя от столь грозной опасности, хозяйка гостиной идет на все и не брезгует ничем; она способна скомпрометировать себя, поделиться самыми сокровенными своими воспоминаниями, выдать свою тайну, честно сказать, что думает… что угодно, лишь бы поддержать беседу. Если же, на беду, у нее нет своей собственной тайны, она примется выведывать у вас вашу; она поведает вам двадцать самых фантастических выдумок; она припишет особам, которые побывали у нее прежде вас, множество фраз, которые они и не думали произносить. Затем она прибавит: «Поверите ли вы, что госпожа такая-то осмеливается вести подобные речи?» Или: «Госпожа X… только что ужасно злословила на ваш счет; она ведь не задумываясь предает своих лучших друзей; впрочем, у нее есть оправдание: иначе ей не о чем было бы говорить!!!»
Огюст Пюжен. Мост Искусств.
Огюст Пюжен. Итальянский театр.
Мы знаем одну даму, которая так ответственно относится к обязанностям хозяйки дома и так убеждена в необходимости поддерживать беседу в любом месте и на любую тему, что, не довольствуясь домашней практикой, отправляется с той же целью в город. Ее замужняя дочь, молодая особа простодушная и скромная, не принимает никакого участия в блистательных подвигах матери, поэтому та постоянно осыпает ее упреками. «Когда вы наконец научитесь разговаривать!» — воскликнула однажды мать после довольно продолжительного визита, в течение которого дочь не промолвила ни слова. «Но, маменька, мне не о чем было говорить». — «Неважно; если не о чем говорить, значит, надо что-то придумать: главное — рассказать что-нибудь интересное. Скажите, что вашу карету задел омнибус, что на ваших глазах на улице арестовали человека, что вы стали свидетельницей ссоры двух мужчин, что вам попалась навстречу великолепная похоронная процессия, что у вас украли шаль, — одним словом, говорите все, что взбредет вам в голову, только не молчите, иначе я больше не буду брать вас с собой». Юную новобрачную шестнадцати лет от роду, которая не любит мужа и выслушивает попреки от матери, нетрудно довести до слез. Молодая женщина расплакалась. Диалог матери и дочери происходил в экипаже между двумя визитами. Экипаж остановился перед роскошным особняком; выездной лакей осведомился, принимает ли госпожа баронесса, и ворота торжественно отворились. «Какое невезение, — подумала молодая женщина. — Все дома, а ведь погода сегодня такая хорошая», — и она утерла глаза. «Как вы бледны, милая Валентина! — вскричала баронесса ***. — Вы, должно быть, нездоровы?» Мать бросила на дочь испепеляющий взгляд, как бы говоря: «Ты способна что-нибудь сказать или нет, несчастная?!» Бедняжка Валентина вспомнила, что ей рекомендовано выдумывать происшествия. «Нет, сударыня, — отвечала она, — я просто очень сильно испугалась. Мы чуть было не опрокинулись». — «Ах боже мой! — воскликнула баронесса. — Как же это?» Мать торжествовала: дочь показала себя достойной продолжательницей ее дела. «Нашу карету задел омнибус, когда мы проезжали по мосту Искусств»[194]. — «По мосту Искусств?» — изумилась баронесса. «Она хотела сказать: по мосту Людовика Шестнадцатого», — не растерялась мать и тотчас сплела восхитительную историю, которая совершенно успокоила баронессу. Беседа шла как по маслу. «У вас прекрасная шаль, милая Валентина», — сказала госпожа ***. Молодая женщина собиралась промолчать, но мать взглянула на нее так грозно, что она набралась храбрости: «У меня была шаль куда красивее этой, но вчера ее у меня украли». — «Неужели! — воскликнула баронесса (как видим, она только и делала, что восклицала). — Нужно непременно ее разыскать. Префект полиции мой друг, я тотчас ему напишу…» — «О, не стоит, сударыня!» — сказала Валентина. «Как не стоит? — изумилась баронесса. — Да ведь вы, должно быть, отдали за нее огромные деньги!» — «Дочь моя хочет сказать, — не растерялась мать (ибо мать никогда не терялась), — что зять мой уже взял все необходимые меры». Разговор зашел о другом, и Валентина вновь погрузилась в мечтания. «Поистине, — разглагольствовала тем временем ее мать, — светская жизнь с каждым днем делается все более и более пустой. Появление клубов внесло разлад в нашу жизнь; мы разучились беседовать, забыли, что такое остроумие; по утрам мужчины играют и курят, а по ночам пьют. Как мне жаль нынешних молодых женщин: никогда еще свет не был так скучен». — «Ручаюсь, что Валентина с вами не согласна, — возразила баронесса. — Не думаю, чтобы она была недовольна клубами». Поскольку Валентина не следила за ходом разговора, она промолчала. «Валентина, — недовольно произнесла ее мать, — госпожа баронесса обращается к вам, отвечайте же». — «Возможно, она не знает, что такое клуб, — любезно заметила баронесса, желая смягчить разгневанную мать, — я уверена, что ей нечего бояться карточных игр». Валентина подняла глаза на мать и, увидев, что та страшно недовольна, поняла, что ей пора вступить в разговор. «Нет, сударыня, — сказала она, — я много слышала о Жокей-клубе; да вот только что нам рассказали про ссору, которая там произошла вчера; говорят, она может иметь самые неприятные последствия». — «Ссора между игроками?» — спросила баронесса с весьма встревоженным видом. «Да, сударыня!» — «А имен игроков вам не назвали?» — «Кажется, речь шла о господине де Г…». Не успела она произнести это имя, как мать бросила на нее третий грозный взгляд, который бедная Валентина истолковала совсем неверно. «Да-да, именно о господине де Г…» — подтвердила она. «О боже! Какой ужас!» — вскрикнула баронесса и бросилась к камину, чтобы позвонить и позвать кого-нибудь из слуг, но в ту же секунду лишилась чувств.
Валентина не знала, что и думать; она назвала господина де Г…, потому что он слыл героем клуба; она не знала, что госпожа баронесса также избрала его своим героем. Он уже два дня не приезжал к ней, и она объясняла это их размолвкой, но клубная ссора… клубная ссора — это совсем другое дело; баронесса не находила себе места от волнения; на нее было жалко смотреть. Пришлось оставить ее в одиночестве; гостьи уехали.
«Вы, дочь моя, должно быть, совсем лишились ума, — в отчаянии сказала Валентине мать. — Как вы могли назвать господина де Г…!» — «Но, маменька, я ведь не знала…» — «Когда живешь в свете, следует знать. А шаль! Заявить, что шаль в тысячу экю[195] — пустяк, о котором и жалеть не стоит!» — «Но, маменька, она ведь собиралась написать префекту полиции!» — «Ерунда! Вы что же, полагаете, что она в самом деле стала бы ему писать? Она это сказала из вежливости. А мост Искусств! Додуматься до того, что карета опрокинулась на мосту Искусств, по которому кареты сроду не ездили! Какая глупость!» — «Вот, маменька, — сказала несчастная Валентина, — вы сами видите, мне лучше молчать». — «Да уж, теперь я вам советую не произносить ни слова!»
Вот и мы с удовольствием даем тот же самый совет всем разносчикам ложных вестей, которые убивают друзей, клевещут на врагов и выдают тайны своих возлюбленных ради того, чтобы поддержать беседу. Мы говорим им: право, вам лучше помолчать. Англичане — во всяком случае, настоящие англичане — сходятся ради удовольствия побыть вместе; они не считают себя обязанными болтать без умолку ради того, чтобы известить окружающих о своем присутствии; испанцы курят и молчат; немцы собираются вместе для того, чтобы погрузиться в мечтания; жители Востока находят в молчании неизъяснимое наслаждение, — они не открывают рта даже ради того, чтобы отдать приказание слугам; довольно бросить взгляд, шевельнуть рукой, и два десятка рабов тотчас бросаются исполнять повеление хозяина. Их не приходится даже звать: по одному знаку один раб приносит трубку; по другому другой приводит одалиску под золоченым покрывалом!.. по третьему третий взмахивает саблей, и голова преступника слетает с плеч! Никакие слова не действуют так скоро и так зримо; людям Востока слова не нужны, они прекрасно обходятся без них; для исполнения каждого желания у них имеется особый раб, для выражения каждой идеи — особый человек. Итак, одно из сокровищ Востока — молчание, и в этом отношении Франция вовсе не заслуживает упрека в приверженности к азиатской роскоши! — Кстати, перечтя написанное, мы обнаружили, что и сами рассказываем обо всем этом исключительно потому, что сказать нам нечего; не беда! Мы так высоко ценим наши мысли, что готовы проповедовать их даже в ущерб самим себе.
9 февраля 1837 г.
Бал-маскарад в Опере; радости фантазии.
— Женщины больше не танцуют, они нынче импровизируют. — Триумф Мюзара
Карнавал окончился, и все довольны. Те, кто им наслаждались, отдыхают, ибо выбились из сил; те, кто не вкусил от его наслаждений, поздравляют себя с тем, что, по крайней мере, больше не будут слышать шума, ибо шум, производимый другими, всегда утомителен.
В этом году в свете почти никто не устраивал костюмированных балов, а на бульварах почти не было видно масок. Все переодевания пришлись на долю балов у Жюльена и в маленьких театрах. Маскарады в Опере[196] были печальны, как семейный праздник; ни одно из ухищрений, к которым вот уже третий год прибегают для их оживления: ни лотереи, где разыгрываются кашемировые шали, браслеты и даже юные девы, ни испанские пляски, ни немецкий шаг, — ничто не могло вдохнуть в них жизнь. Мужчины прогуливались сами по себе, а женщины, если таковые и случались поблизости, не находили что им сказать. В самом деле, господа, о чем с вами говорить? Чем вас интриговать? разве найдется в вашей жизни такой секрет, намекнуть на который было бы величайшей дерзостью? разве отыщутся в вашей душе потаенные чувства, к которым можно было бы воззвать? Заговорить с вами о малютке такой-то?.. Она при вас, но вы не делаете из этого тайны и нимало не претендуете на ее любовь. Сказать вам, что она вас обманывает?.. вам это известно, но вы ее нимало не ревнуете и нисколько не претендуете на единоличное обладание ее прелестями. Что же до прочих ваших связей, все они так холодны и так благопристойны, а сами вы цените их так мало, что даже подшучивать над ними не имеет смысла. Нынче любовь стала делом случая; любят того или ту, с кем чаще видятся; чтобы далеко не ходить, выбирают из узкого круга ближайших знакомых. Если бы даже завсегдатаи разных салонов внезапно ощутили страстное взаимное влечение или исполнились нежной привязанности друг к другу, они все равно продолжали бы жить порознь до самой старости: ведь отношения их не были бы ни удобны, ни приличны. Раньше люди заключали брак по расчету; теперь влюбляются по смежности — в того, кто под рукой; это очень скучно, и именно по этой причине нам нечего сказать молодым людям на балу в Опере; ибо можно ли надеяться их возбудить разговорами об особе, которая им почти безразлична? Первое условие успеха для бала-маскарада — это вовсе не остроумие, а фантазия, прекрасная способность ума человеческого увлекаться некоей идеей, умение мысли человеческой вдыхать жизнь во все вокруг. Вообразите себе бал, куда каждый явится во власти гнева или блаженства, снедаемый тщеславием и покоренный любовью; вообразите множество растревоженных душ, взволнованных сердец, взбудораженных умов, а затем вообразите маленькое домино, которое шепнет каждому из них одно-единственное словцо о предмете, его занимающем, — вот тут-то все эти оцепеневшие существа внезапно засуетятся, как безумные, бросятся за этим домино, станут его преследовать и изводить вопросами: «Кто тебе сказал? Откуда ты знаешь? — Вы с ней виделись? Вы приехали вместе? Они оба здесь? — Когда это случилось? — В какой день и час? — Сколько времени назад?» Они ни на мгновение не оставят маленькое домино в покое. И уж конечно, им будет не до скуки. — Так вот, теперь вообразите три сотни таких домино, и вы поймете, чем должен быть настоящий бал в Опере.
Многие уже давно задаются вопросом, отчего балы в Опере вышли из моды: кто не помнит, каким огромным успехом пользовались они в прежние годы, на какие хитрости шли самые благоразумные женщины ради того, чтобы туда попасть, какие радости их там ждали, сколько сердец эти красавицы покоряли благодаря своей смекалке, скольких мужчин сводили с ума, скольких элегантных кавалеров отличали своим вниманием, скольких скучных глупцов выставляли на посмешище, одним словом, сколько безумств творилось на этом празднике острого ума! Куда же исчезли все бальные радости? отчего единственное, что от них осталось, — это усмешка, с которой герои прежних карнавалов презрительно рассматривают наши сегодняшние балы-маскарады и говорят со вздохом: «Совсем не то»? А почему, собственно, не то? Философы отвечают: «Из-за чересчур большой свободы нравов. Если влюбленные могут видеться каждый день с открытым лицом, к чему им переодеваться и прятаться под маской? они могут признаваться друг другу в любви и без этих ухищрений». Поскольку философам никто не возразил, они продолжают настаивать на своем мнении, а между тем истинная причина величайшего упадка балов в Опере совсем иная; достаточно сказать, что именно в тех странах, где страсти выражаются самым наивным образом, где связи, которые следовало бы хранить в тайне, спокойно выставляются на всеобщее обозрение, — именно в этих странах балы-маскарады имеют наибольший успех. Не говоря уж о том, что особы, которые ездили на бал в Опере ради того, чтобы увидеться друг с другом, были совсем немногочисленны. Остальные ездили туда ради того, чтобы их интриговали; между тем интриговать как следует можно лишь тех людей, которые чем-то живо увлечены или, по крайней мере, способны увлечься. Если юноша всерьез влюблен, то, как бы часто он ни виделся с предметом своей страсти, как бы точно ни знал обо всем, что эта особа делает, малейшее упоминание о ней приводит его в возбуждение; настоящая любовь подозрительна; известие самое незначительное, самое невероятное вносит смуту в сердце влюбленного. Скажите ему: «Я видел ее сегодня утром»; пусть даже он знает наверное, что она не выходила из дома, что ей нездоровится, пусть даже он видел это своими глазами, — неважно; ваши слова все равно смутят его; самые абсурдные предположения начнут роиться в его уме; он не успокоится до тех пор, пока не выяснит все у нее самой. Как видите, балы в Опере сделались скучны не потому, что мы вольны любить, кого захотим, а потому, что нам безразлично, кого любить. Повторяем: первое условие успеха для бала-маскарада — это фантазия, мы же слишком эгоистичны для того, чтобы иметь фантазию; дело в том, что фантазировать может лишь тот, кто способен забыть себя, мы же в этом отношении все поголовно отличаемся превосходной памятью. Что фантазии лишены мужчины, это еще можно понять, но вот полное отсутствие ее у женщин ставит нас в тупик. Будь они от этого более благоразумны, роптать было бы не на что; однако нравственность от недостатка фантазии нисколько не выигрывает, зато наслаждения страдают.
Итак, женщина, у которой сердце или ум заражены эгоизмом, на балу в Опере блистать не может; чтобы произвести там впечатление, нужно изменить облик, а женщина-эгоистка всегда остается самой собой. Ее «я» неизгладимо. Настоящая эгоистка не умеет даже лгать; вдобавок для того, чтобы кого-либо интриговать, нужно испытывать к нему интерес, а это ведь целое дело; меж тем нынче за дело берутся, лишь если не сомневаются в его выгодности. Итак, вот вам наше последнее слово: балы-маскарады удаются лишь людям с фантазией, а поскольку мы слишком эгоистичны, чтобы фантазировать, балов-маскарадов у нас не осталось.
Кстати о женщинах, грипп недавно сыграл с ними дурную шутку: из шестисот особ, получивших давеча приглашение на одно из самых элегантных празднеств, в наличии оказалось всего две сотни. Остальные четыре сотни либо сами лежали в постели, либо сидели у постели больного; отсюда чрезмерная свобода передвижения в кадрилях, сильно смутившая танцевавших дам; окружающие могли любоваться тем, как они не танцуют, и эта их манера скользить по паркету, не сводя глаз с кончиков своих бальных туфель, — манера, превосходно соответствующая тем подневольным ристалищам под звуки скрипок и контрабасов, которые именуются французской кадрилью, той борьбе с толпой, которую во Франции именуют танцами, имела в зале столь просторной вид чрезвычайно смешной. Грипп станет причиной реформы в танцевальном искусстве. То, что прежде казалось талантом, в конце концов прослывет смешной причудой. Женщины по глупости лишают себя многих радостей и побед, которые ничто не способно заменить, а потом с удивлением обнаруживают, что им все постыло и все наскучило. От одной очень хорошенькой особы нам довелось недавно услышать следующее признание: «Маменька говорит, что, когда она была в моем возрасте, она обожала танцевать, а вот я танцевать совсем не люблю». — «Вы этого знать не можете, — отвечали мы ей, — потому что никогда не танцевали». — «Как, да ведь еще вчера…» — Ах, это… То, что вы называете танцем: поставить носки вместе, а пятки врозь, выгнуть руки корзиночкой, сделать три шага вперед в легком полупоклоне, потом проскользить направо, не отрываясь от паркета, как будто вас к нему приклеили; потом, не обнаружив справа ничего достойного внимания, направиться тем же манером влево; не найдя и слева того, что ищете, внезапно двинуться вперед, чтобы выяснить, что творится там, напротив; а потом опять все то же: шаг вправо, шаг влево, одно и то же, одно и то же; ибо, если вы хоть раз позволите себе что-нибудь иное, вас примут за сорокалетнюю матрону. На балах возраст узнают не по лицам, а по ногам; женщина, которая танцует, сдвинув пятки и раздвинув носки, тем самым признается, что ей тридцать; та, что кружится и выполняет фигуру спина к спине, признается, что ей сорок; та, которая делает па-де-бурре и па-де-баск, обличает свой пятидесятилетний возраст, та же, которая рискнула бы показать па-де-зефир[197], — если, конечно, была бы на это способна, — ясно дала бы понять, что ей шестьдесят. А вы — вы не танцуете, а просто ходите мерным шагом, поэтому вы никак не можете знать, любите ли вы танцевать. Некогда танец был работой, ибо все эти па, нынче находящиеся в таком небрежении, требовали упорного труда; но одновременно танец был и удовольствием, ибо сулил немало побед. Перед хорошо танцующей барышней открывалось большое будущее. Браки заключались на балах; хорошее соло стоило приданого. Сегодня умение танцевать считается смешным, а учителя танцев вынуждены браться за преподавание истории и географии. Славный господин Леви хорошо понял свое время; дела его школы танцев шли все хуже и хуже; он открыл на ее месте школу импровизации: танцевальное заведение превратилось в класс риторики. Теперь господин Леви часы напролет, не зная ни отдыха, ни срока, учит девочек толковать о восходе солнца, о сыновней любви, о кончине какого-нибудь великого человека. Пусть ума у юных особ от этого не прибавляется, зато прибавляется уверенности в себе — а это уже немало; родители преисполняются гордости: их дочь импровизирует; вот уж чудо из чудес! Прогресс, конечно, налицо, но кто бы объяснил нам, отчего прежде женщины не умели грамотно писать, но зато превосходно умели танцевать — и всегда были окружены мужчинами. — Сегодня дамы образованны на диво; они говорят по-английски и по-итальянски, импровизируют по-французски, читают «Британское обозрение»[198], исторические труды господина Минье и даже речи депутатов; они вполне способны поддержать беседу с мужчинами… а между тем мужчины пренебрегают плодами этой блестящей образованности и направляют свои стопы в клубы, в кафе или, что еще более оскорбительно, в подозрительные бальные заведения, куда эти воспитанные и ученые дамы не ходят, ходят же туда такие дамы, которые только и умеют, что танцевать; танцы их, конечно, странные, предосудительные, однако это как раз и подтверждает правильность нашей мысли о необходимости как можно скорее реформировать танцевальное искусство. О женщины! женщины! они не сознают своего призвания, не понимают, что главная их цель, первейшая их обязанность — быть обворожительными. Пусть учатся… мы не против, но пусть учеба не идет во вред тому, что должно составлять основной источник их притягательности; пусть читают, но при этом пусть еще и поют; пусть говорят по-английски, как англичанки, но при этом пусть носят шляпки, как француженки; пусть сочиняют стихи, если могут, но пусть при этом не забывают смеяться и танцевать, а главное, пленять — пленять во что бы то ни стало. Человеку не нужно, чтобы жена разделяла с ним его труды[199]; ему нужно, чтобы она его от них отвлекала. Образование для женщины — роскошь; без него она способна обойтись, но не способна обойтись без прелести, очарования, обольстительности; женщины призваны украшать жизнь, а всякое украшение должно казаться тонким и легким, изящным и кокетливым — что не мешает ему быть сделанным из меди или камня, из золота или мрамора.
Новый «Кружок искусств» процветает; имена недавно принятых членов свидетельствуют о блестящем выборе, имена членов отвергнутых — об отборе суровом и прихотливом, а все вместе делает новое собрание таким, к которому всякий желал бы принадлежать. Некоторые из членов Кружка, не поспевающие за веком, предложили забаллотировать господина Б… под тем предлогом, что он князь; один из них, говорят, воскликнул: «Ну уж нет, опускаться до князей — это без меня». Похоже, правда, что угроза эта никого не испугала, и князь Б… был избран значительным большинством голосов; однако мятежники настаивают, что принят он исключительно благодаря своему таланту и что талант этот — единственное обстоятельство, извиняющее его княжеский титул[200]. К сведению знатных господ, не умеющих ни рисовать, ни петь: учтите, что господа художники — бравые ребята, лишенные предрассудков. Да и что удивительного в том, что молодые люди, собирающиеся, чтобы похвастать друг перед другом своими способностями, не желают иметь рядом с собой бесполезных зрителей, докучных и надменных придир, одним словом, не желают развлекать людей, которые не могут отплатить им той же монетой; ведь «Кружок искусств» — не просто клуб, куда, как в другие парижские кружки, люди приходят поиграть в вист и пообедать; это еще и концертная зала, где звучат голоса самых прославленных наших певцов; это еще и музей, где выставляют свои полотна лучшие наши живописцы. Так вот, те люди, чей вступительный взнос — их собственный талант, имеют полное право видеть врагов в кандидатах, не умеющих делать ровно ничего; впрочем, одно дело им обеспечено — они могут курить. Страсть к сигарам распространилась так широко, что мы знаем фешенебельные дома, где помимо гостиной и столовой имеется еще и курительная. В «Кружке искусств» один из салонов отведен исключительно для мастеров этого искусства. На сей счет нам довелось услышать забавный диалог. «Почему же ты, любезный, никогда не бываешь в нашем кружке? ты неправ, у нас очень мило. — Я? да я бываю в кружке каждый день, а вот тебя еще ни разу не видел; где ты прячешься? — Я не прячусь, я выкуриваю сигару после обеда. — Да ведь и я тоже. — В таком случае… Ну конечно, это все из-за дыма; там совсем ничего не видно». Мы записали этот разговор дословно и ровно ничего не прибавили от себя; всякий, кто пытался разыскать знакомого среди клубов клубного дыма, подтвердит достоверность нашего рассказа[201]. […]
Только что мы получили письмо: «Сожалею, что грипп помешал вам побывать накануне вечером в Опере на балу Мюзара. Трудно даже вообразить, что там творилось: шесть тысяч человек в зале, а еще две — те, кому не хватило места, — на улице. Все ложи были заняты; в ложах короля и герцога Орлеанского — случайные люди, вынужденные искать там пристанища. Костюмы самые живописные, танцы самые живые и самые страстные. Присутствие полиции почти не заметно, а между тем порядок образцовый, изумительнее же всего был триумф Мюзара, которого шесть самых прекрасных танцоров подняли на воздух и под приветственные крики и рукоплескания всей толпы торжественно пронесли по всему залу. Это — главная новость ночи. Мюзар сиял; он истинный царь разгула. Простите, что пишу Вам так поздно; я только что проснулся. Десять часов вечера».
Получили мы и другое письмо: «Как правильно вы поступили, что не поехали вчера с нами в Оперу на бал Мюзара. Свалка чудовищная; не понимаю, как можно получать удовольствие от подобных сцен. В ином сражении и то чувствуешь себя в большей безопасности. Когда дело дошло до галопа, один юноша упал, и весь галоп промчался по его телу; подняли его в ужасном состоянии; вдобавок танцы самые непристойные, беспорядок чудовищный. У меня, например, оторвали кусок фрака. Не сообщил вам прежде всех подробностей этого бала безумцев, потому что вам, полагаю, лучше будет о нем умолчать».
Таков Париж, таков наш свет; кому из этих двоих свидетелей верить?.. Возможно, обоим.
9 марта 1837 г.
Оголодавшие нимфы. — Лысые люди, впавшие в детство
Можно ли в это поверить? наше молчание[202] было замечено, более того, оно вызвало неудовольствие; перед глазами у нас письма любезных читателей, целых три десятка писем, авторы которых пеняют главному редактору на нашу леность и внушают ему, что, если на этих важных страницах случается недостаток места, жертвовать следует вовсе не нами. Что может быть более лестно и, в то же самое время, более грустно? как поддержать успех, который мы не считаем заслуженным и которому не находим объяснений? Наше единственное достоинство, единственное наше скромное преимущество заключается в отсутствии честолюбивых притязаний, успех же грозит нас испортить; мы, того и гляди, вообразим себя настоящим автором, а оттого вольно или невольно сделаемся манерны и обзаведемся притязаниями в немалом числе. Уже сейчас тщеславие потихоньку забирает над нами власть, уже сейчас мы утратили ту беспечность, что составляла главную прелесть наших рассказов. Так ребенок, заметив, что взрослые наблюдают за его игрой, делается преувеличенно мил; так юная дева, зная, что хороша, красуется перед окружающими; скажем больше: так юная дева, которая знает, что невинна, задумывается о том, что ей пока неведомо. Прощай, пленительная небрежность; прощай, необдуманная откровенность; прощай, исполненная достоинства беззаботность; прощай, прекрасная и благородная независимость: успех испортил нас, а необходимость удержать его любой ценой — развратила. Отныне мы будем писать не ради того, чтобы побеседовать с читателем, но ради того, чтобы ему понравиться. Раньше мы писали, не думая о публике, теперь же мысль о ней будет следовать за нами неотступно, и на следующий день после выхода газеты мы невольно начнем спрашивать друзей: «Как вам последний „Парижский вестник“?» Нескольких комплиментов достанет, чтобы превратить забавного болтуна в автора с великими притязаниями. Мы искренне убеждены в том, что чересчур быстрый успех погубил больше талантов, нежели самые незаслуженные напасти.
Великий пост в этом году выдался весьма блестящим; в том, что касается удовольствий, он ничем не уступает карнавалу; звучит кощунственно, но это чистая правда. Все танцуют, танцуют истово — так истово, как следовало бы молиться, и, разумеется, никто не постится[203]. Когда бы вы видели, как ужинают наши модные красавицы, когда бы знали, с каким аппетитом кушают эти нимфы, вы бы ни за что не поверили, что они проводят дни в благочестивом воздержании; с другой стороны, вы ни за что не смогли бы понять, отчего эти молодые женщины так худы. Право, тот, кто побывал хотя бы на одном из роскошных ужинов, венчающих наши балы, тот, кто видел наших хрупких красоток в деле, тот, кто может прикинуть на глаз, сколько они поглощают ветчины, паштетов, птицы, жареных куропаток и всевозможных пирожных, тот имеет все основания ожидать, что локти у них будут более круглыми, а плечи — более видными. Бедные сильфиды! как же они, должно быть, сильно страдают, воротившись домой с бала!.. ведь для того, чтобы обезвредить пышные плоды этого пиршества, потребно не одно огорчение! Один остроумный человек заметил: «Женщины сами не понимают, как сильно они вредят себе, усаживаясь за стол!» Между прочим, это истинная правда: нет зрелища более печального, нежели красивая, нарядно одетая женщина, налегающая на еду. Женщинам простительно есть с аппетитом только в дороге. В гостиной же всякая женщина обязана быть прежде всего образцом элегантности, а образцу элегантности дозволено кушать на балу только мороженое, соблазняться только фруктами и сластями. Это приводит нам на память восклицание одной девочки, которая услышала, как ее мать приглашает учителя чистописания позавтракать, и решила добавить свой голос к приглашению: «О, сударь, останьтесь, прошу вас; я никогда не видела, как ест учитель чистописания!». Должно быть, она предполагала, что учитель чистописания ест что-то особенное, имеющее непосредственное отношение к его ремеслу, — например, облатки для запечатывания писем. Так вот, мы недалеко ушли от этой девочки; мы убеждены, что элегантная дама вправе насыщаться только вприглядку — духами, фруктами и цветами[204] […]
Прискорбное происшествие, омрачившее прошедшую неделю, это вовсе не отказ депутатов утвердить закон о раздельном судебном разбирательстве[205], — закон, о котором мы судить не вправе и который не мог не внести раздора в ряды людей самых благонамеренных и самых чистосердечных; нет, прискорбно совсем иное — поведение палаты в этих обстоятельствах, недостойная суета, которую учинили народные представители, зрелище государственных мужей, которые скачут по скамьям, словно непослушные школьники, законодателей, которые бросают шляпы в воздух, точь-в-точь как лаццарони из третьего акта «Немой из Портичи»[206], которые вопят «браво», словно театральные клакёры, и лобызают друг друга, словно их развезло от вина. Когда мы видим, как эти лысые сыны Франции впадают в детство, мы трепещем за наше отечество. Как могло случиться, что за два десятка лет члены парламента так мало продвинулись в своем развитии! Как могло случиться, что эти господа, ведущие себя столь прилично в свете, где они не представляют никого, кроме своей семьи, которые держатся так превосходно в гостиной, где никто не обращает на них ни малейшего внимания, становятся шумными, непристойными грубиянами, забывают о чувстве собственного достоинства и о полученном некогда воспитании, лишь только становятся народными избранниками, лишь только предстают перед лицом Франции, которою они управляют, и перед лицом Европы, которая их судит? Кто разгадает нам эту загадку? Кто объяснит нам, отчего, на наше несчастье, судьбу нашу постоянно ставят под угрозу те самые люди, которые обязаны нами руководствовать? и кто запретит нам сказать людям, которые представительствуют за нас подобным образом: «Господа, мы на вас не похожи»! […]
16 марта 1837 г.
Парижский свет, которому всегда скучно, парижский свет, которому всегда весело.
— Охота в Шантийи. — Моды
Парижский свет делится на две совершенно несхожие половины, на два общества, которые так же далеки одно от другого, как две разные секты, так же чужды одно другому, как две враждующие армии; единственное, что их связывает, это неизменное взаимное презрение; конечно, презрение это вполне дружелюбно, правильнее сказать, что каждая из сторон испытывает к другой одинаковую жалость, но удивительнее и любопытнее всего, что каждая пользуется одними и теми же словами для выражения мыслей самых противоположных. Первая половина — чистые аристократы, важные хранители древних добродетелей и древних верований, люди, у которых чувство собственного достоинства не просто вошло в плоть и кровь, но превратилось в систему, которые видят в верности убеждениям свою обязанность, но, пусть и по обязанности, желают добра и творят добро, почитают все священные слова и все священные вещи, уважают Церковь, семью и королевскую власть, верят и хотят верить, а это уже немало. Среди них, как повсюду, есть люди искренние, а есть лицемеры, однако большинство составляют особы благородные и великодушные, и если бы эти избранные сердца, закаляющиеся в редких испытаниях, могли воздержаться от обоснованной гордости и невольного презрения ко всему, что на них не похоже, их следовало бы взять за образец, ими следовало бы восхищаться.
Вторая половина — люди, в чьих умах царит самый удивительный беспорядок, невообразимая смесь вещей самых различных: неверия и предрассудков, независимости в мелочах и пристрастности в вопросах серьезных, старых маний и новых потребностей, смелых фантазий и косных привычек… — одним словом, хаос немыслимый и неизъяснимый. Здесь нет ничего установленного раз и навсегда, нет ни законов, ни принципов; здесь всё — обычаи, добродетели, обязанности, даже предметы осмеяния — всё смутно и переменчиво. То, что возмущает одних, способно понравиться другим; но единогласной поддержки не получит ничто и никогда. Вы приходите к этим людям в священной уверенности, что вас примут за своего; ничего подобного, в этом океане идей молодых и старых, верных и ложных вы внезапно наталкиваетесь на рифы невидимых и неожиданных предрассудков, и они преграждают вам путь — к величайшему вашему изумлению, ибо есть такие неудовольствия, которые предугадать невозможно. Мужчина, который за последние два десятка лет присягал всем правительствам без исключения, вдруг приходит в негодование, услышав от вас, что политическая клятва есть вещь бесполезная и бессмысленная; женщина, которая готова компрометировать себя с представителем любой религии, которая готова служить предметом поклонения для всякого воздыхателя, какую бы веру он ни исповедовал, вдруг дает отставку юному шалопаю, который честно признался, что во время Великого поста старается пореже обедать дома, потому что терпеть не может постную пищу; кокетка возмущается, слыша из чужих уст то легкомысленное словцо, которым сама накануне щеголяла без зазрения совести. В этом обществе ни на кого нельзя положиться, непринужденность здесь непостоянна, а чопорность переменчива: о чем бы вы ни завели речь, непременно сыщется кто-то, кого слова ваши оскорбят. Одни назовут вас ханжой или христианнейшим юнцом, если вы с почтением отзоветесь о вещах, достойных почтения; другие причислят вас к бешеным, к людям дурного круга, если вы отпустите скабрезную шутку насчет похождений танцовщицы или бала Мюзара. В конечном счете эта вторая половина парижского света не хуже и не лучше первой, поэтому мы скажем о ней точно то же самое, что сказали о первой: здесь, как повсюду, есть люди искренние, а есть лицемеры; ведь человеку случается притворяться не только святошей, но и шалопаем, и невозможно сказать, какой из этих двух обманов более труден и более преступен. Бесспорно одно: первое из тех двух обществ, о которых мы так долго распространялись, превыше всего ставит вещи, достойные уважения, — и скучает; второе же ценит превыше всего вещи, доставляющие радость, — и веселится; причем второе искренне презирает первое за то, что ему так скучно, тогда как первое презирает второе за то, то ему так весело. Вторые говорят о первых: «Они нигде не бывают, у них в конюшне стоят старые клячи, которые с трудом могут сдвинуть с места дряхлые закрытые коляски; женщины у них носят жалкие бурые душегрейки, и это при двухстах тысячах ливров годового дохода! какой стыд!» Первые же говорят о вторых: «У них что ни день, то праздник, с бала в театр, из театра на ужин, и конца этому не видно; они возвращаются домой на рассвете, женщины у них тратят бешеные деньги на тряпки, а сами они вечно сидят без денег! какой позор!»
Так вот, с тех пор как начался Великий пост, первое общество удалилось от света и не участвовало в празднествах, о которых мы рассказывали в наших фельетонах. Второе угомонилось всего неделю назад. Басню «Стрекоза и муравей» теперь надо читать наоборот: «Да постилась ли ты в пост? — Я без устали плясала. — Так пойди же спой теперь».
И они в самом деле поют. За неимением балов любители веселиться ездят на концерты. Впрочем, церкви так же переполнены, как и концертные залы, — и это лишний раз доказывает, что парижский свет делится на два враждующих лагеря поровну. В соборе Парижской Богоматери народу ничуть не меньше, чем в Опере; сердце радуется, когда видишь, как французское юношество, великодушное и независимое, идет за наставлениями к тем самым алтарям, подле которых нашим взорам еще недавно представали только чиновники, чья набожность рождалась из страха перед невидимой инквизицией, только придворные грешники и министерские фарисеи, только тщеславные смиренники, которые своим благочестием стремились потрафить отнюдь не небесам и которые испрашивали в награду за свое корыстное усердие место префекта или посла. Настоящую свободу вероисповедания мы обрели только сейчас; теперь религия обрела независимость, вера сделалась чиста, а храмы стали поистине Божьими[207]. Скажите же, разве эта юная Франция, ученая и верующая, не выше того вольтерьянского юношества, с которым мы имели дело прежде и из которого вышли все наши нынешние великие люди? И разве не достойны сожаления те, кто так неумело и бездарно правят страной, где юношество, являющееся силой нации, умеет молиться и надеяться?
Мы только что сказали, что в соборе Парижской Богоматери народу ничуть не меньше, чем в Опере; скажем теперь, что в воскресенье вечером в Опере было столько же народу, сколько утром в соборе Парижской Богоматери. Представлен был один акт из «Эсмеральды»[208], и публика удостоила его громких рукоплесканий. Ария Квазимодо имела огромный успех, и это лишний раз укрепляет нас в убеждении, что без танцев и роскошных декораций опера, как бы прекрасна ни была ее музыка, не способна в продолжение четырех актов увлекать зрителей. Не одними ушами жив человек, тем более в Опере, куда люди приходят для того, чтобы смотреть на сцену. Оперная публика нуждается в великолепных зрелищах, и лучшие мелодии мира не способны удовлетворить ее в полной мере. Некогда она радовалась уже одному виду зрительной залы, однако времена, когда дамы приезжали в Оперу разряженные и в богатых парюрах, когда брильянты отражали свет люстр, а антракты были интереснее пьесы, — эти времена прошли. Нынче дамы кутаются в накидки, они зябнут, они бледны и печальны; с балконов свешиваются потертые шляпки, в ложах первого яруса красуются круглые чепцы. О, как низко мы пали!..
Давеча одна хорошенькая женщина сказала, что скоро откроет двери своего салона, но ни за то что не станет приглашать женщин старше тридцати. «Отлично придумано, — согласилась ее кузина, — но поторопись, через год ты уже не сможешь пригласить саму себя». Кузина есть не что иное, как наказание Божье.
С 1830 года охотники не упомнят такой прекрасной охоты, как та, что состоялась в пятницу в Шантийи. Погода выдалась превосходная, именно то, что нужно для охоты: земля зимняя, небо весеннее; сбор был назначен около мраморного стола в Шантийи[209]. В половине одиннадцатого охотники выехали; поведение оленя было выше всяческих похвал: как истинный знаток, как изысканнейший чичероне, он проследовал по самым живописным долинам, по самым прославленным маршрутам; он пересек Эрменонвильский парк, поклонился — правду сказать, не снижая скорости, — могиле Жан-Жака, своего собрата, также ощущавшего себя жертвой преследователей[210]; промчался через пустыню — классическую Эрменонвильскую пустыню, и как же это было прекрасно: охотники, рассыпавшиеся по просторной песчаной равнине, и олень, убегающий от них, удаляющийся в сторону горизонта, ни на мгновение не пропадающий из виду, но по-прежнему недосягаемый. После шестичасового гона хитроумная жертва избрала для своего последнего упокоения прекрасный морфонтенский пруд; трудно было отыскать для смерти местность более поэтическую! Если бы мы верили в переселение душ, мы бы сказали, что в тело благородного оленя вселилась душа некоего художника-пейзажиста, потерпевшего неудачу в любви, — в выборе маршрутов для прогулок и места для финальной сцены он показал себя истинным художником. Последняя картина, в которой он исполнил главную роль, достойна кисти величайших мастеров: по краям пруда расставлены охотники, а в самой его середине несчастное животное яростно отбивается от собак; двум или трем он успел вспороть брюхо, но тут господин герцог Орлеанский, желая спасти честь победителей, потребовал карабин[211] и без промедления вывел оленя из строя. Этот меткий выстрел доказывает, что господин герцог Орлеанский близорук только в гостиных, а эта охота — прекрасная, но столь долгая и тяжкая, доказывает, что наследному принцу наскучило бездействие и что в ожидании второго похода на Константину, которого он алчет, на наш вкус, чересчур страстно, он изнуряет себя упражнениями самыми утомительными[212]. Многие охотники нарочно сбились с пути, поскольку не могли поспеть за ним. Собаки получили свою долю только вечером, при свете факелов. Эта охота была последней в году. Должно быть, олень об этом знал и потому вел себя безупречно.
Огюст Пюжен. Опера, или Королевская академия музыки на улице Ле-Пелетье.
Огюст Пюжен. Турецкое кафе на бульваре Тампля.
По случаю солнечной погоды на свет явились легкие летние наряды. Мы отправились в Китайский магазин на бульваре Итальянцев, чтобы, любуясь выставленным там розовым и лиловым муслином, вдохнуть аромат лета, — так люди отправляются в лес, чтобы насладиться нежным ароматом фиалок. Привет тебе, невесомый муслин, цвет товаров, любезный вестник теплого времени года, — мы думали, что счастье отвернулось от нас, но ты возвратил нам надежду. Да здравствует весна и весенние туалеты! Впрочем, до них еще далеко. Кругом мы видим только атлас и бархат, накидки, подбитые горностаем, и горностаевые муфты, а также множество неизвестных мехов, включая домашнего горностая, от которого мы советуем держаться подальше. В этом году было выдумано множество диких животных, о которых естествоиспытатели не имеют ни малейшего понятия, фантастических животных из породы муфт.
В области моды пока без перемен; новые туалеты замышляются, вызревают в тиши. Нынче все надевают первое, что попалось под руку, донашивают то, что осталось от прошлого сезона. Наступила та пора, когда шляпы с перьями являются на свет божий и вдыхают бульварную пыль; вот белая шляпа из бархата с булавочным ворсом: три зимних месяца она томилась в картонке и выезжала лишь по торжественным случаям, с официальным визитом или на утренний концерт; теперь же, с приходом весны и в предчувствии лета, когда в ней вовсе отпадет нужда, шляпа эта вырвалась на свободу и пустилась во все тяжкие: ее достают и убирают, надевают и снимают, носят утром и вечером, в ней ходят в церковь, ибо последний час капота, подбитого ватой, уже пробил; раньше она ездила в экипажах, теперь гуляет попросту, пешком и без всякого стеснения, ибо она уже не одинока: на улицах и на бульварах она встречает целую толпу себе подобных; она может больше не стыдиться своего роскошества, ее плюмаж получил права гражданства и уже не привлекает к себе внимания; за десять дней ее изнашивают больше, чем за всю зиму; одним словом, с ней обходятся без церемоний, как с приятелем, от которого больше не ждут никакого проку.
23 марта 1837 г.
Любители привилегий. — Салон 1837 года[213]. — Буржуазные портреты. — Права женщин
[…] Мы побывали в Салоне; отправились мы туда, как самые обычные буржуа, чтобы насладиться живописью, но очень скоро помимо воли принялись наблюдать нравы и сделали из этих наблюдений множество философических выводов. О француз! о парижанин! Ты предстал перед нами во всей простодушной красе своего тщеславия! Привилегии тебе дороже всего на свете, и ради них ты готов забыть обо всем, включая тот факт, что людей, имеющих привилегии, развелось куда больше, чем тех, кто их не имеет, и потому в субботу, когда Салон посещают по особым приглашениям, здесь гораздо теснее, чем в пятницу, когда по залам можно прогуливаться беспрепятственно. Дело в том, что в нашей стране все дорожат своими правами, но выше всего ценят именно те блага, на которые права не имеют; тут верх берет тщеславие, тут исключения вытесняют правило, одним словом, равенство, о котором сегодня мечтает Франция, определяется очень просто: привилегии для всех и каждого!
Поразило нас и другое обстоятельство. На подъезде к Лувру виднеется длинная цепь экипажей; во дворе экипажи выстроены в три-четыре ряда. «О! да здесь собралось общество самое блистательное! Здесь взор пришедшего радуют женщины самые пленительные, самые роскошные!» — думаете вы и уже раскаиваетесь в том, что недостаточно тщательно продумали свой наряд, не уделили достаточного внимания своей прическе; вы поднимаетесь по главной лестнице чуть менее уверенно, вы тревожитесь о впечатлении, какое произведете, и хотя пришли вы ради того, чтобы рассматривать картины, думаете только о том, как бы остальные посетители не принялись рассматривать вас. Вы входите в залу и тотчас успокаиваетесь: перед вами публика самая вульгарная, женщины самые заурядные, наряды самые нелепые. И вдобавок народу тьма! перед каждой дверью ужасная давка! Куда податься? как уцелеть?
Право, в этой тесноте женщина, которая не так близка со своим спутником, чтобы вцепиться в его руку, как мать цепляется за руку сына, сестра — за руку брата, а жена — за руку мужа, рискует в течение того времени, что потребно для прохода по залу, два или три раза сменить провожатого. Мы сами видели, как одна робкая барышня, вначале пребывавшая под покровительством немолодого рыжего коротышки, внезапно и невольно сделалась спутницей высокого юного брюнета и никак не могла понять, как и когда приключилась эта метаморфоза. По субботам в Салоне может случиться и не такое; в дни, отведенные для привилегированных посетителей, здесь слишком много народу, причем, увидев этих счастливцев, вы с трудом понимаете, за что, собственно, они удостоились привилегии. Среди всех этих избранников и избранниц судьбы вы с трудом насчитаете четырех хорошеньких женщин. Поэтому один остроумный человек, желая объяснить причину, по которой все эти уродливые существа получили особое приглашение, утверждал, что по субботам сюда созывают всех тех, чьи портреты выставлены в залах. Эпиграмма, выражаясь старинным слогом, жестокосердая, но справедливая.
Вообще-то мы вовсе не принадлежим к числу ярых противников семейных портретов; мы прекрасно понимаем, что человеку приятно сохранить на память изображение того, кого он любит, и что изображение это может быть драгоценным, даже если модель не отличается красотой; у всякого из нас есть родственники уродливые, но оттого не менее любимые, и портрет горбатого благодетеля, сделавшего нам много добра, обрадует нас куда больше, чем вид дядюшки-эгоиста, которому безупречная красота не помешала лишить нас наследства. Семейный портрет — дитя природы, но, пожалуй, пасынок искусства; что ж, талант способен преодолеть это препятствие, о чем свидетельствуют многочисленные шедевры. Беда не в любви к портретам, которая полезна хотя бы тем, что дает работу множеству живописцев, беда в притязаниях людей, которые им позируют, в фатовстве их облика и непоэтичности их нарядов, не говоря уже о смехотворной нелепости тех предметов, которыми этим людям угодно себя окружать. Дело не в дурном вкусе художника, которому создание подобных портретов наверняка стоит страшнейших мучений! дело в воспитании вкуса у моделей, ибо именно его отсутствие и делает портрет смешным. Дело модели — позировать, все остальное следует предоставить художнику; приправить это блюдо может только он один; тому, кто этого не сознает, мы будем вынуждены напомнить, что:
И скверный лавочник, и грязный свинопас, Попав на полотно, всегда пленяют нас[214].Одним словом, мы не видим ничего дурного в том, что вот этот приятный юноша, опирающийся на могильную плиту, заказал художнику свое изображение и желает подарить его матери или подруге; но вот зачем он водрузил на могилу свою шляпу, а рядом аккуратно разложил свои желтые перчатки[215]? Что делают желтые перчатки на могиле? Черные еще куда ни шло: это было бы гораздо приличнее. Кстати, и шляпе не помешала бы черная лента, иначе могилу легко спутать с печкой; впрочем, к чему печка посреди сада?
Нам гораздо милее другой юноша, положивший шляпу и желтые перчатки на стул, обитый зеленым плюшем. Правда, на наш вкус, он чересчур гордится своим вдохновенным замыслом; идея, конечно, неплохая, но основания для гордости несколько преувеличены.
Нетрудно заметить, что перчатки играют в нынешнем Салоне роль первостепенную; Прива и Буавен[216] вдохновили не одного мастера. Большой успех имеют также дыни. Во второй зале нам на глаза попался портрет дыни, расположенный чрезвычайно удачно: между печальным мирянином, который, судя по всему, думает: «Вы ведь знаете, что я их не ем», и разгневанным монахом, который, судя по всему, с ужасом бежит от этого сочного соблазна. Этот бенефис дыни, которым она обязана случаю, показался нам весьма примечательным. Превосходно также полотно, изображающее почтенного господина с двумя сыновьями: старший сын — вылитый портрет своего родителя, но вот относительно младшего мы вынуждены с прискорбием сообщить: не похож. — Вот толстая женщина в узкой рамке; она заполняет все полотно без остатка, хотя изображена в профиль, и всем своим видом, кажется, говорит: «Да, я такая; анфас я сюда не влезу, и не надейтесь». — Наконец, вот юная дева, обрывающая лепестки ромашки. Сюжет показался нам очень смелым; мы-то всегда ищем новые идеи, и потому нам кажется, что для изображения вещей, всем давно известных, потребно куда больше смелости, чем для изобретения вещей самых невероятных. В наши дни все без исключения претендуют на оригинальность. Кто сегодня дерзнет предпочесть простоту?
Познакомившись с выставкой, мы принялись знакомиться с ее каталогом; в отношении слога он показался нам менее смешным, чем в прошедшие годы: меньше пафоса, меньше громких слов, порой изложение простодушно до глупости, как, например, в описании картины, изображающей смерть Фредегунды: «Фредегунда, страждущая от тяжелой болезни и мучимая раскаянием, призывает Григория Турского, ибо уверена, что сей священнослужитель способен возвратить ей здоровье и даже жизнь, и проч., и проч.». «Даже жизнь» — выражение поистине прелестное, ибо здоровье без жизни — вещь более чем сомнительная. Если вы толстый и красивый, но мертвый, проку от вашей красоты не будет. Заурядный автор написал бы «жизнь и даже здоровье». Но это было бы ошибкой, ибо законы риторики велят нам идти по нарастающей, от меньшего к большему, а жизнь значит больше, чем здоровье. Негоже подражать тому оратору, который говорил: «Это неизбежно и даже необходимо». Из чего следует, что по законам риторики каталог рассуждает совершенно правильно: здоровье и даже жизнь[217].
Поразили нас и некоторые другие описания картин. Мадемуазель***: «Юноша, этюд». Госпожа Лагаш-Корр: «Скверные мысли». — «Семья ловит рыбу; служанка не заметила, как начался прилив» (это, должно быть, кухарка). Далее: «Семейство львов». Как трогательны эти семейственные узы! И кто бы отказался свести с этим семейством знакомство более близкое? Наконец: «Молодая женщина и ее дитя испуганы встречей с медведем». Как видите, стиль повсюду самый простой и наивный; все исключительно патриархально, включая львов и медведей. Листая каталог, мы удивились большому числу женских имен. На каждой странице непременно присутствуют одна-две художницы, а есть даже такая страница, где их целых четыре: мадемуазель Эрмини Десеме, мадемуазель Демарси, мадемуазель Люси Денуа и мадемуазель Фанни Демадьер.
В ожидании того часа, когда для них откроются двери судов и префектур — а именно этого они алчут, — женщины завоевывают Салон. Почитали бы лучше «Женскую газету»[218]. В ней содержится масса мудрых советов; из нее женщины могут узнать верный способ возвратить утраченное достоинство и вновь занять те места, к каким их вот уже много столетий не подпускают тираны мужского пола. Воистину, когда бы женщины, вместо того чтобы страдать безмолвно, решились последовать советам госпожи Путре де Мошан; когда бы они, вместо того чтобы ронять слезы из-за мужских придирок, швырнули на пол зеркало или часы, когда бы вместо того, чтобы в тревоге ожидать у окошка возвращения коварного изменника, они для острастки разорвали и разрезали на мелкие кусочки все столовое белье, тогда мужчины задумались бы о своем поведении: они сделались бы менее грубыми и менее неверными. Особенно восхитительно это «менее неверными»; как если бы у неверности были степени! Неверность — то же, что смерть; она или есть, или ее нет. В остальном же мораль госпожи Путре де Мошан безупречна.
30 марта 1837 г.
Министерский кризис. — Грипп. — Утренние визиты
На прошедшей неделе политическая жизнь шла таким образом, что мы имеем полное право рассуждать о ней в нашей хронике; напротив, серьезной газете пересказывать все эти сплетни не пристало. Да-да, именно сплетни, слухи, интриги и жалкие козни. К общему благу все эти министерские родовые схватки[219] не имеют ровно никакого отношения; за всеми действиями наших государственных мужей стоит одно — ревность, ревность мелочная и всемогущая, в которой не признались бы даже женщины; кабинет, составленный из семи пожилых кокеток (а пожилые кокетки куда хуже молодых), показался бы по сравнению с нашим кротким и послушным. Господин Такой-то не может остаться в кабинете из-за господина Сякого-то. Один не может войти в состав кабинета из-за другого; этот войдет, лишь если согласится тот; самая настоящая китайская головоломка. Как ни старайся, на что ни решайся, сложить из всех этих разрозненных деталей правильную картину невозможно, тем более что некоторые детали вообще из другого набора. Положение в высшей степени печальное; все это, конечно, ребячество, но ребячество гибельное, ибо каждая подобная встряска отнимает силы у страны: когда трясет министерство, содрогается вся Франция. Не говоря уже о том, что неуверенность — это смерть, это праздность, уныние, бесплодность. Можно ли строить планы, находясь в постоянном ожидании? что можно предпринять, когда всего боишься? как идти вперед по бездорожью? как сеять на зыбучих песках? Что бы мы сказали о земледельце, который с начала пахоты выбирал бы, какую из лошадей запрячь в плуг, и ко времени жатвы так ни на что и не решился? А ведь мы поступаем точно так же; мы ничего не делаем, потому что без конца выбираем тех, кто должен что-то делать; весь караван останавливается и глазеет на драку тех, кто должен вести его вперед; мы стоим, а время идет — неумолимое, драгоценное время, которое мы теряем безвозвратно[220].
Грипп, грипп и еще раз грипп — вот о чем у нас говорят, вот над чем у нас смеются, вот от чего у нас умирают. Из четырнадцати человек, живущих в доме, больны четырнадцать; все из всех — вот наша новая пропорция. Рассказывают, что на прошлой неделе герцог де М…, у которого в доме разболелись все: слуги и служанки, привратники и привратницы, был вынужден два часа подряд сам открывать двери собственного особняка. «Господин герцог дома?» — и никакой возможности сказать: «Его нет». Наконец кто-то сменил господина герцога на этом посту, и он воротился в гостиную, чтобы подать отвар госпоже герцогине, которую свалил грипп, равно как и всех ее служанок. И тем не менее балы идут своим чередом; дамы танцуют, примеряют наряды, украшают себя цветами — все это между двумя приступами кашля. По утрам женщины зябнут, недомогают, кутаются в шали, поглубже надвигают чепцы; их жалеют, им сочувствуют, они клонят тонкий стан, роняют головку, прячут ножки в мехах или греют подле камина; им советуют беречься, с ними прощаются в тревоге… — с тем чтобы вечером увидеть на балу, как, оперившись и озолотившись, они блистают с высоко поднятой головой, увенчанной султаном и усыпанной брильянтами, с голыми плечами, с голыми руками, с голыми ногами (ибо нога в чулке-паутинке — все равно что голая), как они вертятся, прыгают, порхают и презирают своего верного друга, чей изумленный взгляд, кажется, говорит: «Неосторожная! вы ли это?» — И что все это доказывает? — Что женщины готовы умереть, лишь бы не лишить себя удовольствий; что они живут для света, для балов, для концертов; что они приносят свое здоровье в жертву пустым забавам; что… — Нет, это доказывает нечто совсем иное: дома женщинам так скучно, что они готовы второй раз подхватить грипп, лишь бы не оставаться у камелька в обществе людей, которые хуже гриппа; не случайно те, кто счастлив в семейной жизни, почти не выезжают. Говорят, что свет создан для счастливых и богатых. Это неправда: счастливые в свете не нуждаются. Впрочем, эта мысль заслуживает более подробного обоснования; отложим его до другого раза.
Оба бала, состоявшиеся на прошедшей неделе, были прелестны: ни одной некрасивой женщины. Платья свежи и элегантны, как никогда. Пожалуй, ощущалась нехватка кавалеров; танцоры были наперечет; это подтверждает нашу идею: мужчины, запросто ездящие в кружки и клубы, не имеют необходимости ради того, чтобы забыть о скучном гриппе, наряжаться и отправляться на бал, женщинам же, на их беду, ничего другого не остается.
Моралисты ужасно возмущаются тем, что происходит на балах Мюзара и Жюльена; но велико ли преступление людей, которые забавляются с большим шумом и немалой вульгарностью? Когда бы эти забавы отвлекали от добрых дел и душеполезного чтения, мы воскликнули бы вместе с вами: долой забавы! Меж тем как подумаешь, что все те силы, какие народ тратит на то, чтобы плясать, вальсировать, галопировать, он мог бы употребить на дела куда более страшные, начинаешь более снисходительно смотреть на празднества, которые могут принести вред только людям, в них участвующим. Те, кто встречались с безумием жестоким и злобным, легко простят безобидное сумасбродство; те, кто видел карнавал в архиепископском дворце[221], не станут сердиться на карнавал в Опере. Скажите честно, господа политики с мелкой моралью и ложной добродетелью, разве галоп Мюзара не лучше бунта? А ведь именно бунту галоп и служит заменой: помните об этом и смотрите на него сквозь пальцы. Римский народ глазел на зрелища, устраиваемые для него предусмотрительными римскими правителями; французский народ сам зарабатывает деньги на собственные забавы и сам же их тратит, так что наши маленькие Нероны не имеют права ни роптать, ни лишать народ развлечений, в которые они не вложили ни франка. Бедный народ! Не имей ты доброжелателей, ты бы уже давно был счастлив. […]
В малоизвестном журнале мод или, точнее, в журнале малоизвестных мод напечатано: «Графиня де С… в обществе испанского гранда, в тюрбане из золотой парчи и небесно-голубого газа была восхитительна. Великолепная смородиновая накидка, подбитая горностаем, и благородство осанки привлекли к ней все взгляды, когда в ожидании своего пышного экипажа она встала на ступеньках колоннады Оперы». Так и видишь эту графиню с ее испанским грандом, парчовым тюрбаном, смородиновой накидкой и благородной осанкой — вот как раз со всем этим она и встала на ступеньках колоннады. До сих пор мы полагали, что вставать на стоянку — прерогатива фиакров и кабриолетов; однако, примененный к графине, глагол вставать внезапно обретает совершенно особую элегантность. Полиции следовало бы включить в свой устав: «Отныне графиням и испанским грандам предписывается вставать перед левой колоннадой Оперы».
Что касается тюрбанов, то они нынче в большой моде; женщины в этом году носят тюрбаны самых разных сортов: тяжелые — из плотной материи, затканной золотом, легкие — кружевные, газовые и тюлевые. Первыми славится Симон; он предлагает тюрбан классический, тюрбан для матрон. В тайну тюрбана для юных, тюрбана фантастического проникла одна лишь мадемуазель Бодран[222]. Впрочем, нас более всего пленяет в этом уборе его неиссякающая способность исторгать из уст поклонников красоты ужасный вздор; если мужчина не чужд элегантности, он по крайней мере один раз за вечер непременно произнесет любезную фразу следующего содержания: «Ах, сударыня! Как к вам идет этот тюрбан; вы в нем вылитая одалиска». Но одалиски не носят тюрбана! Мужчины, держащиеся более непринужденно, заходят дальше и говорят: «Привет тебе, прекрасная одалиска!» Повторяю: одалиски не носят тюрбана. Наш совет галантным невеждам: вначале побывайте в Турции, а потом попробуйте сказать приглянувшейся вам даме: «Ах, сударыня! Как к вам идет этот тюрбан! Вы в нем вылитый кади![223]» Вы, конечно, проиграете в льстивости, но зато выиграете в точности. […]
Случайные знакомцы с некоторых пор начали играть в нашей жизни такую важную роль, что приходится угождать им во всем. Прежде каждый имел двух-трех близких друзей, от которых не скрывал ни сердечных тайн, ни содержимого кошелька, ни острых шуток, в присутствии которых мыслил без опаски, перед которыми не стеснялся ни страдать, ни страшиться, ни надеяться, ни даже краснеть; от этих наперсников и сообщников, в чьем обществе человек проводил большую часть дня, отличались случайные знакомцы — два десятка людей, которых человек видел ежедневно, к которым был даже привязан, но которых называл не иначе как «один мой знакомый; одна моя знакомая». Видеться каждый день и ужинать вместе каждую ночь означало не более чем быть знакомыми, но знакомыми отнюдь не близко; между знакомством и дружбой, пролегала пропасть; в день грандиозного празднества, иначе говоря, один раз в год, человек принимал двести или даже триста человек, о которых слыхом не слыхивал во все остальные триста шестьдесят четыре дня. Нынче сердце наше сильно расширилось в размерах, а вернее сказать, обзавелось разменной монетой, которая позволяет одному человеку иметь два десятка близких друзей, сотню хороших знакомцев и шесть сотен знакомцев случайных, которые имеют право являться к нему домой и болтать без умолку, невзирая на то, что он грустен или болен, не в духе или окован ленью, находится во власти вдохновения или, наконец, просто счастлив, — а в такой день, на наш взгляд, посторонние особенно неуместны.
Между тем, поскольку это умножение числа визитеров сделалось своего рода стихийным бедствием, а светские люди никогда не изъявляли готовности идти на муки во имя учтивости, да и вообще мы слишком хорошо знаем жизнь, чтобы жить по правилам хорошего тона, — так вот, по всем этим причинам мы решили отдать один день недели на потребу дружеской черни, иначе говоря, тем, кого мы любим не так сильно, чтобы позволять им бывать у нас, когда им захочется, но которых мы, однако, ценим достаточно, чтобы их общество казалось нам лестным и мы почитали необходимым украшать ими свою гостиную время от времени. Обычай принимать по утрам только в определенный день, обычай, уже несколько лет как вошедший в моду в том кругу, который именуется большим светом, с каждым днем распространяется все шире, и вот к чему это приводит: люди, которые прежде видались часто, теперь не видятся никогда, потому что нет ничего труднее, чем не пропустить этот злополучный день. Положим, вы его пропустили: в таком случае придется дожидаться следующей недели, а там внезапная мигрень или срочное дело удержат вас дома — и вот позади уже две недели, а вы так и не повидали свою приятельницу. Назавтра вы свободны и могли бы у нее побывать, но назавтра вы ей ни к чему; она открывает вам свое сердце только по субботам, или по четвергам, или по воскресеньям; в другие дни сердце это заперто так же надежно, как и дверь ее дома; ибо, если вам говорят: «Я всегда дома по субботам», — это отнюдь не означает, что вас непременно хотят видеть в этом доме в субботу; нет, если вам говорят: «Я всегда дома по субботам», — это означает: «В другие дни я вас видеть не желаю»[224]. Но и это еще не все; если ваша приятельница вас все-таки принимает, то для вас и для других ее близких друзей этот прием оскорбителен, ибо застать ее одну в эти дни невозможно; одновременно с вами она принимает два десятка случайных знакомцев, которым, впрочем, от такого порядка тоже мало радости: хозяйка дома им, в сущности, безразлична, но раз у нее есть приемный день, они обязаны во что бы то ни стало у нее побывать; ведь теперь уже они не могут рассчитывать на то, что, к своему удовольствию, не застанут ее дома и смогут просто-напросто оставить у нее свою карточку. Таким образом, по нашему убеждению, обычай этот противен… Но в то мгновение, когда мы выводили эти строки, явился один из наших друзей и принялся насмехаться над нами; прервав нас самым непочтительным образом, он сказал: «Ты просто глуп, а обычай этот очень удобен, и если ты до сих пор этого не понял, мне тебя жаль». — Мы, однако, охотно продолжим коснеть в нашей глупости, ибо в такое развращенное время, как наше, глупость может почитаться добродетелью.
25 мая 1837 г.
Весна у парижан не в чести. — Соловей поет по календарю.
— Журналисты и салоны. — Истинный поэт не в ответе за свое вдохновение
У парижан нынче масса претензий к весне; они ею ужасно недовольны; жалобам нет конца; мы, однако, советуем весне запастись мужеством и пренебречь упреками: в Париже это верный случай положить конец хуле. Мир принадлежит храбрецам; если, наделав много шуму, вы испугаетесь и отступите, вы пропали; напротив, если, дав скандалу разгореться, вы смело выступите вперед, если отважно войдете в гостиную в тот самый миг, когда там злословят на ваш счет, — тогда недоброжелатели очень скоро смолкнут; сама ваша отвага послужит доказательством вашей невиновности, само ваше присутствие даст ответ на все вопросы; именно поэтому мы и советуем весне не страшиться гнева парижан: ее приход рассеет все наши предубеждения; если мы увидим, почувствуем ее, то простим ей все ее грехи; если она наконец придет, мы забудем, что она так долго не приходила; к ней одной применима старая поговорка: «Лучше поздно, чем никогда». К ней одной и больше ни к кому; обо всех остальных мы рекомендуем говорить словами Альфонса Карра: «Лучше никогда, чем поздно».
Из деревни нам сообщают, что соловей уже поет. Какая точность! Бедная Филомела[225]! Что привело тебя в наши края? Ведь деревья у нас еще не зеленеют, цветы еще не расцвели. Певец поэзии и любви, неужели ты раб календаря? Неужели именно по нему ты определяешь, в какой день и час следует петь о любви? Неужели Мильвуа был неправ, когда сказал:
И голосистый соловей Умолкнул в роще бесприютной[226].О непутевый соловей! Тебе, значит, больше не нужно прятать свою любовь под покровом тайны? Ты не хочешь ждать, чтобы древесная сень укрыла твое счастье, не хочешь ждать, чтобы аромат цветов подарил тебе вдохновение, не хочешь дать зябким смертным возможность тобою полюбоваться… любовь твоя не ищет покровов, а голос не ищет славы! Ты предаешься любви в назначенный день, точь-в-точь как новобрачные, ты поешь в определенный час, точь-в-точь как импровизатор. Любовником и поэтом делает тебя не весна, не лазурь небес и не зелень лугов, не прохлада вод и не пробуждение цветов, а только лишь календарь. Ты решил: 15 мая в двадцать часов двадцать пять минут я выберу себе подругу и восславлю мою любовь; сказано — сделано: 15 мая в двадцать часов двадцать пять минут ты восславил свою любовь. Несчастный! Стоило ли рождаться соловьем, чтобы жить по часам, как журналист или кучер дилижансов! Стоило ли иметь крылья, чтобы не быть свободным и не подчиняться одному лишь солнцу? О соловей! Ты более не сын весны! Филомела, в этом году вы нас сильно разочаровали! […]
Мы никак не можем понять, откуда у журналистов такая ненависть к свету, к салонам, к салонному успеху, салонным талантам, салонным удовольствиям, салонным подаяниям; нет ничего более вульгарного и низменного, чем эта ненависть, да и ничего более несправедливого. Эти господа говорят о салонах с яростью людей, которым доступ в салоны закрыт. Но ведь дело обстоит совершенно противоположным образом: господа журналисты прекрасно знают, что, когда те особы, от которых они зависят, позволяют им бывать в свете, хозяева салонов принимают их охотно и любезно; так что, если им не удается бывать в свете, виноват в этом вовсе не свет. Примечательно, однако, что люди, которые по должности обязаны разрушать предрассудки, в реальности оказываются их самыми пламенными защитниками. Последние два десятка лет мы только и слышим что обвинения салонов в бесплодии, а света — в ребячестве, как будто все наши государственные мужи, все наши гениальные мыслители не выросли в салонах. Из того, что Жан-Жак служил лакеем, сделали вывод, что хорошо писать способен лишь тот, кто рожден в низком сословии, человеку же благородного происхождения следует искупать этот грех, общаясь только с людьми заурядными; при этом забыли всех тех мастеров красноречия, каких подарил нам элегантный мир; даже сегодня, пренебрегая очевидностью, нам постоянно толкуют об умственном ничтожестве салонов, о неспособности светского человека мыслить, о скудости его идей и мелочности его чувств; все эти разглагольствования мы принуждены слышать в светском обществе, в салоне, сидя между Ламартином и Виктором Гюго, между Берье и Одилоном Барро, которых в светском обществе, в салонах знают за остроумных и любезных собеседников, а в целой Франции — за красноречивых поэтов и возвышенных ораторов. Но предрассудок сильнее опыта: он будет жить вечно, и мы вечно будем слышать, что свет не способен породить ничего ценного, ни талантливого мужчину, ни гениальную женщину; при этом никто даже не вспомнит, что Байрон, князь фон Меттерних и господин де Шатобриан, госпожа де Сталь и Жорж Санд выросли в свете; да-да, и Жорж Санд тоже: несмотря на всю ненависть, какую она питает к людям из хорошего общества, стиль ее на каждом шагу выдает принадлежность к этому самому обществу; только светская женщина способна описать свет так, как описывает она. Спросите у господина де Рамьера, он скажет вам, что встречал Индиану восемь лет назад на балу у испанского посла: она была там одной из самых хорошеньких[227].
Спросите также у графа Вальша, который, кажется, в совершенстве изучил характер и талант автора «Лелии». Граф посвятил Жорж Санд целую книгу. Пылкость убеждений автора и его искренность нам по душе. Что же касается упреков и сожалений, содержащихся в его книге, то они весьма лестны, и Жорж Санд вправе ими гордиться[228]. Господин Вальш, упрекая красноречивую неприятельницу общества в том, что она не приискала своему гению должного употребления, как будто говорит ей: «Как жаль, что при такой форме у тебя такое содержание!» Но насколько же несправедливы подобные упреки и насколько бесполезны эти благородные советы! Разве Жорж Санд повинна в том, что пишет под диктовку вдохновения? Разве она виновата в том, что душа ее пребывает в плену разочарования? Настоящий поэт поет лишь о собственных чувствах, а в них он не властен. Он может исправить стиль, но не может переменить мысли; мысли же эти он не выбирает, а рождает; они плоды его сердца, которое он способен разве что возделывать; большой поэт есть выражение своей эпохи; если сочинения его возмущают вас, проклинайте эпоху, которая его породила, но не обвиняйте самого поэта; если он печален, если он стонет и богохульствует, если нападает на общество, значит, настала такая пора, когда общество погрязло в злоупотреблениях; значит, настала такая пора, когда люди высшего ума пришли в уныние. В Англии, которая всегда опережает нас на несколько лет, вспыхнула звезда Байрона; во Франции явилась на свет Жорж Санд. Не упрекайте ее в том, что она ненавидит общество; упрекайте общество в том, что оно внушает ей эту праведную ненависть, в том, что оно дает своим врагам основания для триумфа. Причины Реформации — не в Лютере; они в забвении всех заповедей, которое взбунтовало целую эпоху и дало одному человеку силы для совершения этой страшной революции… Герой — это потребность эпохи, воплощенная в человеке; это всеобщая мысль, обретшая плоть и кровь; сходным образом великий поэт — это разительный симптом страданий эпохи, это ее жалоба, которую он выражает, это ее рана, о которой он возвещает; простите же Жорж Санд: она не виновата в том, что главная мысль нашего века есть разочарование. Не упрекайте ее в том, что песни ее горьки; орел, подстреленный охотником, не отвечает за крики, исторгаемые у него болью[229].
Судьба лионских рабочих[230] по-прежнему заботит элегантных парижских благотворительниц; лионский базар каждый день получает самые прелестные дары: превосходные картины, восхитительные коврики, очаровательные расписные вазы, экраны, вышитые носовые платки, веера, шкатулки, несессеры, чаши, альбомы, флаконы, жардиньерки, одним словом, излишества всех сортов.
Излишествами устроители базара называют все те милые пустяки, какие им присылают. Посему, сударыни, взгляните на свои этажерки и поищите там вещицы, которые вам разонравились; ведь самые прекрасные вещи дороги нам лишь постольку, поскольку связаны с нашими воспоминаниями. Оставьте себе треснувшую чашечку, которую получили в подарок от милого друга, и пожертвуйте беднякам великолепную чашу, которую вам поднес несносный зануда. Цена вещи — это та идея, которую мы с нею связываем, если, конечно, нам не нужно отдавать за эту вещь деньги; в таком случае все меняется, и идеей становится цена. Искусные феи, не оставляйте стараний: вышивайте платочки, шейте кошельки, изготовляйте ковры, подушки, абажуры, шнурки для звонков и отправляйте все это на лионский базар; две недели подряд элегантные завсегдатаи салонов будут твердить вам: «Как мило все, что вы делаете! Какие прелестные цветочки, какой очаровательный рисунок!» — и вы прослывете ловкими и пленительными, а затем, когда все это будет продано, рабочие воскликнут: «Какое счастье! Нам есть на что купить хлеба!» — и вы почувствуете себя добрыми и великодушными, иными словами, удовольствие вы получите в двойном размере, а тщеславие ваше оттого нимало не пострадает. […]
1 июня 1837 г.
Прогулки. — Тюльпаны господина Трипе. — Сен-Жерменское предместье
Бульвары все в цвету; настала пора красивых женщин и красивых платьев; каждое украшение — настоящий букет; розовый муслин, белый линон-батист, голубые косынки, сиреневая тафта — все радует взор; ныне перед нами уже не симптомы весны, а ее неопровержимые доказательства. На смену грубым черным башмакам пришли изящные башмачки из английской кожи и цветного сафьяна; женщина может ходить по улицам пешком и оставаться элегантной; все пешеходы мнят себя богачами; парижане выходят из дому не только по делам, но и ради прогулки; они останавливаются перед лавками, рассматривают эстампы, выставленные в витринах, изучают портрет принцессы Елены[231] и обнаруживают в ней сходство с самыми разными особами; саму принцессу они не видели, но зато у них полно родственниц и подруг, с нею схожих; один говорит: «Ах! Как она похожа на мою кузину Зенобию! Правда ведь, одно лицо?» — «Не думаю; на мой взгляд, она гораздо больше похожа на мадемуазель Дюбаллюар». — «Да ничего подобного! Мадемуазель Дюбаллюар брюнетка с длинным носом». Выскажем и мы наше мнение: для нас совершенно очевидно, что принцесса на портрете не похожа ни на кузину Зенобию, ни на мадемуазель Дюбаллюар; да и вообще зачем ей быть на кого-то похожей? Все дело в том, что парижанин никогда не испытывает потребности думать, но всегда испытывает потребность говорить: «не могу молчать» — вот его девиз, и однажды мы поговорим об этом подробнее… после чего вынуждены будем просить убежища в провинции.
Покамест мы поздравляем парижанина с тем, что он вновь обрел возможность прогуливаться, и хотим подсказать ему несколько маршрутов, о которых он и не подозревает и которые доставят ему удовольствие; советуем ему, например, отправиться в Аньер и посмотреть, как идет строительство железной дороги[232]; там он увидит телеги, которые ездят сами собой, увидит, как одна-единственная лошадь тянет восемь экипажей. Кроме того, мы рекомендуем парижанину побывать в доме 30 по проспекту Бретёя, позади Дома Инвалидов; там у господина Трипе он увидит собрание тюльпанов, не уступающее тем, какими богата Фландрия. «Фигаро»[233] совершенно справедливо сравнивает эти тюльпаны, грациозно покачивающие головками, этот блистательный яркий партер из четырнадцати грядок, с гигантской кашемировой шалью. Поспешите, если желаете полюбоваться тюльпанами: они проживут еще две недели; поспешите, прогулка доставит вам удовольствие; кто увидит разом шесть тысяч цветков, тот запасется приятными впечатлениями на целый год вперед.
Любители садоводства могут также отправиться в ближайшие дни на два аукциона; но это дело невеселое: цветы, продаваемые с торгов, розы, идущие с молотка, — какая жалость! Гулять под сенью дерев, услаждая свой слух музыкой распродажи; слушать вместо пения соловья рулады оценщика — все это не слишком увлекательно. Впрочем, поскольку любителей собралось много, их восхищение оказалось весьма прибыльным: одно-единственное карликовое банановое дерево ушло за тысячу франков; другое маленькое растение было продано за четыреста франков. Это чудо именуется cactus senilensis; вся оригинальность этого растения заключается в том, что на верхушке у него сидит беленький паричок. Впрочем, ничего особенно редкого мы в этом не видим; в свете такие cactus senilensis встречаются на каждом шагу.
По вечерам любители лошадей и хорошеньких женщин отправляются в цирк на Елисейских Полях: мы ведь уже сказали, что нынче все развлечения начинаются с прогулки и ею кончаются. В десять вечера все возвращаются домой, и наступает время беседы. Если рояль открыт, кто-нибудь начинает петь, берется, например, за один из новых романсов госпожи Малибран — романсов, которые ласкают слух, но навевают печаль, ибо они, к несчастью, пережили тот прекрасный голос, что один только и мог наполнить их смыслом, а затем разговор заходит об угасшей певице и о ее возвышенном таланте[234]. Потом гости принимаются пересказывать вести из Фонтенбло, а потом кто-нибудь спрашивает: «А вы читали книгу господина де Вьеля-Кастеля „Сен-Жерменское предместье“»[235]? Да, мы ее читали, и вот что мы по этому поводу думаем.
Та поспешность, с какою Сен-Жерменское предместье бросилось читать роман, направленный против него, куда лучше свидетельствует о его слабости и ребячестве, чем это делает сама книга. Между тем напрасно станете вы искать в «Жераре Штольберге» изображение Сен-Жерменского предместья; вы найдете там описание светского общества — того светского общества, которое одинаково везде и повсюду, но не найдете ни одной характерной сен-жерменской черты, ни одной исключительной детали. Женщины злословят, юноши насмешничают; чтобы увидеть это, незачем переправляться с правого берега Сены на левый[236]. Тот, кто дает своей книге такое точное название, должен быть готов к встрече с требовательными читателями. Открывая роман, озаглавленный «Сен-Жерменское предместье», мы ожидали найти там описание именно этого избранного общества; мы полагали, что сюжет романа будет связан именно с нравами этого общества; что героем романа станет один из его сынов, жертва его предрассудков, сомнений, пристрастий; мы думали, что героем этим станет юноша, который, будучи одарен умом и воображением, честолюбием и страстью, обречен по причине знатности своего рода и в угоду взглядам своей партии прозябать в самой бессмысленной праздности; в этом случае автор запечатлел бы особенности нашей эпохи и определенной касты. Некогда человек не мог сделать карьеру, если от рождения стоял слишком низка, сегодня он не может ее сделать, потому что от рождения стоит слишком высоко; юноша, который благодаря своему происхождению мог бы преуспеть во всем, из-за превратностей нашей политики вынужден не делать вовсе ничего; всякий день и на всяком посту люди, ему уступающие, будут его обгонять; можно простить им, если они менее родовиты, но если они вдобавок еще и менее даровиты, снести их превосходство нелегко. Сын управляющего, служившего в доме нашего героя, придет к нему в мундире полковника, и юноша помимо воли взглянет на этот мундир с завистью; бывший преподаватель нашего героя, всем обязанный его семейству, не придет к нему вовсе, потому что стал пэром Франции и должен вести себя соответственно своему званию… а сам юноша будет грустно размышлять о том, что и он мог бы заседать в палате пэров, когда бы не подал в отставку из чувства долга. Итак, человек умный, храбрый, образованный, деятельный не имеет в жизни никакого дела. Чем же он займется? Отправится в путешествие на три года, на четыре года, на шесть лет, а потом возвратится на родину во власти скуки и уныния. Чем он умнее, тем тягостнее окажется для него праздность. Будь он свободен, имей он возможность распоряжаться своим состоянием, он мог бы устроить в своем имении большую фабрику, усовершенствовать местное земледелие и промышленность и сделаться королем, а вернее сказать, благодетелем тамошней коммуны; однако состояние ему не принадлежит; им распоряжаются родители, а они сына не понимают; их мелкие интересы несовместимы с его высокими помыслами; их ограниченные и недалекие представления о чести неподвластны переменам, их бесплодная и праздная щекотливость не имеет ничего общего с истинной гордостью; благородный гнев они превращают в жалкую злопамятность, а их горестные сожаления о попранной справедливости недалеко ушли от зависти. Что же сделает наш юноша? Посвятит всю силу своей мысли, всю мощь своего характера великой, бурной страсти: он обязан влюбиться, ничего другого ему не остается; героем сражений ему быть не суждено; значит, он станет героем романа. Однако поскольку полюбит он от отчаяния, любовь его будет ужасна; прихотливый и переменчивый, он полюбит женщину до безумия, пустит в ход все богатства своей души и своего праздного воображения… но вскоре гордая душа его возмутится, и он начнет мстить своей возлюбленной за то, что живет ею одною; он станет изменять этому слабому созданию лишь для того, чтобы доказать свою независимость, а измены эти навлекут на него множество чудовищных злоключений, из коих проистечет множество несчастий, — и читатель будет удовлетворен. Некто сказал — и совершенно справедливо, — что сегодня Ловлас[237] был бы праздным легитимистом. Как бы там ни было, очевидно одно: для того, чтобы читатель испытывал сочувствие к герою романа, этот последний не должен быть просто величайшим бездельником, который только и знает, что кружить голову женщинам; с другой стороны, герой романа непременно должен быть влюблен; следовательно, для автора большая удача набрести на несчастного, который не занят ничем, кроме любви, но страшно горюет о том, что никакого другого дела в жизни ему не найти. Вот, по нашему мнению, характеристическая беда Сен-Жерменского предместья: сын пэра, наследник славного рода, обречен, по вине идей, исповедуемых его партией, вести печальное существование дамского угодника![238] Эта беда отличает именно Сен-Жерменское предместье; кварталу Шоссе-д’Антен она неведома; предместье Сен-Жак ее никогда не изведает; предместье Сен-Дени не в силах ее даже вообразить; понять ее способны лишь предместья Сен-Марсо и Сент-Антуанское[239], ибо хорошие рабочие знают, что в любом звании прискорбно не иметь никакого дела; да и вообще народ, чьими руками совершаются революции, один только и способен пожалеть тех, кто от этих революций страдает, ибо он один от них ничего не выигрывает.
Господин де Вьель-Кастель между тем поступил совсем иначе; героем он избрал немца, вестфальца; мы не в силах уразуметь, что общего этот человек имеет с Сен-Жерменским предместьем. Он приезжает в Париж и отправляется на бал к госпоже де Блакур, одной из знаменитостей Сен-Жерменского предместья. Это могло бы стать прекрасным поводом для язвительной сатиры либо для прелестной эпиграммы: можно было бы изобразить все Сен-Жерменское предместье, но не в особняке де Блакура и не у графини де Блакур, но в доме господина Флаша, или Блейка, или Блика, в доме безвестного чужака, принятого, обласканного, прославленного Сен-Жерменским предместьем в благодарность за несколько устроенных им балов и за несколько лишних свечей, освещавших эти балы; Сен-Жерменское предместье вполне заслуживает подобной пощечины. Впрочем, господин де Вьель-Кастель чуть позже отвешивает ее со всей силы и без пощады. Герцогиня де Шалюкс спрашивает юного немца, будет ли он на балу у господина Штилера. Господин Штилер — один из тех иностранцев, которые, не смея тратить в своем отечестве деньги, там награбленные, являются в Париж, дабы вращаться в кругу здешней аристократии. «Нет, госпожа герцогиня, — отвечает вестфалец Жерар, — я у него не буду… я его знаю; в Пруссии его все знают, но никто не принимает». — Урок суров, но полезен[240]. […] Когда упреки справедливы, мы им рукоплещем; но мы не можем согласиться с теми укоризнами, которые почитаем бесцветными. Автор упрекает великосветское общество в том, что в нем царит злословие, что в нем болтают вздор о тех, кто пренебрегает этим обществом, безжалостно клевещут на тех, в ком это общество нуждается и кто, однако, его бежит. Но, положа руку на сердце, разве не происходит то же самое и в любом другом обществе? Разве жители других кварталов отличаются большей снисходительностью? Разве в провинции не умеют оболгать ближнего? Разве, если юноша живет один в своем замке, его оставят в покое? Разве не сочинят на его счет множество самых странных и самых отвратительных сказок? Сен-Жерменское предместье похоже на все прочие предместья и общества; удивления достойна именно эта его похожесть; мы вправе были ожидать от него чего-то большего. Люди, которые с утра до вечера не занимаются ничем, кроме самоусовершенствования, могли бы держаться более любезно; умы, которые впитали в себя многовековую традицию элегантности и хорошего вкуса, могли бы выказывать больше изысканности; но ведь вы изображаете только светскую часть Сен-Жерменского предместья, вы смотрите на него извне, вы знаете только общество ветреное и фальшивое, а между тем вовсе не по этой исключительной, очень исключительной котерии должно судить обо всем предместье. Вдобавок завязка у романа ложная, он начинается так же, как тысяча других романов: героиня становится жертвой родительского произвола; ее забирают из монастыря, чтобы выдать замуж за человека, который годится ей в отцы. Провинциалы решат, что так все и обстоит на самом деле, что у нас по-прежнему, как до Революции, много отцов-тиранов и что юных дев по-прежнему приносят в жертву дряхлым старикашкам. Между тем все это совершенная неправда: сегодня мужей, напротив, можно упрекнуть лишь в излишней молодости; во всем Сен-Жерменском предместье найдется от силы десяток старых супругов, да и те были избраны по любви, пленены с помощью кокетства. Мы можем назвать вам два десятка супружеских пар, где муж и жена одногодки. В этом обществе множество супружеских пар могут быть названы образцовыми. Сен-Жерменское предместье — не что иное, как огромная голубятня, обитатели которой только и делают, что нежно воркуют. Наконец, господин де Вьель-Кастель обвиняет женщин из этого предместья в том, что они безжалостные кокетки, жестокосердые красавицы, не награждающие своих кавалеров ничем, кроме надежд, не умеющие ни мечтать о настоящем счастье, ни дарить настоящую любовь. Один неосторожный юнец воскликнул вчера, что это клевета; мы остановили его в ту секунду, когда он был готов перечислить дам, которые этого обвинения нимало не заслуживают. […]
8 июня 1837 г.
Въезд в Париж принцессы Елены
Сад Тюильри в прошедшее воскресенье[241] был великолепен: небо, король, народ и весна — все умножало его красу. Глазам парижан предстало зрелище одновременно и радостное, и величественное! Горе вам, провинциалы, вы не видели этой роскошной картины и не увидите ее, ибо полотно не сохранилось. Вы только представьте этот день, какого парижане не упомнят! Небо… синее! Деревья… зеленые! Народ… опрятный! Толпа… веселая и нарядная, наслаждающаяся ароматами сирени в цвету. Признайтесь честно, вы ведь никогда не видели ничего подобного? Обычно в Париже если небо синее, это значит, что деревья стоят серые от пыли; обычно в Париже если деревья зеленые, это значит, что только что прошел дождь и народ заляпан грязью; превосходной погодой, стоявшей в воскресенье, мы обязаны случайности, если не сказать несчастью: ради того, чтобы увидеть в один и тот же день столько листьев и столько цветов, чтобы насладиться в один и тот же час и весной, и летом, нам пришлось целый месяц мучиться в ожидании тепла. Но зато в прошедшее воскресенье природа была блистательна, разом и нежна, и могуча, и молода, и сильна! Свежая, но зрелая, неопытная, но безупречная, она напоминала порядочную девушку, которая впервые влюбилась в двадцать пять лет: любовь ее чиста, как всякая первая любовь, но девушка отдается ей без остатка, посвящает ей все силы души.
Как гордо тянутся вверх высокие каштаны! Какой великолепный вид имеют их роскошные цветы на фоне темной листвы!
Взгляните вместе с нами: какое прекрасное открывается зрелище! Перед нами главная аллея сада. Справа три ряда национальных гвардейцев; слева — три ряда пехоты. Позади них толпа — элегантная и переливающаяся тысячью цветов; перед нами — фонтан, устремляющий струю воды к солнцу; за струей воды виднеется обелиск, а за обелиском — Триумфальная арка. Вы все рассмотрели? Тогда поднимите голову, взгляните направо и налево: картину обрамляют высокие деревья и две террасы, заполненные народом; теперь опустите глаза и полюбуйтесь бесчисленными кустами сирени: все они расцвели в один день. Какой аромат! Какая прекрасная погода! Тсс! Вот и гонец; кортеж приближается. По аллее пролетает всадник, весь в пыли; за ним с неменьшей скоростью несется пудель; толпа покатывается со смеху. Проходит еще немного времени, и на аллею выбегает мопс, совершенно растерявшийся, если не потерявшийся; толпа смеется еще веселее. При виде этого первого, неожиданного кортежа толпа понимает, что следует запастись терпением. Женщина из народа, простолюдинка в круглом чепце, внезапно толкает престарелую кокетку: «Дайте мне глянуть на принцессу! Вы-то, сударыни, увидите ее при дворе». Старая кокетка бросает на женщину из народа взгляд, исполненный презрения, а затем говорит своей дочери: «Эта простая душа не знает, что v нее куда больше шансов побывать при этом дворе, чем у нас». — «Разумеется, — отвечает с улыбкой юная наследница, — если она выйдет за лавочника, то станет знатной дамой». Из этого разговора мы можем сделать вывод, что легитимисты тоже пришли взглянуть на кортеж. Кстати, вот наконец и он. Впереди движутся кирасиры; вот они разделились на две части, чтобы обогнуть пруд; блестящие кирасы отражаются в воде. Как это мило. — А вот конные национальные гвардейцы. Ах, какой великолепный конь у господина Л…! Да и вообще как хороша конная национальная гвардия!.. Вот король!.. Вот господин де Монталиве[242], вот остальные министры! Они промчались слишком быстро; ничего не разглядеть. — Вот королева: Какой у нее благородный вид! Как она хорошо одета! Синий капот восхитителен! — Принцесса Елена смотрит в нашу сторону; какая молоденькая! — Ах! Мне ничего не видно, кроме ее шляпы; шляпа — сущая прелесть; из белой рисовой соломки с длинным пером марабу. А какой элегантный наряд: муслиновый редингот с розовой подкладкой. Господин герцог Орлеанский верхом сопровождает карету королевы. — Но откуда взялись все эти женщины в экипажах свиты? Какие старые шляпы! Какие поношенные платья! Неужели ради торжественного въезда в Париж они не могли хоть немного приодеться? Серое платье с розовой шляпой — что может быть более заурядным? Кортеж имеет нищенский вид; экипажи уродливые и переполненные; так бывает, когда каретник, чтобы опробовать новую коляску и проверить, крепкие ли у нее рессоры, усаживает в нее всех своих рабочих и их друзей. Право, было куда приятнее дожидаться этого кортежа, чем видеть его воочию.
Как бы там ни было, эта принцесса, о которой нам в течение двух последних месяцев прожужжали все уши, наконец приехала! Ее облик оказался приятной неожиданностью; ни об одной царственной особе не слышали мы отзывов менее лестных; ни единого разу язвительные портреты не возымели лучшего действия. Поистине, злословие приносит куда больше пользы, чем лесть, не говоря уже о том, что враги, как правило, ведут себя еще более неловко, чем друзья.
Прибытие принцессы Елены во Францию явилось для нас полной противоположностью иллюзии. Плод заблуждения издали кажется прекрасным; но подойдите поближе, и чары рассеются; на сей же раз все обстояло совсем наоборот. Пока юная чужестранка оставалась в Германии, нам твердили: «Принцесса Елена — настоящее чудовище; тощая, неуклюжая, с мерзкой рыжей шевелюрой и огромными немецкими ногами; руки как палки, глазки маленькие, а рот большой; она уродлива, как госпожа Такая-то и как мадемуазель Такая-то», — и говорящие называли по имени самых некрасивых жительниц Парижа. Но вот наконец принцесса двинулась в путь… и уже через несколько дней портреты ее сделались более лестными. Из рыжей она превратилась в бесцветную блондинку; из чудовища — в женщину некрасивую, но не лишенную изысканности. — Принцесса подъезжает к границе. Бесцветная блондинка делается светлой шатенкой; ножки ее оказываются — для немки — сравнительно изящными; никто уже не называет ее некрасивой. — Она прибывает в Мец… Лицо у нее уже не лишено прелести, осанка исполнена благородства… В Мелене у нее обнаруживаются прелестные ножки и обворожительные ручки; хоть портрет пиши… — В Фонтенбло она предстает на редкость приятной особой, а в Париже — хорошенькой!.. Еще пара лье, и она сделается первой красавицей. Впрочем, и без того ясно: нас обманули, но все кончилось хорошо; отказ от прежних заблуждений доставил нам ни с чем не сравнимое удовольствие. Правда же заключается вот в чем: принцессу нельзя назвать писаной красавицей, но зато можно назвать прелестной парижанкой. Она принадлежит к числу тех миловидных особ, которых так любят у нас в Париже: хорошенькая головка в капоте, хорошенькая фигура в накидке, хорошенькая ножка в башмачке, хорошенькая ручка в отличной перчатке. Слишком худа, говорите вы? — но, господа, взгляните-ка на ваших любимых женщин; они далеко не так свежи, как принцесса, зато до ужаса тощи; не браните же то, что вы любите. В Париже реальность полностью зависит от видимости. Мир является нам в виде диорамы, панорамы или неорамы[243]; оптические эффекты составляют нашу ежедневную пищу; женщины у нас некрасивы? не страшно; если они кажутся красивыми, этого довольно. Важно не быть, а казаться. Итак, герцогиня Орлеанская — хорошенькая парижанка, женщина из числа тех, какие нам по нраву: ведь мы считаем красивым лицо, если оно миловидно, а фигуру — если она элегантна. Смею вас уверить, что в госпоже герцогине нет ничего от толстой красотки-немки с чертами правильными, но лишенными выражения, с походкой тяжелой и лишенной благородства; больше того, госпожа герцогиня обладает перед нашими парижскими причудницами тем огромным преимуществом, что она имеет вид принцессы, а они — вид кукол, между тем в куклах, на наш взгляд, ничего привлекательного нет: педантизм в области тряпок ничуть не лучше любого другого.
Мы не бываем при нынешнем дворе и вместо дворца Тюильри посещаем только одноименный сад, а потому нас трудно заподозрить в пристрастности; тем не менее мы испытываем искреннюю симпатию к молодой женщине, которая, нимало не обольщаясь и ничуть не страшась, согласилась стать женой наследника французского престола. Добро пожаловать в нашу прекрасную страну, в наше гостеприимное отечество, госпожа герцогиня! Что скажете: разве не остались мы весьма учтивыми рыцарями? Конечно, два месяца подряд мы кричали на всех углах, что вы самая уродливая женщина во всей Германии; мы лгали — простите нас. Конечно, наши галантные депутаты целых три заседания торговались из-за миллиона на ваши семейные нужды[244]; они обошлись с вами как со своей кухаркой, которой с превеликой охотой урезают жалованье; они пребывают во власти либеральных идей — простите их! Конечно, наши колкие журналисты каждое утро обрушивают на вас грубейшие оскорбления, посвящают вам несмешные эпиграммы и невнятные каламбуры; они отдают дань духу партий, французскому духу — простите их! Вы видели, как сияет от радости ваша новая семья; на то есть важная причина: король, ваш свекор, явился перед подданными, и впервые за последние два года ни один из подданных не выстрелил в него из ружья. Король сам был потрясен этим чудом. На небе ни единого облачка, на земле ни единого убийцы; какая удача! До чего же, однако, печальна жизнь, в которой удачей считается именно это! Да, госпожа герцогиня, вы отважная женщина, ибо, приехав во Францию, вы обрекли себя на разочарование во всех ваших убеждениях, на отказ от основ вашего воспитания; вы, дочь немецкого князя, еще верите в королевскую власть, а у нас от королевской власти не осталось и следа; вы, юная романическая особа, еще верите в достоинство женщины, а у нас женщина не пользуется ни малейшим уважением, даже ее слабость не внушает благоговения; женщину оскорбляют и унижают без стеснения и стыда, как если бы она могла отомстить обидчикам. Наконец, вы, ученица Гёте, отмеченная благословением великого поэта, вы, кому германский Гомер предсказал блестящую будущность, вы, вскормленная вымыслами и гармонией, вы еще верите в поэзию, а у нас поэзии больше нет! Спросите эхо, гуляющее под сводами вашего дворца, и оно ответит вам, что французские слова больше не рифмуются одно с другом; поинтересуйтесь у ваших августейших родственников, что сделалось с нашими великими поэтами; заговорите с ними о Шатобриане, сочинителе возвышенной поэмы «Мученики», — они ответят вам, что это легитимист, их злейший враг; заговорите с ними о Ламартине — они объяснят вам, что это депутат, который иногда голосует за предложения их правительства; заговорите с ними о Викторе Гюго — они скажут вам, что его не знают; ибо следует отдать должное нашей нынешней королевской власти, она вполне достойна нашей нынешней поэзии и представляет собой не что иное, как коронованную прозу; в царстве триколора из всех искусств важнейшим является живопись; Расин, живи он в наши дни и пожелай сделать свое имя и мысли известными июльским властителям, был бы вынужден намалевать какую-нибудь эмблему со стихотворной подписью. Таким образом, бедная молодая женщина, вы обречены проститься с вашими мечтами о величии и поэзии; во Франции сегодня не осталось ни принцесс, ни поэтов; у нас никто не будет вам льстить, никто не будет вас воспевать; при нашем дворе вы будете занимать место ничуть не более почетное, чем самая безвестная жительница Франции; зато, подобно ей, вы познаете блаженство, какое неведомо принцессам, приносимым в жертву царственному долгу: вы любите, вы любимы; утешьтесь же, любовь возвратит вам и поэзию, и королевскую власть.
15 июня 1837 г.
Пренебрежительность по обязанности. — Народные празднества.
— Определение счастья. — Принцесса Елена. — Виктор Гюго
Есть люди, которые уверены, что элегантность неотделима от пренебрежительности, которые убеждены, что презирать значит царствовать, и полагают, что, дабы прослыть человеком порядочным, необходимо брезговать народными празднествами. У них на все один ответ: «Как! Вы идете туда? Как? Вас забавляет это?» Послушать их, так та жизнь, которую ведут они, наполнена особенными удовольствиями, избранными радостями, исключительными ароматами и неповторимыми наслаждениями; говоря с ними, испытываешь унижение, ловишь себя на том, что завидуешь их блаженству, о глубине которого судишь по силе их презрения; не осмеливаешься признаться им в наивности, буржуазности, вульгарности твоих вкусов; смущаешься в их присутствии, как неотесанный крестьянин в присутствии горожанина; начинаешь сомневаться в том, что в самом деле счел забавным то празднество, от которого они постарались держаться подальше; краснеешь при воспоминании о той безумной веселости, которая тебя там охватила; теряешь веру в тонкость твоих ощущений при виде строгости их вкусов, — но все это до тех пор, пока ты наконец не найдешь в себе мужество разобрать это великое презрение, пока не обретешь довольно хладнокровия для того, чтобы оценить умственные притязания этих избранных существ и их право гордо предаваться скуке, и не обнаружишь, что все эти люди ведут существование самое ничтожное, что они наслаждаются забавами самыми бессмысленными, смеются над шутками самыми вульгарными, принимают за чистую монету разговоры самые неудобоваримые, самые праздные и, в довершение всего, восхищаются умами самыми посредственными; тогда ты вновь обретаешь независимость и осмеливаешься честно признаться в том, что ты существо не настолько чуждое мирозданию, не настолько отставшее от цивилизации, чтобы, повинуясь особой, высшей воле, видеть страшную пытку в том, в чем простые смертные видят источник радости.
В обществе людей элегантных издавна господствует убеждение, что нет ничего скучнее народного праздника. Мы и сами довольно долго разделяли этот предрассудок, но сегодня дерзаем его развенчать; мы смело признаемся, что любим народные праздники, потому что сыты по горло праздниками светскими. Во-первых, народные праздники имеют то преимущество, что проводятся под открытым небом и с открытым сердцем; во-вторых, публика там ведет себя куда более учтиво; если вам не раз случалось попадать в светскую сутолоку и в потоке избранников элегантности устремляться в залу для ужина, где уже давно нет мест; если вы на собственной шкуре испытали все колебания, все невольные капризы возбужденной великосветской толпы; если благоухающая рука в тонкой перчатке отвешивала вам восхитительный удар кулаком, а оголодавшая толстая графиня с неподражаемой грацией пихала вас локтем в бок; если вы видели, до чего может дойти гастрономическая страсть людей, слывущих благовоспитанными, — вы не станете строго судить толпу грубоватых простолюдинов и простите рабочему, который, невольно толкнув вас, непременно скажет: «Извиняйте!» — простите, потому что вспомните денди, который накануне наступил вам на ногу и даже не подумал извиниться[245].
Что касается нас, то нам народные праздники по душе; нас радует зрелище всеобщего веселья. Мы любим шесты с призом на верхушке, потешные огни и алюминации. Нам приятнее видеть сотню тысяч человек, развлекающихся на парижских улицах, чем четыре сотни человек, зевающих в гостиной; но мы бы не хотели, чтобы развлечения эти дорого обходились их участникам. Мы бы не хотели, чтобы праздник, устроенный для рабочих, привел их к разорению; мы бы не хотели, чтобы на неделе случалось два воскресенья. Зачем веселиться в среду[246]? Веселье в среду обходится очень дорого. Почему было не перенести праздник с сегодняшнего вечера на ближайшее воскресенье? Ведь это не тезоименитство, которое отложить невозможно. Зачем в городе, населенном рабочими и торговцами, без всякой нужды прерывать работу и торговлю? Для трудящегося человека потерянный рабочий день — настоящая беда. В такой день он много тратит и ничего не зарабатывает. Устраивайте же все ваши празднества в воскресенья, тогда народ будет развлекаться на них без горьких сожалений и сердечных угрызений. Правительству не пристало соблазнять малых сил; вы отменили религиозные праздники, не заменяйте же их своими собственными; не дарите господину префекту департамента Сена те часы досуга и покоя, какие вы отняли у Господа.
Сегодня с утра все ребятишки сияют от счастья; они весело скачут под окнами и кричат: «Погода хорошая, мама, погода хорошая; мы пойдем в лавочки на Елисейские Поля!» И воображению их представляется целая гора лепешек и пряников. Выйдя из дому, чтобы разузнать, как чувствует себя ваш любимый конь, который в последнее время как-то погрустнел и лишился аппетита, ибо не хуже вас ощущает наступление весны, — так вот, выйдя из дому, вы встречаете во дворе дочку вашей привратницы; голова у девочки окружена ореолом белых папильоток. Эти удивительные приготовления наводят вас на мысль о планах экстраординарных. На ваш вопрос девочка отвечает, с трудом сдерживая восторг: «Сегодня вечером мы с папой, тетей и слугой идем в гости к госпоже Жирар». Тем самым сразу объясняется явление папильоток. «Держи, — говорите вы, — это тебе на пирожное». И вы даете девочке 20 или 40 су — смотря по тому, сколько у вас при себе мелочи, а девочка благодарит вас, опуская глаза с видом мрачным и смущенным; впрочем, не успеете вы отвернуться, как она уже опять сияет от удовольствия, скачет, как козочка, и бежит хвастаться своей беленькой монеткой перед всеми жителями дома. «А мне господин с антресолей дал на пирожное вот чего!» — объявляет она, и вы мгновенно обретаете во всей округе громкую славу; теперь вы и шагу не можете ступить без того, чтобы не услышать, как некое юное и вполне корыстное существо вежливо говорит вам: «Здравствуйте, сударь». А поскольку вы уже успели позабыть ваш мимолетный приступ щедрости, вы предаетесь возвышеннейшим размышлениям о прекрасном воспитании, получаемом детьми из народа, и не догадываетесь о той основополагающей роли, какую сыграли в этом приобщении к цивилизации вы сами.
Сегодня все девчонки счастливы, они все обзавелись новыми платьями; девчонке так легко сотворить себе новое платье! Для этого довольно любой старой тряпки; материнские обноски дочке в радость: ведь бедняжка уверена, что платье у нее новехонькое — новее не бывает! С какой гордостью глядится она в зеркало, как прямо держит спину! какую значительность обретает в своих собственных глазах! какой любовью проникается к памятному дню, подарившему ей этот триумф, к торжественному дню, когда матушка расщедрилась на такой превосходный подарок! Новое платье — это уже радость, но платьем дело не ограничивается; девчонка получает в придачу старую шелковую косынку (какой восторг!) и старые перчатки (какая честь!); для детей из народа перчатки — знак достоинства, неслыханная роскошь, примета праздности! В результате юное существо блаженствует с утра до вечера: разве это пустяк? Разве подобные чувства заслуживают презрения? Увы! счастье заключается именно в этом — в цепочке мелких радостей, глуповатых удовольствий, дурацких наслаждений, которые каждый выбирает согласно вкусу и характеру; все это как раз и называется счастьем, ни в чем другом его искать не стоит. Для тех, кто любит, довольно взгляда, слова, улыбки; кому-то для счастья нужна новая шляпка, кому-то — букетик фиалок; одним — вкусный обед, другим — удачная рифма; речная прогулка, свежая клубника, увлекательная книга, прелестный романс, огонь зимой, лед летом, скверное вино для бедняка, английский скакун для богача — все это детали, ингредиенты, из которых складывается счастье. Издавна люди вбили себе в голову, что счастье — огромный драгоценный камень, который невозможно найти и за которым все охотятся, не надеясь на успех. Ничего подобного: счастье — это мозаика, составленная из тысячи мелких камешков, которые по отдельности не стоят почти ничего, но в умелых руках образуют очаровательный узор. Составьте свою мозаику со вкусом — и вы украсите себе жизнь; не упустите мимолетных радостей, которые дарят вам случай, характер или Небо, — и существование ваше исполнится приятности. К чему вечно пожирать глазами горизонт, когда у вас под ногами цветут прекрасные розы? Ах, боже мой! должно быть, самый верный способ не найти счастья заключается в том, чтобы вечно его искать.
Огюст Пюжен. Марсово поле.
Огюст Пюжен. Собор Парижской Богоматери.
Дайте же народу развлекаться в свое удовольствие и не смотрите свысока на его низкие забавы. Мы, не притязающие ни на что особенное, в том числе и на право предаваться скуке, мы располагаем сегодня вечером прогуляться по улицам и насладиться зрелищем народной радости; больше того, признаемся в нашей испорченности: мы никогда не дерзнули бы влиться в толпу, растекающуюся по залам Ратуши, и не найдем в себе сил побывать там завтра на пышном балу; зато сегодня мы совершенно спокойно отправимся на площадь Людовика XV[247] полюбоваться фейерверком. Все дело в том, что весной и летом развлекаться можно только на просторе и на свободе. Мы намерены побывать на грандиозном концерте в Тюильри; намерены осмотреть иллюминацию, украшающую дворец Бурбона и Триумфальную арку, и огненные гирлянды, озаряющие Елисейские Поля. Заранее расписываемся в своем легкомыслии: мы уверены, что найдем все это восхитительным и час напролет будем любоваться отражением всех этих огней в Сене, которая колышет их, но никуда не уносит. Мы будем радоваться так, как радуются все люди, чье воображение не испорчено, при виде прекрасного празднества, какое бы событие ни послужило для него поводом; будем радоваться так, как радуются все люди, чье сердце печально, но благородно, при виде чужих удовольствий; в душе мы поздравляем себя с тем, что не принадлежим ни к племени денди, ни к сонму модниц, не входим ни в разряд коммивояжеров, ни в число разбогатевших гризеток: это избавляет нас от необходимости из профессионального долга выказывать презрение ко всем народным забавам.
Если похвала приносит несчастье, хула, напротив, сулит успех. Не успеешь похвалить друга или слугу, как узнаешь о предательстве одного или о неловкости другого. С теми, о ком злословят, все происходит ровно наоборот. Не успели мы упрекнуть июльский двор в том, что он оставляет без внимания наших великих писателей, как двор внезапно сделался с ними любезен и предупредителен. Виктор Гюго поначалу отказался от приглашения на праздник в Версале[248]; весьма учтивое письмо от герцога Орлеанского, вдохновленное герцогиней Орлеанской, как говорят, переменило его намерения. В самом деле, можно ли сопротивляться таким настояниям; можно ли оставаться равнодушным к пленительным комплиментам молодой женщины, восторженной чужестранки, которая прибыла из далеких краев, дабы засвидетельствовать, как широко распространилась ваша слава! Итак, Виктор Гюго отправился в Версаль и был представлен герцогине Орлеанской. Все знают, как милостиво приняла принцесса автора «Собора Парижской Богоматери»[249]. «Приехав в Париж, я первым делом посетила вашу церковь», — сказала она писателю; какая прелестная фраза! Сегодня государи льстят поэтам лучше, чем поэты некогда льстили государям; впрочем, положа руку на сердце, льстить поэтам куда легче.
Давеча некто распространялся об искренней любви принцессы Елены к Франции, о ее живейшей симпатии к нам, о ее превосходном знании нашей страны. «Ничего удивительного! — воскликнул в ответ прославленный легитимист. — Ведь она провела целый месяц в Карлсбаде в обществе госпожи супруги дофина!» Как же великодушна эта изгнанница[250]: мы доставили ей столько горя, мы трижды разлучали ее с отечеством, а она дает такие превосходные уроки любви к нам!
22 июня 1837 г.
Призывание свободы. — Версаль, спасенный от крыс и депутатов. — Турнир в Тиволи. — Моды
О, какое счастье быть свободным, какое счастье наслаждаться самой лучшей из свобод, свободой мысли; не быть прикованным ни к одной партии, не зависеть от правительства, но и не заключать никакого соглашения с его противниками; не иметь необходимости защищать ни глупость одних, ни злонамеренность других; не отвечать ни за чьи поступки, кроме своих собственных, и действовать всегда от своего имени и в своих интересах; не отдавать отчета в своих действиях никому, кроме Господа; не ждать подсказки ни от кого, кроме собственной совести; вверяться безбоязненно тому чистому инстинкту истины, который вложен в нас Творцом и которому имя — вера; восхищаться, не ощущая себя льстецом, судить справедливо, не гордясь своим великодушием; искать хорошее во всем происходящем, как пчела собирает пыльцу со всех цветов; смотреть на мир незамутненным взором, слушать его голоса вольным ухом; странствовать по собственной прихоти и останавливаться по воле сердца там, где местность красивее, а солнце ярче; иметь возможность восхищаться страной, не спрашивая предварительно, кому она принадлежит, и рукоплескать актеру, не осведомившись заранее, как его имя; напевать любую арию, если она мелодична; упиваться любым ароматом, если он пленителен; смеяться всем шуткам и наслаждаться всеми талантами, каков бы ни был их политический оттенок; благоговеть перед всеми храбрецами, какое бы знамя они ни защищали. О, какое счастье не быть ни филиппистом, ни легитимистом, ни доктринером, ни революционером; не принадлежать ни к числу честолюбцев-победителей, ни к числу честолюбцев-неудачников; не иметь политических крестных отцов, не давать политических обязательств; не быть вынужденным ни ненавидеть, ни лгать по обязанности, — одним словом, быть свободным! Ибо, господа, именно это и есть настоящая свобода; не та толстомясая девка с мускулистыми руками, которую воспел господин Огюст Барбье[251], не покровительница каторжников, лакающая воду из уличной канавы, не завистливая мятежница, которая вот уж четыре десятка лет пытается навязать предместьям старое зеленое дерево без корней и старый красный колпак с дырками[252]… не та сварливая свобода, именуемая свободой печати, которая является в облике болтливой лгуньи, никого не слушает и вопит что есть мочи, чтобы не было слышно никого, кроме нее; нет-нет, та свобода, о которой говорим мы, не дочь народа, а дщерь Небес, она ниспослана нам Богом; ее божественное чело не увенчано никаким колпаком, оно окружено светящимся нимбом и копной вольно струящихся волос; легкие одежды укрывают нашу свободу, ничем не стесняя ее движений; она независима не благодаря силе своих рук, а благодаря легкости своих крыл; она не имеет обязательных атрибутов и не обзавелась деревом, которое надобно во что бы то ни стало воткнуть в землю; каждое утро она срывает ту ветку, которая ей по нраву, тот цветок, который ее пленяет; случается и так, что она несколько дней хранит верность одному и тому же растению, ибо она точно так же вольна и не изменять своим предпочтениям. Душа ее благородна, полна искренности и отваги; она не умеет скрывать ни восторга, ни презрения; ум ее всемогущ, она говорит на всех языках, ей внятны все науки, подвластны все искусства, она угадывает любые мысли… а между тем она всего-навсего юная дева, простая, неученая и целомудренная, ибо не бывает независимости без невинности; в невинности этой она и черпает свою силу; она парит над горами, чуждая шуму, который доносится из долины; она живет в развращенном мире, нимало не пятная девственную чистоту своих бессмертных риз; она сияет во тьме, как звезда на ночном небе, как жемчужина на дне морском, как поэзия в сердце человеческом… О чаровница-свобода! Воцарись на нашем престоле, низвергни с него старых твоих соперниц, по вине которых мы потеряли столько крови и столько лет; воцарись: ведь для счастья Франции недостает только тебя одной! Несчастные мы люди, а вернее сказать, несчастные вы люди: громкими криками призывали вы свободу личности и свободу вероисповедания, свободу печати и свободу торговли, но забыли драгоценнейшую из всех — свободу мысли! А без нее и все остальные не стоят ровно ничего. Вы заранее продали все ваши впечатления и все ваши идеи; у всякого вашего восторга имеется хозяин, у всякой вашей клеветы — подписчики. Если один из вас восклицает: «Как это прекрасно!» — ему отвечают: «Ты говоришь так, потому что тебе заплатили»; если другой сокрушается: «Как это скверно!» — ему отвечают: «Ты об этом судить не вправе, враг не может быть беспристрастным». Вы не можете похвалить действия властей, не навлекши на себя обвинения в лакействе; вы не можете вспомнить о годах, проведенных в изгнании, не навлекши на себя подозрения в бунтарстве; ваш голос… вы его уже обещали; ваше имя… вы им уже пожертвовали. Странная вещь! Вы больше не можете сказать правду, не нарушив клятву; вы больше не можете быть искренним, не ставши изменником! Вы не можете, в отличие от нас, поместить на одной странице два противоположных похвальных слова.
Вот первое: «Статуя Жанны д’Арк, выполненная принцессой Марией, — это шедевр изящества и вдохновения. О, если бы автор этой прекрасной скульптуры звался мадемуазель Леблан или мадемуазель Ленуар или мадемуазель Лефевр, какую блистательную славу мог бы он снискать среди художников! Впрочем, и без того сколько поэзии в этом жесте: юная французская принцесса посвящает свой досуг работе над изображением юной французской крестьянки, которая спасла Францию! Что за восхитительный сюжет для картины: принцесса Мария работает над статуей Жанны д’Арк[253]».
А вот второе: «Нам пишут из Вены: Я видел Mademoiselle[254]: невозможно вообразить особу более прекрасную, более очаровательную и более умную, с более приятными манерами. Можете поверить мне на слово, вы ведь знаете, что я очень переборчив».
Мы осмеливаемся поставить свою подпись под обеими этими заметками, потому что мы свободны. А вас нам очень жаль: ведь ваши серьезные соображения мешают вам быть справедливыми, лишают вас удовольствия хвалить то, что хвалить приятнее всего, — ум и талант, чистосердечие и красоту.
Кстати, несколько дней назад мы искренне порадовались тому, что можем, нимало не изменяя собственным убеждениям, восхититься тем прекрасным памятником, который, по нашему мнению, следует именовать Версалем спасенным, ибо замысел в данном случае великодушен и благороден вдвойне: мало того что нам дарят новый Версаль, нам еще и возвращают Версаль Людовика XIV; крысы и депутаты грозили разрушить дворец великого короля, но Луи-Филипп его спас[255]. Разумеется, досадно видеть дубовые стены в этом храме славы, которому пристало быть выстроенным только из мрамора; разумеется, этот приют маршалов уступает великолепием старинным золоченым залам, но кто в этом виноват? Не наш король, а наш век; мы не оставляем нашим королям времени на то, чтобы возводить дворцы из мрамора, мы не даем им денег на то, чтобы покрыть стены этих дворцов позолотой. Сегодняшний Версаль свидетельствует не о щедрости монарха, а о его умении экономить; возможно ли объяснить, не прибегая к этому слову, что такое величие современной королевской власти? Наблюдая за тем, как идут работы в Версале, Луи-Филипп все время повторял: «Лишь бы они позволили мне закончить все это!» Они — это убийцы; возможно ли объяснить, не прибегая к этой фразе, что такое незыблемость современного трона? И возможно ли поверить, что бюджета короля-гражданина, которому вчера грозила адская машина, а сегодня грозят пистолетные выстрелы, достанет на возведение дворцов из мрамора и на заказ лепных украшений с позолотой? Первая обязанность государя заключается в том, чтобы понимать суть своей эпохи; первая обязанность памятника заключается в том, чтобы эту эпоху представлять. В таком случае мы, кажется, вправе сказать, что и Луи-Филипп, и новый Версаль выполняют свой долг превосходно. Не их вина, что эпоха наша не блещет красотой, что лепнину заменяет гипс, а бронзу — твердый картон, что вместо послов в длинных париках мы видим депутатов с голыми черепами, а вместо бархатных камзолов — суконные фраки, вместо кружевных жабо черные галстуки, а вместо длинных орлиных носов — носы короткие и вздернутые. В Версале пленяет именно смешение всех этих разнородных вещей. Здесь присутствуют целиком и прошлое, и настоящее. Версаль — это и восхитительный портрет Марии-Антуанетты, который изорвали при Республике, и изображения великих сражений Империи, которые замалчивали при Реставрации, и, наконец, мысль, которая приходит на ум хладнокровным посетителям галереи Сражений: «Два приступа в один день!.. и ни одной из этих картин здесь бы не осталось!»
Кстати о сражениях: вчера в саду Тиволи[256] мы видели великолепный турнир; настоящий праздник, всегда бы так! Красавцы-рыцари в прекрасных доспехах, щитоносцы, герольды, пажи, а еще лошади — настоящие лошади с характером и капризами, которые встают на дыбы, наступают, не опуская передних копыт, как конь Абд-эль-Кадера, и выполняют самые разные упражнения; юные всадники, которые наряжены в роскошные театральные костюмы, но при этом вовсе не похожи на актеров; а еще женщины — по-настоящему молодые, чрезвычайно хорошенькие и одетые в благородные длинные платья для верховой езды, которые имеют такой очаровательный вид, а вовсе не в игривые туники цирковых наездниц, которые имеют вид оскорбительно легкомысленный; а еще упражнения — неизменно изысканные и изобретательные; никаких прыжков сквозь обруч, затянутый бумагой, никаких рисованных задников, никаких антраша, никаких улыбочек и воздушных поцелуев! Зрелище, не имеющее себе равных! Мадемуазель Каролина достойна всех тех рукоплесканий, которыми ее награждают; кадриль восьми лошадей восхитительна, вальс умопомрачителен. Браво, Тиволи, браво! Весь Париж пожелает видеть эту превосходную карусель[257], и не один студент попытается повторить проделку того славного малого, который, вспомнив, должно быть, о Франкони-старшем, вечером прошел в сад Тиволи без билета, уверенно бросив привратнику: «Я Тиволи-младший». Его пропустили.
Именно в Тиволи следует отправиться тому, кто желает изучить новые моды; именно туда съезжаются прекраснейшие женщины. Сколько элегантности, сколько свежести во всех уборах! Как выходит, что одна розовая шляпка не похожа на другую розовую шляпку, одна черная накидка не похожа на другую черную накидку, одна хорошенькая женщина не похожа на другую хорошенькую женщину? Взять хотя бы Французский театр; давеча женщины там были одеты точно так же, как и вчера вечером в Тиволи: те же капоты, те же накидки, те же платья из белого муслина, однако сравните одну публику с другой, и вы убедитесь, что они отличаются так же сильно, как улица Предместья Сен-Дени и улица Предместья Сент-Оноре[258]; однако объяснить, в чем заключается эта разница, мы не в силах, разве что прибегнем к знаменитому фенелоновскому не знаю что[259], к этому крику отчаяния, который вырывается у человека, тщетно пытающегося описать словами то, что пленяет глаз и ум[260].
На балу в Ратуше были замечены дамы в черных платьях с красной вышивкой; рисунок изображал коралловые ветви и языки пламени; нам этот наряд не по душе. Мораль: в области элегантности напоминания об аде неуместны.
Случалось ли вам бывать вечером в соборе Лоретской Богоматери[261]? Случалось ли слушать там религиозную музыку, на которую присутствующие обращают так мало внимания? В этой церкви слабо веришь, что находишься в храме, и мы очень хорошо понимаем ту молодую особу, которая, рассказывая отцу об этом благочестивом собрании, воскликнула: «Там так болтали! так ерзали! так шумели! Право, у меня душа болела за священников».
Значение всех слов относительно: поступок, который сегодня кажется ошибкой, завтра может предстать подвигом; приступ гнева может именоваться глупым безумством, а может — священным негодованием; убить человека — преступление, и тот, кто его совершил, именуется убийцей; убивать нескольких людей в назначенный час — это ремесло, и тот, кто его избрал, именуется палачом; убивать множество людей, выстроенных определенным образом, — это слава, и тот, кто ее завоевал, именуется героем. С подобными вещами мы сталкиваемся каждый день: не ответить на письмо — постыдная неучтивость; не ответить на полсотни писем — законное право, и право это принадлежит нам; за день от пятнадцати до двадцати человек просят нас уделить им несколько минут, мы надеемся, что нам простят наше отсутствие на всех этих бесчисленных свиданиях. Принимать каждое утро два десятка любезных и остроумных собеседников было бы, без сомнения, чрезвычайно приятно; увы, приходится признать, что мы не созданы для этого блаженства; вкушать его нам некогда.
29 июня 1837 г.
Самый ужасный день в году. — Бал национальной гвардии. — Душистая бумага
Туман застилает глаза, в воздухе сгущается тьма; с утра отовсюду доносился стук, а теперь дом содрогается от глухого домашнего грома; зловонные потоки желтой лавы разливаются по всем комнатам; кругом пустыня; грубые полуголые люди выносят наружу, словно скверный хлам, наши самые драгоценные сокровища и сваливают в кучу вещи, милые нашему сердцу. Стулья и кресла поставлены вверх ногами. На обеденном столе красуются предметы, какие менее всего ожидаешь увидеть в этом месте. Арфа под зеленым покровом возмущенно стенает от наносимых ей оскорблений, а позолоченная кровать, внезапно пустившаяся в странствия, изумляется при виде новых пейзажей, стыдливо задергивает легкий полог и вся дрожит от страха!.. Все дело в том, что настал самый ужасный день в году, день, который мы тщетно пытались отдалить; мы так долго не верили, что наступит весна, что сомневались и в приходе лета; однако же оно пришло; мы призывали его изо всех сил — значит, теперь надо радоваться, надо мужественно сносить жару и, главное, безропотно пережить тот роковой день, когда из дома выносят ковры.
Счастлив тот, кто в этот день может спастись бегством, поехать завтракать к другу и остаться у него до вечера! Несчастен, трижды несчастен тот, кого неумолимый долг заставляет провести эти чудовищные часы дома! Ни единого уголка, пригодного для жизни; в одной комнате нет даже стула, в другой собрана мебель со всего дома! Стулья взгромоздились на столы, диванные подушки влезли на стулья; шкаф напоминает осажденную крепость. Несчастный хозяин дома хочет позавтракать. «Ах, сударь! Да ведь чашки и ножи остались в шкафу». Несчастному приходится обойтись без ножа и пить из кухонного стакана; ничего удивительного: не стоит даже мечтать о нормальном завтраке в день, когда из вашего дома вынесли ковры.
Хозяину дома приносят счет на 60 франков; не желая заставлять торговца приходить еще раз за такой безделицей, он направляется к секретеру, чтобы взять деньги; он входит в спальню и машинально идет к тому месту, где этот секретер стоял испокон веков; но там пусто. Вспомнив, какой сегодня день, хозяин дома решает попытать счастья в гостиной; но она тоже пуста; люди, именуемые полотерами, освежают паркет. Что же делать! Несчастный возвращается назад и тайными тропами пробирается в столовую; поискав глазами секретер, он обнаруживает его в глубине комнаты, за роялем, и идет на приступ. Он пробирается между двух гор стульев, отодвигает диван, выказывает чудеса ловкости. И вот наконец он у цели; ключ вставлен в замок, секретер открывается — но не до конца; крышка его не падает, как подъемный мост, а лишь приотворяется, словно утренний цветок: раскрыться до конца секретеру мешает рояль, и все старания его несчастного владельца остаются тщетны. Перед роялем стоят кресла и огромный диван, их с места не сдвинешь; бедняга пытается просунуть руку в узкую щель, но рука застревает, и в конце концов ему приходится отослать кредитора ни с чем. Не стоит надеяться отыскать деньги в тот день, когда из вашего дома вынесли ковры.
Но и это еще не все: несчастный получил восхитительное письмо, в каждом слове которого сквозит любовь или, хуже того, кокетство, которое, впрочем, настоящей любви противопоказано; сочинительница этого упоительного письма приглашает нашего героя на обед. Он жаждет немедленно ответить ей; самые нежные слова толпятся в его уме; вне себя от радости, он желает двадцатью разными, но одинаково изысканными способами сказать «да» — ибо он, разумеется, принимает приглашение, принимает с восторгом. Он бросается к первому попавшемуся столу, но стол этот — ломберный; несчастный тревожно обводит глазами комнату в поисках письменного стола, но того и след простыл. Бедняга призывает слугу. «Франсуа, где, в конце концов, мой письменный стол?» — «Вон там, сударь». — «Да где же? Я ничего не вижу; ах, вот он где — за шкафом». В самом деле, письменный стол притаился за огромным шкафом работы Буля — слишком красивым и дорогим, чтобы кто-нибудь осмелился лишний раз сдвигать его с места. Не говоря уж о том, что перед ним стоит комод. «Дайте мне, по крайней мере, чернильницу». — «Простите, сударь, но я как раз решил ее почистить, там внутри скопилось очень много пыли. Вы помните, сударь, что посыльный ждет ответа?» Нет, положительно, тут никакого терпения не хватит!
Несчастный решается ответить устно: «Передайте, что я почту за честь… что я приношу госпоже Р… тысячу извинений за то, что не отвечаю ей письмом; дело в том, что у меня из дома вынесли ковры и мне не на чем писать». Франсуа, не поняв начала фразы, преподносит посланцу госпожи Р… свой вольный перевод, который звучит следующим образом: «Мой господин приносит вашей госпоже тысячу извинений за то, что не имеет чести ответить ей; ведь у нас из дома вынесли ковры».
И прибавляет от себя: «А пыль какая! Я уже три года здесь служу и никогда еще не видел столько пыли». Другой слуга отвечает со знанием дела: «Паркет придется натирать не меньше двух недель: иначе он блестеть не будет», — после чего уходит восвояси и является к своей госпоже. «Ну что?» — спрашивает она нетерпеливо. «Господин *** приносит тысячу извинений, он не сможет иметь этой чести, потому что у него из дома вынесли ковры». Госпожа Р… от изумления лишается дара речи. «Как это понять? — думает она. — Он не может обедать у меня, потому что у него из дома вынесли ковры?» Она зовет слугу: «Вы говорили с ним самим?» — «Нет, сударыня, я говорил с его камердинером, он сказал, что его господин был очень раздосадован и что он не может иметь чести написать к вам, сударыня, потому что у него из дома вынесли ковры». «Ах вот как! — думает госпожа Р. — Он не может написать и не хочет прийти! Все ясно: госпожа Б… и госпожа М… позвали его сегодня вечером на Елисейские Поля, их общество ему приятнее моего». Молодая дама бледнеет от обиды и стремительно меняет планы на вечер. Она хотела устроить у себя обед в домашнем кругу, а после обеда отправиться на прогулку в Тиволи; кроме господина *** она позвала одну молодую пару. Теперь она решается все переменить и провести день за городом, у сестры; она отдает приказания слугам и пишет молодой паре: «Я заеду за вами в пять часов, мы поедем обедать в Сюрен[262], возьмем с собой вашу крошку Изору, пусть поиграет с детьми моей сестры». Госпожа де Р… рассчитала все правильно; она знает, что ради удовольствия дочки молодая чета простит ей любые капризы. В шесть вечера она вместе с молодой четой и крошкой Изорой отбывает за город, и ровно в это же самое время дом несчастного господина *** вновь обретает жилой вид. Мебель расставлена по местам; секретер открыт: теперь можно заплатить по любому мелкому счету. Письменный стол стоит, как и прежде, перед окном; теперь можно ответить на сколько угодно любовных посланий. Юноша принимается одеваться, предвкушая долгий вечер в обществе женщины, который он очень хочет понравиться; поэтому одевается он особенно тщательно. Белые шелковые чулки его отличаются аристократической тонкостью; лакированные туфли блестят так, словно и не было всех утренних мучений; вид его прелестен; он доволен собой. Он чувствует, что неотразим. Нисколько в этом не сомневаясь, он пускается в путь. Легкое тильбюри мчит его к прекрасному особняку госпожи Р… Он спешит, он боится опоздать. Добравшись до цели, он выходит из экипажа прямо подле ворот и, отослав юного грума, пересекает двор; не слушая привратника, который пытается его остановить, он поднимается по лестнице и встречает дворецкого в синем фраке, в шляпе и с тростью в руке. Непохоже, чтобы здесь ждали гостей к обеду. Смущенный юноша спрашивает госпожу де Р… Дворецкий учтиво снимает шляпу и отвечает: «Госпожа де Р… уехала ОБЕДАТЬ за город». Поначалу несчастный стоит как громом пораженный, а затем бросается во двор, но прошло целых пять минут, и резвый конь уже умчал тильбюри очень далеко. Проклятие! Вдобавок ко всему несчастный вынужден пешком плестись обедать в соседний ресторан. Он быстро сообразил, в чем дело; он понимает, что госпожа де Р… не кокетка, что одно лишь недоразумение заставило ее так стремительно изменить планы; он догадывается, что простаки-слуги переиначили его ответ; он не знает, что именно они сказали, но уверен, что в точности они его фразу не передали. Он вспоминает записку, на которую должен был ответить, препятствие, которое помешало ему это сделать, и голос опытности твердит ему меланхолический припев: «Не стоит надеяться преуспеть в любви в день, когда из вашего дома вынесли ковры».
Так вот! Точно то же самое произошло и с нами, хотя наша история не имеет ничего общего с историей господина ***. Не вздумайте возмущаться этой фразой, лучше позвольте нам ее объяснить: разница в том, что нам никто не присылал любовной записки, а сходство — в том, что из нашего дома тоже вынесли ковры. Те, кто навещают нас в этот роковой день, вместо того чтобы посочувствовать нам, восклицают: «Что-то вы припозднились! У нас ковры выносили еще месяц назад. Прощайте». После чего закрывают дверь, обдавая нас клубами пыли, от которой мы надеялись уберечься, затворившись в самой крошечной комнате, и пыль осушает чернила по мере того, как мы выводим эти строки.
По этому случаю на память нам приходит рассказ, слышанный однажды от русского посланника при папском дворе господина Италинского, очаровательного и остроумного старца[263]. «Я находился в Неаполе во время знаменитого извержения Везувия, — рассказывал он, — огненные потоки были так обильны, что пепел залетал в мой кабинет и осушал написанные мною слова; каждые пять минут мне приходилось его стряхивать, иначе я бы не смог закончить донесение». О счастливец, тебе мешал писать пепел Везувия, а нам — всего-навсего пыль с бульваров! […]
Бал в Опере, устроенный национальной гвардией, начался на бульваре и при свете дня; любопытное было зрелище: одна половина Парижа, прогуливавшаяся пешком, рассматривала другую, прибывавшую в фиакрах. Конечно, явление национальных гвардейцев в мундирах и их супруг в бальных нарядах на бульваре в три часа дня — зрелище не из дюжинных[264]. В ожидании начала празднества приглашенные утоляли аппетит в фиакрах и вид при этом, надо признать, имели весьма забавный, однако смешными были вовсе не они одни; ничуть не меньше могли позабавить наблюдателя юные любители элегантности, бесцеремонно глазевшие на приехавших, громким голосом отпускавшие на их счет злые шутки, кадившие им клубами табачного дыма, без зазрения совести поднимавшие шторки их скромных экипажей и разглядывавшие седоков. Все это лишний раз доказывает ту истину, которую мы уже высказывали много раз, а именно: что элегантность не равна благородству, а щеголи не имеют ничего общего с людьми благовоспитанными. Этот пышный бал отличался еще одной удивительной особенностью: на улице все имели вид чудовищный, а в зале — восхитительный. Женщины, которые выходили из экипажа некрасивыми и заурядными, входили в свою ложу пышно убранными красавицами. Все взгляды приковывали к себе две жительницы предместий, очень хорошенькие и очень изящно одетые. Одна из них была в розовом муаровом платье поселянки и в восхитительном крестьянском чепчике с кружевами. На фоне множества плохо сидящих бальных туалетов этот простой наряд выглядел прелестно. Бал национальной гвардии превратился в настоящий праздник цветов; прославленная госпожа Баржон превзошла сама себя, но добрых слов заслужила также госпожа Огюстина Копен — молодая женщина, не уступающая в учености старому ботанику; ее стараниями возле дома 6 по бульвару Сен-Жак появился прекрасный сад, куда любители цветов отправляются за покупками, а любители прогулок — за впечатлениями.
Кстати о роскоши и элегантности: есть в этой сфере одно нововведение, которое мы призываем запретить по соображениям сугубо гигиеническим, смертоубийственный изыск, губительное извращение, которому следует незамедлительно объявить войну. Мы имеем в виду так называемую душистую бумагу, одного листка которой довольно, чтобы отравить всю квартиру. Вы полагаете, что подобные благоуханные послания пишут женщины? Ничего подобного, этим занимаются мужчины, крупные мужчины с крупным почерком; совсем недавно один из наших друзей лишился чувств после того, как открыл ароматическую записку от своей… нет, от своего поверенного! Врачи-гомеопаты, сделайте милость, положите конец эпидемии отравленных записок; времена Екатерины Медичи ушли в прошлое! Средневековье больше не в моде! […]
6 июля 1837 г.
Окрестности Парижа
Неделя выдалась на редкость печальная: неделя отъездов и прощаний, а прощания всегда тягостны, даже для людей, которые страстно желают уехать. Они желают уехать, хотя и не желают расставаться; все дело в том, что Париж сделался непригодным для жизни, здесь жарко, пыльно и пустынно; интересы элегантности и здоровья не позволяют парижанам оставаться дома. Париж нынче надобно искать на водах, в деревне — всюду, только не в самом Париже; на бульваре его сейчас не обнаружишь, и мы, того и гляди, вскоре отправимся по его следу; ведь нынче, чтобы оправдать заглавие «Парижского вестника», сочинять его приходится в Бадене, Карлсбаде или Мариенбаде. […]
В наших странствиях по окрестностям Парижа мы не миновали и Версаля, однако на сей раз пребывание там нас глубоко возмутило; следующий наш фельетон будет представлять собой пространную петицию, обращенную к королю французов. Мы располагаем сказать ему, что до сих пор никогда ни о чем его не просили, но нынче почитаем себя вправе попросить об одной вещи, а именно о том, чтобы публике было дозволено спокойно гулять по Версальскому музею с полудня до шести часов вечера. Дело в том, что давеча без пяти четыре нас выгнали оттуда с позором, причем выгнали даже не через главный вход; лишив нас права выйти в ту же дверь, в которую мы вошли, не дав нам времени бросить последний взгляд на картину, к которой мы только что приблизились, нас вынудили ретироваться по узкой и скверной потайной лестнице. Гнев душил нас; без промедления мы уселись в экипаж и отправились обедать к Легриелю в Сен-Клу[265]. Для жителей Сен-Клу открытие Версальского музея стало большой удачей; теперь следовало бы открыть какую-нибудь галерею в Сен-Клу — в интересах жителей Версаля. С посещениями исторического музея все обычно происходит именно таким образом: в начале полный восторг, в конце — великое разочарование.
На днях нам пересказали словцо, которое мы нашли прелестным: «Как же могу я не любить эту женщину? — сказал господин де Р… об одной из своих подруг. — Она так мила и вдобавок позволяет мне делать все, чего мне хочется».
Мы ужасно боимся, что наборщик поставит в последней фразе: «позволяет мне делать все, чего ей хочется», и заранее протестуем. Предатель-наборщик вполне способен на такую подлость; он заставляет нас говорить все, чего хочется ему.
13 июля 1837 г.
Публика в Опере. — Танцор-орденоносец. — Величие и падение слесаря.
— Франкони. — Прогулка. — ПРОХОЖИЙ
Париж нынче совершенно потерял лицо; парижан мало, совсем мало; дюжина элегантных кавалеров, полдюжины элегантных дам — вот и все, чем представлен большой город. Опера имеет жалкий вид; две-три хорошеньких женщины в трауре, несколько причудников в ярости, партер, заполненный клакёрами в исступлении[266], — вот что такое нынешняя Опера. Конечно, тягостно слышать неумолчный свист в самом прекрасном, самом богатом, самом модном театре Парижа; в прежние времена, если верить старикам, никто не дерзнул бы свистеть в Опере; охотно верим: но в прежние времена никто не дерзнул бы также и представлять в Опере бессмысленные балеты, какие, исходя из самых странных соображений, представляют нынче. Не говоря уже о том, что в прежние времена никто не посмел бы осквернить это святилище моды и хорошего вкуса присутствием подкупленных поклонников.
Если не брать в расчет эту новую публику на жалованье, зрители, приходящие в Оперу, делятся сегодня на два разряда: переменная публика, то есть посетители партера, куда каждый день являются новые зрители, и публика постоянная, то есть посетители почти всех лож, нанимаемых на целый год: в них зрители всегда одни и те же. В старину дело обстояло иначе: большая часть лож, включая самые удобные, принадлежали крупным государственным мужам или министрам: свои ложи имелись у обер-камер-юнкеров, у дежурных придворных, у наместника Парижа, а места в двух десятках остальных лож распределялись между целой толпой знатных дам и дам незнатных, но хорошеньких, крупных чиновников и чиновников мелких, но влиятельных; все они получали почетные места в ложе как милость, принимали эту милость с благодарностью, ожидали ее долго и терпеливо; все они — одни из тщеславия, а другие из скупости — довольствовались бесплатным посещением Оперы один-два раза в год. Эти зрители были весьма неприхотливы; если пьеса казалась им скучной, они утешались мыслью о том, что больше никогда ее не увидят; точно так же поступают сегодня зрители, принадлежащие к переменной публике: они жалеют, что пришли в театр, но покидают его безмятежно; они знают, что больше на эту удочку не попадутся; отсюда их безразличие: чем меньше заинтересованность, тем больше снисходительность. С постоянной публикой, однако, все обстоит иначе: нетрудно догадаться, что ей столь возвышенная философия чужда; для нее скверная опера означает потерянную зиму; бессмысленный балет — зря потраченный год; для нее один скучный вечер влечет за собой еще два десятка таких же; и если на представлении шедевра она готова по доброй воле присутствовать целых сто пятьдесят раз — а это немало, — она имеет полное право возроптать, когда ей столько же раз преподносят зрелище бессмысленное и бесталанное, оперу без певца или балет без танцовщицы[267]. Если все ложи в зале наняты заранее, дурной спектакль есть не что иное, как воровство. Вот и причина громкого скандала, разразившегося в последнюю пятницу; вот и причина того, что в Опере раздаются звуки, каких никогда не слыхали ее стены, а именно громкий свист. Мы можем во многом упрекнуть элегантных зрителей, занимающих места в литерных ложах: они громко разговаривают во время представления, они веселятся чересчур шумно и держатся чересчур заносчиво, однако на сей раз они были совершенно правы, и мы придержим наши упреки до другого раза. Вдобавок надо отдать должное этим зрителям: скверные произведения они принимают сурово, но зато произведения, достойные восхищения, вызывают у них бурный восторг: они безжалостно освистывают «Могикан»[268], но самозабвенно рукоплещут «Гугенотам»[269]; Дюпре они встречают с упоением, мадемуазель Тальони — с исступлением. Да, из их лож раздается громкий свист, но из этих же лож в дни заслуженных триумфов летят на сцену венки и букеты.
В свете очень недовольны министерством, наградившим танцовщика Симона крестом Почетного легиона[270]; недовольные неправы. Если танцовщик своим поведением заслужил этот знак отличия, несправедливо было бы лишать его этой награды. Наградить танцовщика крестом не стыдно; но вот оставаться танцовщиком, сделавшись кавалером ордена Почетного легиона, недостойно и неприлично; гримасы и прыжки, подобающие лишь дикарю, и даже реверансы и пируэты, обличающие человека цивилизованного, не пристали человеку награжденному, почести — тяжкий груз, не способствующий высоким антраша; слава требует жертв и вынуждает к лишениям. «Благородство обязывает», — сказал господин герцог де Леви[271]; некоторые почести несовместимы с некоторыми званиями: приходится делать выбор. Есть триумфы, приводящие к весьма разорительным последствиям, и с этим ничего не поделаешь; свидетельство тому — судьба слесаря из окрестностей Шатору, который имел честь отобедать у короля Франции, а вскоре после этого триумфа разорился. Этот славный малый уже много лет странствовал из поместья в поместье, чиня замки и проводя звонки; на три-четыре дня ему предоставляли кров, кормили его на кухне, он выполнял свою работу, а потом отправлялся дальше, вполне довольный жизнью. Но когда стало известно, что этот слесарь не просто слесарь, а национальный гвардеец, побывавший в Париже при дворе нового короля, обедавший за одним столом с королевой и принцессами, с министрами и послами, отношение к нему переменилось: никто уже не осмеливался кормить его вместе с горничными и лакеями; никто не дерзал докучать столь прославленной особе; работу стали поручать слесарю более скромному, а национальный гвардеец остался не у дел. Человек он был гордый и вместо того, чтобы выпрашивать у земляков слесарную работу, испросил у правительства должность лесника; теперь он расхаживает с саблей на боку и утешается вот какой мыслью: пускай у него нет ни денег, ни ремесла, но зато однажды в жизни он удостоился чести обедать в королевском дворце. Повторяю: слава требует жертв.
Если Опера имеет печальный вид, Цирк на Елисейских Полях[272] имеет вид плачевный; зрелище неописуемое! Канатные плясуны в фижмах; малые ребятишки, которые по четверти часа стоят на голове; лошади, которые громко храпят; прыгуны, которые то и дело падают, но повторяют один и тот же трюк без устали; высокий негр в белом перкалевом купальном халате и золотой повязке на волосах; полишинели, арлекины и прочее старье.
И еще, для полноты картины, женщины, сдающие внаем скамеечки для ног; они начинают преследовать вас со своими проклятыми скамеечками еще прежде, чем вы найдете себе место в зале, так что один толстяк-провинциал, вошедший туда вместе с нами, вообразил, что скамеечку ему предлагают не для ног, а для него самого, и в ярости воскликнул, что не потерпит такого издевательства. И еще торговцы веерами, которые вмешиваются в ваш разговор и предлагают купить веер за 4 су; одним словом, обычные парижские радости, доставляющие очень мало радости. Так обстоит дело в цирке Франкони.
Сад Тиволи более забавен: рыцарские поединки стали еще лучше, вальс пользуется еще большим успехом; конные упражнения милы, но затянуты.
Остаток вечера парижанин проводит у Тортони[273]; он ест там мороженое без сахара и дышит табачным дымом, а затем возвращается домой и с завистью вспоминает друзей, которые уехали за город и которые… умирают от скуки; но они, по крайней мере, умирают от скуки, дыша чистым воздухом, а это уже немало; вдобавок они прогуливаются: меж тем в Париже прогулки сделались невозможны. В Тюильри дорогу преграждают дети с серсо; на бульварах воздух отравляют турки в синих блузах, торгующие благовониями из сераля; не приведи господь очутиться в этом серале! Прогулка сделалась невозможна; фланёру некуда податься; город заполонили Омнибусы и Белые дамы[274]; они разъезжают повсюду; люди уже не ходят по улицам, а бегут; кажется, будто каждого жителя этого безумного города преследует мстительная Эвменида.
Что сталось с этим любимцем богов, поэтов и бедняков, с этим незнакомцем, которого всякий хочет пленить, с этим чужаком, который помимо воли вселяет в нас надежду, с этим таинственным существом, которое именуется ПРОХОЖИМ? Прохожий — человек неизменно любезный, который, никогда не поступаясь своим достоинством, служит забавой для всех окружающих. Слуги, сидящие у ворот, провожают его взглядом, судачат и отпускают остроты по его адресу; юная дева, выйдя на балкон, смотрит ему вслед с улыбкой; старый подагрик следит за ним из окна с завистью; расплакавшийся ребенок замолкает и не сводит с него глаз: каждому встречному он напоминает о какой-нибудь идее; каждому, сам того не ведая, дарит какое-нибудь чувство; он — воплощенное развлечение, а ведь развлечение — это почти всегда благодеяние; мы рады развлечься, когда нас мучают грустные мысли, но мы счастливы развлечься и когда нас услаждают мысли счастливые; приятно на мгновение оставить их, чтобы затем вернуться назад с еще большим удовольствием. ПРОХОЖИЙ — надежда торговца, шанс бедняка; так вот, прохожего в Париже больше не существует. Возможно, конечно, что на каких-то безлюдных улицах он иногда и показывается, но в блестящие кварталы заходить остерегается: ведь там ему не выжить. Нынче прогулка у нас превращается в сражение, а улица — в поле битвы; идти — значит сражаться. Вам преграждают путь тысячи препятствий, вас подстерегают тысячи ловушек; люди, идущие вам навстречу, суть ваши враги; каждый шаг, который вы делаете, есть ваша победа: улицы перестали быть свободными дорогами, позволяющими вам оказаться там, куда призывают вас ваши интересы; улицы сделались базарами, где каждый раскладывает свои товары, мастерскими, где каждый упражняется в своем ремесле; на тротуарах, и без того узких, раскинулась постоянная ярмарка. Вы выходите из дома, погруженный в свои мысли: важное дело, сердечная склонность или заветная мечта занимают вас безраздельно; положившись на господина префекта полиции, вы идете, потупив взор, не опасаясь ничего, кроме лошадей, экипажей или строптивых ослиц; опасности эти достаточно серьезны, но инстинкт заставляет вас избегать их машинально, бездумно; итак, вы движетесь вперед, не глядя по сторонам, как человек, всецело поглощенный своими заботами. На углу вашей улицы вас ждет первое препятствие… Перед винной лавкой выстроилась в образцовом порядке дюжина бочек; вы натыкаетесь на первую из них и ударяетесь довольно чувствительно; вы выражаете свое неудовольствие более или менее энергично, смотря по тому, каким языком вы привыкли изъясняться, сходите с тротуара и движетесь дальше. Мысль, владевшая вами, снова вступает в свои права; вы предаетесь ей и идете вперед без боязни. О господи! это еще что?.. вам под ноги только что вылили целое ведро воды; ничего страшного, это привратник позаботился о вас, оказал вам уважение; он освежил тротуар перед домом; сейчас тротуар мокрый, но очень скоро он станет сухим и чистым; впрочем, пока до этого еще не далеко, и вам снова придется сойти на мостовую. Вы набираетесь терпения и продолжаете свой путь. Внезапно вы ощущаете чудовищный жар и едва не задыхаетесь от густого дыма; вы смотрите вперед с ужасом: ничего страшного, это упаковщик колдует над своими коробами, устроившись прямо на тротуаре. Вы в третий раз сходите на мостовую и продолжаете свой путь. Все эти мелкие задержки вас раздражают, и вы ускоряете шаг. Бабах! Вы налетаете на стул! На стул, стоящий посреди тротуара. — Можно ли было этого ожидать? Что делает стул на тротуаре? И кто эта женщина, восседающая на соломенном стуле посреди тротуара? Это торговка зубочистками; она в глубоком трауре; начался он пять лет назад. Все запасы жалости своих соседей несчастная уже исчерпала, но горе ее ничуть не утихло. Мы бы посоветовали ей перебраться со стулом в другой квартал, где печаль ее будет в новинку. Но вы, вы исполнены почтения к ее несчастью, вы в четвертый раз сходите на мостовую и продолжаете свой путь. Чуть подальше вы возвращаетесь на тротуар. Навстречу вам движется стекольщик. «Сверкают крылья за плечами у него», иначе говоря, солнечные блики играют на поверхности огромных стекол, которые он несет на спине. У крыльев этих широкий размах, и вы отступаете вправо, чтобы дать стекольщику пройти; однако прижаться к стене дома вам мешает что-то холодное — это окровавленная бычья туша, висящая прямо перед лавкой мясника. Вы с ужасом отстраняетесь и ускоряете шаг; несколько минут вы движетесь без происшествий. Но тут налетает порыв ветра, и внезапно улица пропадает из ваших глаз. Это подняла паруса модная лавка. Отрезы муслина по 29 су за локоть парят, подобно воздушным шарам, платки по 22 су реют, подобно флагам победившей державы; ситцы вьются, ленты дрожат, набивные ткани трепещут, тафта шелестит, прозрачный газ ласкает вам кожу, лазурные косынки обвиваются вокруг шеи; вам кажется, будто вас вовлекают в хоровод сильфид, в танец баядер; ветер усиливается, ткани опутывают вас, вот вы уже в плену… наконец один из приказчиков, сжалившись, отпускает вас на свободу и вы, смеясь, идете дальше. Вы еще не вполне оправились от предыдущего испытания и не подозреваете, что следующее подстерегает вас в нескольких шагах; вы движетесь вперед без опаски и со всего размаху утыкаетесь головой в странную преграду, природу которой угадываете далеко не сразу; это существо неподвижное, но шевелящееся, существо живое, но имеющее вид картонного, существо, которое сопит, храпит, хрипит, выходит из стены, но не трогается с места; ожившая вывеска, фантастическое видение, каких мало… — Да что же это, в конце концов? Это начало лошади, конец которой вместе с кабриолетом прячется в импровизированном каретном сарае; это голова лошади, приглашающая вас воспользоваться всею лошадью целиком. Над воротами вы замечаете вывеску: Кабриолет к вашим услугам. Изнывающий от безделья кучер изо всей силы щелкает кнутом, давая вам понять, что он тоже к вашим услугам; и тут, желая положить конец мучительным неприятностям и спокойно предаться своим размышлениям, вы решаете воспользоваться любезным предложением и усаживаетесь в кабриолет, который, кажется, только вас и дожидался; вы вверяете себя скакуну, который имел дерзость столкнуться с вами носом к носу, лицом к лицу или, точнее, мордой к лицу, и не пеняете на это последнее препятствие: ведь оно избавило вас от всех прочих. Вот что такое прогулка по парижским улицам; вот почему прохожий — тот, которого так любили поэты и к которому обращались они в стихотворных эпитафиях, — больше не существует. Прежде говорили: «Это может распугать прохожих; это может насмешить прохожих». Теперь так больше не говорят, потому что прохожих больше не осталось; их заменили путешественники. Путешественниками теперь именуют людей, которые садятся в омнибус на площади Мадлен с тем, чтобы доехать до ворот Сен-Дени[275]; точно так же авторами называют теперь людей, сочинивших четвертинку водевиля: дистанции сократились[276].
Все дело в том, что сегодня тротуар принадлежит всем без разбору, за исключением того единственного, кому он предназначен изначально, — пешехода; торговцы фруктами расставляют на тротуаре свои корзины, торговцы фарфором загромождают его своей посудой ради хитроумнейшей из спекуляций: невозможно пройти мимо них, не разбив склянку, чашку или стакан, а за разбитое приходится платить: этот способ сбыть товар ничем не хуже любого другого. Покупатель поневоле — одно из прекраснейших изобретений нашей эпохи. Комиссионеры придумали неотразимые способы привлекать наше внимание. Они укладываются спать прямо на тротуаре, раскинув руки: невозможно пройти мимо, не споткнувшись и не свалившись в лужу, а человек, искупавшийся в луже, уже не осмеливается продолжать путь пешком; тут-то комиссионер и бросается за фиакром. Неприятности подстерегают путника не только на земле; с воздуха ему грозит ковровый дождь: с девяти утра до полудня из каждого окна вам на голову низвергается вся комнатная пыль. И добро бы еще только пыль! На шляпу одной из наших добрых знакомых однажды свалились английские ножницы. Это были прелестные, изящные ножницы; владелица, должно быть, до сих пор ищет их у себя дома, не подозревая, что в один прекрасный день по вине служанки они оказались прямиком на роскошной шляпе из итальянской соломки.
Неужели нельзя вытряхивать ковры во двор? Неужели от вашей любви к чистоплотности непременно должен страдать пешеход? Зачем вы усыпаете его дорогу остатками ваших трапез? Зачем бросаете ему под ноги ваши объедки? Зачем вынуждаете его наступать на корки ваших дынь, створки ваших устриц и листы не съеденного вами салата? На что ему знакомиться с этим ожившим меню ваших обедов? Дайти ему пройти, ничего другого он не требует; улица — его царство, и он имеет право наслаждаться ею свободно. Улица — дорога, а не дом; улица принадлежит тем, кто по ней проходит, а не тем, кто на ней живет[277].
20 июля 1837 г.
Французское легкомыслие. — Постоянство моды
Какой льстец первым осмелился назвать французов легкомысленным народом? Мы легкомысленные! да ничего подобного; на свете нет народа более степенного, более косного, более маниакального. А если что и лишено легкомыслия, так это мания; страсть порой еще можно превозмочь, но манию — никогда. Мы легкомысленные! да с чего вы это взяли? потому что мы занимаемся пустяками? но ведь мы занимаемся ими с величайшей серьезностью, а в таком случае о легкомыслии говорить не приходится. Для легкомысленного человека ничто не имеет значения; для нас же, напротив, имеет значение… ничто. Да простят нам эту игру словами, да простят нам, что мы прибегли к этому образу для описания французского легкомыслия. Мы не станем уподоблять французов бабочке на цветке, мухе на перышке, ребенку на качелях, ласточке на флюгарке, иначе говоря, чему-то невесомому, усевшемуся на что-то легкое; мы скажем иначе: французское легкомыслие — это толстяк, втиснувшийся в тильбюри, иначе говоря, это нечто чудовищно тяжелое, придавившее нечто хрупкое, не предназначенное для транспортировки такой тяжести; это непомерная цена, назначаемая за нестоящую вещь; это серьезное отношение к вздору, степенность в подходе к пустякам, великое усердие в исполнении бесполезных дел. Французский ум легок, это правда, но ум легок повсюду; француз, наделенный острым умом, изъясняется тонко, изящно, он изобретателен и серьезен, глубок и лукав, мудр и сумасброден, — однако остроумный иностранец мыслит точно таким же образом. Мигель Сервантес, не будучи французом, обладал всеми перечисленными достоинствами; к тому же легкость ума не имеет ничего общего с легкостью характера, а вот этой последней мы не обладаем и не обладали никогда. Говорят: француз легкомыслен; он умирает смеясь. Но позвольте! это не называется легкостью: это мужество, вера, надежда, возвышенная философия; это прекрасная сторона французского характера. Самозабвение не имеет ничего общего с легкомыслием. Легкомысленный характер прежде всего переменчив; у нас же не меняется ровно ничего, мы всегда одни и те же; мы, правда, время от времени меняем королей, но этим дело и ограничивается; забавы наши не изменяются, вкусы вечны, моды удручающе постоянны. Чтобы доказать прочность вещи, достаточно сказать: она проживет столько, сколько живут наши моды. Мужчины у нас уже три десятка лет щеголяют в уродливом платье и почитают себя неотразимыми; платья дам полтора десятка лет украшали рукава-буфы, именуемые бараньим окороком; вот уже сорок лет как не выходят из употребления галстуки из накрахмаленного муслина: как было бы прекрасно, если бы царствования наших королей соперничали в долголетии с нашими модами; ведь прожить столько же, сколько живут у нас моды, значит состариться[278].
Мы легкомысленные! да взгляните же на нас в день праздника, ведь характер народа высказывается явственнее всего именно в забавах: истина — в смехе. Самобытность народа особенно ярко проявляется в том, как он танцует. Сравните же французский танец с танцами других народов. Возьмите испанский танец: сколько гордости, сколько благородства! как подчеркивают движения элегантность талии! испанский танец — прелестный убор для красавицы. Возьмите итальянский танец: быстрый и страстный, он есть не что иное, как исступленный восторг воображения вечно деятельного, которое высказывается в движениях столь живых, что остановить их, кажется, невозможно; это наслаждение, граничащее с безумием. Возьмите немецкий вальс: какое воодушевление, какая томность, какое сладострастие! Возьмите, на крайний случай, английский танец — буйный и задорный… а теперь, после всего этого, возьмите танец французский: какое педантство, какая претенциозность! это танец актеров, которые ищут внимания окружающих и танцуют из одного тщеславия. И не подумайте, что кадрили так степенны только на великосветских балах; сельские кадрили ничуть не живее; балы Мюзара славятся веселостью не потому, что танцы там более яркие, а потому, что наслаждения там более грубые. И самое последнее: возьмите наш балет; здесь танец тоже отнюдь не блещет оригинальностью. Вот уже шесть десятков лет танцовщики радуют зрителей одними и теми же пируэтами; небесно-голубых пастушков сменили красно-белые крестьяне, но движения их, равно как и влюбленность в пастушек, остались прежними; вот уже шестьдесят лет они выражают свое восхищение одними и теми же жестами; точно так же, как и прежде, они восторженно сжимают руки или простодушно поглаживают подбородок, как бы говоря: «Какая она хорошенькая!» Все прекрасные новшества нашего балета пришли к нам издалека: они родились не во Франции. Мадемуазель Тальони прибыла к нам из Италии, мадемуазель Эльслер — из Германии. Их оценили, им рукоплескали; но и они не совершили революции; балет остался прежним; в Опере по-прежнему царит классический танец, и по одному этому можно судить о нашем характере — характере бесконечно серьезном; школьный учитель почел бы за счастье обзавестись такими серьезными учениками. Танцовщик выходит на сцену: он любуется собой, но старается этого не показывать; он откидывает корпус назад, разводит руки в стороны, отталкивается от пола и начинает кружиться на одном месте… кружится он довольно долго, а затем наконец останавливается, встав на обе ноги, и гордо оглядывается, как бы говоря: «Вот я какой!» На сей раз он уже не скрывает того, что чрезвычайно доволен собой; он очень медленно поднимает ногу, некоторое время держит ее на весу, потом начинает вертеться на второй ноге, а первая при этом остается в воздухе, как у марионетки на веревочке; повертевшись всласть, он наконец опускает поднятую ногу на землю и топает обеими ногами с видом победителя, после чего принимается извиваться и корчиться с самым серьезным видом и занимается этим до тех пор, пока не почувствует потребности отдохнуть; тогда он устремляет восхищенный взор на балерину, а затем все повторяется вновь; этими телодвижениями танцовщик будет радовать вас каждый вечер, не внося в них ни единого изменения. Нашелся смельчак, который попытался ввести новую манеру танцевать: Поль не входил, а влетал на сцену; он порхал, как зефир, и это было очень мило, потому что он порхал для собственного удовольствия, а не выбивался из сил ради удовольствия зрителей. В его полетах не видно было ни умысла, ни труда. Успех он снискал огромный; казалось бы, следовало извлечь из этого урок. Ничего подобного: французы посмотрели, как Поль танцует, послушали, каких рукоплесканий он удостаивается, но стоило ему покинуть сцену, как в ход опять пошли прежние гримасы и прежние ужимки. Манеру Поля приняли, но не усвоили; в Опере новое допускается только на том условии, что оно не переменит ничего старого. Так обстоит дело не только с танцем, но и с пением: в Опере приняли Дюпре, потому что Дюпре талантлив и делает сборы, но подражать ему не стали; его методе отдают должное, но к ней относятся как к чужеземному капризу, и никому из актеров, выступающих вместе с Дюпре, не приходит в голову подражать его манере, имеющей такой большой успех[279]. А вы говорите, что мы легкомысленны! Да взгляните на наши моды, наши забавы, наше искусство, и вы поймете, что мы народ не только не переменчивый, а напротив, самый постоянный из всех. Турки расстались с тюрбаном, но французы никогда не расстанутся со своей круглой шляпой. Испанцы сумели какое-то время обойтись без боя быков, но французы никогда не смогут обойтись без пируэтов. Мораль: народ, чьи танцы унылы, фантазии неизменны, а моды вечны, не относится к числу легкомысленных!
3 августа 1837 г.
Праздник 29 июля[280]. — Зонты
Говорят, что, если в день мятежа идет дождь, мятеж отменяется; мы вправе утверждать, что с праздниками дело обстоит иначе: празднику дождь не помеха. Злые языки утверждают, что если бы 29 июля 1830 года шел дождь, революция бы не состоялась; так вот, в нынешнем году 29 июля дождь лил как из ведра, и тем не менее празднование годовщины этой революции состоялось: ни одного из зрителей дождь не испугал. Вполне вероятно, что и в 1830 году те, кто совершал революцию, выказали бы неменьшую отвагу. Что касается нас, мы убеждены, что народ так же любит сражаться, как и глазеть, и что, раз он не испугался огня, то не убоялся бы и дождя.
В прошедшую субботу дождь зарядил с самого утра, и такой сильный, что мы засомневались, стоит ли отправляться смотреть состязания; мы опасались, что никто не захочет в такую погода выходить из дома; однако кто ничего не видел, тому нечего сказать, а мы хотели что-нибудь увидеть, чтобы иметь право что-нибудь сказать; ведь мы сочиняем наши безделицы с такой же тщательностью, с какой королевские докладчики сочиняют свои доклады; мы говорим только то, что знаем, высказываем только то, что думаем, рассказываем только о том, что видели; нам не нужно ничего, кроме правды, и если зрелище нас пленяет, если празднество нас забавляет, мы тотчас прикидываем, как о нем рассказать, тотчас принимаемся искать способы поделиться нашими впечатлениями с читателями[281].
Поэтому в субботу в два часа пополудни мы уселись в экипаж — не ради того, чтобы насладиться празднеством, а ради того, чтобы убедиться, что его перенесли на завтра, и ничуть не сомневаясь в том, что не встретим в городе ни единой живой души. На углу Королевской улицы дорогу нам преграждают конные муниципальные гвардейцы: «Проезда нет!» Мы разворачиваемся и двигаемся другим путем, намереваясь добраться до моста и переехать на другой берег[282]; перед нами вырастают другие муниципальные гвардейцы с тем же предупреждением: «Проезда нет!» Между тем на улице нет ни одного экипажа, кроме нашего, а все ужасное скопление народа состоит из одного комиссионера и одного инвалида, так что мы весело смеемся над мнительностью властей, которые так тщательно охраняют нас от мнимой толпы. В конце концов мы находим улицу, не охраняемую муниципальным цербером. Мы пересекаем Сен-Жерменское предместье и подъезжаем по Бургундской улице к входу на трибуны, обозначенному в пригласительном билете: тут разражается грандиозная гроза с жутким ливнем и свирепым ветром; дамы, подъехавшие к месту назначения одновременно с нами, робеют при мысли о необходимости проделать пешком путь до трибун, возведенных на набережной Орсе; насквозь промокшие лакеи отдают кучерам приказание, свидетельствующее о полной капитуляции: «Домой!» Мы намеревались последовать их примеру, как вдруг особа, составлявшая нам компанию, поделилась с нами следующим соображением: «Эти дамы уезжают, потому что боятся испортить свои новенькие хорошенькие шляпки; а дождь-то уже почти кончился; посмотрите сами». Мы смотрим, видим шляпу нашей спутницы и постигаем причину ее храбрости. После чего выходим из экипажа и отважно направляемся к набережной; тут-то нас и ждет удивительное открытие: набережная заполнена народом; тысячи веселых мокрых людей смотрят на реку; с зонтов капают слезы, но на лицах цветут улыбки. Состязания идут своим чередом, невзирая на ненастье, на воде и под водой.
Нет ничего более странного, чем наблюдать с высоты трибуны за парижанами, укрывающимися под огромной пеленой из зонтов одного цвета; можно подумать, что на берег выбросился огромный кит; народу там много, в толпе так тесно, что под одним и тем же зонтом умещаются пять или даже шесть человек. Во Франции зонты все одинаковые. То ли дело Италия! Там видишь зонты красные, зеленые, синие, желтые, розовые, оранжевые, фисташковые. Под такими зонтами толпа напоминает роскошную клумбу. Наши зонты суровы, они не радуют глаз; ясно, что ими пользуются только по печальной необходимости, недаром их называют parapluie, что означает «против дождя». Итальянец же вынимает зонт в солнечный день и называет его соответственно — ombrella, что означает «ради тени».
В тот самый миг, когда мы вошли в павильон с трибунами, гроза кончилась. Место у нас было превосходное, а зрелище, представшее нашим глазам, — прелестное. Мы хотели бы передать наши впечатления во всех подробностях — передать не вам, парижане, знающие все либо не желающие знать ничего, но вам, друзья-провинциалы, которым мы стремимся служить верой и правдой. Начнем с фона: в глубине картины сад Тюильри, купы деревьев на террасе вдоль реки; на краю террасы густая толпа, чудом умещающаяся на этой узкой полоске земли, нависшей над обрывом. Это — самый верхний слой зрителей; ниже, на набережной, толпится следующий слой; еще ниже, у подножия набережной — третий слой и, наконец, в специально выстроенных павильонах — четвертый. На набережной возведены пять высоких колонн, на которых золотыми буквами выведены даты 27, 28, 29 июля 1830 года; те же цифры 27, 28, 29 обозначены на тысячах трехцветных знамен: 27 — на синей полосе, 28 — на белой, а 29 — на красной. Когда отмечаешь годовщину трех славных дней, очень кстати приходится трехцветное знамя. Павильоны, обитые красным и увенчанные синими, белыми и красными фонарями, имели очаровательный вид. Но это еще не все: особенно хороша была Сена, принарядившаяся по случаю праздника; Сена с ее длинными лодками и большими пароходами, над которыми реяли ленты и вымпелы всех цветов, с ее моряками и военными оркестрами, с гребцами, которые были почти полностью скрыты под легкими знаменами и напоминали трехцветных бабочек, порхающих над волнами, и с шутниками, которые пускались вплавь в бочках и поначалу гребли руками, а потом, когда бочка наполнялась водой, весело шли на дно под рукоплескания толпы. Да! Сена была очень хороша, и, любуясь ею, мы задавались вопросом, отчего такая прекрасная река так мало участвует в развлечениях парижан. В Лондоне Темза имеет праздничный вид во всякий день; тамошние жители наслаждаются речными прогулками постоянно, парижанам же наслаждения такого рода неведомы; отчего? Должна же быть какая-то причина, по которой городу, обожающему развлекаться, развлечения на воде незнакомы; быть может, мы все страдаем водобоязнью? Если так, это бы многое объяснило.
Участники состязания были разделены на две команды: синих и красных. Впрочем, одеты они все были в одинаковые белые куртки, различались только головные уборы. Две лодки двигались навстречу друг другу; на носу у каждой стоял боец, вооруженный копьем, а вернее сказать, длинной палкой с кожаным наконечником; каждый боец приставлял острие, а вернее сказать, наконечник своего копья к груди противника; толчок оказывался таким сильным, что один из двоих непременно терял равновесие и падал в воду; тут раздавались фанфары и с берега взлетали в воздух ракеты в честь победителя; все красные проиграли, за исключением одного, и борьба продолжалась между синими; никто не хотел уступать; не однажды обоим бойцам удавалось удержаться на ногах. Но рано или поздно всякой борьбе приходит конец; два победителя, синий и красный, отправились за наградами к господину префекту департамента Сена, и он надел им на шею широкую синюю ленту и широкую красную ленту — знаки ордена Почетного легиона и ордена Святого Духа; ленты были налицо, но отсутствовали орденские планки, слава, брильянты и идея, которая за всем этим стоит. Победителей окружали их союзники; один из них был одет в розовую куртку, цвет которой надолго приковал к себе наше внимание. Треуголка и длинный шарф придавали этому человеку вид столь важный и суровый, что мы никак не могли постигнуть причину, заставившую его облачиться в наряд столь веселого и столь яркого цвета; наконец он обернулся к нам, и все разъяснилось. Человек этот был знаменосцем команды красных; знамя его промокло и полиняло на белую куртку, отчего та с одной стороны приобрела цвет клубнично-ванильного мороженого; эта-то розовая половина и не давала нам покоя в продолжение всего праздника.
Вечерний фейерверк понравился всем без исключения; огненный дождь лился с моста в реку так долго, что казался настоящим. Павильоны были иллюминованы великолепно: тысячи трехцветных светильников, раскачивавшиеся на ветру и отражавшиеся в воде, производили колдовское впечатление. Декорация из третьего акта «Гугенотов»[283] повторялась на берегу Сены сотни раз — прелесть да и только. Сена, как и утром, была покрыта лодками, но теперь все они были освещены и отбрасывали фантастические тени. А когда внезапно вспыхивавшие бенгальские огни освещали толпу, в восхитительное зрелище превращались сами зрители. Забавно было следить за колебаниями толпы. Сначала все взоры устремились к мосту Согласия, откуда взлетали ракеты; внезапно среди клубов дыма к небу стал подниматься воздушный шар; корзина его, объятая пламенем, взорвалась в вышине, и в окружении звездной короны зрителям явилась огненная цифра 27. Толпа взревела от восторга. Теперь ее внимание было приковано к воздушному шару, однако ветер неумолимо гнал его в сторону, противоположную фейерверку, и вот в одно мгновение вся толпа, словно идеально послушный батальон по приказу командира, поворачивается и глядит вслед воздушному шару. Только представьте себе: сто тысяч человек поворачивают головы одновременно. Воздушный шар скрывается из глаз; фейерверк продолжается; тогда вся толпа возвращается в исходное положение и продолжает любоваться фейерверком. Несколько ракет взлетают в воздух, а потом в небо поднимается воздушный шар, похожий на первый; из него рождается огненная цифра 28. Он улетает в том же направлении, что и его предшественник, и народ, провожающий его глазами, опять поворачивается, чтобы подольше не терять его из виду. Взлетает третий шар, несущий в своей корзине цифру 29, и толпа снова производит свое колебательное движение с той же четкостью и с тем же единодушием. Эти регулярные колебания, это совершенное единодушие такого огромного множества людей представляли собой зрелище поистине захватывающее; казалось, будто предвечный полководец производит с небес смотр бесчисленной армии, а адъютанты командира на воздушных шарах разносят его приказы по всей земле от Северного полюса до Южного. Эти три воздушных шара с цифрами 27, 28, 29 снискали наибольший успех, хотя сноп, завершивший фейерверк, был ничуть не менее великолепен, а в самих шарах злые языки усмотрели эмблему Июльской революции и ее обещаний: было да сплыло. Мы, напротив, полагаем, что Июльская революция превосходно сдержала все свои обещания; она принесла нам все, что сулила, как то: мятежи, тревоги, гибельные амбиции, смешные претензии, разоблачения великих героев, оправдание великих преступников, замену старых злоупотреблений новыми, ошибки и добрые намерения, преступления и благородные деяния, великодушные помыслы и вздорные речи, — обычные плоды всякой революции и всех вообще человеческих предприятий; итак, нас Июльская революция не обманула, и мы никак не можем усмотреть в трех воздушных шарах ее аллегорию.
Зато нам очень понравилось словцо, сказанное при виде фейерверка одним рабочим. «Знаешь, — сказал его товарищ, — на все эти огни, говорят, ушло пятьдесят тысяч франков». — «Пятьдесят тысяч франков! — повторил наш рабочий. — А как быстро мы бы их пропили!» Не знаем, право, считать это признанием или эпиграммой. […]
19 августа 1837 г.
Семейные торжества и раздача наград в коллежах. — Отшельник из Тиволи
Последняя неделя была посвящена семейным торжествам. Не думаю, что мы сильно ошибемся, если скажем, что в день Успения Богоматери[284] в Париже было продано более двадцати тысяч букетов. По улицам, куда ни глянь, плыли миртовые ветви, благоговейно обернутые в белую бумагу! Куда они плыли? к матушке или тетушке, к сестре или кузине! У кого не найдется хоть одной родственницы или приятельницы по имени Мария? Только круглый сирота, безутешный вдовец или изгой, отверженный и небом, и землей, не подарит в день Успения букета цветов ни единой женщине. Ведь в Париже все женщины, и молодые, и старые, именуются Мариями; всех девочек тоже зовут Мариями: это прелестное имя, которого, пожалуй, недостоин вообще никто, выбирают у нас не столько из набожности, сколько из претенциозности; поэтому-то оно и сделалось столь распространенным. В прежнее время в моде были имена романические и самые удивительные: новорожденных девочек нарекали Памелами и Пальмирами, Коралиями и Клариссами, Зенобиями, Кларами и Клориндами, Аглориями и Аглаями, Амандами и Мальвинами; важно было придумать такое имя, какого до сих пор не носил никто, а еще важнее — чтобы молодую барышню звали не так, как ее горничную. Сегодня эта мода ушла в прошлое, и мы о том ничуть не жалеем; однако немногим лучше и противоположная крайность; на наш вкус, претензия на простоту, которая заставляет всех матерей давать своим дочерям одно и то же имя, ничуть не менее смешна; нынешней зимой на одном детском балу мы насчитали двадцать две Марии; в разных концах залы то и дело раздавался крик: «Мария! Мария! скорей пойди сюда!» — и в тот же миг двадцать две девочки бросались на зов! Самые замечательные вещи становятся отвратительными, если пользоваться ими, не зная меры; в конце концов это прелестное имя нам вконец опротивело. Да, дошло до того, что мы, пожалуй, с распростертыми объятиями встретили бы в ту минуту Кальпурнию, Фатиму, Исмению или даже Фредегунду; все эти имена показались бы нам менее претенциозными, чем нежное имя Мария, которое, войдя в моду, утратило благородство исключительности.
На смену семейным торжествам пришли торжества школьные: в коллежах началась раздача наград — одно из самых трогательных событий года. Это радостный день для родителей, даже если эти родители — король и королева. Одна мать, узнав, что ее сын оказался лучшим по истории, произнесла очаровательную фразу. «Я думаю, — сказала она, — что в его положении эта награда — лучшая из возможных». Эта мать — королева французов. Господин герцог Омальский должен быть доволен своей победой, ибо она, по всеобщему признанию, вполне заслуженна[285]. Спросите у его преподавателей и, главное, у его соучеников. Нам рассказали, что господин герцог де Монпансье ловил рыбу в Нёйи[286], когда ему сообщили, что он стал лучшим по естественной истории; известие это так обрадовало и так взволновало принца, что он выронил удочку, и рыба, которую он готовился вытащить из воды, ускользнула. Это лишний раз доказывает, что от триумфа великих порой случается польза и малым… включая малых рыбок.
Король был совершенно прав, когда позволил своему сыну испытать одно из прекраснейших ощущений детства, да и ему самому приятно, должно быть, забыть на время о тяготах правления и, уподобившись самому обычному отцу семейства, наблюдать за тем, как венчают его сыновей. Единственная привилегия, которую он себе выговорил, — присутствовать при награждении вместе со всем семейством; остальным родителям этого права не дано; каждому ученику позволено привести с собой только одного человека: отца или мать; правило суровое, но для всех места не хватит. Герцог Омальский и герцог де Монпансье получили, таким образом, дополнительное удовольствие; свидетелями их триумфа стали все их родственники: отец и мать, тетка[287], сестры и братья; однако избыток родных был единственным отличием, выдававшим королевское происхождение двух учеников. Увы, это, пожалуй, также единственная их привилегия, которой можно позавидовать.
Вчера мы присутствовали при раздаче наград в коллеже Роллена. Церемония эта оказалась донельзя трогательной; у всех на памяти была горестная утрата директора, потерявшего любезную и всеми любимую супругу; впрочем, как бы велико ни было горе господина де Фоконпре, он не мог не быть счастлив, видя, как признательны ему ученики. Когда объявили, что его сын, ученик одного из младших классов, удостоен награды и сын отправился получать награду из рук отца, ответом на это известие послужили рукоплескания, топот, крики «браво», вопли радости и восторга, причем школьники выражали свои чувства так стремительно, так непосредственно, так страстно, так искренне, что и мы не сумели сдержать волнения. Этот единодушный взрыв свидетельствовал о великом сочувствии! Это шумное изъявление признательности показывало, как любят здесь детей и как счастливы здесь дети! Ученики, которых учат скучно или с которыми обходятся слишком строго, не были бы так благодарны учителю; только имя драгоценное и многократно благословляемое может вызвать такие сильные чувства и побудить всех учеников коллежа таким энергическим образом сказать спасибо человеку, который имеет право их наказывать, который требует от них трудолюбия, тишины, прилежания — скучнейших вещей в мире. Рукоплескания сыновей не смолкали целых четверть часа, и все это время их матери плакали; они думали о несчастном ребенке, которому не суждено услышать материнские поздравления, и эти слезы были их способом сказать спасибо его отцу.
Вообще на подобных церемониях матери очень много плачут; они разражаются слезами при объявлении каждой награды; это совершенно неизбежное следствие радостного потрясения, и чем лучше учится сын, тем громче рыдает счастливая мать. Если вы замечаете женщину, плачущую так безутешно, как будто ее постигло страшное несчастье, вы можете быть уверены, что это мать юноши, ставшего лучшим по трем предметам сразу. Тут, правда, есть свои оттенки: если сын получил награду за французское сочинение, мать утирает глаза; если за перевод с латыни — она укрывает лицо платком; если за перевод с греческого — из глаз ее текут слезы, если за знание космографии — она рыдает в голос. К счастью, тут начинают награждать другой класс; эта счастливая мамаша приходит в себя, а эстафету рыданий принимает другая родительница. Впрочем, все эти слезы — сладкие! Такова жизнь женщин. Слезы, которыми они гордятся и которые осмеливаются проливать на публике, вознаграждают их за те, которые им приходится скрывать. […]
Вечером торжествующие родители повели лауреатов в Тиволи; детям очень полюбилась карусель, которой они никогда не видели, а родителям, уже давно знакомым с каруселью, пришлись по душе индейские скачки — новинка недели. Что же касается нас, то нам больше всего понравилось объявление:
«Топпен, отшельник из Тиволи.
Примечание. Супруга у него белошвейка. Обращаться в дом 6 по улице Бюсси, напротив улицы Скверных ребят».
Бесспорно это очень неудачная супружеская пара. Что делать вместе отшельнику и белошвейке? Если у белошвейки много клиентов, прощай уединение: у нашего отшельника не будет ни единой спокойной минуты; если, напротив, отшельник поселится в полном уединении, супруга его лишится заказчиков, и тогда прощай денежки! Судьба этой супружеской пары нас тревожит; и что за идея выходить замуж за отшельника, если ты шьешь нижнее белье!
Кстати, этот отшельник приводит нам на память одну веселую проделку, которая без него не смогла бы осуществиться. Несколько лет назад один остроумный и ехидный человек, приехавший в Тиволи в блестящем обществе, догадался взять взаймы у колдуна его наряд, парик и длинную бороду и, укрывшись таким образом, принялся предсказывать судьбу; приятель привел к нему всех хорошеньких женщин, какие нашлись в тот вечер в Тиволи, и лже-отшельник доставил себе удовольствие с непростительной жестокостью предсказать им… все, чего они желали.
26 августа 1837 г.
Открытие железной дороги между Парижем и Сен-Жерменом. — Иллюминованные бульвары.
— Слишком много музыки и слишком много обезьян
Сегодня была открыта первая в Париже железная дорога[288]; сегодня ее открыли, а завтра она начнет работать; не путайте: завтра широкая публика, а сегодня — избранные. Когда мы начали писать эти строки, нас навестил один из этих избранных; он только что вернулся из Сен-Жермена и за завтраком поведал нам о своем путешествии; он уселся за стол и стал есть — о! ел он с таким аппетитом, что разорил бы всякую железнодорожную компанию; конечно, путешествовать так быстро и так дешево — это выгодно, но выгодно ли возвращаться домой из странствий во власти голода поистине неутолимого! Этот несчастный молодой человек, приходящийся нам близким родственником, вышел сегодня утром из дома в семь утра, предварительно плотно позавтракав; он прибыл на Лондонскую улицу[289] в бодром и веселом расположении духа; он уселся в превосходную берлину, устроился весьма удобно на мягких подушках, тут раздался стук, и вдруг — оп! — наш герой уже в Сен-Жермене. Путешественник говорит, что успел заметить по дороге несколько деревьев, но ручаться за это не готов; еще он говорит, что проехал под каким-то сводом и целых полминуты просидел в полной темноте. Прибыв в Сен-Жермен, он опечалился при мысли, что ему потребовалось так мало времени, чтобы оказаться так далеко от родных и друзей; тогда он решил отправиться в обратный путь, но не был уверен, что возвращение будет столь же стремительным. Это вполне естественно, хотя труднообъяснимо: обычно дорога туда кажется короче, чем дорога обратно; как бы там ни было, наш герой двинулся в путь, и — оп! — вот он уже в Париже; 26 минут туда, 26 минут обратно: прелесть, а не путешествие! экипаж удобный, никакой тряски, ни пьяных кучеров, ни белых лошадей с веревками вместо упряжи, ни затруднений, ни неприятностей; все попутчики очаровательны, поскольку разглядеть их вы не успеваете; назавтра вы узнаёте, что ехали рядом с собственным братом, но не заметили его: он глядел налево, а вы направо. А какое наслаждение ехать на империале этого нового средства сообщения! Если пойдет дождь, вы даже не успеете открыть зонт. О, что за восхитительный способ передвижения! Но увы, у самого прекрасного изобретения есть изъяны: по возвращении вы ощущаете чудовищный голод; ведь вы оставили позади целых десять лье, и ваше нутро превосходно это чувствует: вы голодны именно так, как бывает голоден человек, оставивший позади десять лье. Желудок также не чужд прогресса: железная дорога порождает железный желудок. О гастрономы! не проходите мимо!
Говорят, что лошади возмущены, унижены, разгневаны; утверждают, что они восстают против нового изобретения и что находятся среди них даже такие самонадеянные особи, которые берутся поспорить в скорости с вагонами. Рассказывают, что вчера несколько лошадей понесли именно потому, что хотели обогнать тех, кто едет по железной дороге, а ехали по ней королева и принцессы. Королева стала первой женщиной, которая поднялась в повозку, летящую, как стрела; затем ее примеру последовали канцлер и три министра: народного просвещения, финансов и юстиции; злые языки немедленно связали это с их основными занятиями. «Никогда еще просвещение не распространялось с такой быстротой», — сказал один. «Правосудие у нас скорое, как нигде», — подхватил другой. «Министр финансов был бы счастлив, если бы его бюджет принимали так же стремительно», — заключил третий. Одним словом, шутники наговорили множество прелестного вздора — вздора, впрочем, чисто французского.
Кроме железной дороги парижане восхищаются новым освещением бульваров[290]. По вечерам гулять там — одно удовольствие. От церкви Мадлен до Монмартрской улицы вытянулись два ряда канделябров, излучающих чистый и яркий свет; зрелище чудесное! А сколько народу! право, видя эту толпу, трудно поверить, что Париж сейчас пуст.
Элегантные дамы сидят на стульях, рядом курят молодые люди: это прелестно; продавщицы цветов не дают вам ни минуты покоя, предлагая свои букеты; старухи соблазняют вас наборами иголок, малые дети — шнурками и перламутровыми пуговицами; это очень мило, хотя время, как нам кажется, выбрано неудачно: кому взбредет на ум покупать шнурки и перламутровые пуговицы в десять вечера? Наконец, разнообразные бедняки, калеки и музыканты прерывают вас, какую бы оживленную беседу вы ни вели, и просят милостыню самым откровенным образом; вот это-то и составляет задачу, решить которую мы не в силах; всякий день повторяется одно и то же: утром газеты рассказывают нам о множестве женщин, детей и стариков, приговоренных к тюремному заключению за нищенство, а днем множество женщин, детей и стариков обступают нас, прося милостыню, и никто их не задерживает. Мы, разумеется, не имеем ни малейшего желания выдавать полиции тех нищих, которые к нам обращаются, мы просто хотели бы знать, почему полиция задерживает и сажает в тюрьму других? Выходит, у нас есть привилегированные нищие? выходит, в деле нищенства существуют свои монополисты? Есть и еще одна вещь, которая нас тревожит: появление в Париже новых жителей, которые не делают чести старым. Сегодня на улицах обезьян больше, чем людей. Нельзя не признать, что одеты эти господа очень прилично: одни в мундирах, со шпагой на боку, другие в красных халатах; одни в егерских куртках, другие в помещичьих рединготах. Мало того что они одеты со вкусом, — они еще и здороваются очень учтиво, а некоторые даже предъявляют паспорт; особенно хорош один, который разъезжает верхом на пуделе: к нему у нас никаких претензий. Но, с другой стороны, согласитесь, что неприятно, открыв окно, обнаружить на подоконнике совершенно незнакомую обезьяну; ничуть не лучше, спокойно идя по тротуару, внезапно почувствовать обезьяну у себя на плече. Дальше так жить невозможно: люди, конечно, часто уподобляются обезьянам, но обезьяны никогда не уподобляются людям, и властям следовало бы иметь это в виду.
Наконец, последний предмет нашей тревоги: покою столицы грозит чрезвычайное распространение в ее пределах самой разнообразной музыки. Сегодня парижане дни напролет имеют возможность слышать непрерывный концерт, бесконечную серенаду; уши горожан не отдыхают ни минуты. С утра на улицы выходят шарманщики; они делят город между собой, и каждый квартал получает свою порцию неизбежной гармонии. В полдень заступают на дежурство арфисты; они играют по ночам и встают поздно; зато какие звуки! Можно подумать, что разгневанный Саул терзает арфу Давида. В три часа пополудни восемь егерей в зеленых куртках и серых шляпах начинают ходить от двери к двери; каждый вооружен рогом; к несчастью, они не любят играть поодиночке и мечтают об ансамбле, их хор производит страшный ор — нечто невообразимо чудовищное, непередаваемое словами. Даже одному рогу случается издавать звуки довольно фальшивые; вообразите же, что могут сотворить восемь рогов, ревущих одновременно! Это конец света, это трубы Страшного суда. В четыре часа пополудни являются акробаты с бубнами, кастаньетами и треугольниками. В семь часов вечера некоторые слепцы берутся за гобои. В восемь вечера некоторые юнцы берутся за виолы. А вечером начинается самая настоящая серенада! Скрипки, дудки, флейты, гитары и итальянские певцы! Смертоносный праздник, от которого нет спасения; ведь происходит он у вас под окнами: избежать этого концерта с доставкой на дом невозможно. Принудительный скрипичный аккомпанемент сопровождает любое ваше действие; говорите ли вы о политике, объясняетесь ли вы в любви — неумолчный оркестр заглушает ваш голос. Единственный способ борьбы с этим гармоническим бедствием носит гомеопатический характер; лечите подобное подобным: ступайте к роялю и как можно громче сыграйте подряд три сонаты, не останавливаясь ни на мгновение; главное, не забудьте открыть окно пошире и колотить по клавишам посильнее. Если ваш рояль — дитя Эрара, если он дает звук, вы имеете шанс победить: сраженный вашей громкостью, обескураженный вашим сопротивлением, враг в конце концов отступит! Конечно, победа дастся нелегко; но как быть? французы нынче любят музыку, а любим мы именно так и никак иначе.
2 сентября 1837 г.
Дождь. — Отважные женщины. — Поездка в Сен-Жермен по железной дороге. — Нерасторопность служащих.
— У каждого есть занятие получше, чем его непосредственные обязанности
Опять дождь, опять холод, опять осень — осень уже есть, а винограда еще нет! Какой грустный день! Темно, как ночью. Сколько времени? Полдень… Зажгите лампу, ничего не видно, невозможно написать ни слова. Небеса разверзлись, настоящий потоп! Льет как из ведра! Нас успокаивают тем, что гремит гром, и это очень хорошо; это значит, что началась гроза; но нас гром успокоить не может. Что толку в грозе, если на улице по-прежнему холодно и лета не вернешь? О, как отвратителен Париж! Видите два потока, мчащиеся вдоль тротуаров по обеим сторонам улицы? они вот-вот сольются в одну широкую реку. Слышите привратниц, метущих грязь перед воротами? они трещат без умолку. Пешеходы наперечет; женщины промокли насквозь, зеленые юбки от влаги сделались синими. Бедные женщины, как отважно они себя ведут! Да, женщины куда отважнее мужчин: настанет день, когда мужчины это признают. Взгляните на улицу в дождливый день: мужчины едут в кабриолетах, женщины идут пешком, утопая в воде и грязи. Из десяти прохожих восемь — женщины. Это, конечно, не элегантные красотки, это труженицы, почтенные матери семейств, которых заставляют выйти из дому неотложные дела, это исполнительные белошвейки, которые непременно хотят в срок отдать сделанную работу, это сиделки, которые спешат к больным, и модистки, которые торопятся в мастерскую. Ошибиться тут невозможно; женщина, которая бежит по улице под дождем, достойна уважения и сочувствия. Причина, побудившая ее выйти из дому, невзирая на непогоду, всегда уважительная, а порой и восхитительная.
Вчера дождь тоже шел, но не такой сильный, и мы совершили путешествие в Сен-Жермен по железной дороге; мы были обязаны это сделать: всякое новое изобретение привлекает наше внимание, и мы почитаем своим долгом описать его во всех подробностях. Итак, в пять часов пополудни мы вышли из дому, а в девять вечера уже воротились назад. Дорога туда и обратно заняла всего четыре часа. Это настоящее чудо! Злые языки, правда, утверждают, что на лошадях можно было обернуться быстрее. Но обо всем по порядку: в четверть шестого мы прибыли на Лондонскую улицу; перед входом толпился народ, но дверь была закрыта; мы принялись ждать; мы ждали, ждали, ждали… Наконец дверь отворилась: мы вошли в длинное помещение вроде коридора, с зелеными стенами; он ведет в кассу — одну на всех. Путешественники — и те, которые собираются заплатить два с половиной франка, и те, кто приготовил полтора франка, и те, кто намерен проехаться за один франк, — толпятся все вперемешку. Касса всего одна и вход в нее тоже один; должно быть, в недалеком будущем в этот же коридор для вящего удобства будут запускать быков и овец, но пока до этого еще не дошло. Мы опять ждем, ждем, ждем в зеленом коридоре вместе со всей толпой точно так же, как ждали перед входом; ждем никак не меньше четверти часа. Наконец мы подходим к кассе, получаем три клочка желтой бумаги и оказываемся в просторной зале с готическими сводами и живописными полотнами на стенах. Тут путешественники разделяются на два потока: те, у кого билеты подороже, идут направо, те, у кого подешевле, — налево. Зала красивая и просторная; мы вправе это утверждать, потому что имели возможность осмотреть ее не торопясь. Мы опять ждем, ждем, ждем; на часах еще только десять минут седьмого, а выезд назначен на семь. Терпение! В зал входят путешественники со свертками и корзинками; их дети не дают нам скучать и услаждают наш слух более или менее дикими звуками, извлекаемыми из самых разных инструментов; матери бранят их за шум; они вырывают из рук своих отпрысков орудия пытки, причиняющие нам такие нестерпимые муки; к нашей радости, матерям удается завладеть инструментами, и они с самым серьезным и важным видом принимаются расхаживать по залу с трубой или свистулькой в руках. Время идет, а мы все ждем; на часах полседьмого; мы ждем, ждем, ждем. Наконец раздается стук колес: это прибыли те, кто возвращается в Париж из Сен-Жермена; публика бросается к окнам; все вагоны останавливаются; двор пуст: два-три инспектора, и больше никого; тут дверцы вагонов открываются… и в мгновение ока весь человеческий муравейник вываливается из вагонов; двор моментально заполняется народом. Зрелище воистину неописуемое, но очень любопытное. Толпа приезжих исчезает так же стремительно, как появилась.
Пожалуй, вот-вот дело дойдет и до нас. Правда, сначала мы опять ждем, но картина, представшая нашему взору, так любопытна, что теперь мы ждем более терпеливо. Наконец нам позволяют выйти во двор. Мы усаживаемся в берлину; сиденье мягкое и очень удобное. Мы опять ждем, ждем, ждем — ждем, пока всех пассажиров упакуют в вагоны; всего нас было около шести сотен; кто-то, правда, утверждал, что нас больше тысячи, но этот кто-то, должно быть, умирал от страха, а у страха, как известно, глаза велики. Наконец трубит рог, мы ощущаем легкий толчок и трогаемся с места. Было без четверти семь; дорога оказалась настолько же приятной, насколько тягостным было ожидание; наслаждение быстрой ездой изгладило из нашей памяти все неурядицы. Сиденья, находящиеся поблизости от колес, наименее удобные; наш вам совет: старайтесь занимать другие места. В прочем же — да здравствует железная дорога! у нас нет ни малейшего сомнения в том, что поездка по ней — приятнейшее из путешествий; мчишься с ужасающей быстротой, но никакого ужаса при этом не испытываешь; право, поездка в почтовой карете или в дилижансе куда страшнее и опаснее, особенно при спуске с горы; плохо только одно: мы, французы, — люди ужасно небрежные и ухитряемся испортить своей небрежностью прекраснейшие изобретения человеческого гения: новое транспортное средство способно домчать вас до Сен-Жермена за двадцать восемь минут, это правда, но если при этом вы целый час дожидаетесь отправления в Париже и три четверти часа — в Сен-Жермене, путешествие вовсе не кажется вам таким уж быстрым. Происходит же все это потому, что у нас каждый презирает собственное ремесло; у каждого имеется занятие куда более интересное, чем исполнение служебных обязанностей. Чиновник презирает свою контору и никогда не является туда вовремя; он сочиняет стихи или водевили и приходит на службу с опозданием, потому что репетировал. Кассир презирает свою кассу; он занят биржевыми спекуляциями и приходит на службу с опозданием, потому что ему назначили деловое свидание. Приказчик презирает свою лавку; он становится дамским угодником и приходит на службу с опозданием, потому что ему, как он ни старался, свидания не назначили. Стряпчий презирает свое ремесло: он музыкант и приходит с опозданием, потому что разучивал концерт. В результате все опаздывают, все грешат необязательностью, и из этих мелких грешков проистекают нередко большие не-счастья.
Страшно даже подумать, к чему может привести эта французская независимость, заключающаяся, среди прочего, в презрении к собственному ремеслу и в пренебрежении собственным долгом, когда столкнется с изобретениями, требующими особенного внимания и особенной осторожности; служащие, которые по недосмотру заставили вас три четверти часа дожидаться отправления поезда, вполне могут однажды по рассеянности пустить ваш вагон под откос; спешим обратить на это внимание господ управляющих железной дорогой. Будет досадно, если на прекрасное нововведение, стоившее таких больших денег и так удачно воплощенное в жизнь людьми великих достоинств, бросят тень легкомыслие глупца или небрежность лентяя. Довольно и того, что по железной дороге разъезжают безмозглые путешественники, сплошь и рядом создающие опасность на пустом месте.
Мы уже говорили, что у нас всякий презирает собственное ремесло; лишнее доказательство этому — брошюра, которой торгуют при входе на железнодорожную станцию. Вы полагаете, что найдете там краткую историю железных дорог с именами и датами, цифрами и фактами, — историю простую и ясную, изложенную коротко и, главное, без лишних слов; ведь толкуя о транспортном средстве, которое сокращает расстояния, непозволительно удлинять фразы. Ничего подобного: вам преподносят шедевр изящной словесности, образец железнодорожного красноречия. Вы имеете дело не с инженером, а с литератором. Расспросите его, поинтересуйтесь, в какой стране была проложена первая железная дорога: в ответ вы услышите рассуждения о Луксорском обелиске и Триумфальной арке на площади Звезды. Вопрос: «Кто построил первую железную дорогу?» Ответ: «Гора Валерьен[291] склоняет голову и провожает взором вагоны, быстрые, как вихрь». Попробуем еще раз. Вопрос: «Сколько в Европе железных дорог? ведь теперь они для нас важны ничуть не меньше, чем реки». Ответ: «Мимо пролетает Нантер в венке из роз; прощайте, белые домики с зелеными ставнями, мечта Жан-Жака!» Вы довольны? Спросите у этого автора, кто изобрел паровую машину, и вы получите ответ еще более удивительный. Автор солжет; он не скажет: «Ее изобрел Фултон!», он назовет изобретателем «гениального старца, которого кардинал де Ришелье заточил в лечебницу для умалишенных» и станет толковать о пресловутом письме Марьон Делорм — прелестнейшей из мистификаций, какие когда-либо выдумывали остроумные люди и повторяли парижские газеты[292]; вы узнаете на сей счет много занимательного. Но если на газетных страницах эти витиеватые фразы и блестящие фантазии приходятся весьма кстати, в брошюре они совершенно неуместны; ее открывают не за этим; в ней ищут точные цифры и достоверные факты, а не разглагольствования, да еще такие пространные. Раз уж мы едем по железной дороге, то имеем право требовать, чтобы фраза, начатая при отправлении, закончилась хотя бы при окончании поездки[293].
23 сентября 1837 г.
Отлучка. — Париж, увиденный издали
Мы мечтали уехать, мы уехали и уже воротились назад. — Так скоро? — Да, так скоро. Мы ведь ездили недалеко и не ради собственного удовольствия. Мы отъехали от Парижа на небольшое расстояние и произвели разыскания; мы желали взглянуть на парижан глазами провинциала: не знать тех, для кого работаешь, — большой порок. Нужно время от времени пытаться поставить себя на место публики; так что мы последовали примеру того простодушного маляра, который, рисуя ночной колпак для лавки колпачника, то и дело слезал со стремянки и переходил на противоположную сторону улицы, чтобы полюбоваться сделанным. Он прикрывал глаза, как делают великие живописцы; он восхищался своим творением; он осматривал его со всех точек зрения, затем взбирался обратно на стремянку, наносил несколько мазков, оттенял контур колпака — и снова отправлялся на другую сторону улицы; мало того, он водружал колпак себе на голову и смотрелся в зеркало, чтобы убедиться, что ничего не упустил и сохранил верность модели; одним словом, он трудился над изображением этой скромной эмблемы буржуазной жизни так же тщательно и вдумчиво, как трудится великий художник над изображением великого подвига или прославленной битвы, Бонапарта, Океана или любимой женщины.
Так вот, теперь мы знаем, какое впечатление производит наш ночной колпак; нам известны все наши недостатки, точнее сказать, недостатки тех любезных читателей, для которых мы пишем: людям, живущим вдали от Парижа, хочется — теперь мы это знаем по себе — быть в курсе парижской жизни, а именно всех ее мелких дрязг и больших глупостей. Сплетни, выдумки, даже наветы — провинциалам интересно все; на расстоянии двадцати лье от Парижа ложные известия привлекают ничуть не меньше внимания, чем правдивые; не то чтобы в провинции им верили или хотели верить, но провинциалам хочется знать все, что обсуждают в столице. Житель провинции ценит возможность сказать: «Об этом, кажется, толковали в Париже», — пусть даже речь идет о вещи самой немыслимой. Провинциалу важно все, включая заблуждения большого города; он хочет повторять за столицей все, включая ее ошибки; если Париж пережил страшную панику, провинция не желает оставаться в стороне; если Париж вынес честному человеку несправедливый приговор, провинция хочет разделить со столицей ее вину и ее раскаяние; если Париж целый месяц с восторгом смаковал какую-нибудь клевету, провинциал притязает на свою долю удовольствия; он требует доступа ко всем, даже самым скверным выдумкам, а если вы, руководствуясь чувством справедливости, брезгливости или сострадания, желаете его уберечь, он говорит с досадой: «Подумать только, моя газета не сказала об этом ни слова!..» Что ж, отныне его газета будет об этом рассказывать, но рассказывать по-своему; мы не станем выдавать ложь за правду; мы скажем вам, раз уж вы хотите знать все: «Вот о чем вчера врали в Париже». […]
21 октября 1837 г.
Классификация. — Расы. — Холерики и сангвиники. — Ведущие и ведомые.
— Люди, которые моют руки, и люди, которые рук не моют. — Люди-кошки и люди-собаки
Каждый из нас имеет свое собственное представление о роде человеческом; каждый создает собственную классификацию и выделяет внутри огромной семьи, именуемой человечеством, разные группы согласно их вкусам, добродетелям и порокам. Ученые разделили людей на расы: египетскую, греческую, славянскую и проч. и указали отличительные черты, по которым можно немедленно узнать любого представителя той или иной расы; именно этой премудростью они руководствуются в своих сношениях с обществом, например, при выборе знакомств: настоящий ученый, уверенный в выводах своей науки, никогда не возьмет в жены женщину неподходящей расы, никогда не наймет слугу, принадлежащего, например, к расе греческой. Греки, скажет он, народ смышленый, но все сплошь воры и чревоугодники. Под греками он разумеет не жителей Пелопоннеса, но людей, имеющих определенное телосложение, определенную форму черепа, определенные руки, ноги и челюсти. Грек — воришка и чревоугодник, он съест у меня сахар, — думает ученый и нанимает слугу, принадлежащего к расе более почтенной, не такой смышленой, но зато отличающейся безупречной честностью и преданностью; правда, этот слуга — болван, и у него на глазах из дома ученого выносят все столовое серебро. Вот до чего доводит ученость[294].
У врачей — другая система, основанная на показаниях их ремесла; они делят людей по темпераментам и с первого взгляда определяют, к какому разряду принадлежит тот или иной человек; для них вы не господин Такой-то и не госпожа Такая-то, не мужчина и не женщина, а холерик или сангвиник, меланхолик или флегматик. Мы знаем одного высокоученого доктора, который так пристрастился к этой медицинской классификации, что выражается исключительно следующим образом: «Этот юный холерик, которого я вчера у вас видел, не глуп». — «Это господин де Икс…» — «Ах вот как! Я когда-то был хорошо знаком с его матушкой; прелестная была женщина, а насколько сангвиническая!» Если вы приметесь в его присутствии журить нерадивую горничную, он покачает головой и шепнет: «Да ведь она же флегматичная!» А если прелестное дитя подбежит его обнять, он приласкает ребенка со словами: «Превосходный темперамент! Сангвинический с примесью меланхоличности!..» Впрочем, каков бы ни был темперамент у больных, холерический, флегматический или сангвинический с примесью меланхоличности, этот врач лечит их всех одинаково и сводит в могилу с самой восхитительной беспристрастностью.
Со своей стороны, философы делят человечество на разряды согласно нравственным свойствам людей; в такой системе есть большой смысл, особенно если приложить ее к жизни общественной. Один остроумный человек объяснил нам, что, по его мнению, род человеческий делится на две части: ведущих и ведомых, на тех, кто всегда и везде командует, и тех, кто, напротив, ничего не начинает делать без команды; на предметы и их отражения, на пастухов и баранов, на Орестов и Пиладов; собеседник мой прибавил, что искусство управлять, иначе говоря, искусство выбирать, полностью зависит от правильного применения этой классификации. В самом деле, есть такие занятия, которые подходят исключительно ведомым; напротив, с другими способны справиться лишь ведущие. Наконец, есть такие дела, которые вначале следует поручать ведущим, а по прошествии известного времени передавать ведомым; ведущие будут создавать, готовить почву, давать толчок, закладывать фундамент великих предприятий; потом настанет черед ведомых, они будут слепо исполнять все, что им поручили, и ни на йоту не отклонятся от пути, указанного ведущими. Первые наделены гением, отвагой и волей; вторые — терпением, которое порой заменяет силу. Достоинство одних — энергия; достоинство других — мера; и те и другие могут совершить очень многое, при условии, что попадут на подобающее место. Все дело в том, чтобы каждого к этому месту приставить. Все наши французские беспорядки имеют причиной именно то обстоятельство, что ведомые у нас частенько занимают место ведущих и, повинуясь указаниям других, невидимых ведущих, действуют, сами того не понимая, в интересах этих тайных руководителей и в ущерб себе самим. Вдобавок в нашей стране ведомые— большая редкость; а вести за собой нацию, где каждый второй — ведущий, дело нелегкое.
Одна женщина острого ума или, по крайней мере, слывущая таковой, предложила свой собственный, новый и весьма изящный способ классифицировать людей и отыскивать причину общественных потрясений. Человечество, говорила она, разделяется на две большие нации, которые воюют друг с другом не на жизнь, а на смерть, которые ненавидят и презирают друг друга и будут ненавидеть и презирать друг друга до скончания века. Вы можете сколько угодно издавать законы, провозглашать свободы, даровать хартии, отменять налоги, — эти две нации будут враждовать по-прежнему. Что же это за два народа, поклявшиеся друг другу в вечной ненависти? Добрые и злые? — Нет. — Большие и малые? богатые и бедные? — Нет. — Сильные и слабые? обманутые и обманщики? — Нет. — Но кто же, в конце концов, эти два непримиримых племени?.. — Те, кто моет руки, и те, кто рук не моет! Все дело именно в этом.
Последние полвека вся политика нашей страны есть не что иное, как то и дело возобновляющаяся битва между этими двумя враждующими нациями. Повторим еще раз, этой войне не будет конца: те, кто не моет рук, вечно будут питать ненависть к тем, кто руки моет, а эти последние вечно будут презирать тех, кто рук не моет. Никогда вам не удастся объединить эти два разряда, никогда они не смогут жить в мире, потому что, как мы уже имели честь докладывать, есть на свете вещь необоримая — отвращение, и есть на свете вещь невыносимая — унижение; меж тем в этом случае одна из противоборствующих сторон обречена вечно испытывать отвращение, а другая — вечно страдать от унижения. Никогда вы не заставите денди жить бок о бок со старьевщиком; никогда вы не дождетесь, чтобы уродливая и завистливая женщина добровольно окружила себя красавицами. Так вот, точно так же те, кто моет руки, никогда не найдут общего языка с теми, кто рук не моет. На первый взгляд такой способ классифицировать людей кажется неудачной шуткой, но вдумайтесь — и он покажется вам не таким уж бессмысленным; если подойти к делу с умом, возможно, пожалуй, вывести из него вполне серьезную теорию; но это уже не по нашей части.
Наконец, вот четвертый и последний способ классификации, о котором нам напомнил новый балет[295] и ради которого мы, собственно, и завели разговор обо всех предыдущих способах.
Испокон веков людей разделяют на разряды, руководствуясь их сходством с тем или иным животным. Говорят, что каждого из нас можно уподобить какому-нибудь зверю, более или менее хищному, более или менее смышленому; у каждого в лице есть что-то от одного из представителей животного царства. Вы, например, вылитый орел; вон тот господин недалеко ушел от шакала, вон та дама смахивает на куницу, а вон та барышня — на белку. Такой способ классификации всем известен, и многие люди берут его на вооружение; меж тем один из наших друзей поставил вопрос куда более решительно; по его мнению, род человеческий четко разделяется на две несхожие расы, а именно на СОБАК и КОШЕК. Из этого не следует, что все мы живем друг с другом, как кошка с собакой; напротив, друг наш признает, что между двумя этими расами существует взаимное тяготение; они различны, но не враждебны друг другу. Вот что он имеет в виду: особа, принадлежащая к собачьей расе, имеет все добродетели собаки: доброту и отвагу, самоотверженность, преданность и прямоту; но та же особа страдает и всеми собачьими недостатками: легковерием и нерасчетливостью, а главное, добродушием — да-да, именно добродушием; ведь это свойство, конечно, украшает наше сердце, но, увы, портит наш характер. Другими словами, человек-собака наделен нешуточными достоинствами, но, как правило, редко может похвастать расторопностью и обаянием. Человек-собака не умеет пленять и соблазнять; он создан для серьезных дел; его ждут должности, требующие храбрости, прямоты, честности; из людей-собак выходят хорошие солдаты; из них же получаются самые лучшие мужья и самые лучшие слуги, преданные друзья, хорошие товарищи, восхитительные простаки, герои, поэты и филантропы, нотариусы, которые никогда не обманывают, и бакалейщики, которые никогда не обсчитывают; комиссионеры, водоносы, кассиры, банковские и почтовые служащие; говоря короче, человеку-собаке более всего подходят такие занятия, которые позволяют оставаться честным.
Человек-собака нравится всем, кто сводит с ним знакомство, но редко бывает любим; человек-собака создан для дружбы; он способен живо чувствовать любовь, но не рожден для того, чтобы ее пробуждать. Женится человек-собака не на той женщине, которой он вскружил голову, а на той, которая вскружила голову ему. Человек-собака дает деньги взаймы начинающим водевилистам, а они отказывают ему во входных билетах; семья человека-собаки чаще всего состоит из неверной жены, которую он обожает, и неблагодарных детей, которые его разоряют. Сократ и Регул, добродетельный Калас и Вашингтон — все они принадлежали к числу людей-собак.
Человек — кошка, напротив, если от чего и страдает, то исключительно от провала очередной интриги. Он не обладает ни одним из достоинств человека-собаки, но зато извлекает из всех этих достоинств немалую пользу: он эгоист и скряга, он тщеславен, ревнив и коварен, зато он предусмотрителен, ловок, кокетлив, очарователен, он умеет убеждать, он блещет умом, знанием жизни и чарами соблазнителя. Он наделен врожденной опытностью, он угадывает то, чего не знает; прозревает то, что от него скрывают; послушный чудесному инстинкту, он отстраняет от себя все, что способно ему повредить; человек-кошка презирает бесполезные добродетели и уважает те, которые могут ему пригодиться. Из людей-кошек получаются великие дипломаты, интенданты, а также… Впрочем, мы не хотим никого обидеть. Из людей-кошек выходят неотразимые соблазнители и вообще все те мужчины, которых женщины называют коварными! К числу людей-кошек принадлежали Одиссей и Ганнибал, Перикл и маршал де Ришелье; сегодня именно из этой расы вышли многие наши законодатели мод и некоторые государственные мужи, например господин де… Впрочем, мы не хотим никому польстить.
Но это еще не все: следует учитывать также плоды воспитания. Человек-собака, выросший среди людей-кошек, может, ценою неустанного труда, приобрести иные из полезных пороков своих хозяев и утратить иные из своих пагубных добродетелей; он сделается более подозрительным и менее великодушным; он научится притворяться и действовать расчетливо; он сохранит природную доброту, но научится ловко увиливать от тех, кто желает этою добротою злоупотребить; он придаст лоск своему сердцу и уму, иначе говоря, будет предан, зная меру, и совестлив, не идя на жертвы; в общем, он усвоит некоторые дурные чувства и тем усовершенствует свой характер. Из людей-собак, воспитанных среди кошек, людей-собак, воспитанных, например… в Нормандии[296], получаются восхитительные префекты и банкиры, фабриканты и промышленники; все они порядочные люди, знающие свет; они никогда не позволят себя обманывать, но и сами никого обманывать не станут, одним словом, при необходимости пойдут на хитрость, но не погрешат против совести; они пленительны, поскольку манеры их элегантны, а речи кокетливы; они умеют понравиться собеседнику, поскольку знают, что ему понравиться не может; они разом искренни и льстивы, простодушны и недоверчивы, очаровательны и угрюмы; они, что называется, оригинальны; они любезны и зачастую любимы.
Но самая драгоценная и утонченная из всех пород, самый блистательный плод воспитания — это человек-кошка, выросший среди благородных псов; человек-кошка, выросший, например… в Бретани! Это существо неотразимое, стоящее на высшей ступени развития, это образец для подражания и средоточие всех совершенств; он сохраняет все свои врожденные свойства: ловкость, глубокий ум и безотказное чутье, изящество и гибкость, вкрадчивость и тонкость, но в то же самое время усваивает себе все добродетели своих хозяев: ведь при наличии твердой воли добродетели можно усвоить. Черты характера дарует нам природа, но добродетели — плод воспитания; скупой ребенок, если его пристыдить, может сделаться щедрым; трус может стать храбрецом; даже эгоист может начать творить добро — из гордыни; но у человека, родившегося неуклюжим, вечно все будет падать из рук, а лентяй никогда не доведет ни одного дела до конца. Человек-кошка, вырастая среди собак, приобретает, таким образом, недостающие ему благородство, великодушие, прямоту; он, пожалуй, даже не знает меры в применении всех этих сокровищ, ибо трудно сохранить умеренность, распоряжаясь добродетелями благоприобретенными; новообращенный человек-кошка великодушнее обычных людей-собак: он осыпает благодеяниями даже своих врагов; он так боится прослыть эгоистом, что по доброй воле действует себе во вред и всегда выбирает для себя худшую долю. Он не доверяет собственной коварной природе и в борьбе с нею выказывает чудеса самоотвержения и преданности; он беспрестанно сражается с собственным характером и оттого приобретает еще больше прелести. Ведь что пленяет нас более всего? опасность и тайна. Так вот, человек-кошка, воспитанный среди собак, имеет в своем полном распоряжении оба эти безотказных средства. Отчего лживые люди так очаровательны? Оттого что нас влечет к ним ощущение опасности и таинственности; именно в этом и состоит весь секрет их притягательности; они внушают нам смутный страх — вот и опасность; они обманывают нас — вот и тайна; однако стоит нам разгадать этих людей, как ничтожество их делается для нас совершенно очевидным и очарование улетучивается навсегда. Иное дело человек-кошка: его чары вечны; от природы он коварен — вот и опасность; он скрывает свои дурные мысли — вот и тайна; однако ему всегда удается подавить свои дурные свойства, и вы всегда остаетесь с ним в дружбе. Он привораживает вас, пробуждая в вашей душе два могущественных чувства: восхищение и страх. Пример человека-кошки, воспитанного среди людей-собак, — Бонапарт, корсиканец, мечтавший не о мести, а о славе.
Рассуждение наше несколько затянулось, а сказать-то мы, собственно, хотели одну-единственную вещь: мадемуазель Эльслер не создана для роли в спектакле «Кошка, превращенная в женщину».
А вот уже и охотники возвращаются из Версаля. Членам «Союза»[297] нынче утром повезло; им выпало преследовать восхитительную белую лань. Она великодушно устремилась в чащу и повела себя как настоящая царица леса, а не так, как тот подлый обманщик лис, что однажды испортил охотникам весь праздник. Утверждали, что несколько охотников свалились с коней; это неправда; на самом деле один и тот же охотник пять раз свалился с одной и той же лошади; в остальном же охота прошла без происшествий, если не считать смерти лани, которую не смогли уберечь от ярости собак ни ее собственное проворство, ни филантропические побуждения охотников. Во вторник предстоит большая охота на оленя, и многие наши элегантные дамы располагают непременно побывать в Круа-де-Берни[298].
28 октября 1837 г.
Неосторожность
Давеча мы поступили очень неосторожно и только теперь это осознали. Разделение человечества на людей-псов и людей-кошек было просто шуткой, и шутка эта имела немалый успех; одно удовольствие было видеть, как люди-кошки смиренно признавали себя людьми-собаками, а толстый и добродушный человек-пес шепотом делился тонким наблюдением: «Боюсь, что я-то самый настоящий кот». В общем, эта шутка удалась. Другое разделение, на ведомых и ведущих, куда более серьезно и вдобавок придумано не нами; его тоже приняли хорошо, потому что оно никого не обижало, не говоря уже о том, что каждый волен был причислить себя к ведущим. Слабый ум идет на любые хитрости, стремясь выдать себя за то, чем он не является; всякая слабость непременно притворяется некоей силой: например, упрямство, которое есть не что иное, как самая настоящая слабость, именуется теми, кто щедро наделен этим качеством, твердостью убеждений; нерешительность выступает под именем осторожности; глупость — под именем верности собственным убеждениям, а лень — в маске приверженности традициям; люди слабого ума могут заблуждаться на свой счет, и потому они ничуть не обиделись, когда мы объявили во всеуслышание, что в мире существуют слабые люди, которые пляшут под дудку других, более сильных людей; слабые просто не узнали себя. Но вот с теми, кто не моет рук, все обстоит куда серьезнее; их-то не обманешь! Можно быть злым, но считать себя добрым, можно быть идиотом, но считать себя остроумным, можно быть уродом, но считать себя красавцем, но невозможно не мыть рук и при этом считать, что ты их моешь; улики налицо; ошибки быть не может; даже льстец тут бессилен; пусть тысячи царедворцев каждое утро нахваливают государю его удивительное умение мыть руки, он не сможет им поверить, если на самом деле их не моет. Так что, объявив о существовании таких людей, мы допустили непростительную неосторожность; вы высказали страшную правду, она попала в цель, и теперь мы имеем заклятых врагов в лице всех тех господ, которые не моют рук! О горе нам! […]
4 ноября 1837 г.
Гнев ученых. — Гнев охотников
[…] Говорят, что всю последнюю неделю обиженные ученые натравливают на нас диких зверей[299]; право, это называется злоупотреблять служебным положением. Нас оклеветали в глазах хищников: медведям сказали, что мы ценим только хорошие манеры, и они намерены встретить нас неласково; тигра уверили, что мы набрасываемся на всех окружающих, и он возненавидел нас — из ревности; слона тоже настроили против нас; наконец, клеветники добрались даже до льва: они сказали ему, что мы назвали его карикатурой на пуделя; лев в ярости, а между тем хранителю дан приказ в виде исключения провести нас в его ложу[300]… то есть, простите, в его клетку! Итак, если в следующую субботу газета выйдет без нашего очередного фельетона, мы заранее просим читателя нас извинить. Мы не сможем ничего написать по очень уважительной причине: к этому времени нас уже съедят.
Но это еще не все; перечень наших врагов с каждым днем становится все длиннее; вот и элегантные охотники из «Союза» тоже недовольны нашими невинными и незамысловатыми шутками; они утверждают, что мы портим им праздник, и, будь это им по силам, тоже натравили бы на нас своих зверей; на беду, звери у них очень непослушные; дрессировке они поддаются плохо, и мы еще долго сможем чувствовать себя в безопасности. Впрочем, в последний вторник охота прошла на редкость удачно: лишь только оленя выпустили, он помчался, как стрела, и продержался два с половиной часа — удача неслыханная; вот мы и объявляем с чистой совестью, что охота прошла блестяще — ибо это правда. Положа руку на сердце, господа: когда олень, вместо того чтобы, убегая от собак, мчаться по полям, разворачивается и начинает отважно сражаться с ними, словно осел во время травли, можем ли мы утверждать, что охота прошла удачно? Увы, не можем; все, что мы можем сделать в этом случае, — это сказать, что травля прошла очень увлекательно. Когда олень, сделав два или три грациозных прыжка, ныряет в пруд и плавает там два или три часа, а охотники тем временем прогуливаются верхами вдоль берега; когда дичь приходится вылавливать из воды удочкой или вытаскивать сетью, можем ли мы утверждать, что охота прошла блестяще? Право, не можем; все, что мы можем сказать в этом случае, не погрешая против истины, — это что рыбная ловля прошла весьма успешно! В самом деле, всякий рыбак согласится, что поймать сетью матерого оленя — редкостное везение![301]
Итак, мы не станем говорить о развлечениях «Союза», как и обо всех других парижских забавах, ничего, кроме правды; мы отдадим справедливость ловкости охотников, их добрым намерениям, их элегантности; мы скажем, что они превосходно держатся в седле, отлично стреляют из пистолета, мастерски владеют шпагой, а многие из них еще и отличаются острым умом, что для охотника — большая роскошь; мы признаем, что их красные фраки прекрасно сшиты, а лошади восхитительны. Но мы скажем им также, что их лисы, лани и олени выдрессированы очень скверно и что если животное, за которым охотятся, не блещет дикостью, оно должно по крайней мере отличаться хорошим воспитанием.
Истина, безжалостная богиня, сколько горестей ты нам приносишь! Что заставляет нас поклоняться твоим пустынным алтарям? Во имя тебя с утра до вечера мы только и делаем, что раздражаем ближних и дальних; ради тебя становимся пугалом для толпы; все, кто боится света правды, проклинают наше имя; твой факел в наших руках для них хуже смерти. О! забери же назад этот гибельный факел! или сделай так, чтобы он служил нам защитой, чтобы он озарял нашу мысль и делился с нею блеском; чтобы он просветил всех, кого мы огорчаем, и внушил им, что мы действуем твоим именем, что нами руководствуют не злоба и не зависть, что мы повинуемся только твоим приказам, что ты одна отвечаешь за наши речи, направляешь нашу руку. Молим тебя, о справедливая богиня, пролей на нас свой свет, и пусть свет этот послужит нам оправданием!
Но как быть правильно понятым, если говоришь от имени истины? Стоит нам кого-то похвалить, нас тотчас спрашивают: «Господин Такой-то вам друг?» — «Ничуть, я с ним не знаком». Стоит нам подвергнуть кого-то критике, у нас тотчас осведомляются: «Господин Такой-то вас сильно обидел?» — «Ничуть! И вообще я очень высокого мнения о его таланте». — «Но вы ведь сказали, что его последнее сочинение дурно написано; отчего же это?» — «Оттого что его последнее сочинение показалось мне дурно написанным». А иные люди говорят так: «На виконта де Лоне нельзя положиться. Он то хвалит нас, то ругает; невозможно понять, он за нас или против нас…» — Сейчас мы вам все объясним: он не за вас и не против вас; он одобряет то, что хорошо, и бранит то, что дурно, не задумываясь о том, обрадует это вас или огорчит. Однако в стране, где все решают дружеские связи, независимость кажется скандальной, а справедливость — чудовищной; человек беспристрастный имеет здесь вид глупца без убеждений. Если вы браните что-то или кого-то, это может объясняться только личной неприязнью. Если известно, что у вас есть причины ненавидеть человека, которого вы критикуете, ваше поведение не вызывает никаких вопросов у публики, да и сам критикуемый не станет на вас сердиться; он знает, что вам положено хулить все, что бы он ни сделал; больше того, если бы вы, паче чаяния, вздумали его похвалить, он принял бы это за незаслуженное издевательство; грязные наветы заклятого врага затрагивают его куда меньше, чем холодные комплименты читателя беспристрастного. Испокон веков люди восклицают: «Что может быть хуже несправедливости?» Отвечаем: «Хуже несправедливости может быть только одно — справедливость!» Она возмущает всех без исключения: во-первых, врагов того, кого вы хвалите, ибо они не прощают вам восхищения тем, что они ненавидят, а во-вторых, его друзей, ибо они находят, что вы расхвалили его недостаточно[302]. Ох и тяжелая же нам досталась работа! По счастью, у нас всегда остается возможность развлечься смешными чертами окружающих; и в те дни, когда нас душит гнев, мы обезоруживаем сами себя смехом.
25 ноября 1837 г.
Письма к виконту де Лоне
Торжественно извещаем, что терпению нашему пришел конец! Дольше так продолжаться не может! Из-за наших несчастных фельетонов у нас нет ни минуты покоя. Вместо славы — все мучения, ею порождаемые; вместо власти — все тяготы, с нею связанные!
Право, это слишком! Умоляю: пощадите! Не надобно больше писем на десяти страницах, писем, блистающих умом и достойных прочтения, но отнимающих все наше свободное время; ни в коем случае не надобно советов и рукописей, а также книг и помады — вы ведь знаете, что мы этими вещами не пользуемся.
О корреспонденты чересчур любезные, но, увы, также и чересчур многочисленные, позвольте нам рассказать вам, из чего складывается наш день, — может быть, тогда вы поймете, на какие пытки вы нас обрекаете и каким образом ваши письма — очаровательные, доброжелательные, лестные, способные, в том случае если бы вы адресовали их двадцати разным авторам, сделаться предметом их гордости и источником их радости, — каким образом письма эти, адресованные одному человеку, — между прочим, смертному, — причиняют ему чудовищные муки, ибо он страдает от невозможности их прочесть и терзается угрызениями совести из-за невозможности на них ответить.
Девять утра. Почтальон приносит нам три письма; они прибыли из провинции; в первом — пространная статья, которую нас просят поместить в «Прессе», предварительно прочтя со вниманием; во втором — стихи на взятие Константины[303]; мы уже получили прежде 27 од на ту же тему. Автор третьего письма просит у нас дозволения ознакомить нас с романом в двух томах. За романом следует послать по указанному в письме адресу. — Все это еще цветочки; наберитесь терпения! Нам приносят завтрак; на подносе рядом с чайником возлежит конверт чудовищной толщины; вид у него угрожающий, но в то же время и стыдливый. Четыре письма натощак, это много. Четвертое письмо — на восьми страницах, исписанных убористым почерком. Восемь страниц! Кто же это шлет нам восемь страниц и какой предмет способен был вдохновить этого автора на столь пространное послание? Мы знакомимся с первыми строками, потом быстро пробегаем глазами все остальное: сей шедевр красноречия есть не что иное, как мысли, внушенные чтением романов господина Франсиса Вея[304]. «Этот юноша, — сообщают нам на восьми страницах, — очень талантлив, но ему необходим наставник». Поскольку мы вовсе не считаем, что родились на свет для того, чтобы наставлять господина Франсиса Вея, мы откладываем это увлекательное послание, не дочитав его до конца, и принимаемся завтракать. Но не успеваем мы взяться за прелестную чашку китайского фарфора и сделать глоток чая, как в дверь тихонько стучат. Кто бы это мог быть? Это посыльный, который желает вручить только в наши собственные руки письмо и шкатулочку. Письмо, шкатулочка, отдать в собственные руки… Целый роман. Мы немедля открываем письмо; оно гласит:
«Любезный виконт!
Наступает зима, на улице с каждым днем всем холоднее — тем острее нужда в губной помаде. Наша помада отличается множеством достоинств, и проч.».
Финал:
«Надеюсь, вы почтите нашу помаду лестным упоминанием в одном из ваших изящных фельетонов».
Тут в нашей душе закипает ярость. Мы бросаем письмо в огонь, а коробочку отдаем посыльному и выпроваживаем его, не особенно заботясь об учтивости; проводив посыльного, мы созываем всех наших слуг, чтобы сделать им внушение и наказать в дом никого не впускать, а всем пришедшим говорить, что нас нет, что мы уехали за город, нет, лучше так: что мы уехали в Лондон. Меж тем, пока мы мечем громы и молнии, в прихожей внезапно появляется барышня с картонкой, робко спрашивает господина виконта де Лоне и, не дожидаясь ответа, разворачивает картонку, из которой извлекает на свет божий три чепчика, одну сетку для волос, один синий атласный капот и два тюрбана. «Это все новинки, господин виконт, они нуждаются в вашем покровительстве. Мне бы хотелось знать, как они вам понравились». Господин виконт интересуется только теми модами, какие видит в салонах; до мод в картонках ему никакого дела нет. Сконфуженная барышня, собрав чепчики, шляпки и тюрбаны, удаляется с очень мрачным видом. Что же до нас, мы возвращаемся в гостиную в ничуть не лучшем расположении духа, и… Что это?.. От изумления мы лишаемся дара речи: пока мы выпроваживали модистку, кто-то проник в нашу гостиную, утащил поднос с нашим завтраком, не дав нам даже докончить скромную трапезу, а взамен оставил на столе шесть кукол разного роста, от мала до велика. Вам интересно, что делают в нашей гостиной эти куклы? Мы сей же час удовлетворим ваше любопытство: самая большая держит в руках письмо, из которого становится ясно, что некий торговец игрушками принял всерьез наш рассказ о кукле Робера Макера и просит нас удостоить его лавку своим покровительством; он прислал нам образцы своего товара, чтобы мы могли оценить его по достоинству. Мы немедленно отсылаем назад весь его выводок, приказав передать, что мы процитировали господина Дебре как остроумного человека, а вовсе не как торговца игрушками[305]. Шесть кукол отправляются восвояси: мы остаемся в одиночестве и можем без помех предаться мрачным мыслям; но не тут-то было: в гостиную с загадочным видом вплывает на руках у слуги толстый сборник стихов и как бы невзначай обосновывается на нашем столе. Мы решаем не уступать ему в лицемерии и делаем вид, что его не замечаем; впрочем, мысли наши от его присутствия делаются еще мрачнее. Меж тем на улице светит солнце, у нас возникает желание прогуляться, и мы начинаем одеваться, располагая скоро выйти из дому… Тщетные мечтания… Тук-тук-тук! — Что там такое? — Письмо. — Как, опять? Ну хорошо, посмотрим, в чем дело… «Сударь, доверие, какое вы мне всегда оказывали, и проч… Богатый выбор товаров, и проч.». Письмо торговца, размноженное типографским способом… Получить по почте письмо, размноженное типографским способом, в ту самую секунду, когда одеваешься для прогулки! Правда, этому надругательству подвергаемся не только мы; многие из наших читателей испытали то же самое, и это нас утешает: по крайней мере, мы не одиноки в наших горестях! Мы с отвращением бросаем письмо на стол и продолжаем заниматься своим туалетом. Тук-тук-тук! — Что там такое? — Письмо. — Оставьте его в гостиной. — Но посыльный ждет ответа. — Дверь приоткрывается, и в щель протискивается письмо. Да нет, не письмо, а целый пакет и вдобавок очень толстый. Что же внутри? «Темы для статей господина виконта де Лоне. Сударь, каждую субботу я с величайшим удовольствием читаю ваши изящные фельетоны, и проч.». Далее следуют предлагаемые нам темы. Тема номер один: О грязи на улицах. Тема номер два, ничуть не менее изящная: О неудобных решетках на малых канализационных люках. Тема номер три: О торговцах каштанами и торговках устрицами. Тема номер четыре… Ее мы повторить не дерзнем. До такого изящества наши изящные фельетоны еще не дозрели. В письме двенадцать страниц. Каждая тема развита очень подробно, каждый совет обоснован с великим тщанием; все возражения предусмотрены и парированы. Фразы построены следующим образом: «Вы скажете мне, что решетки на малых канализационных люках имеют то преимущество, что… и проч. На это я вам отвечу, что… и проч.» — или: «Мне возразят, что торговцы каштанами вправе… и проч.». Мы отдаем должное чистоте намерений нашего любезного корреспондента и искренности его пожеланий, но вынуждены признаться в нашем несовершенстве. Смиренно заверяем нашего советчика, что не способны сочинить легкий и остроумный фельетон, даже имея такие темы.
Половина дня уже прошла, а у нас еще не было ни единой свободной минуты. Пора подумать о себе; и вот наконец мы готовы к выходу. О счастье! Свобода близка; мы уже спустились с лестницы и стоим перед воротами; еще шаг, и мы окажемся на улице, а значит, в безопасности; но привратник, заметив нас, бросается к нам с криком: «Вот записочка, которую вам только что передали». Что ж, раз это всего лишь записочка, можно ее прочесть. «Красавчик виконт!» Ну и стиль!.. Ах, так записочка анонимная; тем лучше, на анонимные письма мы отвечать не обязаны: «Красавчик виконт, ты утверждаешь, что капоты на вате нехороши; уж получше тебя».
И подпись:
«Тот, кто тебя не боится».
Как мало слов и как много остроумия. Но все же такое обилие корреспонденции нам не по силам, и мы даем себе торжественную клятву до вечера не распечатывать ни одного письма. Зрелище конверта вызывает у нас содрогания, при виде почерка мы бьемся в конвульсиях. Ни единого письма до завтрашнего дня! Мы дали клятву и ее сдержали — себе на горе… Только назавтра мы удосужились прочесть любезную записку, в начале которой стояло: «Мы ждем вас у себя сегодня вечером, у нас будет небольшой концерт…» Сегодня вечером! Сегодня вечером! Да ведь это сегодня было вчера! Какой скверный день! Не уберечься ни от одной из двух десятков пакостей и упустить одну-единственную радость! О проклятый «Парижский вестник», сколько неприятностей ты нам доставляешь! Кстати, до вестей-то у нас сегодня руки пока не дошли. А пора бы. Начнем же.
В воскресенье в Опере с огромным успехом давали «Немую из Портичи», а у Итальянцев бурю оваций снискала «Сомнамбула»[306]. В последние несколько лет в театральном репертуаре совершилась настоящая революция. Прежде воскресенье было отдано на откуп толпе: по воскресеньям театры давали только старые пьесы, играл в них второй состав; сборы были гарантированы в любом случае, а стоит ли приманивать новинками ту публику, которая уже давно заглотала приманку? Светские люди не знали, чем заняться воскресными вечерами, потому что само словосочетание «воскресный спектакль» приводило всех причудников в ужас; не то сегодня! Нынче воскресный день полностью восстановлен в правах, и теперь для него приберегают лучших актеров и лучшие пьесы. Горе тем поклонникам Дюпре, которые нанимают ложу в Опере по понедельникам! Знаменитый певец выходит на сцену в воскресенье, и только в воскресенье. Понедельничным зрителям приходится довольствоваться пением Лафона и мадемуазель Штольц. Горе тем почитателям таланта Рубини, которые нанимают ложу в Итальянском театре[307] по субботам! В этот день прославленный исполнитель отдыхает; он бережет силы для завтрашнего представления. Иные актеры Итальянской оперы так хорошо усвоили эти новые правила, что играют с полной отдачей только по воскресеньям; взять, например, мадемуазель Персиани: всю неделю она поет неплохо, но остается холодна как лед; однако стоит наступить воскресенью, и она исполняется страсти. По будним дням ничьи страдания не способны тронуть певицу; чувствительность ее пробуждается только по выходным. Мадемуазель Персиани оживает перед публикой, которая платит, а та публика, которая наняла ложу в начале года, не платит: она уже заплатила, а это совсем другое дело; когда дело идет о деньгах, прошлое в счет не идет; все решает будущее. Если мы принимаемся жаловаться на такой порядок вещей, нам отвечают, что Опера и Итальянский театр вообще не имеют права давать представления по воскресеньям, и на это ни у кого возражений не находится. Конечно, раз не имеют права, тут уж ничего не поделаешь. В Париже ведь всегда успокаивают недовольных именно с помощью подобных рассуждений. Отчего, спрашиваете вы, правительство разрешает те или иные вещи? — А оно и не думало их разрешать; напротив, они строжайшим образом запрещены. А значит, не прекратятся никогда. Мораль: все, что запрещено, охраняется законом.
2 декабря 1837 г.
«Взятие Константины». — Превосходная английская глупость
[…] «Взятие Константины», представленное в Олимпийском цирке, наделало много шума[308]. Особенно хороша и нова показалась нам сцена заседания совета под председательством Ахмед-бея. Один из советников берет слово; он дерзает возражать Ахмеду. «Значит, — переспрашивает бей с таким видом, словно его уже почти переубедили, — вы думаете, что..?» — «Да, я полагаю…» — и осмелевший оратор развивает свою мысль. «И вы настаиваете на этом мнении?» — «Разумеется, ибо совесть не позволяет мне…» — «Да-да, прекрасно, — говорит Ахмед, — продолжайте». С этими словами он вынимает из-за пояса пистолет и стреляет оратору в висок. Эта реплика, исполненная неподдельного своеобразия, произвела на собравшихся огромное впечатление. Подобный аргумент ad hominem[309] можно смело назвать убийственным. Опровержений не последовало; никто не произнес традиционную фразу: «Я согласен с предыдущим оратором». Мнение этого оратора отвергли без обсуждения, что же до предложения бея, оно было принято на ура. У нас такой способ дискуссии пока не прижился, но потерпите, все еще впереди: мы еще придем к тому, от чего ушли. […]
Подробное описание последних мод мы опубликуем не прежде, чем возвратятся в город элегантные красавицы, которые любезно соглашаются помогать нам советами; покамест нам недостает некоторых необходимых сведений, и мы боимся совершить грубые ошибки. Нас приводит в ужас сама мысль о том, что мы можем уподобиться одному из провинциальных романистов, который, желая сообщить светскому роману восхитительный парижский колорит, в невинности своей вывел следующую фразу: «Явление Матильды в салоне герцогини де Т… вызвало всеобщее восхищение. Туалет ее был безупречен: пышное алое платье из муарового бархата[310] облегало ее изящную фигуру и выдавало неподражаемый талант мадемуазель БОД РАН (модистка, изготовляющая маленькие шляпки с перьями); серебристый газовый тюрбан, шедевр МЕЛЬНОТА (сапожник, славящийся своими полусапожками) подчеркивал темный цвет ее локонов; чудесный лазурный шарф от ФОССЕНА (королевский ювелир) лишь наполовину прикрывал ее белые плечи, а ее кокетливая резвая ножка выступала гордо и невидимо в башмачках-невидимках работы ШЕВЕ (владелец продуктовой лавки в Пале-Руаяле)».
Впрочем, парижане порой ничуть не уступают в простодушии провинциалам; вот что на днях сообщила нам столичная газета «Мода»: «Моцарт доказывает справедливость старинной мудрости, согласно которой прекрасное не стареет. В прошлый вторник зала Итальянской оперы огласилась выразительными мелодиями „Тайного брака“, и нежное имя Моцарта привлекло к Итальянцам великое множество элегантных красавиц». Да уж, нежное имя Моцарта воистину могущественно, если ему удалось привлечь столько народу на представление шедевра Чимарозы[311]! Пристало ли легитимистской газете плодить узурпаторов? […]
Один из наших друзей возвращался вчера из Версаля в гондоле[312]. Его немало позабавила ярость некоего англичанина, который хотел выйти в Севре, но никак не мог объясниться с кучером. Требовательный путешественник кричал: «Гондольер! гондольер!» — но никто не отзывался на сей венецианский клич. Кучер, заботившийся прежде всего о том, чтобы благополучно доставить свое судно к месту назначения, а о стихах Тассо не имевший ни малейшего представления[313] довез беднягу-англичанина до самого центра Парижа, где друг наш наконец втолковал ему, что во Франции, стране буржуазной и начисто лишенной поэзии, гондолами правят не гондольеры, а кучера дилижансов.
Через две недели ожидается выход из печати сочинения господина аббата де Ламенне под названием «Книга народа». Об этом говорят шепотом. Впрочем, нас это не касается, это ведь событие политическое[314].
16 декабря 1837 г.
Все берут книги напрокат, но никто их не покупает. — Женщины, которые читают
Ныне литература переживает счастливые дни — если, конечно, литературе вообще суждено счастье. Наступила едва ли не единственная неделя в году, когда все разговоры начинаются со слов: «Читали вы такую-то книгу? Не можете ли дать мне почитать такой-то роман?» Начиная с субботы, мы только и слышим повсюду: Вы читали «Книгу народа»? — Да нет, она еще не вышла. — А я вас уверяю, что она уже вышла. — Не думаю; она объявлена во всех газетах, но еще не поступила в продажу. — А я имею честь сообщить вам, что она вышла и поступила в продажу, и я вам это докажу в два счета: ведь я сам купил ее и прочел. — Ну, и как вам она? скажите же поскорее ваше мнение? — Да нет уж, я лучше подожду вашего. — Вы закончили «Лотреамона»? — Еще нет; я отдам вам его завтра. Второй том очень любопытен, но бедный Людовик XIV, как немилосердно с ним обошелся автор! Изобразить Людовика XIV грубым и злым! Это что-то новое[315]. — Это голос истории. Как быть? история подобна естественным наукам; историки каждый день делают открытия, и прав у них только последний, а его дело — доказывать, что предшественники ничего не стоят. История, которую изучают наши дети, не имеет ничего общего с той, какую преподавали нам; у нас разные герои. Дети наши презирают тех, кого мы уважали; они открыли, что герои эти совершали ужасные вещи, но зато для равновесия им поведали о благородных деяниях великих негодяев, и теперь они смотрят на них с тем восхищением, в каком по воле учителей отказывают всем прочим. Кстати об истории, вам будет интересно прочесть «Историю трудящихся классов» господина Гранье де Кассаньяка[316]. — Мне? Но вы ведь знаете, что я не читаю ничего, кроме романов. — Я знаю, сударыня, что вы не любите писаний длинных и скучных, но именно поэтому я и рекомендую вам сочинение Гранье де Кассаньяка. Сочинение это доказывает, что можно быть ученым, не будучи педантом; прочтите, например, главу о грамотных рабах или главу о римских женщинах, и вы убедитесь, что эта книга, хотя она написана с великой тщательностью и содержит множество фактов, ничуть не менее увлекательна, чем те бесконечные романы, которыми снабжает вас книгопродавец или, точнее, кабинет для чтения; ибо ведь и вы, сударыня, не чуждаетесь услуг кабинетов для чтения[317]. — Не напоминайте мне о кабинетах для чтения; смешно сказать, но я вне себя от ярости; я уже два месяца добиваюсь от них второго тома «Мопра»[318]! Знаете, что они мне ответили вчера? «Второй том „Мопра“ еще не вернулся; он у дамы, которая читает очень медленно!» Что правда, то правда: ведь она читает его уже два месяца! По-моему, за это время можно было проговорить его вслух не только слово за словом, но даже букву за буквой! — Ах, бедняжка литература, вот каковы твои счастливые дни!
Женщина элегантная и богатая, женщина, одаренная острым умом, два месяца терпеливо ждет возможности взять роман Жорж Санд в кабинете для чтения, и ей даже в голову не приходит его купить; в ее элегантном жилище вы найдете самые невероятные предметы роскоши: стены здесь обиты шелковой камчатой тканью, на окнах висят занавеси с кистями, стоящие целое состояние, мебель достойна королевского дворца; повсюду вещицы на любой вкус и вазы в любом стиле, столы, купленные за баснословную цену, неудобные и нелепые, но изумительные; повсюду драгоценности, безделушки, китайский фарфор — все, что только есть на свете восхитительного, дорогого и бесполезного; все, кроме произведений ума человеческого. Осмотрите внимательно этот прекрасный кабинет, этот очаровательный будуар; все здесь пленительно, все готово удовлетворить любую прихоть; не хватает здесь только двух вещей: хорошей книги и прекрасной картины. Во всем Париже, пожалуй, найдется от силы десяток женщин, которые отвели в своем доме место для этих редкостей, да и те позволили себе художественный каприз в виде исключения; другое дело старинный китайский или старый севрский фарфор — его в любой гостиной хоть отбавляй. Впрочем, надо отдать справедливость нашим элегантным красавицам: книг у них не водится, это правда, но зато у них имеются превосходные книжные шкафы — драгоценные шкафы работы Буля, за которыми обманчивое звание книжных сохраняется исключительно из почтения. Не бойтесь, прекрасные эти шкафы не простаивают без пользы; им приискивают самое возвышенное употребление: вот в этом, например, хранятся шляпы, чепцы и тюрбаны госпожи хозяйки, а в этом красуется во всем своем великолепии мундир национальной гвардии господина хозяине[319]. Не найдете вы книг и в шкафах меньшего размера: там, где раньше жили стихи Андре Шенье и лорда Байрона, Ламартина и Виктора Гюго, госпожи Вальмор и госпожи Татю, теперь обосновались флаконы в виде пастушков, фарфоровые собачки, китайские болванчики, баночки с притираниями, чайники, разрозненные чашки, сахарницы без крышек и, что самое странное, разбитые, но склеенные блюдца. Хозяйки блюдут свои блюдца — но до книг им дела нет![320] И это называется прогрессом! Впрочем, что тут можно поделать? молодые женщины больше не читают, а те немногие, которые, в виде исключения, читают, вдобавок еще и ПИШУТ!!
Поэтому нынче для новогодних подарков печатают лишь детские книги. В угоду детям книгопродавцы творят чудеса, что же касается почтенных матрон, матерей семейства, им к Новому году дарят только разные дурацкие безделушки: золотых рыбок в расписной вазе; фарфоровый звонок с головой китайца, который кивает всякий раз, когда вы дергаете за шнурок; фонтанжи[321] с розетками и искусственными цветами; лесенку для попугая, на которой вместо попугая размещаются кольца и перстни, — одним словом, вещицы некрасивые, бесполезные и безвкусные. Чья здесь вина — продавцов? покупателей? Отчего вся новая мебель так чудовищно неудобна? Чернильницы или слишком велики или слишком малы, во всяком случае, пользоваться ими нельзя; и вообще повсюду масса сложностей. Вчера, например, в одном из прекраснейших парижских магазинов мы видели скамеечку для молитвы, на которой невозможно преклонить колени; зато она снабжена чернильницей и всем, что потребно для письма; это еще не все: коснитесь пружинки, и из потайного ящичка явится превосходное зеркальце, точь-в-точь как на туалетном столике: ведь это очень удобно, правда? Идея на редкость удачная; теперь, сударыни, вы сможете одновременно и молиться, и накручивать папильотки; экономия времени огромная! […]
30 декабря 1837 г.
Первое представление «Калигулы». — Светских людей отлучили от театра. — Изъяны произношения
На прошедшей неделе главным событием было первое представление — «Калигулы». Согласно заведенному в «Прессе» порядку, рецензию на это сочинение должен был бы написать сам господин Александр Дюма[322]. Выступая в двойной роли критика и автора, он вне всякого сомнения порадовал бы нас статьей очень остроумной и очень пикантной: однако необъяснимый приступ скромности заставил его отклонить эту миссию и уступить свое место господину Мери[323]. Итак, мы предоставляем господину Мери разбор новой драмы и возвещение ее успеха; он расскажет обо всем, что происходило на сцене, мы же ограничимся рассказом о том, что творилось в зале. Ведь зала — наша вотчина.
ПРОЛОГ: ибо мы тоже имеем право сочинить небольшой пролог[324]. Действие происходит в двадцати самых элегантных парижских салонах. «Сударыня, вы едете сегодня в театр на представление новой пьесы? — Ах нет, вообразите, я так и не смогла достать ложу. — Вы слишком поздно начали хлопотать. — Слишком поздно? Я еще два месяца назад послала человека в контору Французского театра нанять ложу; ему отказали; две недели назад мой брат отправился туда самолично — но преуспел ничуть не больше. — Слово берет брат: Я не мог добиться ничего, кроме следующего горделивого ответа: „Сударь, список передан секретарю“. — А я слышал в ответ другое: что все ложи нанял господин Дюма. — Я бы охотно довольствовался креслом в партере. — Да их тоже не осталось. — Что значит не осталось? Их никогда и не было; меня именно это и возмущает. Я прекрасно понимаю, что всю залу могли нанять заранее, но здесь не то: ложи заняты, хотя и никто не нанимал». Тут объявляют о приходе графа де X… «Можете гордиться, любезный племянник, — говорит ему хозяйка дома, — у вас ведь есть ложа, и вы нынче вечером увидите „Калигулу“. — Ни слова об этом; я в ярости. У меня в самом деле была ложа, но мое имя вычеркнули из списка». Шум, крик, хор разгневанных юношей и молодых дам: «Это возмутительно! Вы должны жаловаться, вы должны требовать».
Тут объявляют о приходе госпожи де Б… (в другом салоне те же речи держит госпожа Г…): «Вы сегодня вечером едете смотреть „Калигулу“? — Да… — Ах, сударыня, вы единственная отвечаете да; какие же у вас связи, если вы смогли получить хорошую ложу! — Но у меня нет ложи… — И у вас тоже? Какая прелесть; в таком случае мы не имеем никакого права жаловаться: если автор „Маркиза де Поменара“ (в первом салоне), если автор „Продолжения бала-маскарада“ (во втором салоне)[325] не имеет доступа во Французский театр, что уж говорить нам, простым смертным… — Признаюсь, со мной такое происходит впервые за тридцать лет; я ведь была свидетелем триумфа всех наших великих сочинителей; я присутствовала, полагаю, на всех сколько-нибудь значительных премьерах, от „Агамемнона“ Лемерсье до „Анджело“ Виктора Гюго[326]. Я, правда, послала слугу нанять ложу всего за месяц до премьеры, но я ведь и прежде всегда поступала точно так же; тем не менее сегодня я вынуждена просить приюта у друга-журналиста. — Что тут скажешь? Журналисты сегодня царствуют; все стремятся им услужить. — Царствуют? Скорее уж судят. — Что ж, пристрастные судьи хуже самовластных царей».
Уже по этому прологу вы можете судить о том, какие огромные перемены произошли за последние несколько лет в составе публики, имеющей доступ на первые представления. Люди элегантные этого доступа лишились: исключения так редки, что о них не стоит и говорить. Поэтому нас весьма удивило явление в королевской ложе господина герцога Орлеанского с супругой, принцессы Клементины и принцев. Господин герцог Орлеанский, что бы кто ни говорил, любит людей острого ума и благоволит к Александру Дюма[327]; это вполне естественно и доказывает его хороший вкус. Однако первые представления нередко превращаются в мелкие литературные мятежи, которые зачастую не способно предотвратить даже присутствие принца крови; а в таком случае разве не слишком большая неосторожность — быть беспомощным свидетелем этих бунтов? Не говоря уж о том, что «Калигула» — пьеса о людях, которые презирают королевскую власть, пьеса об императоре, который погибает от руки убийцы. Вся она есть не что иное, как цепь более или менее дерзких заговоров, описываемая более или менее сильными словами, которые, к несчастью, будят тягостные воспоминания. Разумеется, мы не собираемся проводить никаких параллелей между тогдашним временем и нашими днями, между римским цезарем и нашими королями; но, хотя применения и невозможны, не подлежит сомнению, что некоторые заповеди римских республиканцев мы в свое время слышали в недурном французском переводе. В стране, где королева не может без ужаса смотреть, как супруг ее садится в экипаж и едет на прогулку, в эпоху, когда убийства сделались ежеквартальными, слова «заговор», «сговор», «тайный союз» звучат довольно грозно, и мы полагаем, что принцам из королевской фамилии не может доставить удовольствия такой вымысел, который напоминает им об их повседневных тревогах. Поэтому-то мы убеждены, что принцам не пристало — во всяком случае, явно и открыто — присутствовать на первых представлениях, и думаем, что господин герцог Орлеанский, который, возможно, еще пару дней назад придерживался иного мнения, сегодня совершенно согласен с нами. Однако королевской фамилии было заранее известно, что автор приготовил приятный сюрприз, посредством которого изящно и тонко выразил почтение герцогине Орлеанской; было известно, что сделанная его рукой копия пьесы, написанная образцовым почерком, а возможно, и образцовым слогом и украшенная прелестными рисунками Буланже, Доза и пр., будет ожидать герцогиню в ложе, словно самое обычное либретто; членам королевского семейства льстила эта предупредительность, обличающая элегантность и хороший вкус, и они не хотели испортить праздник автору, отказавшись присутствовать при его триумфе… они пришли, быть может, против воли, чтобы не огорчить талантливого сочинителя; то была ошибка; правда, подобные ошибки так редки, что, пожалуй, заслуживают похвалы; однако — увы! — тому, кто рожден принцем, приходится остерегаться всего, включая благие намерения.
Кроме принцесс крови в зале присутствовали принцессы театра. В ложах первого яруса сидели все парижские актрисы: мадемуазель Эльслер, госпожа Дорваль, мадемуазель Фалькон, госпожа Вольнис, мадемуазель Анаис, мадемуазель Жорж, мадемуазель Полина Леру, госпожа Дабади — все решительно, кроме мадемуазель Дежазе, чьего отсутствия нельзя было не заметить. В зале присутствовали не только все актрисы, но и все актеры Парижа и даже Версаля, за исключением Арналя и Лепентра-младшего — их всем очень недоставало. В наши дни первое представление любой пьесы напоминает торжественные церемонии из «Мещанина во дворянстве» или «Мнимого больного»[328]: все актеры столицы являются сюда в самых живописных нарядах; зрелище это радует глаз; впрочем, мы полагаем, что общую картину портят разбросанные повсюду группы журналистов: следует потребовать, чтобы они тоже облачались по такому случаю в особое платье — это произвело бы превосходное действие. Одно нехорошо — это пикантное зрелище возобновляется слишком часто. Столь полное собрание столичных знаменитостей, разумеется, представляет большой интерес для юноши из провинции, который накануне приехал в Париж, а назавтра его покинет. Этот любознательный путешественник будет очень рад возможности увидеть в один вечер весь парижский драматический люд; он может вернуться домой и сказать, не погрешив против истины: «Я видел мадемуазель Марс, я видел мадемуазель Жорж» (он-то, впрочем, говорит просто Марс и просто Жорж; он полагает такую манеру очень элегантной; мы его мнения не разделяем). Он не обязан уточнять, в какой роли он их видел, не обязан излагать свои впечатления и уподобляться тому незадачливому шутнику из старой комедии театра «Варьете», который утверждал, что Тальма — человек очень холодный и не произвел на него ни малейшего впечатления. «Как, — спрашивали у этого скептика, — он не заставил вас содрогнуться в роли Ореста?» — «В роли Ореста я его не видел». — «А в роли Гамлета?» — «Я не видел его и в роли Гамлета». — «Но где же в таком случае вы его видели?» — «Я однажды видел его в фиакре, и это оставило меня совершенно равнодушным». Повторяем, для юного провинциала увидеть знаменитую актрису — праздник; но мы, наслаждающиеся этим праздником регулярно, мы мечтаем о другой публике; мы хотели бы, чтобы в модных ложах в дни премьер можно было бы увидеть хотя бы одну женщину, о которой позволительно с чистым сердцем сказать: «Она не участвует ни в каких представлениях».
Впрочем, мы понимаем, отчего наши прославленные актрисы все как одна являются посмотреть, как играют трагедию во Французском театре. Никто не мог получить такого удовольствия от давешнего представления, как они: мадемуазель Жорж, должно быть, забавлялась фантастической игрой мадемуазель Нобле, а госпожа Дорваль, так прелестно игравшая в «Чаттертоне» и в «Беатрис Ченчи»[329], по всей вероятности, смеялась от души, наблюдая за мадемуазель Идой! Как можно выбирать амплуа инженю, имея такую комплекцию? Роли, которые исполняет мадемуазель Жорж, располагают к полноте; худышке там делать нечего. Мадемуазель Жорж до сих пор остается женщиной представительной[330]; какую бы героиню она ни изображала — благородную, надменную или грозную, — она всегда остается королевой или матерью: никогда она не превращается в томную любовницу. Если она любит, то любовь эта непременно направлена на одного из ее сыновей; все ее страсти — в той или иной степени материнские. Мадемуазель Жорж позволяет себе влюбляться только в собственных детей. В «Семирамиде» она хочет выйти замуж за своего сына; в «Эдипе» она за него выходит; в «Лукреции Борджиа» она любит своего сына; в «Нельской башне» — двух сыновей[331]. С ее стороны это вовсе не преступление, это всего лишь остроумный способ объявить, что она не скрывает своих лет. Вдобавок мадемуазель Жорж — женщина высокая и красивая; она была красивой смолоду и таковой осталась: полнота актрисы, пожалуй, лишь прибавляет величавости ее героиням. Но вот полнота мадемуазель Иды — особы мечтательной и чувствительной, легконогой невинной девы в неизменных белых одеждах, несчастной жертвы подлого злодея, ангела без крыльев, воздушной сильфиды — полнота мадемуазель Иды смешна и возмутительна. Девица, которую каждый вечер умыкают, не имеет права быть неподъемной[332].
Луи-Альбер Бакле-д’Альб. Китайские бани на бульваре Итальянцев.
Самое странное во Французском театре — это манера актеров произносить текст: не слышно ни единого слова. Только трое: Лижье, Бовале и Фирмен — умеют говорить со сцены; речь остальных — нечто невообразимое. Каждый коверкает французский язык по-своему: госпожа Парадоль[333] упраздняет все согласные. Обращаясь к предавшим ее богам, она восклицает вместо: «Не боги вы, нет-нет!» — «Е оги ы, ет-ет!» Поскольку этот приступ гнева прекрасен, а жест, которым актриса опрокидывает изваяния богов, красноречив сам по себе, зрители отвечают рукоплесканиями, но слов они, конечно, разобрать не могут. У мадемуазель Нобле свой звездный час. Аквила и Юния замышляют убийство императора; они восклицают: «Куда ж нам спрятаться?» Появляется Мессалина и отвечает: «Сюда! Вас спрячу я». Прекрасная сцена, которую венчает страшный финал; плохо одно: в устах мадемуазель Нобле эти слова превращаются в милую английскую шутку. Вместо «Вас спрячу я» она произносит: «Уас спрятчу… йа!» Тут уж не до страха! Еще своеобразнее произношение мадемуазель Иды: она вот уже десять лет страдает хроническим насморком; этот плачущий голос был очень кстати в «Анжеле», где мадемуазель Ида играла превосходно[334]. В драме из современной жизни все изъяны произношения допустимы, ибо могут быть оправданы заботой о местном колорите; в наши дни даже у самых элегантных дам, как правило, речь самая заурядная, произношение скверное и вульгарное; поэтому когда Анжела говорила матери: «Ах, баба, бде дет беста на земле!» — это звучало мило, это звучало наивно; это называлось «говорить со слезой»; но когда играешь трагедию, да притом трагедию в стихах, нужно говорить четко, и в этом случае подобная наивность уже не кажется такой милой. В результате мадемуазель Ида загубила все самые выразительные сцены спектакля. Пример: Стелла рассказывает Юнии о воскрешении Лазаря; Юния восклицает: «О мама, как прекрасно!» Но никто этого не понял: дело в том, что в устах мадемуазель Иды фраза приняла следующий вид: «О баба! Как бреграсдо!» Трагического в этом мало. Что касается небывалого великолепия, о котором толкуют газеты, мы не увидели его нигде, кроме декораций — в самом деле прекрасных. Великолепие спектакля довольно жалкое; триумфальную колесницу, о которой нам прожужжали все уши, везут вовсе не лошади и не обещанные нам богини Оры; ее везут два могучих мекленбургских битюга, отчего колесница уподобляется телеге, на которой развозят воду для купаний на дому[335]. В этом тоже мало трагического. Роскошный ужин, который происходит в большой полутемной комнате, освещенной тремя погребальными факелами, имеет вид больничной палаты и напоминает те залы мэрий, где размещали больных во время эпидемии холеры. Этот пир на весь мир на удивление скромен и не возмутил бы даже патриотический желудок подписчиков газеты «Конститюсьонель»[336]. В меню — тарелка апельсинов и две тарелки мелких красных яблочек; все это торжественно выставлено на маленьком круглом столике. На закуску — чрезвычайно тощий поэт, монотонным голосом декламирующий стихи; все это до крайности похоже на концерт в школьной столовой. Трагического в этом не было решительно ничего. При входе зрителям продавали свинцовые медали, выбитые в честь литературного триумфа «Калигулы». И в этом опять-таки не было ничего трагического; зато, прямо скажем, в этом было предостаточно комического. Медаль имела большой успех; ее изобретателю выдали патент[337].
1838
24 февраля 1838 г.
Бал в пользу бывших королевских пенсионеров[338]
Поистине, в этом году нам не судьба наслаждаться светской жизнью; все праздники кончаются для нас плачевно, каждое удовольствие влечет за собой неприятность; с концерта мы возвращаемся во власти лихорадки, с бала — в компании невралгии[339]; радостей в кредит нам не отпускают и расплату за сегодняшнее удовольствие требуют не позднее завтрашнего утра; один вечер в приятном обществе стоит нам недели в одиночестве. Мы не роптали бы против этой участи, которая вполне соответствует нашим вкусам, если бы она не находилась в таком вопиющем противоречии с тем ремеслом, каким мы вынуждены заниматься; ведь сочинитель хроники, который дни напролет сидит дома у камелька, — это сущее издевательство! Это все равно что слепой аргус, однорукий шулер или немой адвокат. С другой стороны, чтобы справедливо судить о свете, лучше, пожалуй, там не бывать. Один очень остроумный поэт сказал однажды: «Я описываю только то, что вижу в мечтах; описывать то, что вижу в жизни, я не умею; я побываю на Востоке, но позже, после того как закончу свою восточную поэму». Над ним смеялись, издевались, сравнивали его с Бауром-Лормианом, который взялся за изучение итальянского лишь после того, как опубликовал свой перевод Тассо[340]; бедного поэта обвиняли в том, что он щеголяет парадоксами, а между тем, как мы сегодня убеждаемся на собственном опыте, он был не так уж неправ.
Сколько ни старайтесь увидеть все своими глазами и оценить своим умом, суждение ваше все равно окажется пристрастным; ведь от собственных вкусов и притязаний никуда не деться; если на дне вашей души притаилась печаль, вас не развеселит даже самое блистательное празднество; если вы провели две ночи без сна, вы будете зевать на представлении самой пленительной оперы; впечатления ваши повлияют на ваши оценки, и вы не однажды ошибетесь; глядя на мир сквозь завесу, вы будете видеть его в ложном свете и уподобитесь тому ученому, которого кокетка возненавидела из-за его синих очков. «Отчего вы его так ненавидите? — спрашивали ее. — Оттого что он видит меня синей, а мне это неприятно». На каждый предмет вы смотрите сквозь призму ваших предрассудков и воспоминаний, ваших притязаний и вашей ревности, ваших мелких страстей, как благородных, так и низких; смотрите сквозь нравственные очки, в абстрактный лорнет, из-под умственного козырька: ко всем этим оптическим приборам со временем привыкаешь, но они тем не менее искажают и картину мира, и ваше о ней представление; так всегда бывает, когда пользуешься лорнетом: детали различимы лучше, зато целое ускользает; напротив, не прибегая к лорнету, об этих деталях даже не подозреваешь, что само по себе уже неплохо; вдобавок верное и точное представление о тех событиях и развлечениях, в которых вы лично не принимали участия, вы можете составить себе по разнообразным — и зачастую противоречивым — откликам и суждениям всех тех особ, которые увидели все это вместо вас и готовы описать увиденное. Возьмем, к примеру, великолепный бал в пользу бывших королевских пенсионеров: мы на нем не были, но перескажем вам то, что слышали от других.
Огюст Пюжен. Лувр.
Огюст Пюжен. Тюильри.
Мнение карлиста: это было прекраснейшее, лучшее в мире празднество, зрелище испанское, мавританское, феерическое, пленительное; прелестные женщины, повсюду цветы, цветы! Море цветов! Настоящее чудо! Как жаль, что вы не приехали.
Мнение сторонника «золотой середины»[341]: устроено неплохо, много света, много цветов, но мало хорошеньких женщин, и вдобавок странные особы, которым не место на таком бале!.. (Как известно, представители «золотой середины» убеждены, что хорошенькие женщины встречаются только в их кругу.)
Так вот, из этих двух мнений мы вывели третье, наше собственное:
Праздник был великолепный, очень хорошо устроенный, бал в пользу неимущих, который можно было принять за бал в посольской резиденции; на этот бал съехалось множество очень хорошеньких женщин, которые, впрочем, изобилуют повсюду, ибо красота лишена предрассудков, она не чуждается ни одного звания, ни одной секты, ни одной партии (не говорим: ни одного возраста, ибо к возрастам это, увы, не относится); так вот, на балу присутствовали очень хорошенькие женщины, а также женщины элегантные и изысканные, а также знатные господа, а также чаровницы из малого большого света и юноши из числа фешенебельных причудников, а также, помимо всех перечисленных, еще и пара фантастических чужеземных персон, которых никто не знает, но которых все сразу узнают, — тех самых злых фей, которые никогда не получают приглашения; пленительных, но грозных призраков, с которыми все хотят встретиться глазами, но которым никто не дерзает поклониться; знаменитых красавиц, чье имя никому не известно; элегантных модниц, чересчур гордых собственным нарядом, — неизбежных посетительниц всех публичных, а порой и частных балов[342].
3 марта 1838 г.
Внутренняя эмиграция. — Новые изобретения. — Речь князя де Талейрана
Пересказать все те развлечения, которые кружили головы парижан в течение последней недели, — задача воистину непосильная; у каждого сословия были свои праздники, в каждом этаже — свои балы; в ход шли и золотые канделябры, и медные подсвечники, и хрустальные люстры, и жестяные кенкеты: при самом тусклом свете и при самом ослепительном сиянии в одно и то же время, но в разных местах разные люди собирались, чтобы повеселиться. О! после таких бурных радостей потребуется длительный отдых. Если кто и выигрывает от удавшегося карнавала, так это врачи…
Балы Мюзара и Валентино по-прежнему в моде. Бал Мюзара можно уже назвать старинной забавой, она освящена временем и сделалась привычной. Молодые люди хорошего рода, наследники самых знатных родов являются туда, чтобы растратить хотя бы часть той силы, которая по причине их внутренней эмиграции и политических предрассудков остается совершенно невостребованной; они танцуют, галопируют, вальсируют исступленно, страстно, так, как сражались бы, веди Франция войну, как любили бы, сохрани Франция в своем сердце хоть каплю поэзии. Они не ездят на балы во дворец; как можно! Ведь там они рискуют встретить своего нотариуса и своего банкира; зато они ездят к Мюзару; там они наверняка встретят своего камердинера и своего кучера — но это пустяки! Танцевать в обществе этих людей — не значит себя компрометировать. Дух партий изобрел тысячи неслыханных аргументов, причудливых отговорок, в которых мы, к счастью, ровно ничего не смыслим; согласно новым понятиям о политической щепетильности, служить своей стране в качестве офицера, дипломата или чиновника — значит предать веру отцов и честь собственного рода; зато дни напролет курить, играть и пить до умопомрачения, рвать шпорами канапе танцовщицы, злословить с нею насчет женщин из высшего общества, которым хватает ума над вами смеяться и которые предпочитают вам старых щеголей эпохи Империи; хладнокровно изрыгать самые грубые проклятия; одним словом, не служить ни науке, ни любви, ни славе — это называется сберегать свои убеждения, хранить верность правому делу, наконец, исполнять все, чего требуют ваше звание и ваше имя. О приверженцы благородной партии! Как превосходно исполняете вы свой долг! Как был бы счастлив юный король, о возвращении которого на престол вы мечтаете[343], когда бы смог увидеть ваши досуги! Как порадовался бы он возможности обзавестись двором столь рыцарственным и столь блистательным! А какое сочувствие пробудили бы в его сердце картины столь трогательные! Какая счастливая гармония связует его существование с вашим; как слаженно преследуете вы одну и ту же цель, шествуете одним и тем же путем, как отвечают ваши мысли мыслям молодого государя! Одни и те же занятия, одни и те же досуги. Он трудится… вы играете в карты!.. Склонившись над толстыми фолиантами, он изучает историю, погружается в науки… Склонившись над бильярдным столом, вы изучаете шансы не промахнуться!.. Каждый вечер он падает на колени перед образом Христа и, молясь страстно, исступленно, обращает свои мысли к возлюбленному отечеству, к вам, своим защитникам и друзьям… И вы тоже каждый вечер падаете и валяетесь под столом в пьяном угаре; правда, мысли свои вы ни к кому не обращаете, за отсутствием таковых. Вот его жизнь и вот ваша. О! если бы он воротился два дня назад, какой восхитительный прием вы бы ему устроили, с какой готовностью бросились бы ему навстречу из Верхнего Куртия в костюмах трубадуров и извозчиков, лодочников и чертей, Роберов Макеров и ямщиков из Лонжюмо[344]! Теперь, когда карнавал позади, признайте откровенно, господа: эта роль вам не пристала. Не так должны вести себя в столице Франции наследники славных родов, защитники старинной монархии, сторонники партии, столь благородно представленной в изгнании двумя женщинами, исполненными отваги, и двумя детьми, исполненными достоинства. Разумеется, описанные безумства распространены не повсеместно. Мы знаем не одного юного герцогского сына, который проводит жизнь в трудах и которого не пугают грядущие опасности и лишения. Мы могли бы привести несколько примеров самоотверженности и решительности, которым не могут не рукоплескать все здравомыслящие соотечественники; однако эти исключения вызывают в свете так мало сочувствия, их обсуждают с таким насмешливым удивлением, что они лишь подтверждают нашу мысль и доказывают, что из всех партий, которые оспаривают власть над Францией, хуже всего осознает свое предназначение именно та, которой следовало бы вести себя наиболее достойно, раз уж она клянется в верности священным воспоминаниям.
Из новшеств отметим бал-маскарад в пользу неимущих; его постигнет судьба всех наших новшеств: успешными они становятся лишь после того, как перестают быть новыми; мы, слывущие непостоянными и легкомысленными, привыкаем к новому с большим трудом: всякая перемена нам отвратительна; мы допускаем разнообразие, но лишь в пределах трех-четырех одинаковых вещей; мы часто переезжаем, но не покидаем родного квартала. Говорят: это имеет успех, потому что это ново; на наш взгляд, гораздо правильнее было бы сказать иначе: это имеет успех, несмотря на то что это ново, потому что это произошло вовремя. Новым предприятиям прощают их новизну, только если они очень своевременны и в них уже давно ощущалась нужда. Между тем, поскольку нужда в бале-маскараде для великосветского общества повсеместно не ощущалась, бал, состоявшийся в минувший понедельник, был принят весьма прохладно. Между тем он удался: приехало множество мужчин, правда, далеко не все в домино. Вдобавок оригинальные домино уничтожают всякую тайну, всякую интригу: любую женщину в таком наряде нетрудно узнать. Прежде все домино были одинаковы, все одного фасона, из одной черной тафты, с одними и теми же украшениями; точь-в-точь как венецианские гондолы — одну от другой не отличишь; вот потому-то Венеция и считается городом тайн! Женщины были одеты все одинаково, и проистекавшая из этого великая путаница сбивала с толку самых хитроумных наблюдателей. Одна и та же женщина заговаривала с вами дважды или трижды, а вы думали, что с вами говорили три разные женщины; она бросала вам кокетливую фразу и исчезала в толпе; вы устремлялись вдогонку, останавливали другую женщину и обращались к ней с ответом, предназначенным той, первой женщине. Порой два, а то и три или целых четыре домино уславливались и затевали с вами четверную интригу, от которой у вас шла голова кругом; теперь же каждая дама жаждет отличиться: одна надевает розовый чепец, другая — короткую мантию с капюшоном, одна предпочитает черный атлас, а другая — кружевные воланы. Кажется, будто все женщины в домино добиваются только одного — чтобы их поскорее узнали; спешим заверить: им это прекрасно удается. Мы на этот бал не ездили и объявляем об этом совершенно недвусмысленно всем тем людям, которые утверждают, будто нас там видели; зато накануне бала с нами приключилась история столь забавная, что мы не можем отказать себе в удовольствии ею поделиться. Нам любезно прислали пропуск на бал-маскарад, который должен был избавить нас от часового ожидания в цепи экипажей. При виде этого всемогущего талисмана муниципальные гвардейцы смягчаются, экипажи расступаются и все препятствия исчезают. Но мы ведь не собирались на бал, и потому волшебной бумаге суждено было остаться без применения, когда бы не один из наших друзей. «Вы ведь не едете на бал нынче вечером? — спросил он. — Нет… — Отчего?.. — Оттого что я еду на бал завтра. — Это не причина. — Нет, это причина, и очень уважительная; одно развлечение вселяет в мою душу печаль, но два подряд нагоняют на меня скуку. — А вот и пропуск! Вам, значит, его прислали? — Да, хотите его взять? Предлагаю от чистого сердца. — Спасибо, возьму; но нужно запечатать его вашей печаткой. — У меня нет при себе моей печатки; дайте мне какую-нибудь другую». И вот мы берем первую попавшуюся, случайную печатку; отгадайте, что на ней значилось? Ставим тысячу против одного, что вы не угадаете!.. Мы так смеялись. Пропуск, призванный избавить от ожидания в цепи экипажей, украсился следующей мудростью: БЕЗ ТЕРПЕНЬЯ НЕТ СПАСЕНЬЯ!
Хорошо еще, что муниципальные гвардейцы не оценили всей глубины сарказма. На этом балу присутствовало немало депутатов, вообще солидные особы там преобладали; ведь бал был благотворительный. Солидные особы решили совместить приятное с полезным и, сделав доброе дело, вознаградить себя за это развлечением.
Сегодня старейшина нашей дипломатии господин князь де Талейран должен произнести в Академии моральных и политических наук похвальное слово господину Рейнгарду[345]. Господин де Талейран… произнести речь! Что за чудо?! Откуда такое великодушие? Зачем человеку, который обессмертил себя фразами столь остроумными и столь глубокими, произносить длинную речь? Какая жертва! Какое самоотречение! Ведь чтобы произнести те прославленные фразы, которые знает вся Европа, господину де Талейрану требовались мысли, а чтобы произнести речь, не требуется ничего, кроме фраз. Поистине, если слово было дано человеку для того, чтобы скрывать свои мысли[346], речи были с еще большей щедростью даны ему для того, чтобы скрывать отсутствие мыслей. — Сегодня в Академии будет много народу!..
24 ноября 1838 г.[347]
Мадемуазель Рашель
[…] Мы еще не видели мадемуазель Рашель на сцене, но заранее отдаем ей свой голос[348]. Недоброжелатели объясняют успех актрисы поддержкой единоверцев. Мадемуазель Рашель, говорят они, пользуется такой большой славой только потому, что всякий раз, когда она выходит на сцену Французского театра, половину зала занимают иудеи, которые рукоплещут ей, не жалея ладоней; точно так же обстоит дело с Мейербером и Галеви: в те дни, когда в Опере представляют «Гугенотов» или «Жидовку»[349], все места заранее куплены иудеями. Все это правда, и все это рождает в нашей душе величайшее восхищение единодушием этого народа, представители которого отвечают друг другу с разных концов земного шара, понимают друг друга с полуслова, бросаются на помощь всякому сыну своего народа, попавшему в беду, по первому его зову и каждый вечер стекаются в театр, чтобы все вместе рукоплескать тем из своих детей, кто славится незаурядным талантом. Что за сказочная картина! Эти люди не имеют отечества, но хранят в своих душах национальное чувство во всей его полноте! Какой урок для нас, французов: мы гордимся нашей прекрасной Францией и притом беспрестанно вредим друг другу, ненавидим друг друга истово и страстно! Неужели дети одной земли должны прожить столетия в изгнании и в неволе для того, чтобы научиться любить друг друга? Быть может, так оно и есть!.. Как бы там ни было, успех мадемуазель Рашель — успех заслуженный, ибо незаслуженные овации не бывают такими единодушными и такими продолжительными; не говоря уже о том, что похвалы юной актрисе мы слышим из уст судей, которым доверяем безоговорочно, — это старые ценители трагедии, которые видели на сцене Тальма, рукоплескали мадемуазель Рокур и мадемуазель Дюшенуа, и притом не имеют никакого отношения к иудеям. […]
15 декабря 1838 г.
Роскошные украшения. — Эдикт Людовика XIV против гипюра
О как это прекрасно: мороз, солнце, камин! Три часа дня, а на улице светло! Чудо, а не погода; мы так давно о ней мечтали. Поэтому сегодня с утра весь Париж вышел на прогулку. Бульвары великолепны: куда ни глянь, взору представляются шляпы с перьями и шляпы с вуалями, накидки, отороченные мехом, и кашемировые шали, атласные платья и платья бархатные с самыми разнообразными оборками; богатые ткани снова в моде. Долгое время женщинам внушали, что верх совершенства — элегантная простота; вначале они доверчиво прислушивались к этим проповедям, продиктованным самыми разумными соображениями: в течение многих лет роскошные уборы почти не отличались от утреннего неглиже; бальные туалеты походили на нижние юбки; в качестве парадных шляп выступали простенькие девические капоты; причудница, делающая утренние визиты, была одета точь-в-точь как английская горничная, и невозможно было понять, почему вместо того, чтобы остаться на облучке, она небрежно восседает в коляске. Сегодня все переменилось: женщины догадались, что их обманули и что доверчивость завела их слишком далеко. Мужчины говорили: «Порядочная женщина должна избегать всего чересчур заметного; богатые парюры, драгоценности, цветы, перья — все это годится лишь для больших праздников». И вот порядочные женщины, в простодушии своем, отправлялись в театр в скромных капотах и незамысловатых душегрейках, поднимали высокие сборчатые воротники и устраивались в дальнем углу ложи, закрыв лицо благопристойной вуалеткой. А в середине представления в литерной ложе вдруг являлось ослепительное видение — женщина, не отличающаяся особой красотой, но одетая так роскошно, что от нее невозможно было оторвать глаз. Шляпу ее венчали три высоких пера, под шляпой красовалась гирлянда из роз, а под гирляндой — фероньерка[350] с брильянтом, — украшений тут не жалели. Убранство это выдавало вкус более чем сомнительный, однако розы были такого прелестного оттенка, а брильянт так заманчиво переливался… женщина эта блистала обнаженными руками и обнаженной шеей — вещь, конечно, совершенно неприличная; впрочем, эта женщина ведь не была порядочной и вовсе не желала таковой прослыть; блеск ее убора выдавал заранее обдуманное намерение — объявить о том, что к порядочным она не принадлежит, однако неприличный убор производил огромное впечатление, и на фоне этой женщины, одетой недостойно и безвкусно, туалеты всех остальных женщин казались бедными и жалкими, а о женщине с фероньеркой мужчины говорили: «Чудовищная безвкусица, но вид чертовски завлекательный». И весь вечер они смотрели на нее в лорнет и занимались только ею, а в антракте при первой возможности чертовски быстро покидали порядочную женщину, с которой приехали в театр, и бросались в фойе разузнавать имя незнакомки, чей убор столь причудлив, а внешность — столь чарующа. Между тем порядочная женщина, оставшись в одиночестве, предавалась философическим размышлениям, и в результате многие порядочные женщины пришли вот к какому выводу: да здравствуют туалеты, роскошные до безумия, да здравствуют моды, презирающие время, пространство и предрассудки; моды, заимствующие идеи у всех стран и всех религий, всех мнений и всех возрастов. Сегодня, листая журнал мод, можно выучить историю Франции и историю Англии, не говоря уже об их географии. Шляпы à la Мария Стюарт и à la Генрих IV, прически à la Манчини и à la Фонтанж, испанские сетки для волос и египетские тюрбаны — все воспоминания оживают, все звания смешиваются, все верования переплетаются; герцогиня носит чепцы à la Шарлотта Корде, методистка — иудейские тюрбаны; главное — быть красивой, а за счет чего — не важно; теперь женщина уже не спрашивает про вещь, прилично ее носить или нет, теперь она выбирает то, что ей к лицу, не говоря уже о том, что, как выяснилось, так называемые неприличные вещи на поверку оказываются самыми привлекательными. Итак, сегодня элегантная простота остается уделом одних лишь молоденьких девушек. Моды сделались королевскими, нравы же остались буржуазными, поэтому деньги тратятся без счета. Матери наши некогда тоже одевались роскошно; их шелка стоили целое состояние, их кружевные оборки могли бы заменить приданое крестьянке, их свадебного платья хватило бы на выкуп пленного, — все это верно, однако не забудем, что матери наши относились ко всем этим сокровищам с величайшим почтением! что они выступали в этих нарядах плавно и покойно! что они носили их бережно и аккуратно! что они ходили степенно, смеялись вполголоса, обнимали детей с величайшей осторожностью, а ближе к вечеру не обнимали их вовсе. Некоторые платья были так прекрасны, так величавы, так требовательны, что не позволяли ни малейшего проявления чувств. Сегодня же все платья снисходительны, и самые роскошные ткани не удостаиваются никакого уважения; одна женщина прогуливается по улице в зеленом бархатном платье, другая играет с дочкой, не боясь за свои кружева и не смущаясь тем, что на смородинном атласе или небесно-голубом шелке прелестное дитя оставляет следы шоколада или варенья. Девочку с самого раннего детства приучают к подобным зверствам, в ее собственном гардеробе тоже полно красивых вещей, над которыми она всегда готова надругаться: она ощипывает забавы ради свою муфту из драгоценного меха, острыми ноготками рвет ажурную косынку, чтобы сделать ее еще ажурней, а шляпку принимает за игрушку и с очаровательной улыбкой предъявляет вам плоды своих трудов — сломанные перья… Таким образом, сегодня женщины воскресили моды своих матерей, но не стали воскрешать тот величавый этикет, который сообщал этим модам некоторое благоразумие; сегодня женщины, отправляясь на пешую прогулку, одеваются, как принцессы, а намереваясь поиграть с ребенком или навести порядок в доме, облачаются в шелка и горностай; сегодня они заказывают ежегодно такие платья, которых им прежде хватило бы на целую жизнь. Вот почему мужья и все им подобные испускают в конце года жалобные стоны. Стоит послушать, с каким красноречием они восхваляют шерстяной муслин! как ловко вставляют в разговор о какой-нибудь дорогой ткани: «Красиво, конечно, но сидит дурно; бархат полнит, лично я люблю только тонкие материи — взять хоть белый муслин; белый — какая прелесть!» Несчастные женщины отвечают: «Но сейчас для муслина слишком холодно; вдобавок муслин с мехами…» — «О, ни слова о мехах, вы, моя дорогая, для этого слишком полны, слишком малы; в меховой накидке и с муфтой вы будете вылитая толстая кошка!..» Право, давным-давно пора принять закон о роскоши. Существовал же такой закон во времена Короля-Солнца. Да, сударыни, Людовик XIV принял эдикт, запрещающий пайетки, вышивки и гипюр! Тот самый гипюр, который нынче сводит вас с ума, кружевной, тончайший, ажурный, был запрещен при элегантнейшем дворе Европы[351]. Если не верите мне, справьтесь у Мольера; в его «Уроке мужьям» Сганарель говорит:
За это королю так благодарен я! Но чтоб воистину вздохнули все мужья, Кокетство запретить мы тоже были б рады, Как кружево, шитье и лишние наряды[352].Огюст Пюжен. Пассаж Кольбера.
Огюст Пюжен. Пассаж Сомона.
Мечта Сганареля не исполнилась и по сей день. С тех пор законы принимались против очень многих вещей — против газет и против уличных глашатаев, против ассоциаций и против поддельного табака; был принят закон, упраздняющий карточную игру и лотереи[353]; но до закона против кокеток дело не дошло. Никто и никогда не пытался упразднить кокетство законодательно. Министерства, правившие Францией до сегодняшнего дня (эта фраза принадлежит не нам, мы заимствуем ее из газет «Конститюсьонель», «Журналь де Деба», «Насьональ», «Французский вестник», а также из еще 99 политических брошюр и статей), так вот, министерства, правившие Францией до сегодняшнего дня, не нашли в себе сил совершить эту реформу, интересующую избирателей гораздо больше, чем принято думать; они капитулировали перед сложностью задачи; выкажет ли нынешнее министерство больше отваги? Мы не осмеливаемся давать ему советы; однако если верить тому, что рассказывают о женском влиянии на коалицию, министерство это выиграло бы от подобного государственного переворота больше, чем любое другое[354].
22 декабря 1838 г.
Дети. — Конный нищий. — Манеж графа Ора. — Парламентский мятеж.
— Первые шаги мадемуазель Рашель и мадемуазель Гарсиа. — Вязальщицы
Ну вот! Дети вернулись в город и начали возню; шум стоит чудовищный — сам себя не слышишь. Как они кричат; как они пихаются, эти дьяволята, как дерутся! вы только посмотрите! Разговаривать в этой обстановке невозможно; невозможно ни петь, ни декламировать стихи, ни рассказать даже самую коротенькую историю. Пока детей не было, можно было чем-то развлечься, но что делать теперь? Ни минуты покоя: с ними надо постоянно заниматься, за ними надо постоянно приглядывать; отвернешься на секунду, а они уже что-нибудь сломали! Дети в этом возрасте все такие буйные, их невинные игры так опасны! Дети пяти-шести лет тоже не ангелы, но их забавы сравнительно безобидны; сломанный стул или стол легко починить; другое дело сорванцы лет сорока-пятидесяти; когда за дело берутся они, жди беды; мебель, которую ломают они, так запросто не починишь. Впрочем, не важно! увидеть их вновь так приятно; они пополнели, поздоровели! каникулы явно пошли им на пользу; как приятно будет это зрелище их матушке! Они не красавцы, не отличаются трудолюбием и не блещут умом, но зато они прекрасно себя чувствуют. Ступайте, мои маленькие друзья, живите в свое удовольствие; если вы будете умниками, каждому из вас подарят к новому году хорошенький портфельчик; только смотрите, не теряйте его — нового вам никто не даст![355]
Странная у нас эпоха!.. юные старики существуют рядом со старыми детьми! холодные сердца — рядом со страстными умами; соперники заключают союзы, враги вступают в брак, эгоисты забывают себя, скупцы раскошеливаются, люди с разбитыми сердцами шутят без устали, миллионеры ходят пешком, а нищие просят милостыню верхом.
Неужели вы не видели этого старого калеку, который прогуливает свою нищету по Парижу на седле? его сопровождают два мальчугана; он молит жалобным голосом: «Помогите мне, сударь, я обезножел». Тут вы, идущий по тротуару, отступаете прямо в лужу и даете этому бедняге денег, чтобы он мог прокормить самого себя и своего коня, а все кругом смотрят на вас; ведь это очень странно — чтобы пешеход помогал всаднику; он милостиво принимает ваше подношение, не сходя с коня, снисходительно благодарит и отправляется на поиски следующей чувствительной души, следующего благодетеля, которого разжалобит и обдаст грязью. Этот несчастный вызывает V нас живейшее сочувствие, мы от души желаем ему удачи; больше того, мы советуем ему сделаться рассыльным: выполнять поручения верхом гораздо сподручнее, и он сможет разбогатеть куда быстрее, чем тот его собрат, что разъезжает со своей шарманкой в тильбюри; комиссионеры зарабатывают больше музыкантов. Говорят, что в Париже даже пешим рассыльным быть очень выгодно, что уж говорить о рассыльных конных! Но в таком случае наш нищий не будет иметь поэтического вида. О цивилизация, какими семимильными шагами ты идешь вперед! Может ли хваленая древность сравниться с нами? У Велизария был всего один друг[356], у Гомера — всего один посох. Пройдет время, и потомки наши скажут: каким великим народом были эти прославленные французы! мартышки у них одевались, как люди, а нищие ездили на лошадях.
Кстати о лошадях — впрочем, немножко иного сорта — мы наконец побывали в прославленном манеже, о котором идет так много разговоров[357]. И что же? — О, манеж поистине великолепен!.. это настоящий памятник архитектуры, это целый город. Там можно провести полгода безвылазно и не почувствовать скуки; там можно не только ездить верхом, но и наслаждаться многими другими радостями. Своды манежа так высоки и так гулки, что туда входишь с благоговением и говоришь только шепотом: это другая церковь, разве что с песчаным полом. Манеж окаймляет элегантная галерея, состоящая из множества хорошо отапливаемых и с величайшим изяществом обставленных салонов, откуда матери могут наблюдать за тем, как их сыновья и дочери берут уроки верховой езды; в этих же салонах юные наездницы переодеваются в обычное платье. За галереей располагаются салоны для беседы и для игры в вист, столовая, бильярдная, раздевалка, библиотека и мастерская художников; затем фехтовальный зал, салон для курящих, таинственный будуар, заставленный конскими скелетами, учеными трудами по ветеринарному искусству и руководствами по верховой езде; здесь ни в чем нет недостатка: ни в книгах, ни в рисунках и гравюрах, ни в статуэтках, ни в диковинах; это подлинное гиппологическое царство, которое не может не нравиться профессиональным лошадникам, но еще больше пользы принесет невежественным любителям: ведь конная наука, как и всякая другая: физика и медицина, политика и статистика — плодит своих знатоков. У спортсменов[358], этих элегантных мономанов, этих вздорных умников, свои претензии на ученость; педанты встречаются не только среди пеших, но и среди конных, так что наши юные денди должны радоваться прекрасной возможности в короткое время выучить несколько специальных терминов модной науки. Что может быть приятнее, чем щегольнуть в разговоре двумя десятками слов, которых не понимает никто из окружающих!
Лошади в этом храме гиппологии чувствуют себя не хуже людей: здесь говорят о конюшне на шестьдесят лошадей, как в других местах — о столе на шестьдесят персон; конюшни трехэтажные, а скоро обещают оборудовать еще и превосходные подземные стойла. Все для лошадей — и каких лошадей! Забудьте этих старых обманщиков, которые в прежние времена так любезно подставляли спину всякому, кто желал прокатиться на них по манежу; забудьте этих вероломных эгоистов, которые, желая набить себе цену, внушали вам самые ложные представления о характере им подобных и награждали вас одним-единственным умением — умением изящно свалиться с первой же настоящей лошади, на которую вы сядете; забудьте этих четвероногих сомнамбул, этих скакунов на колесиках, которые именуются в наши дни лошадями для манежа, а некогда именовались Росинантами. Сегодня от всего этого не осталось и следа; все переменилось самым решительным образом, и искусство верховой езды действительно сделалось искусством. Сегодня… то, что мы сейчас скажем, вас удивит, вам трудно будет нам поверить, но вы убедитесь, что мы говорим правду, — так вот, сегодня тот, кто берет уроки верховой езды, научается ездить верхом, что само по себе вещь неслыханная. Но и это еще не все, в манеже его научат также законам элегантности и правилам хорошего тона. Эта конюшня — заведение куда более фешенебельное, чем многие из наших салонов; общество здесь самое избранное; доступ сюда получают только люди и лошади хороших родов.
На минувшей неделе все разговоры вертелись вокруг открытия парламентской сессии. Вот отчет о вчерашнем заседании[359]: оживление в зале; крики: голосовать! Голосовать! Оживление в зале, шум в зале; негодование слева, бурные протесты справа; оживление, шум слева, гам справа; бурные и многочисленные протесты; ропот слева; снова ропот слева; оживление, шум, резкие протесты и проч… Как же можно не говорить о таких важных вещах? Ведь это называется обсуждением политики государства!.. Несчастное государство!.. Некто назвал коалицию парламентским мятежом. Мятежом — да; парламентским — ни в малейшей степени.
Те, кого политика путаников и завистников печалит, утомляет и обескураживает, обсуждают мадемуазель Рашель и мадемуазель Гарсиа. Лучше две юные девушки, исполненные таланта и вдохновения, чем два десятка старых безумцев, не имеющих ни единой мысли в голове.
Огюст Пюжен. Пале-Руаяль.
Благотворительность вступает в свои права: на грядущей неделе начнутся торговля и лотерея в пользу польских изгнанников; очаровательные волшебницы, добрые феи, совершают по этому случаю настоящие чудеса. В благотворительных мастерских работа кипит уже целых три месяца; дамы, посвятившие себя милосердию, не знают ни минуты покоя; эти добродетельные женщины трудятся, как каторжные, если не хуже, ибо усердие сильнее покорности, великодушие деятельнее стыдливости, впрочем, на свой лад тоже весьма деятельной. Нам сулят шедевры вышивки и рисунка, а также вязания! как могли мы забыть о вязании — рукоделии элегантном по определению и вошедшем нынче в такую моду. Пожалуй, даже в ужасные времена вязальщиц[360] дамы не вязали с таким усердием. На сей раз этому невинному труду предаются не злобные мстительные фурии, а особы изящные и прекрасные, нимало не жестокосердые, не жаждущие никаких кровавых расправ и могущие разве что со смехом потребовать смены кабинета. Так вот, знаете ли вы, что именно вяжут эти дамы? шнурки для звонков, покрывала для ног и бриоши. Бриоши производят настоящий фурор; это не те бриоши, которые подают к чаю, это те, которые подставляют под ноги, и ногам в этом гнездышке из перьев и шерсти становится очень тепло. На Польском базаре[361] вы найдете также массу подушек и подушечек, стульев, табуретов и кресел, расшитых самым восхитительным образом; но более всего поразят ваши взоры ширмы, изготовленные княгиней С… и княгиней де В… Вышивка, покрывающая эти ширмы, не уступает живописному полотну. Очаровательные творения не только радуют взор, но и пробуждают сладостные мысли; все эти чудесные вещи вдохновлены великодушными побуждениями; знатные работницы, которым они стоили стольких трудов, следовали тому возвышенному девизу, который однажды уже изменил мир: Любовь долготерпит и милосердствует![362]
1839
5 января 1839 г.
Подарки, лавки, торговцы
Наконец-то мы сможем вздохнуть спокойно: Париж постепенно возвращается к обычной жизни; шум утихает, лошади замедляют бег, торговцы приходят в себя: последнюю неделю у них не было времени ни есть, ни спать. Что творилось на бульварах! толпы народа, деятельного, исступленного; горы снега и озера грязи; прелестные дети и женщины в вечерних туалетах, презирающие этот хаос и пробирающиеся между омнибусами и фиакрами всех сортов и цветов. Этот грандиозный праздник, этот период великодушных безумств, именуемых новогодними подарками, начался с гололеда: мостовые коварно притворились карамельками; к празднику город предложил своим жителям множество хрустальных тротуаров. Люди падали на каждом шагу, но это никого не останавливало: парижане все равно отправлялись по своим делам, и тот, кто не мог идти, либо бежал, либо скользил, как на коньках. Стараниями мальчишек все бульвары были испещрены ледяными дорожками, и право прокатиться по этим опасным тропам оспаривалось с такой же страстью, как право ступить на дороги куда более популярные, — такие, как дорога удачи или дорога славы. Правда, бульварные конькобежцы так высоко не метили. Среди тех, кто, дождавшись наконец своего часа, ступал на лёд, мы заметили ливрейного лакея с письмом в руках; скользил он не торопясь и с удовольствием, по всем правилам искусства, при этом воздевая вверх злосчастное письмо, вовсе не рассчитанное на подобную участь. Быть может, кто-то ожидал этого письма страстно и нетерпеливо, быть может, опоздание стало причиной больших бед. Таинственное письмо долго не выходило у нас из головы. Предупреждаем всех, кто этого не знает: в дни гололеда конькобежцы — не самые надежные из гонцов.
Как только лошадям сменили обычные подковы на шипованные, наступила оттепель; вот тут-то улицы Парижа приобрели вид по-настоящему фантастический; быть может, никогда еще в первый день нового года в городе не наблюдалось подобного оживления. Всякая вещь обернулась новогодним подарком. Лавки ломились от народа, причем не только те, где продают игрушки или сладости, но и те, которые торгуют нижним бельем, шляпами, скобяным товаром; цветочницы продавали свой товар возами; вдобавок в этом году каждый предмет, чтобы заслужить звание новогоднего подарка, принимал форму цветка: парижане получали в дар цветы из сахара, из фарфора и из бумаги, не говоря уже о цветах из теплицы. Прелестные жардиньерки черного дерева утопали в цветах: за фарфоровыми прятались живые. Букет полевых цветов можно было приобрести и у кондитера: в роли мака выступали вишневые конфеты, в роли колосьев — леденцы. Так что пай-мальчики могли кушать колосья с хлебом: пай-мальчики, как известно, всё на свете едят с хлебом. Кроме цветов в этом году дарили много мехов. Какой прелестный контраст — настоящее соперничество весны и зимы.
Самая модная игрушка нынешнего сезона — Ноев ковчег; идея замечательная и позволяет поднести покупателю прекрасную коллекцию зверюшек; больше того, для этого крошечного ковчега любая лохань окажется океаном; главное — не пытаться повторить всемирный потоп. В магазинах подарков нам особенно нравятся любезные речи продавцов; о некоторых игрушках они высказываются с восхитительным простодушием. «Что это за кошмар — толстая картонная маска, красная рожа пьяного извозчика в зеленых очках?» — «Это, сударь, маска для игры в жмурки; она очень удобная и делает ребенка совершенно неузнаваемым», — отвечает приказчик самым серьезным тоном. Трудно не согласиться… Другой приказчик показывает вам ракушку на бронзовой подставке и объясняет: «Это, сударь, шкатулка для колец, но набожная дама может использовать ее как кропильницу». Вот и делайте выбор между парюрами и молитвами. Наконец, третий приказчик, желая вас убедить, говорит так: «Эта вещь всем нравится, она у нас нарасхват». — «Но в таком случае она уже приелась; мне ее не надобно». Тут же товарищ незадачливого приказчика бросается ему на помощь и уточняет. «Эта вещь совсем новая, мы только сегодня начали ее продавать». Право, это несколько меняет смысл.
Мы в восторге от терпения, с которым эти сытые и осанистые, горделивые и уверенные в себе юноши, обладатели черной шевелюры и грозных усов, дни напролет катают перед покупателями игрушечную тележку водоноса, расписывают красоты полишинеля, крутят ручку миниатюрной мельницы, разворачивают и сворачивают приданое хорошенькой куклы, собирают и разбирают кукольный домик или кукольный театр. Какое удивительное занятие для взрослых мужчин и как, должно быть, смеются они вечером над всеми теми глупостями, какие по долгу службы произносят утром и днем; ибо именно в этом заключается их долг, и они не имеют права исполнять его спустя рукава. Странная у них участь! Следует отдать справедливость женщинам, они занимаются этим утомительным делом с еще большей непринужденностью. За исключением одного-единственного магазина, где продавцы ненавидят торговлю, а перепуганные барышни взирают на каждую вещь, интересующую покупателя, с тревогой, достойной прославленного ювелира Кардийяка, который, не в силах расстаться со своими творениями, выкрадывал их у тех, кому сам же их и продал[363], — за исключением этого магазина, который мы не хотим называть, продавцы повсюду расторопны, сообразительны и учтивы не по обязанности; в Париже и торговцы, и торговки отличаются изумительной проницательностью, они сразу понимают, с кем имеют дело; для них все полно смысла: и форма шляпы, и цвет перчаток, и лицо, и осанка. Этой женщине они ни за что не продадут эту материю, а той, напротив, непременно предложат претенциозную и безвкусную новинку; они никогда не ошибаются и доказывают вам свою проницательность, подавая иные накидки или шарфы с почтительной улыбкой, которая означает: это, сударыня, вам не подходит. Вот почему один из наших друзей давеча был страшно оскорблен, когда ему захотели продать новый стол под названием Железная дорога. Замысел в высшей степени остроумный; судите сами: по чайному столику проложены рельсы, по которым ездит маленький вагончик; хозяйка дома водружает чашку чая на эту железнодорожную подводу, легонько подталкивает ее, и чашка едет к вам. Если она приезжает пустой, вам еще повезло; куда хуже, если ее содержимое окажется у вас на коленях. Стол этот очень удобный и обладает одним ценным преимуществом: скупцы боятся его как огня. Они думают, что за возможность полюбоваться таким хитрым изделием с них потребуют деньги, и не осмеливаются на него смотреть: под этим предлогом вы легко отвадите их от своего дома. […]
12 января 1839 г.
Взгляд на палату депутатов. — Господин Гизо и Моисей. — Стакан воды с сахаром. — Дагерротип
На этой неделе политика завладела всеми умами, приковала к себе все взгляды. Повсюду только и говорили что о палате: что делается в палате? вы были в палате? кто сегодня выступал в палате? Разговоры эти оказались такими заразительными, что мы не выдержали и самолично отправились в палату; это было в понедельник; увы, именно в понедельник. Как жаль, что мы не побывали там, например, вчера; быть может, этот визит огорчил бы нас немного меньше. Мы не услышали бы речи господина Гизо, которым до того так сильно восхищались, и услышали бы речь господина де Ламартина, которым продолжаем восхищаться[364]; но нам решительно не везет.
Для такого независимого, беспристрастного и даже, можно сказать, непристрастившегося существа, как мы, посещение палаты депутатов — испытание не из легких: взору предстают люди, которые по отдельности способны на многое, но все вместе лишаются способности сделать что бы то ни было; люди, которые по отдельности обладают либо талантом, либо опытом, либо энергией, то есть некими реальными и несомненными достоинствами, которые у себя дома выказывают ум и отвагу, но собравшись на заседание во дворце Бурбона, превращаются в беспокойную, бессильную массу, не имеющую ни авторитета, ни достоинства; числа, значение которых от сложения не увеличивается; прутья, которые не объединяются в пучок; реки, которые приносят пользу до тех пор, пока текут одиноко, но тонут в капризном и бесполезном океане, в бескрайнем море, волнуемом вместо ветров буйными страстями и непомерными амбициями, — море, на дно которого то и дело погружается хрупкий государственный корабль. Разве не наводит все это на размышления? Ведь палата состоит из людей в высшей степени достойных. Вот отважные генералы, которым вы можете вверить армию своей страны — и не прогадаете; вот ловкие финансисты, которым вы можете вверить свое состояние, — и не прогадаете; вот красноречивые адвокаты, которым вы можете вверить ведение всех ваших дел, — и опять-таки не прогадаете. И тем не менее когда все эти достойные люди соединяют свой опыт и свои способности, когда они вносят в общую кассу свои таланты и свое величие, они оказываются решительно не способны управлять делами государства; в чем тут секрет? Быть может, в том, что эти дела их не волнуют.
В тот день, когда мы побывали в палате, мы услышали ораторов, занятых исключительно самими собой: бывших министров, которые явились рассказать о своей былой карьере; степенных историков, которые не способны ни на что, кроме устных мемуаров, и не только напоминают публике обо всем, что они когда бы то ни было сделали, но еще и повторяют все, что когда бы то ни было сказали, и если упрекают другого оратора в выдвинутом некогда опрометчивом тезисе, то лишь для того, чтобы иметь право повторить свое тогдашнее возражение. Это ретроспективное красноречие нас немало встревожило: сказать нечто один раз — это уже не шутка, но повторять одно и то же много раз — это просто издевательство; фразы, начинавшиеся со слов: «В ту пору я говорил, что… в ту пору я утверждал, что…» или «Тогда вы сказали, что… а я на это ответил вам, что…» — эти фразы привели нас в ужас; а между тем очень вероятно, что год спустя мы опять услышим все то, что слышали в этом году. Как же быть? Нет никаких оснований надеяться на то, что этому придет конец. Единственная мера борьбы — брать штраф с каждого оратора, который станет сам себе эхом и повторит одну и ту же мысль больше семи раз. Тогда болтуны разорятся, а многие вопросы разрешатся.
Господин Гизо употребил давеча выражение, премного нас удивившее; он толковал о своих политических друзьях, ссылался на своих политических друзей. А что, собственно, такое политический друг? Политика — область, не признающая сантиментов; в политике бывают сторонники и союзники, ученики и последователи; но друзей там не бывает. Можно еще допустить существование политических родственников, ибо идея сплачивает вокруг себя семью и рождает братьев по ученым штудиям и свойственников по убеждениям, но все это никак не может быть названо дружбой; впрочем, мы упрекаем господина Гизо в использовании этого выражения именно потому, что применительно к партии доктринеров оно звучит в высшей степени точно. Увы! да, господин Гизо, у вас есть политические друзья, и в этом ваша беда; вы всегда действовали не в интересах Франции и даже не в ваших собственных интересах, но в интересах этих самых друзей; вы и сегодня действуете в их интересах. Вы приходите в ярость, когда они выражают неудовольствие; вы хотите стать всем, ради того чтобы они стали хоть чем-нибудь. Без вас они не значат ничего, это правда, но вы заблуждаетесь, полагая, что вы не будете ничего значить без них. Действуя в одиночестве, вы были бы терпеливым и сильным. Вы любите власть, но вы бы не торопились брать ее в свои руки, ведь вы твердо знаете, что рано или поздно она будет принадлежать вам. Вдобавок вам не обязательно быть министром для того, чтобы иметь влияние и вес; в вашем послужном списке довольно побед[365]. Вас зовут Гизо, и этого у вас никто не отнимет; Ахилл, даже если он капризничает и отказывается воевать, остается Ахиллом, но ваши политические друзья ни за что не позволят вам раскапризничаться и выйти из игры, и они правы; войдите в их положение: у них нет времени ждать; вы, подобно греческому герою, можете остаться в своем шатре, вы все равно будете иметь вид достойный и великолепный, поведение ваше все равно сочтут благородным и прекрасным; с ними все иначе: если они окажутся не у дел, то сразу обеднеют и поблекнут; в таком исходе благородства немного, и он им совсем не по душе. Должно быть, политический склад — место очень неуютное; во всяком случае, пылиться там никто не желает. Ваша сдержанность обречет ваших друзей на небытие, ваше молчание — на немоту; если вы не выскажетесь, им нечего будет сказать; если вы останетесь в тени, они растворятся во тьме. Ну что ж, ступайте, тащите на буксире этих ваших политических друзей; но только двигайтесь побыстрее и постарайтесь растерять их всех по дороге, чтобы прийти к цели в одиночестве, если вы хотите сохранить достигнутое; политические друзья повышают цену людей посредственных, но парализуют людей гениальных. Такой человек, как вы, господин Гизо, должен идти вперед в одиночестве, окруженный тайной и погруженный в мечтания; подобно Моисею, он должен говорить только с Господом. У него не должно быть друзей, потому что у него не может быть привязанностей, но у него могут быть последователи, которые разнесут по всему свету семена его мыслей, которые будут жадно впитывать его слова, а не его посулы, которые будут слушать его самозабвенно и ничего не просить взамен. В политике друзья — тираны; горе тому, кто вознамерится понравиться горстке людей! Только тот покорит всех разом, кто не станет покорять каждого по отдельности. Ах, господин Гизо, поверьте самому безвестному из ваших поклонников, в политике силен лишь тот, кто одинок. Вы совершили большую ошибку: вы были главою партии, вы сделались вожаком шайки; у вас была школа, вы превратили ее в котерию.
Впрочем, кто мы такие, чтобы давать советы столь важным персонам? Разве этого от нас ждут? разве наше дело — обсуждать подобные вопросы? Нет; однако если нам запрещено критиковать прославленных парламентских ораторов, мы вправе подвергнуть критике их могущественного помощника, вдохновляющего их лиру, наперсника их слабостей, сочувственника их невзгод — говоря короче, стакан воды с сахаром! Мы разберем его поведение без всякого снисхождения; мы обрушимся на него без всякой жалости. Ибо стакан воды с сахаром — эта важная особа, играющая такую значительную роль в наших парламентских дебатах, — систематически попирает все приличия! Этот скверный стакан не удосужился даже стать хрустальным и смеет являться пред публикой в презренном обличье, забыв о том, что его слушает вся Франция, что за ним наблюдает вся Европа! Стакан за четыре су, а под ним — белая тарелка вся в трещинах! Французский фарфор, где ты? возвысь свой голос! Севрская посуда, дай волю своему гневу; китайские блюда из серебра и накладного золота, защитите свои права; алмазные рудники, ослепите своим блеском и свергните с парламентского трона этот дешевый стакан, из которого утоляют жажду все косноязычные патриоты, все независимые политики, до хрипоты обсуждающие наши законы. Стакан за четыре су на белой тарелке! Вот, значит, каков этот хваленый стакан воды с сахаром, прославленный в анналах красноречия! Как же могло случиться, что столь важный участник парламентской жизни оказался в полнейшем небрежении? Видит Бог, на трибуне можно обойтись без множества вещей: без таланта и ума, без убеждений и мыслей, можно даже обойтись без памяти и все время твердить одно и то же, — но обойтись без стакана воды с сахаром невозможно. Обращаем внимание господ квесторов на необходимость произвести благодетельную реформу во имя всех депутатов, представляющих Францию; иначе мы во всеуслышание объявим палату депутатов домом без хозяина[366].
Одна вещь поразила нас во время поименной переклички. Депутаты болтали друг с другом, и никто из них не вслушивался в выкликаемые фамилии, за исключением, однако, господ министров-депутатов и всех депутатов, которые были министрами в прошлом. Вот эти не зевали. Они тоже болтали и спорили, но лишь до тех пор, пока дело не доходило до буквы алфавита, с которой начинается их фамилия; тут они замолкали, подходили поближе к трибуне и замирали там с покорностью людей, на собственном опыте изучивших, что такое власть. Любуясь их аккуратностью и добросовестностью, мы говорили себе: нынче повиноваться умеют лишь те, кто научились командовать… между тем в прежние времена считалось, что дело обстоит противоположным образом. […]
Нынче все толкуют об изобретении господина Дагера[367], и нет ничего забавнее, чем объяснения, которые совершенно серьезно дают этому чуду наши салонные мудрецы. Господин Дагер может спать спокойно, его секрет в полной безопасности. Никто и не пытается описать, в чем там дело, всякий говорящий печется только об одном — вставить несколько ученых слов, которые он случайно узнал и не менее случайно запомнил. Тот, у кого друг или дядюшка разбирается в физике, изображает открытие господина Дагера как результат достижений физики; по мнению того, кто был некогда влюблен в дочку химика, Дагер обязан своим изобретением химии; наконец, те, у кого плохо со зрением, сводят все к оптическому эффекту. Наилучший способ избавиться от этих толкователей с их нелепой болтовней — свести их всех вместе; тут польется нескончаемый поток ученых определений, исковерканной латыни и изуродованного древнегреческого; что за бред! что за галиматья! эти разглагольствования хоть кого сведут с ума. Что касается нас, то на сегодняшний день мы поняли вот что: изобретение состоит в том, чтобы запечатлевать отражения предметов. Положим, вы желаете запечатлеть мост Искусств; вот он, ваш мост Искусств, вот его отражение на картинке; все хорошо? нет, все очень плохо; по мосту прошли муж с женой и, сами того не зная, стерли всю вашу картинку. Имейте же совесть, любители прогулок; вы мешаете художнику, который расположился вон там наверху, у окошка.
Наверняка новое изобретение — вещь восхитительная, но понять в нем что бы то ни было мы не в силах: мы выслушали слишком много объяснений.
19 января 1839 г.
Проклятая неизвестность. — То be or not to be.
— Сохраним ли мы наши портфели? — Сохраним ли мы наши ложи?
Неделя опять выдалась сугубо политическая[368]. Политика заменяла нам карнавал, и поделом ей: должна же она хоть как-то вознаградить нас за все те праздники, каких мы лишились по ее вине. Нынешние обстоятельства вносят в умы такую смуту, что тут уж не до развлечений. Люди мечутся в потемках, не зная, что ждет их завтра: печаль или радость, победа или поражение; все только и делают, что присматриваются и прислушиваются; министры говорят: «Обождем! возможно, через несколько дней эти кабинеты будут уже не наши»; претенденты говорят: «Обождем! возможно, через несколько дней мы уже будем министрами, и вот тогда-то…» Тогда-то вся жизнь их изменится; по этой причине и претенденты, и министры не сговариваясь откладывают обеды и приемы[369]. В самом деле, какая огромная разница: быть министром или не быть им; to be or not to be; от этого зависит все: иногда сам обед и всегда — список приглашенных. Сколько важных особ, например, вновь пригласит на обед господин Тьер, если он вернется в министерство! Сколько невоспитанных болтунов господин Моле, напротив, не станет вновь приглашать, если из министерства выйдет! В сущности, один просто унаследует сотрапезников другого.
Не все понимают, какая огромная дистанция пролегает между этими двумя состояниями: быть министром и больше им не быть. Когда бы все это понимали, обнаружилась бы разгадка многих необъяснимых поступков, которые вы объясняете неутоленным честолюбием, а мы — святой наивностью. Мы не имеем в виду господина Тьера; он, как и господин Гизо, может ожидать перемен в своей карьере совершенно спокойно; более того, мы полагаем, что ему катастрофы очень к лицу. Господин Тьер особенно велик после поражения; министерский пьедестал его не красит, борьба же, напротив, придает ему сил; его блестящий ум, его превосходное красноречие — все это немедленно возвращает ему то очарование, какого пребывание в составе кабинета его лишало. Господин Тьер особенно силен тогда, когда отстранен от власти. Поэтому то, что мы сказали давеча о господине Гизо, относится и к господину Тьеру. Он черпает славу из двух источников и, даже прослыв безответственным министром, останется глубоким историком[370]. Но к другим нашим государственным мужам и второстепенным министрам это не относится ни в малейшей степени: эти чего-нибудь стоят только при министерством портфеле. А женщины!.. неужели вы не понимаете, насколько рознятся для государственной жены жизнь обыкновенная и жизнь официальная! Принимать у себя без церемоний супругу английского посла и супругу посла австрийского, его преосвященство папского нунция, княгиню Л…, маршала де…, и проч., и проч.: чувствовать себя с ними на равных, приглашать их запросто, говорить с ними доверительно — это одно, и совсем другое — внезапно вновь слиться с толпой, вновь превратиться из знатной дамы в заурядную обывательницу, и, как простые смертные, иметь случай видеть всех этих влиятельных особ только два-три раза в год, по большим праздникам, а то и вовсе не видеть; согласитесь, что между этими двумя состояниями пролегает пропасть! Одно дело — быть окруженной угодниками и льстецами, и совсем другое — быть всеми забытой и покинутой; одно дело — иметь ложи во всех театрах, и совсем другое — не иметь больше нигде ни одной; одно дело — бывать на представлениях каждый вечер, и совсем другое — не бывать там вовсе. Что ни говори, предаваться веселью и умирать от скуки — вещи разные, и разница эта не может ускользнуть от внимания тех людей, которые испробовали и то и другое. Так что нет ничего удивительного ни в том, с каким нетерпением государственные жены ожидают исхода министерского кризиса, ни в том, какую привлекательность имеет для них министерское звание их супругов. Да и как могло быть иначе? мужчины, которым власть доставляет столько хлопот, любят ее и не могут без нее обойтись; как же не любить ее женщинам, которым она приносит только радости? И вот наши государственные жены мучаются неизвестностью: получат они министерство или не получат? Можно ли будет переехать на новую квартиру или придется оставаться на прежнем месте? Вопросов полно. Все зависит от ближайшего голосования в палате. «Камин дымит, нужно позвать трубочиста. — Обождем; если мы войдем в министерство, трубочиста позовут без нас. — Эта лошадь хромает, нужно ее сменить. — Обождем; если мы войдем в министерство, то купим серых лошадей лорда П…; они выставлены на продажу. — Мои брильянты потускнели, нужно их почистить. — Обождите; того и гляди, мы сможем заказать для них новую оправу». Вечное колебание между светом и тенью, между почестями и отставкой, между триумфом и покоем, между весельем и скукой. Государственные мужи спрашивают себя: «Будет ли у нас конверсия рент? Будет ли интервенция? Будет ли война?» Государственных жен волнуют другие вопросы: «Будут ли у нас приглашения на парадные дипломатические обеды? Будут ли у нас ложи?» Хорошо, если мужам не придется пуститься во все тяжкие ради того, чтобы дать ответы на вопросы жен.
Огюст Пюжен. Фонтан «Четыре времени года» на генеральской улице.
Огюст Пюжен. Фонтан на улице Гайона в предместье Сент-Оноре.
Каждую зиму все повторяется сызнова. В определенный момент министры меняют кожу, словно змеи. В делах та же неясность, тот же сумбур. Несчастные провинциалы, вы являетесь в Париж о чем-то хлопотать, чего-то требовать; но что значат ваши проблемы сравнительно с проблемами министров! ваше дело постоянно откладывают на завтра, да вы и сами предпочитаете дождаться завтрашнего дня. К чему добиваться милости покровителя, чье положение непрочно? ведь по прошествии нескольких дней его благосклонность из полезной может сделаться вредной. И вот провинциал медлит, ожидая исхода голосования, от которого зависит и его судьба. Эту политическую озабоченность выдают самые простые детали светской жизни. Господа предупреждают слуг, что воротятся поздно, потому что хотят присутствовать на заседании палаты. Утром вас будят раньше обычного, чтобы вручить срочное письмо; в письме этом говорится примерно следующее: «Сегодня должен выступать Берье, мне бы очень хотелось его послушать; не можете ли вы достать мне билет?» А затем в шесть вечера супруги господ депутатов получают от родственниц или приятельниц записки такого содержания: «Любезная сестрица (Милая подруга)! Что слышно из палаты? Какие виды на министерство? Выступал ли господин де Ламартин?» — или даже такого: «Милая Стефани, я одевалась, чтобы ехать к госпоже де Монт…[371], но до меня дошли слухи, что министерство в полном составе подало в отставку; тебе что-нибудь известно? Стоит ли мне заезжать за тобой в восемь вечера, как было намечено?» Эта полная неизвестность ужасна. Она сказывается на всем — на развлечениях и на обязанностях, на делах и на парюрах. Никто не знает, кому следует льстить, никто не дерзает злословить без опаски, все на всякий случай улыбаются всем и ругают утром тех, кого хвалят вечером; все то содрогаются от ужаса, то воскресают от надежды, то поднимают голову с гордостью, то опускают глаза в смятении. Дальше так продолжаться не может. Пусть все амбиции поскорее будут удовлетворены, и мы вновь обретем способность любить и ненавидеть, трудиться и отдыхать, как прежде.
В прошедший вторник Мольер привлек во Французский театр много народу; впрочем, комедия разыгралась не только на сцене. Некий господин из партера не разделял всеобщего веселья; простодушные шутки «Мещанина во дворянстве» его возмущали. «Право, — восклицал он, — это отвратительно, это жалко, это грубо! С каких пор здесь представляют подобные фарсы? — Да тому уж сто семьдесят девять лет», — самым непринужденным тоном отвечал ему сосед. […]
26 января 1839 г.
Роскошь убранства и вульгарность манер. — Несносный комфорт
Кажется, Париж наконец очнулся; милосердие пришло на помощь веселости: недаром мы к нему взывали. Поначалу все были так печальны, что отваживались танцевать только в благотворительных целях. Несчастные выручили счастливых; они возвратили в Париж развлечения и праздники, таким образом заранее отблагодарив своих благодетелей. Бал в пользу бывших королевских пенсионеров, назначенный на ближайший понедельник, будет, говорят, великолепным, как никогда; все балы, которые мы видели в прошедшие годы, столь прекрасные, столь элегантные, столь превосходно устроенные, с пирамидами цветов и рядами зеркал, с созвездиями свечей и галереями пышных арабесок, со столами, утопающими в цветах, и дивным оркестром, со всей этой роскошью, элегантностью, блеском, — все эти балы, как нам обещают, совершенно потускнеют на фоне бала, который состоится в Кружке двух миров[372]. Мы уже давно слышим рассказы об этих просторных залах, не уступающих залам королевского дворца, и это наводит нас на серьезные размышления о том, как неслыханно подорожало за последние три-четыре года убранство домов; это форменное безумие! Самый маленький диванчик стоит сто луидоров[373], самый скромный светильник — не меньше полутора тысяч франков. Стоимость оконной рамы равняется девичьему приданому, обстановка гостиной стоит столько же, сколько обучение сына, безделушки из будуара сгодились бы на уплату выкупа королю. Камины обтянуты бархатом с золотыми кистями, подлокотники кресла украшены кружевами; стены обиты роскошными материями, затканными золотом и серебром, такими плотными и такими прочными, что, пожалуй, удержались бы вертикально сами по себе, а при необходимости еще и поддержали бы те стены, которые они призваны украшать; это не шутка: обивка салона с каждым годом становится все плотнее, зато стены — все тоньше. Сказочно красивы занавески: они нынче двойные, тройные и висят повсюду. Дверь прячется за занавеской, шкаф прячется за занавеской, книжный шкаф тоже скрывается занавеской; порой в одной комнате можно насчитать восемь или даже девять занавесок, а поскольку все они разные, ощущение такое, точно перед вами выставка тканей. Мебель вся позолоченная; стены тоже позолоченные; в одном из элегантнейших парижских особняков, говорят, целых семь позолоченных гостиных, обставленных позолоченной мебелью. Так нынче принято. В залах для приемов царит однообразная роскошь. В салонах для бесед — как их называют в провинции — напротив, в чести самый изысканный артистический вкус. Сюда однообразию входа нет, здесь правят бал каприз, фантазия, а порой даже сердечные привязанности, ибо эти салоны служат приютом воспоминаний; здесь собрана мебель самых разных стилей и самых разных веков; здесь позволительно не печься о соразмерности деталей. Гармония здесь — в мыслях, вдохновлявших хозяйку дома. Эта шкатулка досталась ей в наследство от тетки; этот столик она получила в подарок от старого друга; вот эту мелочь привезла из Испании, а эту ей прислали из Константинополя, из Александрии, из Алжира; а вот эту безделку она выиграла в благотворительную лотерею. На маленьком мольберте, обтянутом красным бархатом, красуется портрет работы господина де М…; а вот этот прелестный рисунок принадлежит госпоже Д… А это что за кошмар? Это портрет хозяйки дома. Кто автор? Приятельница, а некогда и соперница. Прелестная жардиньерка получена в подарок от господина де Б…, великолепные фиалы — от госпожи X…, а откуда этот восхитительный ковер? — «Я купила его у одной бедной женщины, умиравшей с голоду». А над всеми этими милыми и бесполезными вещицами величаво царит увядший лавровый венок — бесценная святыня этого храма, награда за экзамен по греческому или латыни, за перевод с французского или на французский — награда, полученная возлюбленным дитятей, свидетельство его триумфа, память о дне великого праздника, всемогущий талисман, исцеляющий от горьких разочарований, предохраняющий от нескончаемых неприятностей, заветная мысль, предмет гордости, а быть может, и просьба о снисхождении. Ведь этот детский венок, брошенный среди бесчисленных экранов, курильниц, китайских болванчиков и прочего вздора, кажется, молит взоры, ослепленные таким обилием бесполезных предметов, о прощении, ведь он, кажется, заверяет: элегантная жизнь — не совсем пропащая, она повинуется не только правилам света, но и самому священному долгу, самой святой любви.
Странная, однако, вещь! чем богаче обставлены покои, тем проще нравы, тем вульгарнее манеры; кафе, театры и кружки соревнуются в обилии хрусталя, в числе картин и богатстве позолоты, но завсегдатаи этих великолепных заведений одеваются, как привратники, и разговаривают, как извозчики. Они не снимают шляпы — и какой шляпы![374] Они сопровождают приветствие хладнокровной бранью; они выкрикивают во весь голос то, чего, как им прекрасно известно, говорить вообще не следует; они шумно пьют скверное вино, горделиво курят скверный табак, торжественно прогуливаются в обществе некрасивых женщин. Богатство, которым они себя окружают, лишь подчеркивает заурядность их манер; ведь они предстают в ярком свете; их нельзя не заметить! Как прекрасно обрамление — и как унылы герои! Вообразите персонажей Тенирса в раме стиля Людовика XV[375] и не забудьте, что персонажи эти, к несчастью, живые.
Вся эта роскошь, собственно, не нравится нам не сама по себе, а потому что она сделалась абсолютной необходимостью; отныне все живут только ради нее, все занимаются только ею, все говорят только о ней. Право, никто больше нас не уважает комфорт, никто больше нас не восхищается хорошо устроенным жилищем, где продуманы все детали, где все уютно и удобно, где ничто не тяготит гостя и все призвано его порадовать, где каждый предмет, кажется, нарочно выбран хозяином дома ради того, чтобы пленить лично вас и убедить вас остаться в этом доме подольше. Мы очень высоко ценим эти завоевания цивилизации, но мы не желаем, чтобы люди посвящали им свою жизнь без остатка; не желаем, чтобы попечения о них сделались их главной заботой; не желаем, чтобы потребность в этих благах сделалась источником их терзаний; не желаем, чтобы уют требовал жертв, усилий, мучительных потуг, которыми вас поминутно призывают восхищаться. Хорошо, конечно, что мы заимствовали у англичан их комфорт[376], но было бы еще лучше, если бы заодно мы заимствовали также и способ им пользоваться, иначе говоря ту простоту, а вернее сказать, то благородное безразличие, которое превращает самую головокружительную роскошь в предмет повседневного обихода. Негоже, чтобы то, что, в сущности, представляет собой всего лишь хозяйственное усовершенствование, превращалось в предмет серьезных бесед. Сегодня, когда подают чай, разговор идет исключительно о заварочном чайнике и о том, в котором греют воду, а также вообще о том, насколько роскошно накрыт стол. За обедом все с величайшим вниманием рассматривают серебро и фарфор; не забывают и о хрустале; остаток вечера проходит в обсуждении выправки слуг и ливреи лакеев, породы лошадей и кучеров с пудреными волосами. Гости не интересуют никого; подаваемый обед тоже мало кого волнует; главное — выяснить, как он подан на стол — на русский или на английский лад[377], предъявят ли вам блюда в натуре или предложат меню, будет ли все это устроено, как у госпожи де В… или как у госпожи де Л. М… Все дело в этом. Недавно один из этих псевдоангличан очень любезно приглашал на обед одного из наших друзей. «Приходите в воскресенье, — говорил он очень настойчиво, — у нас будет…» Тут кто-то его прервал. «Кто же будет там за обедом, — пытался угадать наш друг, — наверняка какой-нибудь интересный человек, Ламартин, например… или Бальзак, он ведь недавно вернулся из Италии».
Потом мысли нашего друга — между прочим, ученого гурмана — устремились по другому руслу: «Быть может, имелись в виду не приглашенные, а сам обед; там наверняка будет страсбургский пирог или косуля, которую хозяин дома застрелил собственноручно».
Тем временем псевдоангличанин воротился к нашему другу. «Я непременно хочу видеть вас у себя, — продолжал он, — вы ведь придете, правда? У нас будет серебряный сервиз, совсем новый, очень модный, английский, по последней английской моде, — увидите, как это великолепно». И за обедом речь шла исключительно о сервизе, в честь которого, собственно, и был дан обед.
У молодоженов подобное ребячество простительно и, пожалуй, нам даже по душе: в жилище юной супружеской пары все прелестно, все предвещает счастливое будущее; каждый предмет обихода есть залог семейного благополучия. Здесь стремление к роскоши выдает не гордыню, а радость обладания, семейственные удовольствия, порой и саму любовь; вы любите эту серебряную посуду и это камчатное полотно, потому что они принадлежат не только вам, но и этому молодому человеку, которого вы еще вчера именовали «сударем», а он почтительно называл вас «мадемуазель»! Как поэтична становится вся эта утварь, когда она сопутствует вашему счастью, когда она всякую минуту доказывает вам, что вы с вашим избранником соединились навеки и имеете право любить друг друга! О! молодоженам позволительно рассказывать о своем хозяйстве, потому что таким образом они рассказывают нам о своем счастье; но мы не дадим того же права супругам, которые живут вместе уже два десятка лет и все это время обманывают друг друга — если, конечно, кто-то может верить лжи по прошествии столь многих лет. Кстати, способность доводить элегантность до педантизма отличает лишь псевдознатных дам, еще вчера не имевших о фешенебельности никакого понятия. Вы не обнаружите ничего подобного ни у герцогини де Н…, ни в английском посольстве, ни у госпожи де Фл…, ни у госпожи Рот…[378]; поэтическое жилище этой последней больше похоже на дворец разбогатевшего художника, чем на особняк миллионера; но зато вы без сомнения обнаружите эту беспокойную роскошь, эту подозрительную и озабоченную элегантность, этот дискомфортный комфорт, неестественный и немилосердный, во всех салонах, чьим хозяевам роскошная жизнь еще в новинку.
О как скучна страна, где всем правит претенциозность! Как бороться с противником, который берет на вооружение прекраснейшие вещи в мире и одним-единственным прикосновением превращает их в вещи отвратительнейшие? Некогда злые феи говорили над колыбелью: этот ребенок будет иметь все возможные добродетели и все возможные таланты, но мы наградим его недостатком, который будет разрушать все эти достоинства; так вот, злой гений Франции поступил с нею точно так же: небеса одарили Францию изяществом, могуществом, красотой, ей в колыбель положили ум и познания, храбрость и рассудительность… но тут явился злой гений со своим даром — недостатком, который способен испортить любые, самые восхитительные достоинства; имя ему — претенциозность, иначе говоря, стремление выставлять все эти достоинства напоказ, фатовство, педантство и незнание меры; мании, вызывающие смех, напыщенность, вызывающая отвращение, и злоупотребления, вызывающие отпор. Поэтому всякий раз, когда у нас приживается некое новшество, мы, несмотря на всю нашу любовь к усовершенствованиям, начинаем горевать, ибо предчувствуем, что, лишь только этот обычай станет приятным и привычным, он сделается невыносимым из-за смехотворного употребления, какое ему приищут, и вздорной важности, какую ему припишут.
16 февраля 1839 г.
Мучения костюмированных детей. — Продрогший Аполлон. — Кадриль кариатид
Праздничная суета всегда пробуждает в нашей душе горькие воспоминания. В детстве мы всегда ужасно боялись масок, переодевания же служили для нас источником стольких мук, что, какими бы прекрасными ни были нынешние костюмированные балы, мы до сих пор не можем простить карнавалу эти давние обиды. Мы имели несчастье быть красивым ребенком. О! пожалейте этих прелестных жертвенных агнцев, составляющих славу их родителей. В скоромные дни им выпадают на долю чудовищные пытки, неведомые другим детям; те девочки и мальчики, которым повезло родиться некрасивыми, во время карнавала могут радоваться жизни; их одевают в платье арлекинов, пьеро, паяцев и говорят: Ступайте, веселитесь… Совсем другое дело, увы, те несчастные, которых судьба-злодейка обрекла быть предметом всеобщего восхищения; их наряжают красиво, но остерегаются переодевать в маскарадные костюмы, а главное, их лишают каких бы то ни было радостей. Прежде всего их обрекают на затворничество и два вечера, предшествующие бенефису, отправляют спать раньше обычного. Если, играя с товарищами, эти несчастные спотыкаются и падают — а это ведь может случиться со всяким, — взрослые не жалеют их, а, напротив, бранят; ушиб их никого не волнует — волнует лишь обезобразивший их синяк; бедняжек бранят, они плачут, тогда их бранят еще строже — за то, что они плачут. Наконец наступает торжественный день; юных красавцев и красавиц обряжают в туалеты, которые им более или менее к лицу; они прелестны, весь дом ими восхищается, кормилица в восторге, привратник проливает слезы умиления, отовсюду слышатся лестные восклицания: «Сокровище наше! Ангел! Душка!» Они не знают самого главного: это не только ангел, но и мученик. Бедное дитя подходит к матери, та не сводит с него глаз. «Мамочка, — жалобно просит дитя, протягивая к матери ручку, — мамочка!» — «Что случилось?» — «Мне вот тут неудобно». Горничные принимаются колдовать над рукавом, который чересчур короток. Все опять приходят в восхищение, а дитя между тем направляется к тете. «Какой у тебя прекрасный наряд, дружок!» — «Тетушка, — говорит дитя, которому честолюбие еще не служит лекарством от всех болезней, — мне вот тут жмет», — и ребенок показывает на свою коленку, немилосердно стянутую тканью. Но делать нечего. «Ступай, деточка, — говорит тетя, — ты походишь немножко, и сукно растянется». Видя, что тетушка неумолима, дитя решает попытать счастья с бабушкой; она стара, она слаба: она не может не посочувствовать его беде. «Бабушка, миленькая, — говорит он, указывая на золотые кружева, украшающие его наряд, — мне вот тут чешет». Бабушка уже готова расчувствоваться, но ребенка тут же с ней разлучают и, чтобы развлечь его, твердят ему, что он прелестен, что он очарователен, а горничная, чтобы положить конец всем его жалобам, шепчет страдальцу на ухо: «Красота требует жертв!» — восхитительная максима, утешительный припев, сопровождающий всех мучеников тщеславия к месту казни. О, если красота человека измеряется его страданиями, какими прекрасными — прекрасными до слез! — казались мы, должно быть, в тот торжественный день, когда родители наши, вдохновившись нашими золотистыми локонами, осуществили свое любезное намерение нарядить нас Аполлоном!.. Разгневанный бог не мог простить такой неслыханной дерзости; с тех пор он не однажды мстил нам за нее самым жестоким образом. Первое возмездие обрушилось на нас незамедлительно. Мы были зябким ребенком, и как же сильно мерзли мы в тунике с божественного плеча, как сильно сгибались под тяжестью золотых крыльев! А сколько упреков, сколько строгих замечаний навлекли мы на себя из-за этой несчастной лиры, которую все время норовили позабыть где-нибудь в углу! Как нам было холодно!.. Больше всего на свете нам хотелось усесться на пол перед камином: ведь на наших крыльях невозможно было взлететь так высоко, чтобы похитить огонь с небес. Наверняка именно наш вид навел ученых на мысль, дотоле не приходившую им в голову: что солнце светит, но не греет! Какой чудовищный насморк подхватили мы на Олимпе! Продрогший Аполлон обрушил солнечную колесницу в снег, и сам поплатился за это падение[379].
Теперь, к счастью, родители не столь поэтичны в выборе карнавальных костюмов для детей, и дети не знают горя; взять хотя бы матросские наряды: они и прелестны, и удобны. Дети в них радуют взор и радуются сами; неудивительно, что вот уже несколько лет этот наряд пользуется огромным спросом. На большом балу в прошлый вторник много толков вызвала кадриль сильфид. В роли сильфид выступали юные и прекрасные особы, которым, как говорят, для этого незачем было переодеваться: они и без того всегда стройны и изящны, воздушны и поэтичны. В день бала они просто-напросто прицепили крылья. Каждая сильфида танцевала в паре с каким-нибудь животным, либо диким, либо домашним. Спешим заверить, что эти господа, со своей стороны, были костюмированы самым искусным образом. Самые сообразительные изображали ослов, самые очаровательные — медведей, так что узнать их не было ни малейшей возможности, разве что кто-нибудь воскликнул бы, как в водевиле «Медведь и паша»: «Сей медведь есть ваш супруг»[380]. Кадриль эта превосходно удалась не только тем, кто в ней участвовал, но и той, кому она послужила источником для остроумнейшей мистификации. Судите сами.
Есть в подлунном мире такие люди, которым необходимо знать все и обо всем, присутствовать на всех праздниках, быть завсегдатаем во всех салонах, проникать в тайну всех интриг; это называется быть в курсе всего. За день они наносят два десятка визитов; они твердо знают, что госпожа Такая-то принимает в такой-то день; они к ней не ездят, но знают наизусть ее привычки; они знают и многое другое: например, что в этом доме был дан обед, а в том — устроен ужин; они не присутствовали ни на том, ни на другом, но без запинки расскажут вам меню; они помнят его куда лучше вас, хотя вы, в отличие от них, были одним из гостей. Каждое известие они встречают словами: «Я так и знал»; никто не может ни сочетаться браком, ни сойти в могилу без их ведома; ни одна новость не должна застать их врасплох; позором они считают опоздание, а целью жизни — не славу и не любовь, а возможность до последнего вздоха оставаться человеком хорошо осведомленным. Иные из этих людей так гордятся своим всезнанием, что решительно невозможно удержаться от желания их провести и выдать им за правду самые дикие выдумки. Ведь такой человек, хотя и часто бывает в свете, бывает отнюдь не везде. Случается, что, например, в салоны Сен-Жерменского предместья он не имеет доступа по причине своих политических убеждений, а вернее сказать, своих политических сношений; это, однако, не мешает ему утверждать, что он знает обо всем там происходящем; между прочим, знает он в самом деле немало, и это делает ему честь, поскольку он никогда не задает вопросов. Задавать вопросы — какая пошлость! Он считает это ниже своего достоинства; даже после долгой отлучки он не станет опускаться до расспросов и тем самым обнажать свое неведение; по правде говоря, ему и не нужно быть на месте событий, чтобы знать о них: он ведет обширную переписку и черпает сведения из чужих рассказов; вдобавок грандиозные события, кажется, повинуются человеку хорошо осведомленному и никогда не совершаются в его отсутствие. Он не расспрашивает, но зато слушает с величайшим мастерством, которое он приобрел в результате продолжительных упражнений: он прислушивается к четырем разным разговорам одновременно, как Юлий Цезарь диктовал одновременно четыре разных письма. У него жадные уши, которые, как выразился один английский автор, не заткнуты никакими мыслями. Так вот, однажды он по своему обыкновению предавался любимому делу, и госпожа де Р…, которую это учетверенное слушание вывело из терпения, решила его наказать. «Бал удался! — сказала она, одновременно жестом попросив особу, с которой она говорила, не удивляться и не возражать, — кадриль сильфид была просто обворожительна! Госпожа де…, мадемуазель де… и проч. блистали, как никогда!» — и вместо того чтобы назвать тех прелестных особ, которые танцевали кадриль, она смеху ради перечислила дюжину самых крепко сбитых красавиц, которых правильнее было бы назвать антисильфидами. Хорошо осведомленный человек с лету запомнил имена всех этих счастливиц и без промедления устремился пленять доподлинным повествованием о карнавальных празднествах завсегдатаев других салонов. Он побывал в квартале Шоссе-д’Антен, где его выслушали без особого удивления; затем он направился на Королевскую улицу и возобновил там свое чудное сказание; его заставили трижды повторить имена, причем у слушателей то и дело вырывались изумленные возгласы[381]. «Да что вы такое говорите, сударь? — вскричала старая баронесса де Р… — Госпожа де… изображала сильфиду, мадемуазель X… явилась с крыльями! И это вы называете кадрилью сильфид? Скажите уж кадриль кариатид!..» Хорошо осведомленный человек застыл как громом пораженный. Этот случай заставит его быть осторожнее — жаль, что он не заставит его замолчать навсегда!
23 февраля 1839 г.
Избиратели и кандидаты. — Господин Мартен из Страсбурга. — История курьера-двоеженца
Одна и та же мысль владела в течение минувшей недели всеми умами. Все оттенки стерлись, все звания смешались. Сегодня жители Франции делятся только на две категории: избирателей и кандидатов. Семейственные привязанности отложены в сторону, сердечный жар временно заморожен. В стране не осталось ни супругов, ни отцов, ни дядьев, ни опекунов, ни судей, ни префектов, ни живописцев, ни сапожников, ни поэтов, ни аптекарей: все поголовно сделались избирателями. Из смертного существа человек превратился в бюллетень; место души занял голос. Кандидаты действуют не во исполнение заветов Господних, а во исполнение желаний избирателей; слово избирателя для них закон. Избирателям адресуют они весь свой пыл, им курят свой фимиам; они соревнуются в искусстве написания электоральных посланий к избирателям! Как восхитительно будет Избранное, составленное из столь представительных сочинений! Сравнительно с этими электоралями старые добрые пасторали покажутся холодны и безжизненны[382].
Впрочем, ничего нового за минувшую неделю не произошло; жизнь замерла и начнется вновь лишь после того, как решится судьба каждого из кандидатов; мы и сами нынче находимся очень далеко от Парижа. Мы и сами не чужды избирательных хлопот. Мысль наша устремляется в Коррезские горы, витает над возлюбленными брегами Ториона. Нам нет дела до политической жизни, но зато есть дело до жизни сельской. От решения избирателей зависят наши досуги. Для нас нынче вся политика сводится к одному-единственному вопросу: проведем ли мы лето в Бурганёфе? Мы очень надеемся, что проведем, как бы ни старался этому помешать наш профессиональный противник господин Мартен.
Этот господин Мартен, которого в Париже именуют господином Мартеном из Страсбурга, а в Страсбурге — господином Мартеном из Парижа, напомнил нам историю курьера-двоеженца, который имел одну жену в Париже, а другую — в Страсбурге. Следует ли считать это преступлением? Нет; постоянно бывая в обоих этих городах и постоянно оставляя один ради другого, разве не имел он право обзавестись домашним очагом в каждом из них? Одного дома ему не хватало; жизнь его состояла из двух половинок: он перевозил корреспонденцию из Парижа в Страсбург и из Страсбурга в Париж и потому каждую неделю проводил два дня в Париже и два дня в Страсбурге; ограничься он одной женой, он половину жизни оставался бы вдовцом. Поначалу он несколько лет подряд имел жену в одном только Париже, но довольно быстро убедился в неудобствах такого порядка: чем нежнее были заботы, какими окружала его жена по возвращении в Париж, тем горше казалось ему одиночество, ожидавшее его в Страсбурге. Там ему было суждено поедать скверный ужин на скверном постоялом дворе, в одиночестве и тоске; в Париже ему, напротив, был обеспечен ласковый прием, натопленная комната и ужин, приготовленный и поданный любящими руками. В Париже все доставляло удовольствие; в Страсбурге все навевало печаль. Курьер спросил себя, нравится ли ему такая жизнь, и пришел к выводу, что одиночество ему противопоказано; на этом он не остановился и продолжил свои размышления: если брак — превосходное установление, следует пользоваться его щедротами как можно более часто; раз есть все основания считать, что жизнь в Париже улыбается ему по той причине, что это жизнь женатого человека, думал курьер, логично предположить, что и в Страсбурге счастье улыбнется ему лишь после того, как он женится. Сказано — сделано: курьер завел себе жену в Страсбурге. Долгое время его двойной брак сохранялся в глубокой тайне; ничто не омрачало его супружеские жизни; он был совершенно доволен избранными супругами; обе любили его с равной пылкостью; он был равно счастлив в обоих союзах и извлекал из этой двойной привязанности несказанные наслаждения, неведомые обычным мужьям. По дороге из Парижа в Страсбург он предвкушал встречу со своей Туанеттой, высокой белокурой эльзаской с румяными щеками и голубыми глазами… он приезжал, проводил подле нее два дня, играл со своими детьми, которых называл «мои маленькие эльзасцы», и с легким сердцем отбывал в Париж. Не успев выехать из Страсбурга, он забывал Туанетту и думал только о крошке Каролине, парижанке с раскосыми глазами и черными бровями, и о будущем своих двух сыновей, которых он именовал «мои большие парижане». Когда Каролина готовила ему ужин, он радостно восклицал: «Французская кухня!»; когда ужин готовила Туанетта, он восклицал не менее радостно: «Немецкая кухня!» Ничего преступного в своем двойном супружестве он не видел. Он полагал совершенно естественным, что люди, постоянно живущие в одном и том же городе, имеют всего одну жену и всего один домашний очаг; однако для человека, вынужденного жить попеременно то в одном, то в другом городе, он считал не менее естественным иметь двух жен и два очага… Поистине, ничего дурного он в этом не находил; больше того, он готов был драться с каждым, кто усомнился бы в его правоте; он исхлестал бы кнутом наглеца, который посмел бы назвать его двоеженцем. Правда, он сознавал, что должен держать свое положение в секрете, и одно это должно было бы подсказать ему, что такое положение не слишком законно; но у него на все имелось объяснение. «Я храню тайну из-за женщин, — говорил он сам себе, — они меня не поймут; у женщин на этот счет самые дикие понятия!» Но настал день, когда курьер повел себя неосторожно — очень неосторожно! Один из его страсбургских приятелей приехал в Париж, и курьер пригласил его к себе на обед; страсбургский приятель принял Каролину за сестру хозяина дома и в разговоре с ней принялся восхвалять прекрасную голубоглазую эльзаску и прекрасных страсбургских детей; он описал свадьбу друга и похвастался тем, что был на ней свидетелем. Каролина была настоящая парижанка и знала наизусть Гражданский кодекс[383]. Сначала она возмутилась, но она была мать: старшему из ее сыновей исполнилось тринадцать. Она представила себе скандальный процесс, позорный приговор, запятнанное имя, погубленную будущность обоих сыновей; она с ужасом вообразила каторгу; она поняла, что, поскольку она первой вышла за курьера, она и есть единственная законная жена, и это преимущество дает ей право действовать. Решение было принято незамедлительно: Каролина сослалась на необходимость навестить больную родственницу, объявила, что уезжает из Парижа по крайней мере на неделю, простилась с мужем и отправилась в Страсбург. Она разыскала Туанетту и все ей рассказала. Туанетта плакала, не желала смириться с правдой; она восклицала: «Он обманул нас! Он чудовище! Мы должны отомстить; иметь двух жен — как это ужасно!» — «Разумеется, — согласилась Каролина, — однако если вы будете так громко кричать, на месте двух жен появятся две вдовы; причем, что куда более печально, мужа нашего повесят, а дети наши умрут от голода». Эти речи оказали магическое действие. «Вы его любите? — спросила Каролина. — О да, я любила его больше жизни, но теперь… — Теперь надо его простить; я ведь прощаю, а меня он обманул ради вас. Будьте же великодушны, как я, и постараемся сообща спасти его». И две женщины заключили возвышенный союз. Никто ни о чем не догадался; сам муж узнал, что его тайна раскрыта, лишь за несколько часов до смерти. Одно колесо у почтовой кареты раскололось, и она рухнула в пропасть; курьера, смертельно раненного, доставили в Страсбург, где он несколько дней спустя скончался в страшных мучениях. Понимая, что настал его последний час, он решил исповедаться эльзасской жене. «Добрая моя Туанетта, — сказал он, — прости меня, я тебя обманул; когда я женился на тебе, я уже был женат. — Я давно об этом знаю, — отвечала Туанетта, рыдая, — не мучь себя, ты уже прощен. — Ты все знала? Но откуда? — От нее. — От Каролины? — Она приехала сюда… когда же это было? Господи, да уже семь лет тому; она мне все рассказала и посоветовала не показывать виду, что мне все известно, и жить так же счастливо, как прежде, чтобы тебя не… — Повесили, — договорил обожаемый двоеженец, — бедная Туанетта, какая ты добрая… и другая тоже, — прибавил он, вспомнив о великодушном поведении Каролины, — как грустно расставаться с двумя такими хорошими женушками. Туанетта, обними меня поскорее, настала такая пора, что мне уже пора; надо попрощаться как следует; помни, моя белокурая толстушка, я тебя очень любил… и другую тоже, — прибавил он, вспомнив о той, которую он называл своей чернокудрой красоткой, — позови малышей, я хочу их благословить; поторопись». Туанетта привела трех прекрасных ребятишек; умирающий взглянул на них с гордостью: «Славные ребята! молодцы! а как похожи на меня… — и другие тоже, — прибавил он, продолжая соединять страсбургские привязанности с парижскими. — Да вот же они! — вдруг воскликнул он при виде двух старших сыновей; они вошли в комнату, поддерживая мать, которая едва стояла на ногах, — ну вот и хорошо, вся семья в сборе». Туанетта и Каролина упали на колени перед постелью. Умирающий протянул им свои изувеченные руки и, глядя на обеих жен с равной нежностью, произнес совсем тихо: «Прощайте, бедные мои вдовушки, прощайте, держитесь, утешайте друг друга и молите Бога, чтобы он простил мне, как простили мне вы обе». Потом он показал старшему сыну несчастную Туанетту, чье горе разрывало ему сердце, и сказал вслух: «Это, Франсуа, моя невестка; позаботься о ней и о ее детях». С этими словами он умер. А две женщины обнялись, рыдая, и больше уже не расставались.
Вы спросите, какая связь между этим бравым двоеженцем, которого обожали и в Париже, и в Страсбурге, и господином Мартеном, который никому не нужен ни в Париже, ни в Страсбурге? Мы вам ответим, что различие есть вид подобия, что крайности сходятся, а противоположности порой совпадают. Мы ответим вам так, а не иначе, даже если ответ этот останется непонятен вам, да и нам тоже; а затем мы выскажем нашу заветную мечту: чтобы послания господина Мартена постигла та же судьба, какая постигает все его речи, а именно чтобы они не возымели ни малейшего действия; ибо нам очень хочется провести лето в Бурганёфе и познакомить с его дикими скалами наших прославленных парижских друзей[384]!
6 апреля 1839 г.
Утопия, воплощенная в жизнь: ни карет, ни лошадей, ни бархата, ни драгоценностей, ни кружев, ни лент…
— Рабочие свободны, они снова становятся гражданами
Мятеж[385] еще не начался, он только готовится; бунтовщики еще не действуют, но уже говорят. Они бранятся при виде экипажей. Увидев женщину в коляске, они кричат: «Ах ты богатейка, в каретах разъезжаешь! Ты что же, не можешь ходить пешком, как мы?» Они изъясняются даже куда более энергично, но мы приводим их слова в нашем переводе. Итак, народ требует, чтобы все ходили пешком. И заметьте, что ни один шорник не воспротивился этому требованию. Очевидно, в данный момент среди бунтовщиков в большинстве сапожники. Значит, экипажи мы упраздняем и отныне все становимся пешеходами из соображений политических; согласны, но в таком случае давайте будем последовательны и доведем реформу до своего логического конца. Решено: ни лошадей, ни экипажей. Ступайте же, кучера и грумы, выездные лакеи и конюхи, берейторы и ловчие, ступайте, вы свободны; мы все друзья народа и не желаем роскоши, для нас оскорбительной; ступайте, люди добрые, зарабатывать на хлеб насущный вы отныне будете в другом месте, мы в ваших услугах больше не нуждаемся; ваша дорога — из конюшни в граждане.
Это еще не все. Если наши жены начнут передвигаться исключительно пешком, многие украшения сделаются совершенно бесполезны. Какой прок, например, в платьях из белого атласа или из небесно-голубого бархата? мести подолом тротуар куда удобнее в платье из самой обычной шерсти. Ступайте же, рабочие доброго старого Лиона, вам нечего делать в мастерских; ступайте, вы свободны. Вы нам больше не нужны, у нас нет для вас работы; будьте счастливы, ваша дорога — из мастерской в граждане.
Но если наши жены больше не хвастают платьями из дорогих материй, на что им тщеславиться роскошными кружевами? Долой кружева белые и черные, долой гипюр и блонды, долой кружева парижские и алансонские! Долой все эти унизительные излишества! Женщины из народа их не носят! А мы друзья народа и не желаем, чтобы наши жены были красивее, чем жены людей из народа. Поэтому скажем «прости» этим воздушным паутинкам, которые так часто рвутся и так часто требуют замены. Фабриканты кружев, закрывайте свои заведения, увольняйте самых умелых мастериц! Жестокосердые! Вы заставляете их портить глаза над пяльцами; мы куда великодушнее вас и отпускаем их на покой.
Мы упразднили лошадей и экипажи, бархат, атлас и кружева; неужели же после этого мы станем держаться за драгоценности — наглые парюры, своим блеском возбуждающие зависть бедняков, которым они не по карману? Взять, например, брильянты. Для воров большой соблазн, а пользы никакой. И вообще как можно носить брильянты в то время, когда столько несчастных нуждаются в хлебе насущном? Это несправедливо!.. Немедленно упраздняем брильянты. Ювелиры, закрывайте лавочки; мы, друзья мои, в вас больше не нуждаемся; ваше бесполезное искусство раздражает бедняков, вы поощряете порок, выставляя напоказ свои сокровища. Ступайте каяться; ваша дорога — из исповедальни в граждане.
А ленты?! — да ведь они такие легонькие, такие миленькие, пощадите их! — Пощадить ленты? С какой стати? Много ли в них проку? Они ничего не удерживают — ни волосы, ни платье. Они всего-навсего украшения, а украшениям мы объявили войну. Польза, одна лишь польза — вот наш закон; сегодня приятно только то, что полезно, мы хотим одеваться, а не наряжаться. На что вам, сударыни, ленты? Станет вам от них теплее в холод? Нет; в таком случае упраздните ленты и верните свободу тем тысячам рабочих рук, которые без устали трудятся в Сент-Этьенне ради удовлетворения ваших капризов; предоставьте честным труженикам заняться делами политическими. С какой стати должны они работать с утра до вечера? Вы утверждаете, что они должны работать ради того, чтобы прокормить жен и детей, но это пустая отговорка; они, сударыни, работают только ради вас, ради того, чтобы вы могли носить помпоны и банты, фонтанжи и совершенные удовлетворения[386], чтобы вы могли позволять себе все эти милые прихоти, которым ваше переменчивое воображение присваивает каждый год новые имена. Отныне, любезные труженики, никаких лент; сидите сложа руки или разъезжайте по вашей прекрасной железной дороге[387]: вы ведь теперь великие граждане.
Мы упразднили бархат и атлас, репс и шелк, мануфактуры лионские и сент-этьеннские; на очереди еще одно важное дело — не отпустить ли нам на свободу шелковичных червей? Несчастные! Им нечем дышать, их нарочно содержат в такой жаре, которую иначе как адской не назовешь. Их судьба поистине чудовищна: бедный шелкопряд, ради наших капризов ты страждешь в плену; будь благословен век равенства, который положит конец твоим мучениям и предоставит тебе свободу. Первый век новой эры принес свободу женщине, двенадцатый — рабу, восемнадцатый — крестьянину, девятнадцатому суждено стать освободителем шелковичного червя[388]. Правда, одно соображение нас останавливает: как распорядится этот страдалец внезапно доставшейся ему свободой? не испугает ли она не подготовленного к ней червя? Если пресмыкающемуся[389] внезапно дозволят более не пресмыкаться, если ему разрешат вдруг перейти из рабского состояния в состояние свободное, вырваться из душного застенка на вольный простор, — не потрясет ли эта резкая перемена существо столь хрупкое? Да и потом, чем займется червь на свободе? Признаемся, было бы безответственно эмансипировать целую нацию шелкопрядов, не озаботившись ее дальнейшей судьбой; допустим, мы больше не нуждаемся в шелке; но какое дело приищем мы в таком случае производящему его червю? Сделаем ли мы его гражданином? наделим ли политическими правами? Он, того и гляди, от них откажется. Случай непростой; впрочем, можно попытаться определить нашего червя на место бабочки в королевских садах или назначить майским жуком в государственных лесах[390].
Да, чем дальше, тем больше благодетельной экономии обещает нам эта система. От скольких разорительных вещей она нас избавит! Ведь если, во имя благородного равенства, мы упраздним парюры, нам незачем будет держать в домах преступных сообщников кокетства — зеркала и туалетные столики, трюмо и «психеи»[391]! Все они сделаются бесполезны: кто знает, что он уродлив, не станет разглядывать свое отражение. Таким образом, мы получим возможность упразднить также и зеркальные мануфактуры. Представьте только, сколько рабочих пополнят, к своему удовольствию, армию подлинных граждан!
Продолжим: если тот, кто некрасив, не любит смотреть сам на себя, ему еще меньше резона показывать себя другим. Нужны ли нам в таком случае огромные хрустальные люстры, позолоченные бронзовые канделябры, великолепные факелы, из коих льется огнь блестящими снопами? Эти потоки света составят смешной контраст с тем обществом, на которое они будут изливаться; разобьем же эти люстры, упраздним это бесполезное великолепие, друзьям народа подобает жить во тьме и рассеивать ее исключительно светом своего разума. Долой светильники! Разбив их, мы превратим еще тысячи рабочих в жизнерадостных граждан.
Теперь представьте себе это восхитительное зрелище: каретники и шорники, ювелиры и кружевницы, стекольщики и бронзовщики, работники шелковых и зеркальных мануфактур — все дружно выходят на улицу вместе с женами и детьми и прогуливаются натощак и пешком — пешком все как один; без денег, но и без зависти, не имея хлеба, но и не зная унижений, не получая жалованья, но и не повинуясь хозяевам, нагие, но свободные, нищие, но гордые, не оскорбляясь более богатством сильных мира сего и наслаждаясь в свой черед истинным роскошеством, прекраснейшей привилегией богачей — праздностью![392]
Огюст Пюжен. Лестница палаты пэров в Люксембургском дворце.
Огюст Пюжен. Палата пэров в Люксембургском дворце.
Тогда-то и сбудется заветная мечта друзей народа: не станет ни бедных, ни богатых, ибо в свете богатым называют не того, кто обладает деньгами, а того, кто их тратит, хотя различие это не для всех очевидно; итак, между великими и малыми установится самое полное равенство; заключаться оно будет в том, что все станут малыми[393]. Вот о чем мечтают современные экономисты, и мечты их, исполненные самого чистого либерализма, осуществятся даже гораздо полнее, чем они думают; они будут довольны, они станут потирать руки: уместнее было бы их вымыть, но душистое виндзорское мыло, доставляемое в Париж из Марселя, к этому времени будет упразднено как самая бесполезная прихоть; суверенитет народа будет наконец признан, и демократический порядок восторжествует. Вы победите, господа противники роскоши; ваша система восторжествует повсеместно… Но что скажете вы, глубокие политические мыслители, когда выяснится, что триумф ваших идей привел не к чему иному, как к полному провалу ваших же принципов? Что ответите вы, если, обратившись за помощью к истории, мы докажем вам вещь самую удивительную: то, что вы полагаете безотказным способом установления демократии, есть вернейший способ возрождения аристократии? Блестящие историки, знаете ли вы историю? Почтенные законодатели, известен ли вам свод законов? — Быть может. — В таком случае вы должны помнить о происхождении законов против роскоши и понимать дух этих законов. Отчего в Риме и Венеции знатным сословиям запрещали роскошествовать? чтобы спасти их от разорения; а отчего римская и венецианская знать были столь могущественны? оттого что они не тратили свое состояние на вздорные прихоти, не обогащали народ своими заказами. Вы утверждаете, что богачи наживаются на страданиях бедняков, мы же, напротив, убеждены, что это народ наживается на безумных капризах богачей. Портной герцога де… разбогател именно потому, что герцог разорился, заказывая ему роскошные жилеты; Кремьё и Хоббс[394] составят себе состояние именно потому, что маркиз де… и граф де… разоряются, покупая роскошных лошадей. А вы требуете, чтобы юные любители элегантности ходили пешком! Благодарим покорно! Вы спасаете их от нищеты, которая уравняла бы их с вами, и лишаете трудящийся народ всех тех денег, которые эти безумцы готовы были им заплатить. Браво, господа, если вы и не предусмотрительны, то, по крайней мере, благоразумны. Вы исполняете помимо воли то, на что не поднялась бы рука у ваших противников; во имя народа вы воскрешаете те самые законы против роскоши, которые призваны этот народ погубить. Вы защищаете старинные состояния, мешая их владельцам выбрасывать богатство на ветер; вы тормозите рост новых состояний, которые могли бы соревноваться со старыми и тем самым поддержать равновесие; одним словом, вы способствуете воскрешению аристократии!.. но вам это простят, ведь вы заядлые демократы.
Кстати о роскоши, вот хорошая новость для любителей цветов! У господина аббата Берлеза на днях должна расцвести самая большая из всех существующих камелий[395], именуемая нью-йоркской: диаметр ее цветка равняется 6 дюймам. Вот еще одно чудовищное злоупотребление!.. Диаметр 6 дюймов! Что за размер для камелии!.. И что за несправедливость: цветы у нас так огромны, а великие люди так малы! Это приводит нам на память определение, которое один из наших друзей дал на днях человеку незаменимому, человеку популярному, человеку на все руки: он назвал его Мирабо-мушка[396].
13 апреля 1839 г.
Льстят только власть имущим. — К чему льстить конституционному королю?
— Сегодня настоящие короли — это журналисты
Ну вот! В обществе уже поговаривают, что маршал Сульт не выиграл сражение при Тулузе, а проиграл его![397] В считанные дни он превратился из славного храброго маршала в старого льстивого царедворца. Последнее определение заслуживает комментария. Вы именуете маршала Сульта льстивым царедворцем; и кому же, позвольте узнать, он льстит? — Разумеется, королю. — Если королю, то не иначе как прусскому… Ведь наших королей, как вы прекрасно знаете, льстивые царедворцы не окружают, и это вполне понятно: ведь мы живем в государстве конституционном; льстить значит просить, а какой безумец станет просить о чем-то монарха, который ничего не способен ему дать? Увы, люди и к Господу обращают свои мольбы только потому, что почитают его всемогущим.
Люди льстят тем, кого боятся раздражить и прогневить, тем, от кого ждут покровительства и милостей, тем, кто силен и капризен, а конституционные монархи, как всем известно, никогда не бывают сильны и не имеют возможности капризничать. Кто же станет льстить бедным королям, от которых никто ничего не ждет и которых никто никогда не боится?
Министрам льстят просители.
Префектам льстят члены Генерального совета[398].
Членам Генерального совета иногда льстят префекты.
Сборщикам налогов льстят припозднившиеся с уплатой налогоплательщики.
Лесным сторожам льстят браконьеры.
Банкирам льстят биржевые маклеры.
Адвокатам льстят преступники.
Врачам льстят аптекари.
Бакалейщикам льстят маркизы-республиканцы.
Разбогатевшим выскочкам льстят приживалы.
Ростовщикам льстят юноши из хороших семей.
Юношам из хороших семей льстят профессиональные игроки.
Книгопродавцам льстят начинающие авторы.
Знаменитым авторам льстят книгопродавцы.
Прославленным актерам льстят малоизвестные писатели.
Хорошим писателям льстят плохие актеры.
Клакёрам льстят авторы и актеры.
Избирателям льстят депутаты.
Депутатам льстят министры.
Итак, круг замкнулся; каждый из сильных мира сего получил своего льстеца. Мы перебрали весь льстивый люд, но не обнаружили среди этих угодников ни одного, у которого нашлось бы доброе словечко для короля. Кто же эти люди, льстящие королю? Поэты? — Спросите у автора «Детей Эдуарда»[399], почитает ли он эту драму комплиментом июльской власти. Художники? — Взгляните на официальные портреты и скажите, может ли король быть доволен своим изображением. Ораторы? — Послушайте велеречивые выступления депутатов, которые все с большей или меньшей искусностью внушают королю одну и ту же мысль: «Спрячьтесь скорее, вы на виду». Мы настаиваем, что во Франции льстецы имеются у всякого, за исключением короля, если, конечно, не считать льстецами тех, кто покушается на его жизнь и тем самым приравнивает его к Генриху IV[400].
Положа руку на сердце, какой смысл льстить нашему королю? Льстят только власть имущим, а что общего у конституционного короля с властью? Он, говорите вы, имеет право объявлять войну; допустим; но воевать без денег невозможно, а поскольку деньги выделяете ему вы, он должен спрашивать у вас позволения захотеть объявить войну.
Не важно! все-таки право объявлять войну есть одна из прерогатив королевской власти и одна из прекраснейших истин, содержащихся в Хартии[401].
Король назначает министров; прекрасно. — Но если министры, которых он назначает в согласии с Конституцией, не нравятся депутатам, вторые отправляют первых в отставку также в полном согласии с Конституцией и почтительно просят короля назначить других — тех, которые им нравятся; это последнее право депутаты признают за королем безоговорочно: до сих пор никто еще не пытался его оспорить; это также одна из прекраснейших прерогатив королевской власти и одна из превосходнейших истин, содержащихся в Хартии.
Король имеет право помилования, иначе говоря, он ежегодно может возвратить обществу двух-трех каторжников, составлявших украшение парижского света, а отцеубийцу, отличающегося тонкой чувствительностью, спасти от смертной казни и отправить пожизненно на галеры. Да и это возвышенное право злые люди нередко пытаются у него отнять: совсем недавно мы видели, как после чудовищного покушения король пытался умолить господина Тьера помиловать Алибо — но не преуспел[402].
Так это даже само право помилования есть не что иное, как пустые слова.
И вы думаете, господа, что вокруг монарха, связанного вот так по рукам и ногам, не способного ни спасти, ни наградить, ни наказать, могут роиться льстецы? Да нет, вы, на него нападающие, превосходно знаете, что льстецов у него быть не может. Ведь царедворцы льстят не королю, а королевской власти, власть же нынче не имеет никакого отношения к трону. Впрочем, не тревожьтесь: и власть, и льстецы во Франции имеются по-прежнему, а поскольку льстецы обладают безошибочным чутьем, они прекрасно умеют отыскивать власть повсюду, где бы она ни находилась. Они знают, что она переменила место жительства, и уже давно курят фимиам богу нынешнего дня, тому, кто дарует известность, тому, кто прославляет добродетель, тому, кто вдохновляет таланты, тому, кто платит за измену, тому, кто торгует популярностью, — а именно журналистам!
Журналистам льстят все:
Все те, кто пишут;
Все те, кто говорят;
Все те, кто поют;
Все те, кто танцуют;
Все те, кто плачут;
Все те, кто любят;
Все те, кто ненавидят;
Одним словом, все те, кто живут на белом свете!
Журналисты, господа, вот ваш король, а вы все его царедворцы. Именно ради того, чтобы понравиться журналистам, вы нападаете на нас, ибо мы одни имеем мужество выступать против них, и они прекрасно знают, что наша цель — их разоблачить. Да, мы вступили в их ряды, но лишь для того, чтобы лучше их узнать; да, мы взяли в руки их оружие, но для того, чтобы повернуть его против них; именно журналисты — вот истинный тиран, достойный ненависти; вот единственный деспот, против которого вы, гордые певцы независимости, не смеете восстать и безвольно потакаете всем его страстям, восхищаетесь всеми его слабостями, освящаете все его измышления. И не говорите мне о патриотизме, господа; все вы рабы, а свободу защищаем только мы одни[403].
4 мая 1839 г.
Фантазия правит бал. — Фантазия в музыке. — Романс «Я думал о себе»
Никогда еще Париж не был таким блистательным, таким привлекательным, таким сногсшибательным, таким очаровательным. Приход весны стал настоящим праздником. Вот уже три дня, как расцвело все, включая женщин; следует отдать им справедливость, никогда еще они не были так хороши, как в этом году; мы не хотим сказать, что нынешние красавицы более красивы, чем красавицы былых времен; мы хотим сказать, что сегодня хорошеньких женщин в Париже стало гораздо больше, чем десять, восемь и даже шесть лет назад; налицо прогресс в области красоты.
Следует отдать должное и парижской промышленности; за последние несколько лет французский вкус замечательно усовершенствовался; все бесконечно важные пустяки: женские уборы, прически и наряды — приобрели то, чего им недоставало: легкость и элегантность. Уборы былых времен были, если можно так выразиться, немного педантскими; моды эпохи Реставрации при всей роскоши отличались несносной холодностью. Роль прелестных головных уборов играли огромные картонные береты, закрывавшие весь верх театральной ложи. Локоны стояли на голове столбом, поскольку парикмахеры трудились над ними с величайшим усердием и накручивали их на ужасные железки; даже увенчивавшие прическу цветы тоже стояли совершенно прямо и походили больше на букет, вставленный в ствол ружья во время военного празднества, чем на украшение очаровательной женской головки. Прямо стояли и перья на шляпах, отчего самая хорошенькая женщина приобретала вид устрашающий и нимало не пленительный. Нагнуть голову становилось решительно невозможно: ведь не всякая башня вправе быть Пизанской. Эти монументальные прически заставляли женщин держаться прямо и чинно. Вдобавок на страже благопристойности стояли рукава, прозванные без особой заботы о благозвучности дольками дыни. Эти неприветливые дуэньи, жесткие и неуступчивые, не давали вам роздыху ни на минуту; стеснительные вдвойне, они не только заставляли вас самих держаться прямо, но и еще принуждали держать прямо их; даже танцуя, вы не думали ни о чем другом; мы ведь недаром сказали, что моды этой эпохи грешили педантством. Фантазия в них и не ночевала, а между тем фантазия — очаровательная фея, которая преображает и украшает все предметы, исключая, однако, политику, на которую она с некоторых пор оказывает влияние, пожалуй, чересчур заметное.
В этом, впрочем, нет ничего удивительного: ведь фантазия нынче распространила свою власть повсеместно. Как мы уже говорили, она завладела женскими туалетами и сообщила им толику кокетства; ее небрежная прелесть придает очарование красавицам, отличающимся самым суровым нравом. Законы переменились: отныне на прямые линии наложен запрет; прически сделались низки, цветы клонятся долу, перья качаются, серьги свисают, рукава развеваются, а слова крахмалить и аппретировать вышли из употребления начисто.
Утро женщины проводят, возлежа в глубоких креслах или на длинных канапе; выезжая, они возлежат в своих колясках. В повестке дня значится томность. На смену педантским модам пришли моды небрежные. Ибо так велит фантазия.
Фантазия полностью переменила обстановку в домах. Прощай, достопочтенный мраморный стол с классическим фарфоровым подносом: фантазия изгнала тебя из салона. Ступайте, алебастровые вазы с увядшими цветами[404]; ступайте, вам больше нет места на камине: ваше место занял малиновый бархат. Фантазия ворвалась в дом и начала хозяйничать: перешила занавески, переменила рамы, открыла шкафы и вытащила все сокровища, которые вы по скупости своей прятали в их недрах. Она разбросала эти прелестные вещицы по всей гостиной; вам больше некуда поставить подсвечник, положить книгу, бросить шляпу; вы всего-навсего следуете моде, однако каждый, кто входит в ваш дом, восклицает: «Какая прелесть! Чудо как хорошо!»
Из салона фантазия перешла в буфетную; она переменила форму хрустальных сосудов; по ее воле графины наших отцов уступили место кувшинам наших дедов. Круглые блюда она сделала квадратными, к великому неудовольствию горячих пирогов, которые тщетно стараются покрыть углы этих новомодных тарелок[405]; она принесла с собой массу английских, русских, итальянских, испанских, венских обыкновений, сообщивших трапезам вид новый и пикантный. К несчастью, из буфетной она проникла на кухню, а это уже непростительно: французская кухня есть почтенное установление, которое следует уважать безоговорочно. В отношении кухни мы полностью разделяем мнения и пристрастия газеты «Конститюсьонель» и ничуть не меньше ее редакторов опасаемся влияния заграницы[406].
Наконец, фантазия воцарилась также в конюшнях, в седельных мастерских и каретных сараях, причем здесь ее деятельность оказалась особенно успешной: прежде все парижские экипажи были похожи один на другой; все они были одинаковой формы и одинакового цвета, одинаково уродливые, тяжелые и безвкусные. Нынче на смену так называемым семейным громоздким берлинам и массивным ландо, открытый верх которого позволял вам увидеть лишь клочок голубого неба и постоянно грозил захлопнуться над вашей головой, пришли легкие коляски, брички, четырех- и даже шестиколесные кабриолеты. Фантазия украсила цветами налобники ваших лошадей, она набросила им на шею золотые и серебряные цепи, а говоря проще, покрыла кожаную утварь медными бляшками; она научила ваших кучеров быть джентльменами, наконец, она объяснила вашим выездным лакеям, что значит иметь приличный вид — хитрые слова, смысл которых вы сами, кажется, давно забыли.
Фантазия правит бал в музыке. Спросите об этом хотя бы у господина Амедея де Боплана. Есть ли на свете что-нибудь более прелестное, чем его последний романс: Приди ко мне, тебя я умоляю, и есть ли что-нибудь более уморительное, чем эта пародия на все романсы мира, снабженная совершенно небывалым припевом? Раньше многие говорили: Я думала о нем; многие пели: Я думала о вас, многие стенали: Я думал о тебе, но никому еще не пришло в голову спеть: Я думал о себе. Какой прогресс! Новшество, поистине достойное нашего века. Мелодия исполнена меланхолии. Иные звуки невозможно слушать без слез: это песнь душераздирающего эгоизма. Как не посочувствовать печальной и трогательной ноте, венчающей романс: Я думал о… я думал о… я думал о-о-о… себе! Всегда, всегда (темп ускоряется), всегда-всегда-всегда-всегда я ду… (следуют фиоритуры, рулады, каденции — смотря по способностям исполнителя) я ду-у-умал о (небрежно)… себе!.. Мы предсказываем этой шутке огромный успех.
Единственное место, которое фантазия обошла стороной, это театр; туда она проникнуть не дерзнула — или не смогла, и в этом нет ничего удивительного. Понятно, что творцам фантазия ни к чему, они ее опасаются и сторонятся; что же до государственных мужей, они впустили ее в политику с такой доверчивостью лишь потому, что она застала их врасплох. […]
18 мая 1839 г.
После мятежа 12 мая[407]. — Возмущение. — Притча. — Бедная Франция!
О, в какое подлое время мы живем! Горе нам, горе, — зачем Бог привел нас родиться в это время! Несчастная и любимая страна, куда ты движешься и за кем? Неужели тебя, как бедных детей из сказок Перро, злые родители заводят в чащу, чтобы бросить там и погубить? Увы, да, многие безумцы хотят твоей гибели, хотя у каждого для этого свой резон. Одни говорят: посеем недоверие, распространим смуту, учиним резню и разрушим все и вся, а затем воссядем на развалинах, а затем поделим все богатства; нам надоело быть нищими. Мы тоже хотим иметь много золота, ездить на прекрасных лошадях и жить в больших особняках; не хотим работать, хотим царствовать; отнимем состояния у тех, кто ими владеет; да здравствует равенство! — и вот эти люди уже рьяно берутся за дело, и вот уже общество, которое они нынче расшатывают, грозит рухнуть и погрести под обломками весь мир.
Другие — а эти другие суть глубокие политические мыслители — следят за деяниями первых с улыбкой, а время от времени самым благожелательным тоном, но не без тайного умысла дают им советы. «Ударьте вот с этой стороны, — говорят они, — здесь бастионы еще очень прочны, именно сюда надо направить удары; постойте, бравые союзники! мы хотим вам помочь; объединим наши усилия! Вот так! Превосходно! Довольны вы нами?» А потом эти глубокие политические мыслители отворачиваются и тайком глумятся над грубостью своих союзников. «Деревенщина! — думают они. — Жалкие плуты! Когда они победят, Франция и дня не потерпит над собой их власти; они зальют страну кровью, и тогда остальные обратятся за помощью к нам и поставят нас на их место». Тем временем те, кого глубокие политические мыслители ставят так невысоко, со своей стороны говорят так: «Глупцы! Подумать только, они ничуть не изменились: все те же трусливые интриганы, надменные подлецы! О! стоит нам только прийти к власти, и мы вышвырнем их за дверь! Не видать им больше ни своих земель, ни своих замков!» Те и другие говорят так, потому что ненавидят друг друга, однако удары на здание общества они обрушивают вместе, они бьют не жалея сил и не зная устали, и земля дрожит, и стены трещат, и лепнина крошится, и крыша обваливается, и вихри пыли, поднявшейся от этого яростного приступа, слепят наши заплаканные глаза.
И ты погибнешь, юная и прекрасная Франция! Погибнешь потому, что те, чья любовь составляла твою силу, больше тебя не любят; они больше не пекутся о твоем счастье, больше не гордятся твоей славой, им не до любви к тебе. Даже самые прекрасные их чувствования обращены не к тебе; бедная молодая женщина! твои старые и благородные родители забыли, что ты их дитя, они приносят тебя в жертву своим воспоминаниям[408]; строптивая дочь, ты отвергла супруга, за которого они мечтали тебя выдать, и они приняли его сторону; они отстаивают его, а не твои интересы. Ты страдаешь, тем лучше! этого-то им и надобно; они будут сеять рознь в твоем дому, чтобы покарать тебя за ослушание. Не жди от этих гордых родителей никакой жалости; ты для них больше не любимая дочь, которую нужно поддерживать и защищать; ты для них только супруга человека, которого они ненавидят, а поскольку твои беды — это одновременно и его беды тоже, они радуются твоим несчастьям, и когда из твоих ран течет кровь, они отворачиваются с безразличным видом и говорят: «Эта кровь больше не наша!» — и проходят мимо. И потому ты погибнешь, бедная Франция, ибо твои благородные родители, чьи имена в течение долгих веков составляли твою славу, больше тебя не любят!
Это еще не все, юные твои братья также ополчились против тебя, также бросают тебе горькие упреки. О, братья — от природы строгие судья, их приговоры тем более суровы, чем более спорны. Твои братья, о юная Франция, свирепы и неизменно завистливы, они жестокие братья и осуждают не только твой брак, но и все браки вообще[409]; они в принципе против любых обязательств, они поклялись разорвать все цепи и под предлогом борьбы за свободу стремятся избавиться и от покрытых золотом цепей Гименея, и от усыпанных цветами цепей любви. Отчего ты не последовала их советам? Они так настойчиво уговаривали тебя остаться в девицах! Тогда ты не зависела бы ни от кого или, по крайней мере, могла бы часто менять повелителей! Братья твои не могут простить тебе союза, который отнял у них власть над тобой; они ревнуют тебя к твоему супругу, они только и мечтают его погубить. Каждое утро, не успеешь ты проснуться, как они принимаются настраивать тебя против него; каждое утро они твердят тебе, что он скуп, что он коварен, что он изменяет тебе со старой любовницей-чужестранкой, которую вечно будет предпочитать тебе, а ты слушаешь их клеветы, веришь им и горько плачешь. Братья видят, что убедили тебя, смягчаются и говорят с жалостливой нежностью: «Не плачь, любезная сестрица! мы позаботимся о тебе; ни о чем не тревожься, мы убьем твоего мужа и даруем тебе счастье!» Но поскольку столь трогательная предупредительность тебя пугает, поскольку ты с ужасом отвергаешь эти кровавые утешения, они возмущаются твоей слабостью и называют тебя рабыней; они упрекают тебя в трусости и ничтожности, они кричат со злобой и ненавистью: «Что ж… поделом тебе, ты заслужила свои страдания; ты ведь не пожелала нас слушать!» И они убегают, грозя тебе всевозможными карами!.. И ты погибнешь, прекрасная Франция, ибо твои братья, которые должны были защищать твою честь и охранять твою молодость, раздуваются от гордости, корчатся от зависти и больше тебя не любят.
Кто же протянет тебе руку помощи, бедняжка? Родители тебя проклинают, братья преследуют! Кто же сжалится над тобой? Ну конечно же, это твои юные сестры; они добры и прелестны, они поддержат тебя в беде! у них недостанет сил и отваги на то, чтобы тебя защитить, но их нежность, по крайней мере, послужит тебе утешением; у них нет возможности действовать с тобой заодно, но они по крайней мере могут вместе с тобой поплакать и погоревать. — Но где они? куда они пропали? Как! Ты страдаешь, а их нет возле твоей постели; твои раны кровоточат, твое тело истерзано, но не их белые руки перевязывают твои раны! Где же твои сестры? Надобно их позвать. — Бесполезно, они не придут; они заняты важными делами: под барабанный бой они одеваются, чтобы ехать на бал в иностранное посольство[410]. Впрочем, они встревожены, но не рассказом о кровавых происшествиях в городе, а нерасторопностью нерадивой портнихи, которая не сшила платья к обещанному сроку, потому что всю ночь провела рядом с телом отца — национального гвардейца, убитого вчера вечером, и не успела закончить платья; не беда! сестры твои надевают другие платья и отправляются прыгать на балу; по дороге эти отважные любительницы танцев получают новый повод для тревоги; не подумай, однако, что они боятся выстрелов на соседней улице: нет, они боятся, как бы мятежники не захотели сделать из их кареты баррикаду — ведь тогда им придется идти пешком. Впрочем, Господь их хранит и они прибывают на бал без происшествий; их шляпы из рисовой соломки и капоты с кружевами поражают свежестью и ничем не напоминают о том, что в предместьях свирепствует мятеж. Платья из органди чисты и белы, как знамена, никогда не бывавшие в бою: перья качаются, цветы трепещут, ленты шуршат, вышитые платки распространяют сладостные ароматы, служащие упоительной заменой запаху пороха. Бал прекрасен, да здравствует вальс! его вихрь уносит с собой все грустные воспоминания этого дня. Кто бы мог сказать, глядя на этих юных женщин, столь воздушных, столь прелестных и столь кокетливых, что в эти же самые минуты на улицах Парижа идет резня? Звуки выстрелов, бой барабанов сливаются с танцевальной музыкой и производят дивное впечатление; кажется, будто Мюзар включил в свой оркестр стрелков с настоящими ружьями.
И ты погибнешь, прекрасная Франция, ибо твои юные сестры, которым надлежало бы мирить тебя с твоими родителями, напротив, сеют между вами недоверие и ненависть, ибо твои слезы им безразличны, ибо они тебя не любят[411].
Но скажи, неужели у тебя совсем нет друзей? Что делают те ловкие советники, которые выдали тебя замуж[412]? Может, они придут тебе на помощь? Нет; они дуются на тебя и втайне строят тебе козни. Как все люди, которые устроили чей-то брак, они ворчат и жалуются на неблагодарность молодоженов. Неблагодарность эта заключается в том, что новобрачные не осуществили все их несбыточные мечты, не позволили им извлечь всевозможные выгоды из устроенного ими брака. Советники думали так: жених будет действовать в наших интересах, а мы будем по-хозяйски распоряжаться в его доме; мы будем входить туда и с парадного, и с черного хода; он будет устраивать балы, а гостей на них будем звать мы; мы не позовем туда никого, кроме наших жен и любовниц; он будет давать обеды, а места за столом будем занимать мы; мы позовем туда самых тщеславных из наших кредиторов; он будет иметь ложи во всех театрах, а смотреть представления будем мы; тут-то мы и заживем по-царски. Устроим этот брак, он не может не быть счастливым. Эти советники выиграли во всем, во всем решительно. Их извлекли из небытия; им дали имя, состояние, славу — все, чего у них раньше не было; им оказали почтение; им доверили семейные дела, дали возможность сидеть во главе стола на всех празднествах; они были ничем, но для них сделали так много, что они кажутся всем, а поскольку они приняли это нежданное величие за чистую монету, они сделались ненасытными и говорят: А что, собственно, такого для нас сделали? ничего, ведь мы же так и не стали хозяевами; это непростительно, и мы отомстим: мы разрушим все, что сами же и построили. — Ничего сложного, — говорит один из них, — я все это предвидел и знаю, как поступить; но сначала нужно поссорить супругов. — Этим займусь я, — отвечает другой. — И вот те, которые устроили этот брак в своих интересах, а не в интересах невесты, рьяно берутся за его разрушение, нимало не задумываясь о тех мучениях, которые это может причинить ей; разве этим философам есть дело до несчастья их юной воспитанницы? ее участь волнует их в самую последнюю очередь; девиз каждого из них гласит: Я думаю только о себе. Они горазды рассуждать о невесте, но вовсе о ней не думают… И ты погибнешь, прекрасная Франция! ибо твои важные советники не кто иные, как алчные эгоисты, которые интересуются тобой лишь из корысти, ибо твои друзья, которые должны были бы помогать тебе мудрыми советами, тебя не любят!
Можно ли в это поверить? Такая красивая, такая гордая, такая блистательная — и вдруг погибнуть? Нет, ты не погибнешь! Твои благородные родители тебя проклинают, твои ревнивые братья тебя преследуют, твои сестры тобой пренебрегают, твои коварные друзья тобой торгуют, но у тебя остаются твои бедные слуги; эти, по крайней мере, будут защищать тебя до последнего.
Взгляни на солдат, которые умирают за тебя: как храбро они сражаются! Один падает, другой сменяет его на посту и падает в свой черед; взгляни на торговцев, которые закрывают лавки и берутся за оружие; жены с плачем удерживают их, но они не слушают; ведь их зовешь ты, и они слышат только твой голос. Над этими безымянными героями смеются, ведь они лавочники, они торгуют ночными колпаками[413]; но они предоставляют смеяться трусам, а сами идут на смерть ради тебя. Да, прекрасная Франция, если кто и спасет тебя, то это твои безвестные слуги! они, видишь ли, вольны любить тебя и тебе служить; они не связаны горделивыми воспоминаниями, не скованы революционными предрассудками. Никакие софизмы не засоряют их умы, никакие ложные идеи не отдаляют их от тебя; цель их политики — твоя слава; предмет их честолюбивых мечтаний — твоя радость; они не умеют произносить громких слов о твоей будущности, не умеют расписывать ее в красивых речах; однако они сберегли в своих сердцах то благородное чувство, которое возвеличивало тебя в прошлые века, тот возвышенный инстинкт, которого не осталось у честолюбцев, тот священный огонь, который гаснет по вине эгоистов; они сберегли умение любить и спасут тебя, ибо они тебя любят, ибо они не любят никого, кроме тебя!
1 июня 1839 г.
Моды
[…] Довольно политики; поговорим о модах.
Моды находятся в самой тесной зависимости от возраста и положения; на них влияет все: богатство и квартал, привычки, фигура и осанка, обстановка и даже личные обстоятельства.
Моды зависят от богатства. Вызывающие моды не могут ужиться со скромными состояниями: необычайные парюры живут мгновение, а денег на них уходит чудовищно много. Однажды одного знаменитого денди, французского Браммела, попросили вторично явить миру изумительный и невероятный жилет, который при первом своем появлении в свете вызвал взрыв восторга. «Отчего вы больше ни разу его не надели?» — спросили у денди его поклонники. В ответ прозвучали незабываемые слова: «Есть, господа, такие жилеты, которые не следует носить дольше пяти минут». И он был прав. Есть в жизни такие дни и такие жилеты, которые не имеют будущего!
Моды зависят от квартала. То, что кажется верхом элегантности в одном квартале, вызывает презрительный смех в другом. Вот пример, который поможет показать верность нашего утверждения: нынешняя мода велит украшать платье шестью, семью или восемью воланами. Если причудница из квартала Шоссе-д’Антен отправится на бал к банкиру, проживающему на бывшей улице Монблана[414], в таком платье, ее сочтут очаровательной; восемь воланов не только будут одобрены, но и вызовут зависть у соперниц, не пошедших дальше четырех, пяти или шести воланов. Явиться в свет с восемью воланами означает сказать: «Я живу богаче и роскошнее вас; я демонстрирую вам элегантность в восьмой степени; мое дворянство на два колена старше вашего, а на юбке у меня на два волана больше вашего, вот как высоко я себя ставлю». Другие дамы поймут все это и воскликнут: «Видели вы госпожу такую-то?.. Она нынче вечером одета просто великолепно…» Предположите, однако, что та же самая причудница по дороге на бал заедет с визитом в один из салонов Сен-Жерменского предместья — не эмансипированного, а так называемого чистого Сен-Жерменского предместья, жители которого никогда не бывают на правом берегу, никогда не ездят в театры и, кажется, полностью удалились от света, чтобы искупить те радости, которые вкушают жители всех остальных парижских кварталов. Можете ли вы представить, какое действие произведут восемь воланов в этом мире благородной простоты и рассудительного милосердия? Восемь воланов произведут здесь скандал; этот наряд, годный разве что для исполнения качучи[415], оскорбит вкус всех присутствующих. Все станут переглядываться с негодованием, изумление перейдет в тревогу, добрые души тихонько прошепчут слово Шарантон, а строгие матроны громко произнесут слово Цирк. Иначе и быть не может, потому что новые моды нужно вводить постепенно: глаз не может вытерпеть мгновенного перехода от обычной юбки с каймой к фантастическому оперению из восьми воланов. Моды подобны национальным костюмам: костюмы эти предстают во всей своей прелести только на родине; чтобы они радовали глаз, потребны те нравы и тот климат, которыми они, можно сказать, вдохновлены; сходным образом и моды предстают во всем своем блеске только в своем отечестве, а именно в том квартале, где они рождены; чтобы они радовали глаз, потребны те привычки, притязания и мании, которыми вдохновлены они. Как и все важные вещи, моды повинуются законам, подчиняются приказам, устанавливают каноны, диктуют правила; это законодательство ничем не хуже любого другого; рискнем пояснить нашу мысль сравнением. У нас во Франции министры предлагают законы, палата депутатов их принимает, палата пэров утверждает, правительство исполняет; так вот, то же самое происходит в мире моды: квартал Шоссе-д’Антен предлагает, предместье Сент-Оноре принимает, Сен-Жерменское предместье утверждает, Маре исполняет и хоронит.
Мы сказали также, что моды зависят от привычек. И в самом деле, может ли расслабленная красавица, с утра до вечера возлежащая на канапе, облачиться в платье с восемью воланами? — Нет, это будет поступок самоубийственный.
Моды зависят от фигуры и осанки. Разве может низкорослая толстушка позволить себе появиться на людях в платье с восемью воланами? — Нет, она уподобится бочке с восемью обручами. Это будет похоже на маскарад.
Моды зависят от обстановки. Разве может женщина посещать в платье с восемью воланами бульварные театры или танцевальное заведение Мюзара, разве может она в таком платье прогуливаться пешком? — Нет, это будет неосторожностью.
Моды, зависят от личных обстоятельств. Может ли женщина надеть траурное платье с восемью воланами? — Нет, это будет кощунством[416]. […]
Луи Эрсан. Портрет Софи Гэ (1824).
Франц Ксаверий Винтергальтер. Портрет короля Луи-Филипп (1839).
Франц Ксаверий Винтергальтер. Портрет короля Луи-Филипп (1841).
Луи Эрсан. Портрет королевы Марии-Амелии (1836).
Дворец Тюильри.
Оноре Домье. Лондонская конференция европейских держав в 1830 году (1832).
Эжен Лами. Покушение Фиески на короля Луи-Филиппа 28 июля 1835 года на бульваре Тампля (1845).
Дэвид У. Бартлет. Парижский омнибус.
Франсуа-Жозеф Эм. Король Карл X вручает награды участникам Салона 1824 года в Лувре (1827).
Оноре Домье. Торговец эстампами.
Оноре Домье. Ночные мечтатели (1843–1848).
Оноре Домье. Мелодрама (1856–1860).
Поль Гаварни. Парижский денди.
Оноре Домье. Робер Макер — биржевой маклер (1840).
Анри Монье. Предместье Сент-Оноре.
Анри Монье. Квартал Шоссе д’Антен.
Анри Монье. Сен-Жерменское предместье.
Анри Монье. Квартал Маре.
29 июня 1839 г.
Грозы и бунты. — Ростовщики
На минувшей неделе беседы вертелись вокруг двух не слишком увлекательных предметов: рассказа о грозах и предсказания бунтов. Порой две эти мрачные темы сплетались воедино: одно представало следствием другого; пророки утверждали, что такие грозы в последний раз гремели накануне Революции. Из чего делался вывод, что те же ветры породят ту же бурю. В молнии видели предвестие, а в граде — предостережение.
Мы слушали все эти рассуждения совершенно спокойно; мы оставались совершенно равнодушны ко всем этим безумным догадкам. Тот, кому ведома истина, слушает голос заблуждения со снисходительной улыбкой. Что значат пустые расчеты суеверия в сравнении с непререкаемыми выводами опытности? Какими абсурдными кажутся эти домыслы нам — нам, проникшим в тайну погодных капризов и знающим их причину! Боже правый, когда бы мы не послушались коварных советов, в Париже и сегодня стояла бы превосходная погода, город был бы залит солнцем, небо у вас над головой сияло бы лазурью, а не наводило тоску беспросветным мраком; вы увидели бы на улицах людей, укрывающихся зонтами от солнца, а не от дождя; нынче вечером вы отправились бы в коляске на Елисейские Поля и вдыхали аромат апельсиновых деревьев под звуки оркестра Дюфрена вместо того, чтобы сидеть в четырех стенах и бранить скверную погоду; вы наслаждались бы мороженым у Тортони или в «Парижском кафе» в обществе причудниц и элегантных модниц, вместо того чтобы пить чай в кругу семьи; наконец, во всех ваших разговорах припевом служило бы радостное восклицание: «Ах, как тепло!» — а вовсе не скорбный и горький стон: «Боже, как холодно!»
Еще неделю назад в Париже стояло лето, воздух был раскаленный, пыль белая и блестящая, женщины носили легкие платья, которые едва колыхались под дуновением робкого ветерка, а нынче к нам вновь вернулась зима, тротуары скрылись под траурной вуалью грязи, а шерстяной муслин, материя добродетельная и скромная, храбро сражается с дерзким северным ветром. О внезапная перемена! о перемена, достойная проклятий! вчера летний зной, сегодня чудовищный град и холодный ветер — и все это по нашей вине. Да, ответственность за все эти бедствия лежит на нас!
Признание это вас удивляет… вы не понимаете, что связывает нас с грозами; вы обвиняете нас в самоуверенности, вы находите, что с нашей стороны слишком нескромно приписывать себе власть над погодой и изменять последовательность времен года. — Чем прогневили вы небеса, — спрашиваете вы, — чем навлекли на землю грозовые тучи? Быть может, вы нанесли оскорбление богам? Осквернили алтарь Аполлона? Быть может, солнечный бог убоялся ваших дерзких взглядов? — Нет, Аполлон наш повелитель, жизнь наша состоит в служении ему. — Тогда, может быть, вы забыли принести жертву Нептуну, перед тем как отплыть в Гавр или хотя бы в Сен-Клу? — Мы вообще уже год как не покидали Парижа. — В чем же состоит ваше преступление, отчего вот уже неделю, как в столице так холодно? Чем навлекли вы на парижан эту убийственную погоду? — Увы, увы, мы сделали то, что делают в это время года все смертные, то, что велят делать мудрость и бережливость, аккуратность и даже элегантность, — то, однако, что нам еще никогда не удавалось сделать безнаказанно. — Что же это такое? Скажите наконец! — Мы позволили вынести из дома ковры! А это средство нас никогда не подводило. Уже много лет подряд мы имеем случай в этом убедиться. Мы и неделю назад это предсказывали, а нас поднимали на смех и даже просили: «Жара стоит несносная, прикажите же наконец вынести ваши ковры, чтобы погода переменилась и воздух стал посвежее». Мы послушались, и те, кто обижал нас своими насмешками, те, кто был так уверен в своей правоте, сегодня дрогнули и продрогли, ибо предсказания наши сбылись. Да простят нас люди теплолюбивые!
Что же до директоров театров, они должны превозносить нас до небес, ибо в те дни, когда пустеют сады, театры всегда полны. […]
Один приятель пересказал нам остроумное словцо судьи С. Шел процесс по делу ростовщика, который ухитрился всучить одному несчастному в уплату по векселю свиные окорока на сумму в двадцать одну тысячу франков. Адвокат, защищавший ростовщика, то и дело восклицал: «О, господа, вы не можете заподозрить нас в такой подлости. Мы, воевавшие под знаменами великого человека[417], мы, награжденные звездой героя, мы…» — «Довольно, — перебил судья, — мы видим, что вы желаете увенчать ваши окорока лаврами; пойдем дальше».
Эти окорока ценою в двадцать одну тысячу франков приводят нам на память больного верблюда, которого один из самых знаменитых наших любителей элегантности в сходных обстоятельствах получил от одного прославленного ростовщика. Корабль пустыни имел в конюшне юного денди весьма бледный вид. Английские скакуны обращались с ним без всякого почтения.
Знаем мы и юного офицера, которому ростовщик, не знающий ни стыда, ни совести, вручил вместо денег тысячу канареек. Кормить и ублажать тысячу канареек — дело нелегкое, тем более для лейтенанта; пожалуй, с тысячью луидоров он бы управился куда легче. Тысячу луидоров можно положить в кошелек, а тысячу канареек не уместишь не только в одном кошельке, но даже и в одной клетке. Бедный шалопай поместил крылатое богатство в комнате по соседству со своей спальней, однако удивительные монеты не звенели, а пели, и неумолчное это пение не давало покоя никому в доме. Дядюшка молодого человека, от которого всеми силами старались скрыть сомнительную спекуляцию, заинтересовался странными концертами и поднялся в мансарду племянника; тайное стало явным. Дядюшка был человек умный; он расхохотался и заплатил долги племянника. Тогда тот стал пристраивать канареек. Две дюжины взялась продать привратница, несколько штук взяла прачка; молодой человек хотел выказать щедрость и всех остальных раздарить, но это оказалось не так легко: больше двух птичек в один дом не брали. Юноша ловко распределил их по разным кварталам. Двух канареек он подарил актрисе «Драматической гимназии», двух — старой даме из квартала Маре, четырех — дочке привратника военного министерства: дети ведь обожают птиц; но даже после того, как он обеспечил канарейками всех начальников и подчиненных, всех друзей и подруг, у него все равно оставалось птиц куда больше, чем нужно человеку для счастья; тогда он выпустил всех оставшихся на свободу. Говорят, что, простившись с последней птичкой, он простился и с последним экю; деньги, данные дядюшкой, иссякли, и какой-то ловкач уже предложил нашему герою выгодную спекуляцию: двенадцать тысяч зонтов, которые можно продать и тем самым поправить положение, но мы не хотим этому верить: для послужного списка юного спекулятора более чем достаточно тысячи канареек.
27 июля 1839 г.
Счастье быть понятым. — Летние глупости. — Мнимая отлучка
Какое счастье — чувствовать, что все племя читателей понимает тебя, впитывает твои мнения, разделяет твои мысли, вникает в твои открытия, приобщается к твоим радостям, делается невинным сообщником твоих насмешек, хохочет над теми забавными чертами, на которые ты указываешь, учится на примере тех возвышенных чувствований, которые ты описываешь, плачет и смеется вместе с тобой; одним словом, какое счастье быть понятым! Увы! это несказанное счастье, которое ободряет и вдохновляет, которое рождает вечную дружбу и бессмертную любовь, это счастье — столь чаемое, столь драгоценное — это счастье… нам не суждено! Увы! надеяться нам не на что, теперь это уже совершенно ясно. Пора отказаться от иллюзий. Наши читатели — столь остроумные, столь лукавые, столь тонкие, столь проницательные — нас не понимают. Когда мы шутим, они принимают наши слова всерьез и обвиняют нас в преувеличениях. Когда мы говорим серьезно, они воображают, будто мы шутим, и хохочут во все горло. Недавно мы смеху ради объявили, что обладаем способностью прогонять лето и что холод наступает в Париже в то самое мгновение, когда мы приказываем вынести из дому ковры. Поверите ли? нашлись читатели, которые приняли нашу шутку за астрономическое наблюдение и принялись с самым важным видом оспаривать наши слова. «Какое отношение, — говорили эти здравомыслящие особы, снисходительно пожимая плечами, — какое отношение имеет перемена погоды к чьим-то коврам? Известно, что можно разогнать тучи пушечными выстрелами; император Наполеон нередко прибегал к этому средству улучшить погоду. Говорят также, что колокольный звон притягивает молнию; оба эти явления объясняются физическими законами, но как можно подумать, что ковры одной небольшой квартиры могут повлиять на погоду в таком большом городе, как Париж, что от их вытряхивания может снизиться температура воздуха и перемениться направление ветра? Это же просто абсурдно». — Вы совершенно правы, просвещенный читатель, если вы приняли наши слова всерьез, это просто абсурдно.
Не лучше была понята и другая наша шутка. Мы написали, что у Тортони подают мороженое «ванильное с табаком» и что оно превосходно[418]; это сообщение также было принято совершенно всерьез, и почтенные люди простодушно удивлялись тому, что нам могло понравиться мороженое такого сорта. «Сомнительно, чтобы это было вкусно, — добавляли самые проницательные, — ведь от сладкого табак теряет весь свой аромат». — Они называют это ароматом! Отныне, чтобы предупредить новые заблуждения, мы будем сопровождать каждую из наших невинных шуток подробным объяснением. В данном случае мы скажем вот что: выражение «мороженое с табаком» есть не что иное, как ироническая амплификация, высмеивающая те две сотни курильщиков, которые прогуливаются по бульвару Итальянцев. Сигарный дух в этом элегантном квартале так силен, что самые пьянящие ароматы здесь немедленно обращаются в запах табака. Молодая женщина полагает, что держит в руках букет роз… она заблуждается: не пройдет и минуты, как она убедится, что ее тонкие пальцы сжимают коробку сигар. Ее вышитый носовой платочек только что благоухал букетом графа д’Орсе. это уже в прошлом, теперь он воняет табаком. Ее прекрасные кудри, кружевной капот, легкий шарф и переливающаяся тысячью цветов шаль — все это в одно мгновение пропитывается прелестным ароматом казармы; понятно, что и мороженое, которое ей подают в этой благоуханной атмосфере, будь оно клубничным, лимонным, абрикосовым или ванильным, немедленно превращается в табачное. Вот вам объяснение: теперь вы понимаете, что это была шутка и ей следовало улыбнуться. Если зайдете к Тортони, умоляю, не заказывайте мороженое с табаком, над вами будут смеяться, а мы вовсе не хотим, чтобы по нашей вине вас поднимали на смех. Странная вещь! хуже всех схватывают фельетонизм, или фельетонин, не кто иные, как парижане. Жители провинции понимают нас с полуслова и порой присылают нам весьма остроумные письма в ответ на наши шутки. Провинциалы — лучшие наши читатели; парижане же слишком торопятся; они судят, еще не успев понять. Парижане, пояснение для вас: это колкость по вашему адресу.
Парламентская сессия окончилась, у наших пожилых школьников начались каникулы. В этом году они занимались совсем не прилежно и по справедливости не заслужили никаких поощрений; но они заранее приняли меры и, чтобы не остаться без наград, сами взяли на себя их распределение. Поясняем: это тонкий намек на депутатов, которые с истинно патриотическим бескорыстием распределяют между собой самые прибыльные административные должности.
Палата пэров еще не прекратила заседаний; ее миссия еще не окончена. Министр-депутат, один из корифеев коалиции, давеча сокрушался по поводу этой задержки; он сказал одному из благородных пэров: «Всему виной этот проклятый процесс[419]». — «Да, — отвечал благородный пэр, — тут целый круговорот: в задержке виноват процесс, в процессе виноват бунт, а в бунте виновата коалиция». Поскольку в этих словах содержалась колкость по адресу министра, тот срочно переменил тему разговора.
Весь Париж занят обсуждением Восточного вопроса[420]. Герои дня нынче — более или менее отравленные султаны, более или менее задушенные паши. Парижане путаются в перечнях мусульманских генералов и адмиралов. Тому, кто не разбирается в турецких делах, как турок, трудно вникнуть в эти военные хроники и проследить за боевой биографией великих полководцев; Абдул-Меджид, Ахмед-Фетхи, Халил-паша, Хафиз-паша, Хозрев-паша — парижанину запомнить все эти имена нелегко. Где те благословенные времена, когда новости с Востока сводились к одной и той же фразе, которую «Конститюсьонель» публиковала раз в три месяца без всяких изменений: «Скончался Али-паша, сын Али-паши; преемником его стал Али-паша». Новость звучала просто, точно и не давала ни малейшего повода к кривотолкам. Тогдашняя политика стоила нашей нынешней. — Шутка.
После Восточного вопроса следует вопрос о сахаре и сахарной свекле[421]. Парижане рассказывают друг другу шепотом, а мы, возможно, в один прекрасный день расскажем вслух о скандальных похождениях искателей сахарных приключений, которым один остроумный человек присвоил звание рафинированных. — Эта игра слов достойна войти в историю. Объяснение ищите в современных мемуарах.
Кстати о шутках, вот еще одна, кажущаяся нам очень забавной. В одной гостиной обсуждали «Сцены провинциальной жизни» и чудесный талант господина де Бальзака. «Я не вполне разделяю ваши восторги, — возразила одна молодая женщина, сделав претенциозную гримаску, — я очень люблю стиль господина де Бальзака, но не люблю его манеру писать». — Поясняем: это глупость, которую не следует принимать за проявление остроумия. […]
На Елисейских Полях парижан встречают самые разнообразные забавы: прыгуны, фокусники, певицы под вуалью и зубодеры. Крики жертв смешиваются с ариями виртуозов. Особенным успехом среди фланёров пользуется знаменитый дантист: два первых зуба он вырывает бесплатно, платите вы только за третий; впрочем, коварный лекарь ухитряется никогда не останавливаться на двух зубах; меньше трех он не рвет. Недаром он говорит про себя: «Я зубы не вырываю, а собираю».
Таковы наши летние радости. Но у нас появились еще, по выражению одной очень остроумной и очень любезной дамы, летние глупости. Они в высшей степени разнообразны: вот мужчины, которые прогуливаются со шляпой в руке, предоставляя зефирам обвевать их голый череп; вот старые креолы в соломенных шляпах и очках в золотой оправе; вот несчастные, чей галстук так дурно накрахмален, что его не увидишь невооруженным глазом; вот любители поговорить, которые сошлись подле камина, полного цветов, и принимают величайшие меры предосторожности, чтобы не опалить полы своих фраков огнем гортензий; вот средневековые прически, на смену которым приходят лысые парики. Мы могли бы назвать еще тысячу самых странных вещей, о которых, впрочем, лучше умолчать; но бесспорно смешнее всего та, которую мы назвали «ложной отлучкой».
В это время года столичным жителям полагается покидать город: одни отправляются в свои поместья, другие едут на воды, некоторые даже предпринимают большие путешествия. Уважающие себя любители элегантности не могут остаться в Париже, не рискуя прослыть лавочниками или журналистами, министрами или привратниками. Значит, надобно во что бы то ни стало уехать из города. Но чтобы уехать в поместье, нужно иметь поместье; чтобы путешествовать со всеми удобствами, нужно иметь много денег в бумажнике. Что же делать тому, у кого нет ни земли, ни наличности?
Уехать нельзя; но никто не мешает проститься перед отъездом. Законы элегантности не требуют, чтобы вы находились в Баньере или в Бадене, они требуют, чтобы вы не находились в Париже; вот и выход: если вы хотите, чтобы вас здесь не было, пусть кажется, что вас здесь нет. Нет ничего проще: вы закрываете ставни и говорите привратнику, что уезжаете. День вы проводите в четырех стенах в обществе вашей супруги, в укромном уголке, выходящем окнами во двор. Так проходят те три месяца, что длится ваше путешествие. Вы никому не пишете, и друзья обижаются. «Конечно, — говорят они, — им так весело, что про нас они даже не вспоминают». После полуночи вы берете под руку ту, что сопровождает вас в путешествии, и выходите прогуляться. Сегодня вы якобы приехали в Дьепп и, значит, вдыхаете морской воздух; назавтра вы переноситесь в Шамуни и, значит, наслаждаетесь воздухом гор. Встретив на улице родственника, вы с ужасом отворачиваетесь. Пусть даже он вас узнаёт и пытается с вами говорить, вы не отвечаете и продолжаете числиться в отъезде. Если он настаивает, вы сообщаете ему, что вернетесь в столицу через месяц, и по прошествии этого срока в самом деле вновь появляетесь в столице: вы немного утомлены разъездами, но полны впечатлений и ничуть не загорели. Конечно, вы, быть может, провели время не слишком весело, но, по крайней мере, нимало не погрешили против законов элегантности и получили право небрежно бросать тем, кого неотложные дела или чувствования обрекли на жалкое прозябание в столице: «Как можно оставаться на лето в Париже?» Ложная отлучка — не забава: это нечто лучшее, а именно — забавная истина.
3 августа 1839 г.
Еще о сигарах. — Летние пытки. — Уличные купания
[…] Мы обязаны принести извинения сигаре. Она невинна, и колкости наши были направлены вовсе не против нее. Мы отнюдь не считаем, что курить — это преступление. Тому, кто провел долгий трудовой день с кистью или пером в руке, сигара позволяет расслабиться и перейти от напряжения всех умственных сил к хмельной дремоте, какую навевает табак. Мы знаем великих художников и великих писателей, которые выкуривают после обеда одну-две сигары, и никогда их в этом не упрекнем. Мы допускаем, что сигара может служить вознаграждением за тяготы дневного труда; но мы возмущаемся, и не без оснований, когда видим, что курение сигары заменяет труд, что оно становится единственным занятием юного существа. Мы задумываемся о губительном влиянии, какое табак оказывает на ум, и спрашиваем профессиональных курильщиков: если тех особ, чей ум пребывает в постоянном напряжении, табачный дым погружает в оцепенение благодетельное, какое же действие оказывает он на тех, чьему уму отдыхать не от чего?.. Несколько знаменитых курильщиков дали нам на этот вопрос ответы более чем красноречивые.
На смену летним глупостям приходят летние пытки; среди них одно из первых мест занимает поливка улиц — бедствие, которое неведомо жителям провинции и которое мы желаем описать им во всех подробностях, дабы они знали, как много выигрывают, живя вдали от столицы. Два раза в день, не успеет уличный фонтан[422] излить свои слезы, как на мостовую высыпает целый батальон привратников, привратниц и прочих официальных поливальщиков; все они держат наперевес свои устрашающие орудия, а именно лопаты. Не теряя времени, они пускают их в ход и начинают расплескивать вокруг себя воду из уличных ручьев. Чистая эта вода или грязная, сделалась ли она бурой стараниями соседнего красильщика или желтой от трудов коварного стекольщика, — это поливальщиков не волнует; им велели поливать улицу — и они ее поливают; а уж чем именно ее поливать, насчет этого им указаний не давали. Заодно они поливают также прохожих — то с ног до головы, то с головы до ног; все зависит от того, как близко эти несчастные подходят к поливальщику; если он рядом, вода попадает им на ноги, если далеко — на голову. Прощайте, лакированные сапоги, прощайте, прелестные полусапожки из пепельной тафты, прощайте, серая шляпка, розовый капот и белое муслиновое платье с тремя воланами[423]! О бедные парижские жительницы! Вы выходите из дома с надеждой, радуясь солнечному дню и не ожидая ничего дурного; вы не подозреваете, что поливальщик уже занес злосчастную лопату, угрожающую вашей красоте, иными словами, вашей жизни! И не думайте, что в экипаже вы будете в большей безопасности; струи грязной воды проникают туда так же легко, как и в любые другие места; разница лишь в том, что, попав в экипаж, они там и остаются. Выехав из дому в коляске, вы возвращаетесь в ванне, а ванна, запряженная парой лошадей, — не самое уютное средство передвижения. Незапланированные купания всегда были опасны для здоровья. Впрочем, Париж остается прелестным городом: в нем чрезвычайно приятно жить, но ничуть не менее приятно его покинуть.
31 августа 1839 г.
Настоящий ЛЕВ: определение[424]. — День Святого Людовика в Версале
Вот он и настал, тот день, когда даже парижанин стыдится Парижа. Сентябрь — проклятый месяц, настоящий мертвый сезон в большом городе. Лишь очень храбрый и очень независимый человек отваживается в это время года показаться на бульваре. Ложная отлучка нынче становится неотложной необходимостью, долгом элегантности, который обязан исполнить всякий уважающий себя лев. В сентябре единственные львы, имеющие право оставаться в Париже, — те, каких демонстрируют на сцене театра «У ворот Сен-Мартен». Между прочим, это английское слово, так быстро прижившееся во Франции, означает у нас совсем не то, что на родине. У нас с некоторых пор всякому элегантному существу присваивают звание льва, в каждой котерии насчитывается не меньше двух десятков львов; всякую женщину, у которой есть красивые брильянты и тонкие кружева, породистые лошади и хороший повар, которая бывает в театрах, на скачках и на блестящих балах, без предварительных разысканий и достаточных резонов причисляют к львицам; всякого мужчину, который носит прическу à la Генрих III, бородку à la Плутон, кромвелевские усы и пасторальный галстук; который заводит себе микроскопического грума и курит колоссальные сигары; который громко кричит из облака дыма: «Здорово, любезнейший, как жизнь?» и слышит ответ от собрата, пребывающего в другой дымной славе. «Недурственно, а сам?» — неизвестно по какому праву немедленно объявляют львом.
А затем львы и львицы собираются в кружок, чтобы предаться взаимному восхвалению, и, не имея на то никаких оснований, гордо заявляют: «Я лев, ты лев, мы львы, они львицы!» Мы, со своей стороны, тоже хотим позаниматься грамматикой и скажем в ответ: Вы не львы, они не львицы. Вы денди, красавцы, щеголи, короли моды, любители фешенебельности, причудники, а если угодно, и причудницы, — но не львы. Что такое лев в нравственном отношении? Даем определение: в нравственном отношении лев есть любопытный зверь. Меж тем быть любопытным зверем вовсе не значит быть нескромным животным, которое желает все видеть собственными глазами; это значит быть необычайным животным, которое все желают увидеть собственными глазами[425]. Так, например, лев из Ботанического сада, на которого никто не обращает внимания, — не лев. Казалось бы, он вправе притязать на это звание, ибо у него есть длинная грива, острые когти и хищные клыки, однако, несмотря на все эти атрибуты, сей царь пустыни — не лев; напротив, крошечный пони, несмотря на свои короткие ноги, смешной аллюр и уродливую гриву, — настоящий лев, ибо весь Париж сбегается в Цирк на Елисейских Полях, чтобы на него посмотреть. Точно так же обстоит дело в наших салонах. На рауте в роли льва выступает вовсе не юный любитель элегантности, одетый самым необычным образом, имеющий самые продуманные и самые претенциозные манеры; нет, в этой роли выступает порой человек совсем простой и ничуть не забавный, с которым, однако, все хотят свести знакомство, поскольку он чем-либо прославился на весь мир: совершил опаснейшее путешествие, увез из дому несколько английских матрон, произнес накануне пламенную речь, получил на днях огромное наследство, гарцевал недавно в жокейской куртке на чистопородном жеребце, летал два часа назад на воздушном шаре и привез самые свежие новости из эмпирея, слегка подозревается в отравлении собственной жены, а может быть, просто-напросто опубликовал талантливую книгу, имевшую большой успех. Однако львом можно стать лишь на недолгое время; должность льва не принадлежит к числу пожизненных. Быть львом нынешнего вечера значит быть козырем данной партии, а известно ведь, что по окончании партии козырь утрачивает все свое могущество.
Огюст Пюжен. Театр «У ворот Сен-Мартен».
Огюст Пюжен. Зверинец Ботанического сада.
Огюст Пюжен. Вид на Сену.
Итак, не повторяйте бездумно: наши львы ввели такую-то моду, все наши львицы побывали на этом представлении. Это все равно как если бы вы сказали: козыри трефы и бубны; все равно как если бы вы сказали — а вы зачастую именно так и говорите: «Масса выдающихся особ» и проч. Не путайте денди и льва, причудницу и львицу, они принадлежат к разным семействам: денди — тот, кто хочет, чтобы на него смотрели, лев — тот, на кого хотят смотреть; причудница — та, кто ищет всевозможных развлечений, львица — та, кого зовут на все празднества и без кого никакие развлечения никому не в радость[426]. Лев на блестящей вечеринке — то же, что новобрачная на свадьбе, то же, что новоизбранный академик на академическом приеме, то же, что парижанин в маленьком провинциальном городке, то же, что обвиняемый для процесса, то же, что жертва для жертвоприношения, то же, что жирафа в Ботаническом саду, наконец, то же, чем был некогда лев в зверинце. Пример: кто нынче лев на сцене театра «У ворот Сен-Мартен»? лев там не тигр, не леопард, не ягненок и не лев, а господин Ван Амбург[427].
Мы уже сказали, что Париж опустел: нынче все, кто может, предпочитают его покинуть. Воскресенье — день всеобщего исхода; в этот день в Париже не остается не только людей, но и экипажей, на которых можно выехать из города. Фиакры, кабриолеты, «горожанки», «милорды», наемные кареты — исчезает всё; сколько бы вы ни скитались по улицам, сколько бы ни рассылали верных гонцов в разные концы города, сколько бы ни обходили стоянки фиакров, до самого вечера вы ничего не добьетесь; даже железная дорога вас отвергнет. Смотрите сами: на станции в очереди за билетами выстроились пять тысяч человек. Одни запаслись четырехфунтовым хлебом, другие — дыней, кто-то соорудил из салфетки сумку для пирога, кто-то благоговейно прижимает к груди маленького цыпленка в большом пакете. Некоторые везут за город корзинки с персиками! Они правы: парижские персики такие вкусные! некоторые захватили с собой мирт… или герань. День Святого Людовика — это всеобщий праздник, праздник всех Луи и Луиз, но гораздо чаще Альфредов и Ахиллов, Мельхиоров, Пальмир и Памел. Чем более претенциозно имя, данное при рождении, тем чаще в семейном кругу его заменяют на Луи или Луизу. В нынешнем году 25 августа по железной дороге перевезли не только всех обитателей Парижа, но также все съестные припасы и все цветы столицы[428]. Сколько пирогов было съедено в воскресенье в сени версальских дерев! Мраморная зала была усыпана остатками пиршества, обертками от ветчины, фунтиками из-под соли, сахарной бумагой, костями от бараньего окорока, куриными косточками! Какое столпотворение! Какой шум! О нимфы здешних водоемов, как гордитесь вы правом пленять взоры народа-короля! Разве может Людовик XIV сравниться с этим новым властителем? Воля первого смогла создать за один день все эти чудеса; воля второго способна разрушить их за один час. Прекрасные статуи, выставляющие напоказ древние прелести, мраморные ножки и кокетливые круглые локти, трепещите перед этим грозным властелином, бойтесь его дикого энтузиазма: от восторга он способен сбросить вас всех с пьедесталов и разбить на мелкие кусочки исключительно ради того, чтобы удобнее было вами восхищаться. В восемь вечера в Версале царил чудовищный хаос: когда те тридцать тысяч человек, что прибыли сюда в течение дня, все разом захотели вернуться назад в Париж, наведением порядка пришлось заняться префекту и прочим версальским властям. Наши народные развлечения все немного смахивают на бунты, и это придает им неизъяснимое очарование. Во Франции всякая забава — немножко мятеж. Если, развлекаясь, французы не взбунтовались хоть немножко против тех самых людей, кто обязан их охранять, они считают, что праздник не удался. А кроме того, повсюду царит прискорбная непорядочность; самая невинная сделка не обходится без обмана; все поголовно только и мечтают о том, как бы обойти закон: в фиакр, рассчитанный на шесть человек, непременно набиваются восемь; кучер протестует, но никто его не слушает; его осыпают бранью и ударами; если на пути вырастают изгородь или забор, через них не задумываясь перелезают: изгороди и заборы исключительно для того и поставлены; никто не ждет своей очереди, никто не остается на своем месте; самое скверное место кажется самым лучшим, если оно уже кем-то занято. Обманывать, жульничать, нарушать условия — вот наши истинные радости; сама любовь повинуется этому роковому закону: любовницу у нас страстно любят только в том случае, если она чужая жена. Вслушайтесь в разговоры прохожих, которые возвращаются домой с праздника, вы услышите что-то вроде: «Он с меня сначала спросил двадцать су; я говорю: Спасибо! У меня только четыре… я пойду. Тут он мне кричит: Отдам за четыре…» или: «Они мне говорят: Хода нет! Но я им съездил пару раз по физиономии и все-таки вошел». Главное удовольствие состоит в том, чтобы заплатить всего четыре су за то, что стоит целый франк, и силой пролезть туда, куда вход запрещен. Нелегко управлять таким народом. […]
21 декабря 1839 г.
Притязания
Близится час всеобщего пробуждения, парижское безумство дает о себе знать самыми прелестными симптомами: первый день нового года уже вселяет тревогу в умы парижан; уже подают голос бальные оркестры; все столичные жители уже заняли свои посты, каждый оттачивает свое оружие: политики упражняются в ораторском искусстве и придумывают яркие фразы, кондитеры изготовляют конфеты и фантики, заговорщики запасаются патронами. Актеры учат новые роли, а государственные мужи пытаются забыть те роли, которые играли прежде; все вооружаются, одни ради того, чтобы пленять, другие ради того, чтобы вредить, и все меняют свой облик ради того, чтобы обмануть окружающих: молодые женщины покупают бархатные платья и шляпы с плюмажем, чтобы придать себе респектабельный вид; тридцатилетние женщины покупают себе газовые платья и цветочные гирлянды, чтобы придать себе вид девичий. Казаться тем, что ты есть, считается преступлением; казаться тем, чем ты вовсе не являешься, считается победой. Жизнью движут одни лишь притязания; без них люди не знали бы, чем заняться, и умирали от скуки. Гордиться неоспоримой красотой, блистать всеми признанным умом, тратить законно доставшееся состояние и пускать в ход истинный талант — для всего этого особой фантазии не требуется; другое дело — сменить свой облик; изображать великую серьезность, имея смазливое личико; сорить деньгами, которых у тебя нет; притворяться ученым мужем, будучи денди, или селадоном, будучи ученым мужем; стать бабочкой, хотя ты рожден пчелой, или тигром, хотя ты рожден овцой; слыть женщиной, разбирающейся в политике, хотя ты всего-навсего хорошо вальсируешь, или женщиной ветреной, хотя ты уже давно мать семейства; выдавать себя за финансиста, будучи астрономом, или за французского литератора, будучи уроженцем Германии, — вот это забавно, вот это придает жизни интерес. Отмените притязания в нашем любезном отечестве, где якобы в такой цене прямота и естественность, и вы получите население, состоящее исключительно из скучающих бездельников.
Притязания во Франции заменяют страсти; именно они совершают революции; никто не желает оставаться на своем месте, каждый хочет сменить свое ремесло на ремесло соседа; все гнушаются тем, что знают, и с удовольствием демонстрируют те таланты, каких не имеют. Политические мужи ломают головы, пытаясь отгадать причину наших вечных смут, они задаются вопросом, отчего французами нынче так трудно править; ответ очень прост: дело в том, что в течение последних пятидесяти лет[429] у нас разрушали все верования, одновременно распаляя все притязания; дело в том, что очень трудно управлять страной, где никто не хочет заниматься тем, что он умеет делать, где усердно исполняют свои обязанности лишь невежды, обязанности эти исполнять не способные; дело, наконец, в том, что политические мужи, которые задаются этими вопросами, сами занимают вовсе не то место, какое им пристало. Все, конечно, придет в порядок, однако, прежде чем здравый смысл восторжествует, прежде чем военные согласятся быть военными, деловые люди смирятся с тем, что их призвание — заниматься делами, а финансисты захотят остаться финансистами, — прежде чем все это произойдет, нам предстоит прожить еще по меньшей мере пятьдесят лет, полных раздоров, переворотов и кровавых расправ, а потому мы стараемся не принимать политику близко к сердцу и просто-напросто констатируем, что причину правительственных кризисов угадать несложно: Франция — страна восстаний только потому, что она страна притязаний. В тот день, когда каждый из нас станет гордиться исключительно теми талантами, какие он получил от Бога, мы исцелимся — и наступит всеобщее благоденствие. […]
28 декабря 1839 г.
Модный мужчина. — Модная женщина. — Модное животное
В городе уже царит большая суета, но еще не наступила пора больших развлечений. Бунт, назначенный на эту неделю, не состоялся; по слухам, его отложили до 6 января, до дня Богоявления, что обличает величайшую предупредительность: когда же еще и бунтовать против царствующего короля, как не в день, когда выбирают короля бобового[430]?
Балы и рауты уже начались, однако еще не все элегантные парижанки съехались в Париж. Начало сезона для знаменитых красавиц отложено в наших салонах до первых дней января. Светила должны повиноваться законам природы: человеческие светильники, вульгарные лампы, могут гореть хоть 24 часа в сутки, но звезда Венеры загорается лишь ради того, чтобы возвестить начало нового дня.
Итак, в настоящее время на наших раутах царствуют иностранки. Скипетр моды оспаривают русские и испанские красавицы, однако им уже давно завладела одна юная англичанка, и нет никаких оснований полагать, что в этом году она его утратит. Мода — богиня, которая не раз становилась жертвой клеветы и которой пора наконец отдать справедливость. В своих привязанностях мода вовсе не так непостоянна, как это зачастую утверждают; она старается изменяться как можно реже и благоволит к одним и тем же фаворитам. Мы знаем старцев, молодость которых пришлась на эпоху Директории и которые еще и сегодня остаются модными юношами. Кто однажды стал модным, пребудет таковым до самой смерти. Быть модным можно столько, сколько хочешь, но нужно этого хотеть, нужно этим заниматься, иначе говоря, нужно беспрестанно обновляться. Трудитесь без устали, проводите кропотливые изыскания и не отвлекайтесь ни на мгновение: чтобы оставаться модным всегда, чтобы, невзирая на неумолимый бег времени и непредсказуемые капризы революций, чтобы вечно быть юными и прекрасными, пленительными и опасными, надобно идти на большие жертвы. Ремесло мотылька — нелегкое ремесло, ставящее перед модником множество трудноразрешимых задач: как всегда быть легким и никогда не становиться легкомысленным — как не интересоваться ничем и знать все — как думать о своем туалете с утра до вечера и делать вид, что не заботишься о нем вовсе, — как являться в одно и то же время в четырех разных салонах — как приезжать в Оперу точно в то мгновение, когда на сцену вылетает новая танцовщица или начинает арию новейший виртуоз, — как всегда знать имя той женщины, на которую смотрит весь зал, — как входить в бальную залу с видом человека, которого здесь ждут, — как заигрывать с высшими, благоволить к низшим, улыбаться равным — как мало смотреть, но хорошо видеть — как все узнавать, ни о чем не расспрашивая, — как не разделять полностью ни одну идею, однако судить свысока обо всех идеях без исключения — как находить применение всем своим недостаткам, выдавая нужду за добродетель, — как доводить чревоугодие до педантства, а эгоизм — до величавости — как верить в себя, поклоняться себе, проповедовать культ себя — как не иметь ни единой собственной мании, но быть всегда готовым усвоить любую манию, вошедшую в моду, — как уметь быстро отказаться от того, что тебе больше всего нравится, — как избегать привязанностей, ибо привязаться к кому-то или чему-то, к мысли или намерению — это значит застояться, состариться, назначить срок, сказать свое последнее слово. — Чтобы оставаться модным, нужно отрекаться от прошлого — отрекаться решительно, и от целого, и от деталей. В глазах мотылька из хорошего общества вчерашний день всегда неправ; непогрешим только день сегодняшний, только он достоин внимания. Если сегодня для того, чтобы нравиться, надобно выказывать острый ум, модник будет блистать остроумием; если, напротив, надобно быть смешным глупцом, он без труда выкажет глупость и навлечет на себя насмешки. Модник, точно флюгер, покоряется любым ветрам; флюгер он умный и потому покоряется по доброй воле. Именно поэтому избранник моды не имеет возраста; ведь нас старят воспоминания, а модник не позволяет себе иметь воспоминаний, — не по легкомыслию и не из неблагодарности, но из чувства самосохранения. Чтобы жить, моднику нужно двигаться, двигаться без остановки: остановка для него равносильна гибели; модник — это вечный жид элегантного мира. Подобно вечному жиду, он бессмертен; подобно ему, он получил право жить бесконечно, но при этом обречен ни на мгновение не знать покоя.
Женщинам оставаться модными легче, чем мужчинам: смазливого личика и романического положения нередко бывает довольно для того, чтобы женщина сделалась модной и оставалась таковой долгие годы. Живость и томность равно подходят для этой роли, которая не подчиняется строгим правилам. Требование одно-единственное: не скрывать ничего, кроме своего ума; ведь тайное превосходство — могущественнейшее средство воздействия; впрочем, есть способ сделаться модной женщиной гораздо быстрее и оставаться ею очень долго; способ этот совершенно безотказный: нужно вести себя добродетельно, но при этом пользоваться дурной славой.
Теперь нам предстоит сделать признание, которое наверняка навлечет на нас обвинения в бесцеремонности. Ну что же, наберемся храбрости и приступим к делу без обиняков. Мы хотим сказать, что, если мода долго хранит благосклонность к людям, она ведет себя куда более ветрено по отношению к животным. Некогда украшением будуаров служила гибкая шелковистая кошка; но кошки слишком любят охотиться на мышей и гулять по крышам; они кровожадны и неблагопристойны, коварны и легкомысленны: кошек нам больше не надобно.
Было время, когда наши элегантные гостиные оживляла сумасбродная левретка: однако левретки постоянно зябнут, их нужно одевать, кутать; это собачки для женщин чувствительных. У наших элегантных дам не хватает времени даже на своих собственных любимиц. За левреткой нужно ухаживать, как за малым ребенком, левретки ревнивы и страстны, они ласкаются, требуют, чтобы их любили и понимали; левреток нам больше не надобно.
Затем настало время, когда в моду вошли обезьяны: они походили на людей, и гримасы их вызывали смех; но с тех пор все переменилось: теперь люди уподобились обезьянам, и контраст тех и других совершенно утратил пикантность: обезьян нам больше не надобно.
Жан-Анри Марле. Поездка в Версаль.
При правлении деспотическом большой успех имели также попугаи. Их учили всяким бунтарским фразам, которые люди не осмеливались произнести сами. Эти газеты в перьях были нарасхват. Сегодня же, когда людям подавай все что угодно, за исключением настоящей правды, сегодня, когда в стране господствуют краснобаи, попугаи находятся под подозрением, в них видят конкурентов: попугаев нам больше не надобно.
Какие же домашние животные нынче в моде? Дошло ли уже дело до воспитания в салонах юных тигров, косолапых медвежат, бойких львенков и миленьких пантер? — Нет; животное, которое пользуется нынче всеобщей любовью, производит очень мало шума и отличается весьма мирным нравом; это просто-напросто черепаха — совсем крохотная черепаха, привезенная или присланная из Африки; это животное не произносит ни звука, но само его присутствие в высшей степени красноречиво; оно означает: «У меня есть друг, брат, дядя в Алжире; он присылает мне кашемировые шали, арабские бурнусы, жасминовые благовония и кошельки из золотой парчи — все эти штуки, вместе с которыми обычно прибывает и черепаха». Зверь этот имеет великое преимущество перед всеми прежними фаворитами. О нем совершенно не нужно заботиться. Можете не кормить его хоть целый месяц: он не обратит внимания и вовсе на вас не обидится. Можете выронить его из окна — он будет себя чувствовать так же превосходно, как и прежде. Можете на него наступить, он этого даже не заметит. Черепаха — идеальная компаньонка, которая безропотно сносит все издевательства и умеет жить в одиночестве, не скучая. Наш эгоистический век может позволить себе лишь чувство такого рода — привязанность к спутнице жизни, ради которой не нужно идти ни на какие траты, избраннице, которая не нуждается в любви[431].
1840
4 января 1840 г.
Конец света. — Первая неделя года
Предсказания на новый 1840 год весьма разнообразны; одни утверждают, что год этот принесет немало несчастий, что он ознаменуется крушением больших империй; другие полагают, напротив, что он принесет с собой новую эру свободы, братства, блаженства и всеобщего возрождения. Народ не верит ни в то, ни в другое, он попросту уверен в скором наступлении конца света, и эта уверенность стоит любой другой; мы, со своей стороны, предпочитаем присоединиться именно к ней; подобный исход позволит, пожалуй, примирить многие враждующие партии и осуществить многие политические предприятия.
Впрочем, может ли грозить скорый конец миру, который так густо населен? Никогда еще мы не видели ничего более страшного, чем бульвары в прошлую среду; никогда еще более суматошная толпа не заполняла парижские улицы; по ним шествовали: старики, нежащиеся в лучах солнца, — дамы в шляпах с перьями — лакеи в ливреях — денди в облаках табачного дыма — комиссионеры с множеством пакетов — дети с игрушками, испускающие крики радости, — обезумевшие собаки, скачущие в надежде достать конфету. Шум, суета, прекрасное солнце на небе и чудовищная грязь на земле, по которой бесстрашно порхали элегантно одетые дамы в легких башмачках. Погода стояла такая прекрасная, что дамы не побоялись выйти в самых нарядных туалетах: одни собрались навестить престарелых родственников и надели парадные шляпы, но не учли, что в предновогоднюю пору на улицах царит чудовищная толчея; другие надели платья с бесчисленными оборками, но не учли, что на улицы высыпало не меньше трех тысяч детей, вооруженных саблями и ружьями, лопатками и тележками, и с помощью этого арсенала они в мгновение ока разорвут самый драгоценный наряд; третьи надели шляпы с розовыми перьями — перьями марабу, за которые заплатили так дорого, что до сих пор упрекают себя в мотовстве, однако они все-таки надели эти роскошные шляпы — ибо в мире нет другого способа искупить безумство, кроме как предаваться ему как можно дольше, — но не учли, что на улицы вышли три тысячи нянек, которые несут на руках своих воспитанников, а воспитанники эти держат в своих ручонках бойких паяцев, вертящихся по воле ветра не хуже флюгера и обходящихся крайне непочтительно с белыми перьями и кружевами. Все это не шутка, а самая настоящая правда. Маленький паяц одного маленького мальчика зацепился за бархатные цветы, украшавшие один небесно-голубой капот, да так там и остался, и все прохожие смеялись при виде этого головного убора, увенчанного диковинным цветком — веточкой паяца.
Целую неделю подряд все разговоры вертелись вокруг новогодних подарков. Что вы ему подарите? Что вам подарили? — вот два вопроса, которые звучали неумолчно. — Вы получили хорошие подарки, сударыня? — Да, сударь, батюшка подарил мне великолепный браслет, — отвечает молодая женщина, показывая собеседнику шедевр современного искусства, черную эмалевую змейку с брильянтами вместо чешуи; ничего лучшего в лавке Жаниссе не сыскать. — А вы, мадемуазель, довольны подарками? — Не знаю, сударь, должна ли я быть довольной, — отвечает малышка с лукавым видом, — я уже получила семь шкатулок для рукоделия. — А мне, — подхватывает ее кузина, — подарили целых три чернильницы, и боюсь, этим дело не кончится. — Мари, если хочешь, давай поменяемся: дай мне две чернильницы, а я отдам тебе две шкатулки. — Согласна, но ту, которая с золотыми рыбками, я оставлю себе. — Как, мадемуазель, у вас в шкатулке для рукоделия плавают золотые рыбки? — Да, только они не внутри, а снаружи: видите, к крышке приделан стеклянный шар. — О, как ловко придумано. — Осмотрев шкатулки для рукоделия — одну неудобнее другой, — мы перешли к чернильницам, потрясающим воображение своей незамысловатостью: вот бронзовая дама; верхняя часть туловища откидывается, а нижняя служит чернильницей. — Вот бронзовое яблоко: верхняя часть откидывается, а нижняя служит чернильницей. — Вот медведь: голова откидывается, а туловище служит чернильницей. — Вот чудовищный рак; это чернильница. — Вот крокодил; это чернильница. — Вот мандарин; это чернильница. — Вот савояр; это чернильница. — В этом году нет вещи, из которой бы не сделали чернильницу. Хорошо еще, что во все эти доморощенные чернильницы невозможно налить чернила, иначе впору было бы возненавидеть писательское ремесло. […]
Оживление, царящее в Париже в течение первой недели года, изумляет иностранцев. Разумеется, видя, какие мы шумные, суматошные, неугомонные, они с трудом могут поверить в то мрачное будущее, которое нам предсказывают; разумеется, ничто так мало не походит на народ, страждущий в оковах и терзаемый нищетой, как тот народ, который заполняет парижские улицы, — такой деятельный, такой мастеровитый и так щедро вознаграждаемый за плоды своего мастерства. Со всех сторон только и слышно, что рабочие умирают от голода, потому что у них нет работы. Революционные филантропы твердят нам об этом изо дня в день. А между тем, если вы закажете столяру дубовый стол, он заставит вас дожидаться окончания работы целый месяц, а когда месяц пройдет, попросит подождать еще немного, потому что не может найти работников. Если вы захотите перекрасить карнизы и оклеить стены новыми бумажными обоями, к вам пришлют мальчишку-наклейщика; он доставит клей и рулоны обоев, сорвет со стены старые обои, положит доску на козлы и уйдет. Вы станете посылать за ним, вы прождете его целый день с утра до вечера, но он не придет. Назавтра, в воскресенье, он воротится, наклеит на стены шесть листов упаковочной бумаги и уйдет, потому что кто же работает в воскресенье! На следующий день он не вернется, потому что кто же работает в понедельник! Во вторник он явится в четыре пополудни, когда будет уже темно, и наконец в среду его мастер, убежденный, что у вас уже все готово, придет за своим подмастерьем, чтобы отправить его к другому заказчику. И так повсюду; обойщики, драпирующие стены тканью, — люди еще более удивительные: они приносят в ваш дом стремянку и преспокойно устанавливают ее посреди гостиной, они усеивают пол гвоздями, кусачками, молотками, плоскогубцами, скобами и прочими устрашающими предметами… а потом уходят. Зрелище всех этих орудий пытки обращает вас в бегство, вы предоставляете обойщикам возможность трудиться без помех и проводите весь день в городе, а воротившись вечером, налетаете на стремянку — увы! совершенно бесполезную; она пригодилась лишь на то, чтобы напугать вас и заставить даром потратить время.
Закажите портнихе платье ко вторнику или к четвергу, и вы услышите в ответ: «Я не успею, у меня нет работниц». Закажите башмаки, вас попросят прийти через месяц и объяснят: «У нас нет работников». Да еще добавят: «В такое время! когда все заказывают новогодние подарки!» — как будто все заказывают новогодние подарки именно сапожникам. Между тем если кто и дарит на Новый год башмаки, то только сахарные или фарфоровые, а вовсе не сафьяновые. Кто разрешит наше недоумение: отчего наши рабочие не имеют работы, но при этом ни на одну работу не находится работника?
18 января 1840 г.
Два больших света
Новая пьеса «Уроки большого света»[432] вызвала оживленные споры. Целую неделю все парижские газеты обсуждают только одно: Что такое большой свет? Существует ли большой свет? Где же он, этот большой свет? — Говорят, что каждый из спрашивающих отвечает: большой свет — это те салоны, где бываю я, а отсюда следует вывод, что, если у каждого имеется свой собственный большой свет, значит, большого света не существует вовсе…
Так вот! Мы, в свою очередь, объявляем, что большой свет существует, что во Франции всегда был большой свет, а после Июльской революции их стало целых два.
Первый, более старинный большой свет — это та часть французского общества, которую именуют Сен-Жерменским предместьем; впрочем, самые прославленные его героини испокон веков живут в предместье Сент-Оноре.
Второй большой свет — это так называемый квартал Шоссе-д’Антен; впрочем, иные важные его представители обитают в Сен-Жерменском предместье и в предместье Сент-Оноре.
Первый большой свет насмехается над мощью второго и ей завидует.
Второй насмехается над величавостью первого и ей подражает.
Каждый презирает соперника, причем презирает за его лучшие качества. Первый бросает второму упреки в том, что он нов! — второй предъявляет первому обвинения в том, что он стар! — как будто иметь корни и опытность — не достоинство; как будто иметь силу и будущее — не преимущество.
В первом большом свете многие имеют острый ум, но пользуются им исключительно для собственного удовольствия; поэтому здесь люди любят друг друга, льстят друг другу, приглашают сюда других умных людей.
Во втором большом свете многие стремятся остроумничать и делают это исключительно ради карьеры; поэтому здесь умных людей ненавидят.
Второй большой свет есть мастерская, где изготавливаются все новые машины, где преобразуются все принципы, где вырабатываются все реформы.
Первый большой свет есть святилище, где благоговейно сберегаются все общественные верования; мы сказали: благоговейно сберегаются, а хотели бы сказать: пылко отстаиваются, но это было бы неточно. Жители Сен-Жерменского предместья, как все чрезвычайно учтивые люди, грешат равнодушием — и напрасно.
Люди, обладающие большой властью, не имеют права быть равнодушными и пренебрежительными; в такую эпоху, как наша, лень — это преступление. Презирать и призирать — вещи совсем несхожие. Впрочем, не все так плохо. С некоторых пор наши вельможи почитают за честь подражать английской знати; они уже переняли у ней элегантные манеры и пудреных лакеев, парадные обеды, конские скачки, лаконические приглашения на бал и еще два десятка новых модных обыкновений. Немножко терпения — и они начнут, также в подражание англичанам, ставить свой ум на пользу отечеству, благородно поощрять развитие промышленности, выказывать просвещенную любовь к родине. Французская знать слишком умна для того, чтобы заимствовать у английской одни только мании.
Заметьте, что знать во Франции еще осталась, что бы ни говорили по этому поводу господа журналисты, наши новоявленные аристократы. Знать, конечно, утратила свои привилегии, но зато сохранила свои предрассудки; они сделались еще могущественнее прежних, и виноваты в этом вы, ее гонители. Всякое верование укрепляется от преследований; гордыня выковывается в борьбе, сердце приручается в горе; люди не предают то дело, за которое претерпели много мучений. Как может женщина не гордиться тем, что она графиня или маркиза, если она помнит обо всех тех женщинах, которым отрубили голову исключительно потому, что они были графинями или маркизами? Знать во Франции была всего лишь сословием; ваша подлость и ненависть превратили ее в предмет поклонения, вашими стараниями она приняла кровавое крещение, и теперь, что бы вы ни делали, знать не погибнет, потому что у нее, как и у свободы, есть свои мученики, отдавшие за нее жизнь.
Эжен Лами. Прогулка в карете (Сен-Жерменское предместье).
Огюст Пюжен. Улица Кастильоне и Вандомская колонна.
Утверждают, что довольно надеть белые перчатки и черный фрак, чтобы быть принятым на равных в светском обществе; ну что же, господа, надевайте ваши белые перчатки и черные фраки и отправляйтесь просить руки двух очаровательных юных особ, мадемуазель де Б… и мадемуазель де С…, да не забудьте потом рассказать нам, как приняли вас их родители.
Большой свет Сен-Жерменского предместья похож на палату пэров, стать его членом дано отнюдь не всем; быть допущенным в этот большой свет и жить там с приятностью можно, если ты принадлежишь к старинному роду; или имеешь знатных свойственников; или занимал в прошлом высокие должности;
или можешь похвастать миллионным состоянием и отчасти заграничным происхождением;
или совершил необычайное путешествие;
или обладаешь незаурядным талантом и прославился как художник, композитор, романист, историк, оратор, ученый, поэт.
Этот гордый свет, гордящийся старинной славой, достаточно умен, чтобы ценить людей известных и привлекать их к себе; члены этого общества честны хотя бы сами с собой, они не настолько беспечны и не настолько бесстыдны, чтобы отрекаться от собственных принципов, и достаточно здравомыслящи, чтобы прославлять их повсюду, где замечают их присутствие. Они не похожи на вас, лицемерные либералы, — ведь вы на словах отстаиваете интересы большинства, а на деле затыкаете ему рот. Разве не странно слышать, как министр июльского правительства объявляет во всеуслышание, что не хочет избирательной реформы[433]? А по какому, собственно, праву? Что такое представительное правительство, как не правительство большинства? Есть всего два способа управлять, господа: либо посредством меньшинства, иначе говоря, личностей выдающихся, как это и было раньше, когда во главе нации стояли люди самые почтенные, самые образованные, самые храбрые, самые достойные, — либо посредством большинства, иначе говоря, с помощью масс и интересов всеобщих. Выберите что-нибудь одно, господа! Кому должна принадлежать страна — жителям наиболее многочисленным или наиболее способным? А сами вы разве принадлежите к меньшинству? разве вас можно назвать наиболее способными? — Нет. — В таком случае оставайтесь большинством и не отталкивайте столь неуклюже тех, кто желает возвыситься на основании того же принципа, который возвысил вас. — Выражаясь вашим языком, скажем так: раз уж вам не далось качество, берите количеством.
По тому, что мы рассказываем о жителях Сен-Жерменского предместья, нетрудно догадаться, что они нимало не схожи с некоторыми странными своими портретами. Да и можно ли поверить, что этот большой свет, где люди проповедуют благородные чувства не только по обязанности, но и по велению хорошего вкуса; где люди не имеют необходимости ни делать карьеру, ни зарабатывать деньги и, следовательно, располагают временем для того, чтобы просвещаться, учиться жить как надо и держаться любезно; где самые смешные черты прелестны, ибо проистекают лишь из преувеличенного стремления к элегантности; где изящные искусства любимы страстно, а люди острого ума — бесстрашно (между тем иные из них весьма опасны); где дурным поступкам, грубым сплетням, надменным притязаниям, притворным добродетелям, мелочным обидам, докучным пошлостям — всему, что оскорбляет, унижает, огорчает, — выносится приговор, не подлежащий обжалованию: «В хорошем обществе это не принято», — можно ли поверить, что этот большой свет пробавляется банальными разговорами, двусмысленностями, которые не вызывают смеха, и шутками, которые нарушают всякие приличия и которыми имел бы право оскорбиться даже партер бульварного театра?
Нет, у большого света чуть больше вкуса. Любезные и прекрасные герцогини, бывающие в этом свете, не таковы, какими их нам изображают[434]. Пустая сплетня — не тот предмет разговора, который интересует их больше всего на свете, а профессиональные денди — не самые дорогие гости в их элегантных салонах.
Этим герцогиням не объясняются в любви с такой легкостью и с такой быстротой, ибо они почти всегда пребывают в обществе прелестных белокурых детей, которые бегают поблизости и в любую минуту могут прервать дерзкие признания. Девочка четырех-пяти лет — очень суровая дуэнья, а материнская страсть — главенствующая страсть женщин нашей эпохи — если и не всегда полностью предохраняет от соблазнов другой страсти, все же оставляет для любовных интриг и кокетства очень мало свободного времени.
Впрочем, увлекшись рассказом о том, чего в свете не делают, мы совсем забыли рассказать вам, чем же там все-таки занимаются. Так вот, всю последнюю неделю большой свет танцует, танцует безудержно. Бал, данный в среду австрийским послом, был великолепен. Красивых женщин и брильянтов там было несметное количество. Особенно прекрасно было одно платье с брильянтовой вставкой — прелесть что такое! […]
25 января 1840 г.
Кто ни в чем не знает меры, тому ни в чем не будет веры. — Чересчур или ничего — вот девиз французов.
— Преувеличение — плод идейного истощения
Наш последний фельетон имел в свете успех, на который мы ничуть не рассчитывали: за последнюю неделю мы услышали в свой адрес самые восторженные отклики, нас хвалили в разговорах, хвалили в письмах, причем порой даже в анонимных, и похвалы эти, скажем честно, нас немного испугали. Мы не имеем ничего общего с современными авторами; нас, в отличие от них, успех смущает: мы слишком боимся, как бы не выяснилось, что источник его — наша собственная снисходительность или льстивость.
К счастью, наш рассказ о двух разновидностях большого света снискал нам не только комплименты, но и упреки, а значит, независимость наша вне подозрений. Завсегдатаи первого большого света заподозрили нас в чересчур рьяном демократизме, завсегдатаи второго — в слишком пылком аристократизме, что, конечно, утешительно. Однако мы, увы! — не принадлежим ни к тем, ни к другим. Мы просто обладаем некоторой проницательностью; мы лишены страстей, а вернее сказать, политических предрассудков и потому видим вещи как они есть; у нас недостает изобретательности для того, чтобы маскировать факты фразами, у нас недостает дерзости для того, чтобы систематически отрицать очевидные истины, и потому мы признаем их со всей откровенностью, даже если нам они неприятны. По этой причине, каковы бы ни были наши личные симпатии и антипатии, мы не можем опровергнуть две вещи совершенно неопровержимые, а именно: дворянство величаво, а народ могуществен.
Никому не удастся сделать так, чтобы исторические имена перестали быть историческими. Никому не удастся сделать так, чтобы люди, чьи предки в течение пятисот лет занимали самые почетные должности, не гордились семейственными воспоминаниями.
Никому не удастся сделать и так, чтобы тридцать три миллиона французов, которые имеют свои притязания и амбиции, защищают свои интересы, завоевывают свои права, действуют, думают — по преимуществу о хлебе насущном, — работают, а нередко бездельничают, что особенно страшно, ибо ничто не может сравниться с кипучей активностью лентяя, — никому не удастся сделать так, чтобы эти тридцать три миллиона французов согласились, как и прежде, слепо исполнять волю нескольких сотен семейств.
Значит, следует смириться с тем, что Францию постоянно будут разрывать на части эти две соперничающие силы, два вечных врага, которые бьются друг с другом уже много лет и поочередно то захватывают, то теряют власть.
Предоставим им сражаться спокойно. Видит Бог, ни тем ни другим победа никогда не достается надолго. В нашей стране, где никто ни в чем не знает меры, триумф редко бывает длительным: кто ни в чем не знает меры, тому ни в чем не будет веры.
Вспомните нашу историю последних пятидесяти лет. Вначале власть принадлежала дворянству; оно ею злоупотребило; народ отнял власть у дворянства и в свой черед ею злоупотребил. Дворянство этого не стерпело: оно снова вернуло власть себе и снова ею злоупотребило. Тогда народ опять ее отнял, а сейчас опять начинает ею злоупотреблять[435]. Эта борьба не на жизнь, а на смерть между высшими и низшими сословиями, в которой верх попеременно берут то одни, то другие, представляется нам естественным следствием характера наших соотечественников, которые ни в чем не знают меры. Во Франции прочно лишь то, что неумеренно. Вы называете это революциями! мы же смотрим на дело более беспристрастно и называем это восстановлением равновесия, а потому готовы ко всему. Мы ищем помощи у духа истории, который не имеет ничего общего с духом партий; поэтому, нимало не причисляя себя к аристократам, мы признаем, что за плечами у дворянства блестящее прошлое; поэтому, не относя себя также к демократам и не принадлежа к числу смиренных смутьянов из национальной гвардии, поставивших свои подписи под недавней петицией[436], мы провидим большое будущее за народом.
Неспособность знать меру проявляется у французов во всех областях жизни: в политике, в искусстве, в науке, даже в моде.
Возьмем искусство: вспомните музыку старых времен; ее простота порой доходила до глупости: почтительный оркестр, наивное пение без украшений, без фиоритур и рулад; даже каденция — единственная прихоть, какую позволяли себе тогдашние певцы, — была такой робкой, такой дрожащей, что походила на блеяние деревенского стада. — Другое дело сегодня! В оркестре буря, в хоре гром; рулады оглушительны, каденции дерзки, фиоритуры столь многочисленны и разнообразны, что мелодии не слышно вовсе. Чересчур или ничего — вот девиз французов.
В живописи преувеличения еще забавнее. Двадцать лет назад во всех полотнах царил греческий стиль. Славные воины сражались на них не только без доспехов, но и без одежды; затем живописцы впали в противоположную крайность и принялись выписывать исключительно одежды и доспехи.
В словесности то же самое безумство: полтора десятка лет вместо литературы нам преподносили сладкий сироп, а затем в одночасье литературу затопили потоки крови[437].
В медицине система нещадных кровопусканий господствовала так полновластно, что остро ощущалась потребность в системе противоположного толка. И вот на смену доктрине Бруссе пришла гомеопатия[438]. Прежде кровь пускали всем и всегда: теперь ее не пускают никому и никогда. Лично мы нисколько не ропщем против этой перемены; нам она кажется плодом счастливого вдохновения. В медицине моды всегда рождаются по наитию.
Парюры — дело другое; здесь модам чаще всего следуют из слепого подражания; красота огромного множества хорошеньких женщин нередко приносится в жертву изъянам трех или четырех причудниц. Да, сударыня, именно так все и обстоит: вы дивно сложены, у вас гибкая талия, но вы носите семи- или восьмислойную юбку — ибо мадемуазель Такая-то или госпожа Такая-то сложены дурно и без этих прикрас обойтись не могут; а у вас, госпожа герцогиня, лебединая шея и великолепные черные кудри, но вы носите тяжелые тюрбаны с позолоченными кистями, края которых закрывают вам уши, — ибо у госпожи Такой-то волосы на висках совсем редкие, и ей приходится скрывать этот изъян. Вы зависите от тех особ, которые задают тон: вы принуждены покоряться всем модным капризам. Впрочем, вернемся к нашему рассказу о крайностях: прежде в моде были огромные шляпы, нынче в фаворе шляпы крошечные. Прежде платья были обшиты простой каймой; дамы не носили ни кружев, ни драгоценностей, ни мехов, ни оборок. Они отправлялись на бал в том, что сейчас сочли бы нижней юбкой. Нынче страсть к украшениям дошла до безумия. Воланам нет числа, пышности нет предела: кругом только и видишь, что волны кружев и тучи перьев, цветочные клумбы и брильянтовое половодье; судя по всему, дамы вняли разговорам о близком конце света и решили выставить напоказ все свои сокровища. Как видите, и здесь в основе тот же девиз: чересчур или ничего; и здесь та же последовательность: одна крайность сменяет другую, резкое действие рождает не менее резкое противодействие.
Кто-то может подумать, будто французы стремятся довести всякую пленившую их идею до крайности оттого, что страсти их пылки, а воображение неукротимо. Ничего подобного. Эта неумеренность, как и любая другая, есть просто-напросто свидетельство жалкой слабости. Люди злоупотребляют всякой идеей только потому, что не имеют ни довольно здравого смысла, чтобы распорядиться ею с толком, ни довольно гения, чтобы изобрести что-нибудь иное. Люди, умеющие выдумывать, не впадают в крайности. Но французы слишком сильно хотят блистать и слишком плохо умеют это делать, поэтому всякая новая идея немедленно вызывает всеобщий интерес. Свора оголодавших плагиаторов набрасывается на нее и рвет ее на части, словно вожделенную добычу. Если некий человек добивается успеха на каком-то пути, интриганы тотчас устремляются следом и загромождают дорогу так, что пройти по ней становится решительно невозможно. Если некий автор завоевал славу каким-то произведением, тотчас из печати выходят тысячи сочинений в том же роде, и вот уже оригинальная мысль лишена невинности и втоптана в грязь подражанием… А подражание душит фантазию. Принято считать, что в реальном мире богатые живут за счет бедных; в мире идей, напротив, бедные живут за счет богатых и, подражая им, их же и разоряют. Украденные идеи уже не могут пригодиться бывшим владельцам, но они не приносят пользы и похитителям, ибо эти последние всегда стремятся добавить к похищенному что-то свое и, желая усовершенствовать чужие идеи, доводят их до смешных крайностей; пародия подражателя несет смерть оригиналу. Нет, не от излишка воображения мы ни в чем не знаем меры, а напротив, от его недостатка. Так что не стоит нам чересчур гордиться этим неуемным пылом, который, скорее всего, проистекает из прискорбной слабости, не стоит похваляться этой кипучей активностью характера, которая, скорее всего, объясняется скудостью ума.
29 февраля 1840 г.
Карнавальные труды. — Привратники и музыканты спят на ходу. — Костюмированный бал у полковника Торна.
— Философические этюды полковника. — Новое в экономике: ужин без гостей. — Концерт без музыки.
— Обед без хлеба. — Стаканы без вина. — Калориферы без огня. — Разговоры без остроумия
Нынешний карнавал, того и гляди, заставит обрадоваться посту. Никогда еще развлечения не стоили стольких трудов, никогда еще не было столько оснований сказать, что развлекающиеся заслужили право на отдых. Какая суета! какой шум и какое изнеможение! Юные девы томны и бледны. На их бедных матерей невозможно смотреть без жалости; выездные лакеи насквозь простужены, что же касается привратников, они уже давно спят на ходу, и нельзя не удивиться числу разумных поступков и драгоценных услуг, на которые способен парижский привратник, объятый самым глубоким сном.
В девять вечера этот добрый малый уже спит, но сон ничуть не мешает ему выполнять свои обязанности: когда вы выезжаете в экипаже, он бросается к воротам, чтобы дать вам дорогу, но это стремительное движение его не пробуждает.
Когда вы возвращаетесь, он слышит ваш звонок, но звук этот его не пробуждает.
Когда ему приносят для вас письма или визитные карточки, он приоткрывает дверь привратницкой и туда немедленно проникает морозный воздух. Так вот, этот морозный воздух его не пробуждает.
Когда он совершает ошибку (а ошибки привратника — вещь очень опасная), когда вы становитесь жертвой его роковой забывчивости и энергически пеняете ему на эту оплошность, он оправдывается, злится, возмущается, обвиняет вас в несправедливости, но даже собственный гнев его не пробуждает, а потому ваши яростные пени остаются совершенно тщетны. Взгляните: он спит, и ему снится, что вы его браните. Угрозы ваши бесполезны; вы для него не более чем кошмар.
Не менее интересный пример сомнамбулизма являют собою горничные. Поскольку им не удается поспать никогда, они решили спать всегда. Вот уже целый месяц, как они причесывают и одевают своих хозяек, не просыпаясь. Руководствуясь чудесным инстинктом, они с закрытыми глазами отыскивают все те милые мелочи, что составляют элегантную парюру, и никогда не ошибаются; эти сомнамбулы по праву могут зваться ясновидящими. Они ни за что не перепутают концертный тюрбан с бальным венцом. Карнавальные излишества сообщают им сверхъестественную догадливость; они действуют с изумительной точностью; ходя или, вернее, скользя по коридорам, как тени, они держат свечи твердою рукой и, что самое удивительное, не устраивают в доме пожара; правда, в этом состоянии они говорят мало, слушают плохо, ничего не понимают и все забывают. Вечерние приказы не доживают до утра. Спросите у горничной, почему она не сделала того-то и того-то, и она бойко ответит, что ей ничего подобного не приказывали. Простите ее, ведь она пребывает в магнетическом сне[439]. У сомнамбул нет памяти; всякая сверхъестественная способность требует жертв: сомнамбулы покупают знание ценою забвения.
Теперь поговорим о третьей разновидности сомнамбул — музыкантах, которые играют на балах во время карнавала. Как горячо мы сочувствуем страданиям этих несчастных! Какая нелегкая у них работа: отбывать повинность на ста пятидесяти вечерах, сидеть в тесноте, примостившись на скверном неудобном стуле, двадцать тысяч раз играть одни и те же мелодии, восемь мучительных часов кряду дышать одним и тем же ароматом трюфлей и мускуса, а порою чеснока и табака, ибо нынче самыми музыкальными сделались балы простонародные. Скрип-скрипа, над которым смеялись наши отцы, нынче в Париже не услышишь. Народ-король не желает более довольствоваться его экономными аккордами, ему потребна настоящая музыка, основательные музыканты: медные басы, мощные контрабасы, нежные флейты, а главное, блистательный корнет-а-пистон. Народ стал знатоком, он требует для своих развлечений самого лучшего сопровождения, и если оркестр, не дай господь, оказывается дурным, он выкидывает его в окошко, а инструменты, оскорбившие его слух фальшью, превращает в грозное оружие для наказания проштрафившихся музыкантов. Так что балы у застав[440] славятся нынче гармоничностью аккомпанемента, и прохожие нередко останавливаются под окнами какого-нибудь знаменитого ресторана и заслушиваются прелестными мелодиями, которыми некий Тольбек из предместья сопровождает простонародную свадьбу. По правде говоря, сейчас в Париже все оркестры хороши, за исключением того, который играет в Опере.
Сегодня все умы заняты предстоящим костюмированным балом в доме господина Торна[441]; о нем говорят почти столько же, сколько о министерском кризисе[442]. Попасть на этот бал можно, только облачившись в маскарадный костюм. Некоторые утверждали даже, что господа послы отправятся туда в мундирах, но один из дипломатов чинно ответствовал, что его служба вовсе не маскарад. А между тем соседство мундиров с маскарадными нарядами имело бы весьма забавный вид и описание вечера украсилось бы пикантными контрастами. Рассказывали бы так: господин такой был одет ямщиком из Лонжюмо[443], а его брат — генерал-лейтенантом; госпожа Такая-то была наряжена пастушкой, а ее муж — пэром Франции; мадемуазель де… предстала китаянкой, а ее отец — членом Государственного совета. Посему было решено, что солидным людям, а именно послам, министрам и людям женатым, позволят быть во фраках; что же касается остальных, а именно холостяков, им пощады не будет: все без исключения обязаны обзавестись маскарадными костюмами. Выбор нелегкий. Одного остроумного человека из числа наших знакомых необходимость перерядиться в трубадура или турка испугала до такой степени, что он решил срочно жениться. Поначалу он собирался стать министром, но министерские кризисы длятся так долго, что он рисковал получить назначение через много недель после бала.
Газетчики, которые часто пишут о господине Торне, отчего и мы считаем себя обязанными сказать о нем несколько слов, — так вот, газетчики утверждают, что французское высшее общество открыло свои двери богатому американцу. Газетчики глубоко заблуждаются. Все обстоит совершенно противоположным образом: это богатый американец открыл свои двери французскому высшему обществу, причем на условиях, которые изобретает и объявляет он сам. Господин Торн, например, постановил, что позже десяти вечера вход в его особняк запрещен. Ровно в десять вечера двери закрываются. Предположим, что вы обедали с остроумными собеседниками; беседа затянулась дольше рокового часа, вы задержались и опоздали. Вы подъезжаете к дому господина Торна; на часах пять минут одиннадцатого… Вас не впускают… — Что-то случилось? — Нет. — Концерт перенесли на другой день? — Нет. До вас доносятся звуки пения, вдобавок и улица, и двор заполнены экипажами. На бал уже прибыли два десятка гостей. — Почему же мы не можем войти вслед за всеми?
— Потому что так угодно хозяину. — А почему у него такие странные вкусы? — Потому что он действует наперекор другому миллионеру, своему сопернику: тот не желает пускать гостей прежде десяти часов. И парижский высший свет безмолвно покоряется всем требованиям чужестранных богачей. К этому светские люди приезжают до десяти вечера, к тому — после; они исполняют все прихоти миллионеров, не ропща. Другое дело, когда господин герцог Орлеанский требует, чтобы к его супруге не входили в сапогах[444]; вот тут знать поднимает крик. Она не может сдержать своего возмущения и, запутавшись в эпохах и лицах, именует наследника престола выскочкой.
Господин Торн меж тем — один из интереснейших характеров нашего времени; он настоящий философ. Никто еще не заходил так далеко в презрении если не знатности, то к знати. Нет ничего более любопытного, чем его обращение со светской публикой; нет ничего более жестокого, чем та властность, с которой он принуждает вас, ради удовольствия побывать у него на балу, приносить самые великие жертвы, а порой даже и отрекаться без колебаний от того единственного свойства, которое составляет главное ваше богатство. Если вы знатный вельможа, он заставит вас целый час дожидаться его в гостиной или потребует от вас беспрекословного подчинения строгому распорядку или, наконец, принудит вас к ребяческим поступкам, вовсе вас не достойным. Если вы тщеславная и скупая богачка, он заставит вас завести маскарадный костюм, стоящий бешеных денег. Если вы серьезный ученый, он заставит вас нарядиться акробатом и изображать потешного дурачка целый вечер, чтобы не сказать целую жизнь; причем для него все это не забавы, а серьезные штудии, ряд философических опытов, за которыми мы, со своей стороны, наблюдаем с величайшим любопытством. Господин Торн задался двумя вопросами: он захотел узнать, во-первых, как далеко могут зайти во Франции эгоисты и гордецы, можно ли вынудить первых к податливости, а вторых — к смирению; во-вторых же, он пожелал выяснить, на какие льстивые речи и пошлые шутки способны богачи, которые сами не устраивают балов, но жаждут быть приглашенными к тому, кто их устраивает.
Для довершения этих экспериментов лукавый негоциант может предпринять испытания еще более причудливые! Ах боже мой! если завтра он напишет на пригласительных билетах: Вход только в ночных колпаках, все парижское общество явится к нему в ночных колпаках. Мы уверены, что всякий найдет собственный способ примириться с этой формой одежды. Одни покроют ночной колпак вышивкой, другие обошьют кружевами, третьи усыплют цветами и брильянтами. Одни позолотят кисть своего колпака, другие украсят жемчугами, а истинные льстецы наденут самый обычный хлопчатый колпак, но зато поверх пышного фонтанжа[445].
Раз уж мы объявили войну тщеславию, расскажем еще об одной разновидности балов, где предметом тщеславной гордости становится ужин. Мы уже писали о том, что знатные господа тратят на балы очень мало денег, зато мелкие буржуа хотят, чтобы все думали, будто они тратят их очень много. Гостиная совсем невелика, и чтобы не потерять ни единого кусочка пространства, оркестр запихивают в альков соседней спальни; разодетые матери семейства мучаются на жестких скамьях, какие обычно стоят в школьных классах; прохладительные напитки подают очень скупо под тем предлогом, что позже будет сервирован ужин. После полуночи их перестают подавать вовсе — под тем же предлогом. В час ночи все гости умирают от жажды и смотрят вокруг с тревогой. Хозяйка дома имеет вид весьма озабоченный; она больше ни с кем не разговаривает, но ласково улыбается тем, кто собрался уходить. Является слуга с вопросом: «Не пора ли подавать?» — «Нет, — отвечает она, — здесь еще слишком много народу». Она по-прежнему выжидает; выжидает так терпеливо, что самые отважные утрачивают мужество, а самые голодные не находят в себе сил бороться со сном. Наконец она командует: «Подавайте». И когда вожделенный миг наступает, усаживается наедине с супругом за стол, накрытый на пятнадцать человек, меж тем как гостей на балу побывало целых три сотни. Ибо в празднествах такого рода верх тщеславия состоит в том, чтобы посулить гостям ужин, но верх дипломатии заключается в том, чтобы ужин этот им не достался.
Другой экономный способ потешить свое тщеславие — концерты по сходной цене. Госпожа дю Буле или дю Булар имеет двух дочерей на выданье: состояние у нее немаленькое, салон просторный, она желает принимать. Но сойтись, чтобы увидеться и поболтать, — такое времяпрепровождение нынче не в моде: для этого хозяева знают своих гостей либо слишком хорошо, либо недостаточно. Чайный стол, бриоши по домашнему рецепту, стакан оржада и порция мороженого — всем этим нынче никого не удивишь, такое можно найти у любого соседа. Чем же привлечь толпу? Подражанием большому свету; нужно устроить концерт; но концерт — вещь серьезная, настоящий концерт стоит бешеных денег; не важно, раз музыка в моде, значит, нужно завести музыку. Чтобы гости разъехались по домам довольными, они должны непременно унести в памяти несколько неприятных звуков кларнета или гобоя, скрипки, виолончели или пианино. Итак, хозяева дома решаются завести у себя музыку, но завести так, чтобы не потратить на это ни единого су. Задача не из легких. Однако есть блестящий способ выйти из положения. Между виртуозами и любителями располагается еще одна разновидность музыкантов — страждущие посредственности, которые алчут славы. Им милосердно предоставляют возможность объявить о себе, их ублажают, им сулят учеников, их приглашают к обеду, им дозволяют стенать, мяукать, реветь, — в зависимости от того инструмента, на который пал их выбор, — и в конце концов приглашают полюбоваться на них целую толпу гостей.
Посредственности поют и играют, им рукоплещут, их благодарят, но денег им не платят. Они спохватываются и, чтобы вознаградить себя за бескорыстные триумфы, решают устроить свой бенефис. Они изготовляют великолепные билеты и рассылают их хозяйкам салонов, которые намеревались покровительствовать их талантам бесплатно. Хозяйки салонов, верные первоначальному намерению эксплуатировать музыкантов, не тратя денег, в свой черед распространяют эти билеты среди юношей из своего окружения… именно эти несчастные и платят в результате за ту музыку, которую однажды уже с трудом дослушали до конца бесплатно. Разве эту систему музыкальной экономии, держащуюся на потреблении против воли, не следует признать гениальным изобретением?[446]
Право, свет впал в детство, и мании его отличаются удивительным простодушием: у нас получили право гражданства все смешные глупости англичан и немцев, русских, испанцев и неаполитанцев. В домах, где взяты на вооружение мании английские, обед подают без хлеба, а того, кто имеет неосторожность его спросить, поднимают на смех; там, где царят манеры немецкие, танцуют только вальс в два па и поднимают на смех того, кто пытается танцевать его на старинный манер[447]; там, где царствуют русские манеры, вас потчуют только фруктами и цветами, а если вы оглядываетесь в поисках жаркого, вас поднимают на смех, — и так повсюду.
В одном доме предмет гордости — столовое серебро, зато ножи из слоновой кости здесь под запретом. В другом доме гордятся хрусталем. Для каждого вина здесь особый бокал, зато не для всякого бокала хватает вина.
В одном прекрасном особняке обои — просто загляденье, зато чувствуется острый недостаток в стульях.
В другом особняке целых три калорифера, но их не зажигают, так что вместо тепла из этих коварных устройств вырывается холодный воздух.
Одна хозяйка дома гордится тем, что принимает у себя только денди и причудниц; потому гости ее чувствуют себя обязанными говорить исключительно об упряжи и коже, о медных пряжках и модных ливреях, о помпонах, кружевах и брильянтах — все для того, чтобы доказать свою принадлежность к элегантному миру. — Брильянты госпожи Такой-то просто великолепны. — Да, но мне больше нравятся брильянты княгини де… — Нет-нет, не могу согласиться; у них оправа слишком тяжела. — А видели вы новую диадему маленькой госпожи Р…? — Да, превосходная. — Разве что издали, а посмотреть поближе, так ясно, что подделка. — Ах, милочка, какая у вас прелестная брошка. — О, эта как раз из не самых прелестных; у меня ведь их целых восемнадцать штук.
Другая хозяйка дома гордится тем, что завела у себя политический салон; знаменитостей ей залучить не удается, поэтому она рекрутирует всех дипломатов и чиновников второго ряда. У нее что ни гость, то атташе или супрефект, помощник секретаря или помощник интенданта, одним словом, чей-нибудь заместитель. Здесь шепотом сообщают друг другу те новости, о которых утром уже оповестили газеты. Здесь предсказывают падение кабинета, члены которого уже подали в отставку. И все разговоры кончаются одним и тем же: ведь у вас дядя министр, значит, вы можете пригласить нас в свою ложу?
Хороший тон нынче предписывает молодым людям бывать на всех балах и всех концертах, дабы иметь возможность сказать о любом празднестве: Я туда зван или: Я там побывал.
Вот образчики разговоров: Были вы вчера на улице…? — Да, был; толпа чудовищная! — Будете вы сегодня вечером на площади…? — Да, толпа будет ужасная! — Поедете вы завтра в префектуру? — Поеду; там столько хорошеньких! — Что-то я вас не видел на концерте у Л… — Как же! я там был. А вот вас я что-то не видел на представлении у господина де Кастеллана. — Хорошенькое дело! да ведь я там суфлировал! — Завтра у меня трудный день. — А у меня-то! мне ведь скоро выступать в кадрили на балу у Торна. — А мне — в опере для поляков[448]. — У меня в полдень примерка костюма кучера; куртка слишком широка — просто беда. — А у меня — репетиция романса; нота соль слишком высока — просто беда. — Я прокачусь по лесу[449] с Дерувийетом и Фальвьером. — Постараюсь к вам присоединиться… но чуть позже. — Поедете вы завтра слушать дебютантку? — Да, у меня две ложи. — А у меня три места в трех разных ложах. — А после представления вы куда? — Мы на бал к П… — А после еще бал в Опере… Что за день! не знаю, успею ли я взять урок фехтования у Монжираля. — А я не знаю, успею ли я выкурить мои обычные два десятка сигар.
Вот чем сегодня живет свет; вот что его волнует! Для тех, кто не способен посмеяться над этим вместе с нами, картина довольно грустная. Один из наших друзей спросил нас однажды: «Как вы проводите время? Неужели находите в этом пошлом свете предметы для радости? — Вне всякого сомнения; я живу наособицу: плаваю в утлом челне вместе с несколькими умными людьми по океану глупцов. — Берегитесь, — отвечал мне друг, — глупцы порой поднимают очень большую бурю».
14 марта 1840 г.
Настоящая женщина более не существует. — Женщина-ангел, женщина-демон.
— Чары. — Женщина вовсе не спутница мужчины
Наконец-то мы прочли последний выпуск «Ос» господина Альфонса Карра, и это, признаемся, удалось нам далеко не сразу! Нет ничего более забавного, чем эта книжечка, но нет также и ничего менее доступного. Каждый хочет завладеть ею, каждый отнимает ее у вас без зазрения совести, этот на часок, тот до завтрашнего утра; господин кладет ее в карман, дама прячет в муфту, короче говоря, ее читают все, за исключением того, кто ее приобрел; я знаю людей, которые покупали целых три экземпляра «Ос», но все равно не успевали прочесть ни единого слова[450].
В последнем выпуске господин Альфонс Карр весьма остроумно сокрушается по поводу пристрастий современных мужчин к театральным дивам — к этим странствующим прелестницам, которые декламируют, поют, танцуют, а в основном гримасничают и жеманничают с большим или меньшим успехом в Лондоне и Вене, Неаполе и Санкт-Петербурге и, конечно же, в Париже.
Господин Альфонс Карр возмущается тем, что мужчины пренебрегают светскими красавицами ради красавиц театральных, и утверждает, будто светские красавицы ради того, чтобы вернуть беглецов, пускаются во все тяжкие и даже стремятся хоть в чем-нибудь уподобиться красавицам театральным. Женщинами нынче в самом деле пренебрегают, но не они тому виной; чтобы это доказать, попытаемся объяснить, в чем причина этого пренебрежения.
Для начала выскажем ужасную истину:
Женщина, настоящая женщина более не существует.
У нас остались матери; их число, пожалуй, даже увеличилось.
Остались сестры.
Остались любовницы.
Остались преданные подруги.
Остались компаньонки.
Остались кассирши.
Остались хозяйки.
Остались мегеры; это — вечное.
Но женщин в нашем цивилизованном мире более не существует!
Ведь что такое настоящая женщина? Это существо слабое, невежественное, пугливое и ленивое, которое не способно прожить самостоятельно, которое бледнеет от одного-единственного слова, краснеет от одного-единственного взгляда, которое всего боится, ничего не знает, однако воодушевляется возвышенным инстинктом, действует по наитию — а это куда лучше, чем действовать по указке опытности; это существо таинственное, которому украшением служат самые прелестные контрасты; существо, в котором сильные страсти соседствуют с мелкими идеями, у которого тщеславие ненасытно, а великодушие неисчерпаемо, ибо настоящая женщина одновременно добра, как святая, и зла, как богиня; которое все состоит из прихотей и причуд; которое плачет от радости и смеется от ярости; которое не умеет лгать, но умеет обманывать; которое мужественно сносит сильное горе, но впадает в неистовство от мелкой неприятности; которое столь же наивно, сколь и коварно, столь же робко, сколь и дерзко; одним словом, существо необъяснимое, которое выказывает великие достоинства по чистой случайности или если ему грозит великая опасность, ежедневно же трогает сердца милыми недостатками, которые вселяют страх и рождают надежду, пленяют, покоряют, тревожат и остаются совершенно неотразимыми.
Так вот, много ли найдется в наши дни женщин, схожих с этим портретом?
Увы! бедняжкам более не дозволено иметь все эти прелестные недостатки; женщинам поневоле пришлось отказаться от них с того самого дня, как ими обзавелись мужчины.
Простодушное невежество, милая опрометчивость, очаровательная леность, ребяческое кокетство — некогда именно вы составляли источник женской прелести; нынче вы составляете источник мужской силы.
Отвага, рассудительность, терпение, деятельный ум — некогда именно вы считались мужскими добродетелями; нынче вы считаетесь женскими недостатками.
Два десятилетия мирной жизни принесли свои плоды: храбрость вышла из моды. Сегодняшние молодые люди не умеют ни страдать, ни трудиться; они не умеют терпеть ни боль, ни бедность, ни скуку, ни почетные лишения, ни жару, ни холод, ни усталость, ни нужду; собственно, они не умеют терпеть ничего, кроме некоторых оскорблений.
Вот почему женщинам пришлось преобразиться; они приобрели добродетели сверхъестественные и им, вне всякого сомнения, не свойственные. Они, чьи ребяческие страхи были исполнены такой прелести, сделались отважны; они, чье легкомыслие было так пленительно, сделались рассудительны; из экономии они отреклись от украшений, из самоотверженности — от амбиций; повинуясь тому чистейшему инстинкту, что составляет их силу, они поняли, что для того, чтобы прокормить ребенка, хотя бы один из супругов должен трудиться. Мужчина уселся сложа руки, женщина взялась за работу; вот почему мы говорим, что женщина более не существует.
Взгляните на нравы простого народа. Вот жена рабочего: она трудится, воспитывает детей, торгует в лавке и поддерживает порядок в доме, она не имеет ни минуты отдыха. — А что же ее муж? Где он? — В кабаке.
Взгляните на эту юную девушку; она белошвейка. Лицо у нее бледное, глаза красные; ей восемнадцать, но она уже состарилась. Она почти не выходит из дому, она работает днем и ночью. — А где ее отец? — В соседней кофейне, читает газеты.
Взгляните на эту красивую женщину. Как она спешит! с какой тревогой смотрит на часы! она боится опоздать: с утра она уже дала четыре урока пения, осталось еще три. Труд этот очень тяжел. — А что же делает ее муж? — Гуляет по бульвару в обществе актрисы из второразрядного театра.
Взгляните на эту несчастную женщину, которой, кажется, нестерпимо скучно. Это жертва словесности, она пытается заработать себе на жизнь сочинительством. Ее сочинения посредственны, но продаются неплохо и помогают ей прокормить дочку. — А чем же занят ее муж? — Играет на бильярде и отпускает шуточки по адресу женщин-писательниц.
Взгляните, наконец, на то, как министры суетятся вокруг изящной хрупкой дамы и все как один ищут ее внимания; дама эта богата, ей нет нужды трудиться; но муж ее человек совсем ничтожный и без нее карьеры не сделает. Она стремится добыть для него хорошее место, а он тем временем играет в вист где-нибудь в клубе.
И что же, неужели вы полагаете, что всем этим женщинам доставляет удовольствие быть такими деятельными, такими отважными? Неужели вы не думаете, что они с куда большей охотой предавались бы неге и расточали свои ласки кавалерам, что им не доставило бы куда большего удовольствия с утра до вечера возлежать в роскошных одеждах на обтянутых шелком диванах, принимать соблазнительные позы, вдыхать аромат цветов и не иметь никакого дела, кроме необходимости нравиться и пленять? Изменяя своей природе, они приносят огромную жертву, и поверьте, жертва эта дается им недешево… Их нужно не бранить, а превозносить. Рассудительная молодая женщина! бережливая красавица! женщина, отказывающая себе в вещи, которая может ее украсить! да ведь это чудо добродетели! это образец героизма!
О, вы не знаете, какое мужество требуется женщине для того, чтобы запретить себе думать о роскошных нарядах, вы не знаете, какие бесчисленные и непреодолимые искушения ей постоянно приходится преодолевать! Проявлять здравомыслие, когда речь идет об украшениях, значит выказывать величие души! Пройти мимо завлекательной витрины, увидеть в ней восхитительную ленту небесно-голубого или лилового цвета, ленту, властно притягивающую восхищенный взор; пожирать глазами эту очаровательную добычу; предаваться химерическим мечтаниям на ее счет; мысленно украшать себя сделанными из нее бантами и рассуждать так: «Две розетки в волосы, широкую ленту пустить на пояс, а узкую — на пелерину и на рукава…» — а затем внезапно положить конец преступным грезам, упрекнуть себя за них как за страшное злодеяние и в отчаянии бежать от ленты-искусительницы, даже не спросив о ее цене, — для одного этого потребно больше душевных сил, чем для самых страшных сражений; однажды нам довелось услышать короткую фразу, полную стоической покорности судьбе и благородного смирения, и фраза эта тронула наше сердце сильнее, чем все самые прекрасные речи героинь Спарты и Рима. Некая женщина собиралась ехать на великолепный бал и выбирала цветы[451]. С восхищением осмотрев модные венцы, такие очаровательные, такой прелестной формы, она спросила их цену. Красивые, нежные цветы в нынешнем году очень дороги, и высокая цена отпугнула женщину. Печально положив венец из роз на прилавок, она произнесла: «Это слишком дорого; я надену старую гирлянду».
Старую гирлянду! Чувствуете ли вы, какой болью, какой душераздирающей покорностью судьбе проникнуты эти два слова: старую гирлянду? Невозможно слышать эти слова без слез.
Да, женщины выиграли в нравственности, но проиграли в прелести. Странная вещь! они сделались гораздо более добродетельными, но при этом стали куда менее могущественными; все дело в том, что они сильны не когда совершают поступки, а когда оказывают влияние; женщины не созданы для того, чтобы действовать, они созданы для того, чтобы командовать, или, говоря иначе, для того, чтобы вдохновлять: советовать, препятствовать, просить, добиваться — вот их призвание; принимаясь действовать, они от этого призвания отрекаются. Женщина царствует, но не правит[452], — применительно к королям эта максима не значит ровно ничего, но применительно к женщинам говорит очень много.
Однако для того, чтобы царствовать, женщины, как и короли, должны чаровать окружающих; между тем, к несчастью, ни женщины, ни короли сегодня никого не чаруют; говоря о женщинах, мы имеем в виду женщин, принадлежащих большому свету, ибо актрисы, например, чаруют многих, выходя на сцену, отчего мужчины, по-видимому, и отдают предпочтение им, безжалостно пренебрегая остальными.
Если светские женщины, некогда обожествляемые поклонниками, сегодня, как мы только что сказали, никого не чаруют, не стоит их в этом упрекать: они не виноваты. Они не утратили свою способность очаровывать, они великодушно принесли ее в жертву.
Между тем, да простят нам эти тонкости, чаровать можно двумя способами: пленяя и соблазняя. Отсюда два вида любви: одна нисходит с неба, другая излетает из ада.
Следовательно, и женщины, которых любят, должны делиться на две категории: женщины-ангелы и женщины-демоны; невинные девы под покрывалом, увенчанные лилиями, и вакханки, увенчанные виноградной лозой; те, которые нежно поют, аккомпанируя себе на лире, и те, которые неистово пляшут, потрясая тирсом и бубном; те, кого любят с восторгом, и те, кого обожают с упоением; первые — чаровницы добрые, вторые — чаровницы злые, однако и те и другие равно идеальны, равно окутаны тайной, равно боготворимы, равно величественны, равно всемогущи, первые благодаря почтению, которое внушают, вторые — благодаря ужасу, который вселяют. Ибо, как вам хорошо известно, страх любви не помеха, и чаровницы обеих категорий умеют пробуждать самые пленительные опасения. Мужчины трепещут перед женщинами-ангелами: одного слова довольно, чтобы ранить их тонкую натуру, одного неосторожного движения довольно, чтобы заставить их обратиться в бегство, и сама возможность их прогневить рождает в душе сладостный испуг. — Мужчины трепещут и перед женщинами-демонами: они боятся и себя, и их; эти женщины, чьи страсти не знают узды, чья гордость ревнива, а гнев неукротим, пленяют сердца влюбленных ощущением грозной опасности.
Мы не беремся сказать, остались ли еще на свете женщины, в которых воплотилось идеальное зло, но рискнем утверждать, что женщин, в которых воплощается идеальное добро, нынче уже не сыщешь. Рядом с нами живут — и это, быть может, лучше для всех — женщины порядочные и рассудительные, трудолюбивые и добродушные, милые женщины, с которыми болтаешь без церемоний и видишься не без приязни; расположение их лестно, но не тревожит воображения и не пробуждает любви. Вы столько раз твердили: «Женщина — спутница мужчины», что несчастные женщины приняли ваши слова за чистую монету и сделались вашими спутницами; они захотели разделять вашу жизнь, ваши занятия, ваши печали! О, какая безумная мысль, какое пагубное заблуждение! ведь женщина вовсе не создана для того, чтобы разделять тяготы мужчины! Нет, она создана для того, чтобы его в них утешать, иначе говоря, чтобы его от них отвлекать. Горе той несчастной, которая выспрашивает у своего возлюбленного тайну его печалей (мы не имеем в виду печалей сердечных, ибо мужчины испытывают их редко; самое большое огорчение причиняют им уязвленное честолюбие и денежные затруднения)! Горе женщине, которая позволит своему возлюбленному поверять ей эти печали! В тот же миг она утратит способность его от них отвлекать, и он оставит эту женщину, чтобы забыть о невзгодах рядом с другой — той, которая о них не ведает. Любовь живет лишь тайной и страхом, доверие и безопасность ее убивают.
Спутница!.. Разве спутницу боготворят так, как боготворят возлюбленную? Будьте чистосердечны и согласитесь: женщина вовсе не спутница мужчины. На всех этапах своей жизни она должна быть его кумиром и представать перед ним в самом пленительном обличье: быть сокровищем чистоты в детстве, королевой красоты в пору любви, провидением в пору материнства.
29 марта 1840 г.
Призвание. — Столяр-вельможа. — Вельможа-каторжник. — Знатные привратницы.
— Куртизанки и придворные дамы. — Сиделки. — Полицейские солдаты.
— Немецкие майоры. — Пастушки, монахи, трубадуры, рыцари, буффоны
На днях мы побывали в палате депутатов. Заседание вот-вот должно было начаться, когда дверь отворилась и на трибуне рядом с нами заняла место молодая женщина. Это была мадемуазель Рашель. Тотчас все взгляды и все лорнеты (ибо господа депутаты, как правило, являются в палату, вооруженные театральными лорнетами) обратились в ее сторону, и все особы, с нею знакомые, поспешили приветствовать ее самым любезным образом. Несколькими днями раньше юная актриса побывала на большом балу, устроенном женой одного министра из кабинета 12 мая[453], и там никто не удивился этому выбору хозяйки дома; ни одна мать не оскорбилась тем, что в кадрили вместе с ней участвует актриса Французского театра.
Объясняется ли эта предупредительность парижского света, обычно исполненного предрассудков и донельзя высокомерного, одним лишь талантом мадемуазель Рашель, впрочем весьма достойным учтивого приема? Мы так не думаем. Другие актрисы были также одарены прекрасным талантом, однако для них столь лестного исключения сделать не пожелали[454]. Значит, принимая мадемуазель Рашель, отдают дань не ее таланту; нельзя также сказать, что приветствуют ее характер: в столь юном возрасте девушка характера еще не имеет. В чем же дело? спросите вы. И будете сильно удивлены, когда мы ответим: в ее звании.
В звании актрисы?.. Нет, в звании человеческой личности; ибо каждый из нас от рождения наделен неким индивидуальным званием, которое неумолимо заставляет его либо идти вверх, либо катиться вниз. Конечно, каждый из нас занимает определенное положение в обществе, и это накладывает на него определенные обязательства, однако помимо этого мы подчиняемся еще и требованиям того звания, каким наградила нас природа, и нет зрелища более любопытного, чем борьба — порой весьма опасная — между положением человека в обществе и тем, что мы назвали врожденным или природным званием.
Вот, например, человек, который согласно нашей системе рожден вельможей, хотя в жизни действительной не поднялся выше рабочего: взгляните, как благородна его походка, какого достоинства исполнены его речи, как прекрасно его лицо, как горд его взор; никогда ему не случалось безропотно снести оскорбление, никогда не случалось никого обмануть; он беден, но щедр; он природный дворянин, хотя судьба сделала его столяром, и притом превосходным; впрочем, не сомневайтесь: он не проведет всю свою жизнь с рубанком в руках, он поднимется наверх. Конечно, он не станет герцогом и пэром, ибо этот пункт назначения слишком далек, а жизнь человеческая слишком коротка; но он поднимется до подобающего ему уровня, в своем мире он займет высокое положение и обретет свои законные права.
А вот другой человек: в жизни действительной он вельможа, но рожден каторжником; взгляните, как вульгарно он держится! Какой жалкий у него вид! какой низкий лоб! какие жесткие волосы! какой лживый взгляд! какие пошлые речи! Он любит роскошь, но не любит тратить деньги; он нагл, но труслив. В свете он пользуется почтением, однако не знает покоя: он завидует людям, которых презирает; он обманывает без нужды и делает подлости без причины. Как бы высоко ни стоял этот человек, он, не сомневайтесь, будет неуклонно стремиться вниз, поскольку от природы звание его — одно из самых низких. Конечно, он не попадет на каторгу, потому что этот пункт назначения слишком далек, а жизнь человеческая слишком коротка, но он упадет так низко, как только позволит его положение, и, несмотря на все свои преимущества, сделается в своем кругу предметом отвращения и покроет себя позором.
Мало того что природа награждает нас определенным званием, звание это становится нашим призванием. Есть, например, очень знатные дамы, которые родились актрисами и остаются ими, хотя никогда не играли на театре, даже любительском. Мы не хотим сказать, что они прирожденные комедиантки и что все их чувства — смешное притворство; мы хотим сказать, что они рождены для театра, что они любят театральные развязки, театральные позы, театральные костюмы, румяна, мушки, высокие перья, эгретки; присмотритесь к ним: они всегда пребывают на сцене, но делают это непреднамеренно, невольно и совершенно естественно; в собственных гостиных они подстраивают неожиданные встречи и узнавания, за один вечер они успевают исполнить множество ролей. Первая роль — преданная подруга; исполнительница бросается к вам сквозь толпу, чтобы пожать руку, воздев очи горе. Вторая роль — кокетка; исполнительница вытаскивает из букета вересковую ветку и с нежной улыбкой протягивает ее юному, а то и престарелому воздыхателю. Третья роль — чувствительная мать; исполнительница душит в объятиях девочку двенадцати лет, которую женщина, наделенная подлинным материнским чувством, в девять вечера отправила бы спать. Четвертая роль — великодушная покровительница: исполнительница предоставляет возможность петь ангелу добродетели, не имеющему голоса. Герцогини эти дамы или княгини, главное, что от природы они актрисы, и потому гостиная для них — театр.
Есть другие, не менее знатные дамы, которые родились привратницами и остаются таковыми, какое бы высокое положение они ни занимали в свете. Каждый, кто приходит к ним, приносит с собой какой-нибудь слух или ложное известие. Дамы эти знают весь квартал, иначе говоря, весь свет. Им в точности известно состояние каждого: тот тратит слишком много, этот мог бы тратить больше. — Семейство Н… не так богато, как кажется; семейство Д… куда богаче, чем хочет показать. — Эта барышня влюблена. — Та из-за своей матери никогда не выйдет замуж. — Господин Р… больше не бывает у госпожи де П… — Демарсели в ссоре с Марийи. — Юный Эрнест положил глаз на госпожу де Т…: вчера их видели вместе в «Гимназии». — Хорошенькая герцогиня де… (та, что так прекрасно ездит верхом) частенько — и совершенно случайно — встречает в Булонском лесу князя де… — Господин X… продал своего пони верзиле Ж…, который ни за что не сможет на нем кататься. — Несчастные З… были вынуждены отказаться от экипажа. — Девицы де Т… сделались богатыми наследницами по смерти юного дядюшки. — Госпожа С…. попалась: она вышла за старика, который здоровее ее. — Сен-Бертраны не едут в Италию; они только что купили поместье в… И проч., и проч. Вот примерно о чем ведутся разговоры в гостиной этих дам. Великолепные эти салоны ничем не отличаются от каморки привратницы.
Наконец, есть такие знатные дамы, которые родились… Возьмем на себя смелость выговорить это слово: они родились куртизанками. Казалось бы, превосходное воспитание не может позволить им пасть совсем низко, тем не менее невольно и нечувствительно они опускаются до того печального звания, к какому предназначила их природа. Они обожают шум, суету, беспорядок и, пожалуй, даже скандал. Они одеваются неприлично, с ними вечно случаются какие-то истории. Покой им отвратителен; в театре они не могут долго оставаться на одном месте и отправляются за прохладительными напитками в фойе; они деланно мучаются ребяческими страхами и по самому ничтожному поводу испускают громкие крики. Они любят подарки в старинном смысле этого слова, иначе говоря, изысканные ужины и дорогие вещицы; они благосклонно принимают, а вернее сказать, умильно выпрашивают украшения, которыми простодушно щеголяют, — не те украшения, которые ценны независимо от стоимости, которые дороги как память и вполне обоснованно именуются сантиментами[455], но настоящие драгоценности, стоящие громадных денег, крупные брильянты, которые женщина вправе принимать только от отца или деда. В салонах таких женщин все оскорбляет приличия. Разговаривают здесь не так, как в других гостиных. Атмосфера здесь вовсе не светская. Здесь не чувствуешь необходимости следить за собой, сдерживать себя и о себе забывать; здесь все предпочтения обнажаются с прелестной откровенностью; люди ищут друг друга и друг друга находят, а найдя, более уже не расстаются. Свет здесь из собрания самых разных особ превращается в собрание очаровательных пар. Если в других салонах разговор подобен гармоническому звучанию большого оркестра, здесь он составляется из щебета двадцати мелодических дуэтов.
Здесь вдыхаешь аромат дурного общества; в особняке такой знатной дамы чувствуешь себя, как в загородном доме содержанки, — контраст, в котором есть даже что-то пикантное.
Это еще не все. Есть женщины, бесконечно богатые, занимающие в обществе очень, очень высокое положение, и благодаря этому совершенно независимые, — так вот, эти женщины родились придворными дамами и потому всегда находят способ занять место в свите какой-нибудь другой женщины, подчас стоящей на социальной лестнице гораздо ниже. Этих женщин природа наделила инстинктом рабыни и достоинствами наперсницы; они обладают непревзойденной способностью потакать всем дурным страстям. Каждая из этих Энон рано или поздно всегда находит свою Федру, а при необходимости сама ее воспитывает[456]. Поскольку власть их покоится на тайных признаниях, они горазды выдумывать тайны. Женщины эти чрезвычайно опасны, как опасен всякий, кто живет за счет другого. Всю жизнь по доброй воле пребывать на вторых ролях и даже стремиться к этому — удел душ, которые нельзя назвать возвышенными. Потворство и преданность — вещи разные. Женщины, рожденные придворными дамами, редко становятся хозяйками дома. Каково бы ни было их богатство, все в них и вокруг них выдает принадлежность к челяди. К ним ездят ненадолго, в те часы, когда их государыня не принимает. Их гостиная — зал ожидания, а порой и прихожая.
А еще есть светские женщины, которые родились сиделками и, не имея медицинского диплома, всю жизнь, даже вращаясь в самом элегантном кругу, занимаются медицинской практикой. У них всегда есть верные рецепты от всех болезней, они только и занимаются что изготовлением отваров или порошков. Они знают адреса всех самых лучших парижских аптекарей. Они не любят хинин, который продает этот. Они никогда не покупают опийную настойку у другого. Они советуют вам остерегаться пиявок, которыми торгует третий, но зато вы смело можете брать у него рвотное, его рвотным они остались очень довольны. Под предлогом исцеления от заурядной мигрени они задают вам самые нескромные вопросы; всякого гостя они немедленно превращают в пациента. Их салон — врачебный кабинет, а будуар — лавка аптекаря.
А еще есть светские женщины, которые родились… да простят нам это выражение!.. которые родились… Право, мы не смеем этого выговорить! — Ну же, смелее: которые родились… полицейскими солдатами или муниципальными гвардейцами (теми, что прежде назывались жандармами)[457]. Эти отважные женщины совершенно безвозмездно осуществляют в салонах полицейский надзор; они неутомимо курсируют между бальной залой и столовой; они проходят сквозь толпу, и толпа расступается, давая им дорогу; перед выступлением певца или певицы они заставляют замолчать болтунов; они следят за тем, чтобы мужчины уступали место опоздавшим дамам; по их приказу слуги открывают окна, растворяют двери, убирают банкетки; они способны воротить в буфетную поданные не вовремя прохладительные напитки, и прислуга, их не знающая, повинуется им так же беспрекословно, как повинуются прохожие незнакомому муниципальному гвардейцу. Женщины эти, как правило, ростом и статью не уступают красавцам-мужчинам; голос у них громкий и зычный. Любой полковник, дающий команду «В ружье!», позавидовал бы той мощи, с которой они кричат: «Тише! Тише!» или «Не входите!». Их воинственный вид внушает великое почтение. Их платье с брандебурами всегда немножко напоминает мундир, бархатный ток ведет свое происхождение от треуголки, а чепец… есть не что иное, как выродившаяся каска[458].
Эти женщины имеют сходство с другими женщинами — француженками и даже англичанками, которые родились… немецкими майорами. Это — явление еще более удивительное. Цвет лица у этих дам свеж до чрезвычайности; ходят они, высоко задрав голову и отставив локти назад; кажется даже, что они не ходят, а маршируют; впрочем, в характере их нет ничего особенного, разве что на бал они ездят ради того, чтобы выпить шампанского, и всегда забывают веер на буфете.
К счастью, ради вящего равновесия природа создала, наряду с женщинами-майорами, женщин-пастушек, которые остаются таковыми до девяноста лет. Они обожают кокетливые маленькие шляпки, капризно надвинутые на ухо. Они спозаранку украшают себя легкими лентами и цветочными гирляндами, помпончиками, бантиками и розетками. В самом преклонном возрасте они сохраняют дивное простодушие, взгляд их выражает детское удивление; они не верят дурным новостям, они никогда ничего не знают и ничего не видят. Нежным тонким голоском они поминутно восклицают: «Как! право, я первый раз слышу… я и не знала… да что вы говорите?..» Причем речь идет о событиях всем известных, о лицах самых знаменитых, об уловках самых заурядных. Эти древние парижанки вечно имеют такой вид, будто только вчера приехали в город из деревни. Поэтому их миленький розовенький зонтик всегда смахивает на пастушеский посох, а их молчаливая собачка недвусмысленно метит в овечки.
Мы не станем много говорить о маркизах, которые родились субретками и которым смесь величавости с кокетливостью придает так много пикантности и так много очарования; не станем мы говорить и о горничных, которые родились княгинями и, что бы вы ни делали, упорно сохраняют княжеские повадки; об этих гордых и властных служанках, которым никто ничего не смеет приказать и которые сделают вам одолжение и помогут одеться лишь при условии, что вы будете обращаться с ними, как с княгинями; мы тем более не станем говорить о бедных девушках из народа, которые имели несчастье родиться щеголихами и которые приносят свою честь в жертву своей тяге к элегантности; мы не станем говорить ни о парижанках, родившихся провинциалками, ни о провинциалках, родившихся парижанками; мы лишь скажем под конец, что существуют актрисы, которые родились знатными дамами, которые умеют превратить свой талант в патент на благородство: с самого начала своей карьеры они восходят на пьедестал и более с него уже не сходят; их спокойные и простые манеры исполнены величия и достоинства; они не стремятся никого поразить, а поразив, нимало этим не смущаются и ничуть не гордятся. Они чувствуют себя непринужденно лишь с людьми выдающимися; именно поэтому в их театральной ложе господствуют законы хорошего общества[459].
Что касается мужчин, то они более свободны и могут следовать своему призванию; тем не менее среди них встречаются такие, которым на роду написано посвятить себя профессиям, оставшимся в далеком прошлом и невозможным в наши дни. Есть, например, мужчины, родившиеся монахами: они лысеют в двадцать пять лет, дни напролет листают старые книги и превращают всякую холостяцкую квартиру в келью.
Есть мужчины, родившиеся трубадурами: они исполнены изящества древних труверов, они поклоняются женщинам, приносят все им в жертву, воспевают и обожают их и навлекают на себя всеобщие насмешки именно по этой причине, а также потому, что галстук у них подозрительно напоминает перевязь.
Есть мужчины, родившиеся рыцарями: они мечтают о великих свершениях, ищут благородных опасностей, нападают на подлых властителей. Элегантная трость в их руке есть не что иное, как старинное копье.
Наконец, есть мужчины, родившиеся буффонами — не в театральном, а в историческом смысле этого слова[460]. Их дело — забавлять и развлекать. Они любят мишуру и гремушки; им это ребячество прощают, как, впрочем, прощают и все остальное, ибо они умеют рассмешить, и никто не принимает их всерьез; они карлики, которым позволяют расти, потому что они всего лишь карлики; они шуты, которым дают право изрекать горькие истины, потому что они всего лишь шуты; с веселым лукавством они завладевают скипетром и усаживаются на трон с той же легкостью, что и любимая обезьянка короля: их, как и ее, никто не берет в расчет, а потому им дозволено все: докучать, дерзить и даже выказывать ум и отвагу. Прежде шутов держали при себе короли, теперь их держат при себе народы.
Впрочем, большинство в свете, к нашей радости, составляют вельможи, родившиеся вельможами, и герцогини, родившиеся герцогинями; как же утешительно и восхитительно это прекрасное согласие превосходных личных качеств и высокого положения в обществе, это гармоническое сочетание благородной природы и благородного происхождения!
11 апреля 1840 г.
Жить в Париже невозможно: невозможно ни есть, ни спать, ни гулять, ни молиться, ни любить, ни работать, ни думать.
— Кабан-беглец
Начнем с утверждения, что жить в Париже невозможно; ведь жить — это значит думать, работать, любить, молиться, а также гулять и спать, пить и есть. Так вот! в Париже делать все это решительно невозможно.
Неужели, скажете вы, в Париже невозможно есть? — Именно невозможно, по крайней мере в настоящее время; есть стало совсем нечего, и раздобыть себе сносный обед — задача неразрешимая. — Но ведь теперь пост, можно есть рыбу. — Да в том-то и дело, что теперь пост, и потому рыбы в Париже не сыщешь. Если все одновременно хотят одного и того же, никто не получает ничего; поэтому наши рынки вот уже две недели, как охватила ужасная паника. Тем, кто желает отведать жареной рыбы или рыбы в винном соусе, приходится призывать на помощь всю свою изобретательность и тратить долгие часы на поиски; хозяйки охотятся за куском лосося с тем же пылом, с каким в неурожайный год несчастные матери сражаются за кусок хлеба для голодных детей; поварихи бранятся из-за щуки, а повара дерутся из-за камбалы. Дичь еще не выросла, овощи еще не созрели. Весна — время надежд, иначе говоря — время лишений.
В Париже невозможно спать… В недавно построенных домах отдых — вещь совершенно недосягаемая. Стены там — тонкие перегородки, которые никого ни от кого не отделяют. Здесь нечего и думать сохранить тайну, нечего и мечтать обрести тишину; здесь каждый знает мельчайшие подробности жизни соседей, которых он в глаза не видел. Крикливый младенец не дает спать всем жителям дома сверху донизу. Собака, которой скучно сидеть взаперти, своим лаем смущает покой сотни жителей квартала. Если на втором этаже дают бал, значит, обитателям первого, третьего и четвертого этажей суждено провести ночь без сна. Если отец семейства гневается на домашних, брань его среди ночи обрушивается на всех соседей подобно раскатам грома. Не проходит и месяца, как вы уже знаете наизусть вкусы, мании и пороки всех, кто живет с вами в одном доме. Госпожа Такая-то постоянно журит горничную; малютка с третьего этажа своенравна, как бесенок; дамы со второго этажа хохочут дни напролет; барышне с четвертого этажа по ночам неможется, а лошадь доктора до утра с жутким грохотом грызет ясли. На улице дела обстоят ничуть не лучше: до трех часов пополуночи там разъезжают коляски и фиакры, а после трех в город торжественно въезжают телеги торговцев. Спать в таком шуме — все равно что вовсе не спать.
В Париже невозможно гулять… Передвигаться по улицам и бульварам сделалось задачей неразрешимой. Если идет дождь, вы на каждом шагу рискуете утонуть в грязных лужах; если светит солнце, рискуете быть затоптанным толпой, высыпавшей на улицы; самое же губительное для элегантных пешеходов изобретение — это сток для грязной воды, который теперь проходит не по середине улицы, как прежде, а у самой кромки тротуара. Вы, конечно, можете выйти из дому, но при этом должны твердо знать, что далеко не уйдете; первый же кабриолет, который проедет мимо, обдаст вас грязью с ног до головы; не пощадит он и вашу шляпу. Возвращайтесь домой, сударыня; ваше прелестное платье заляпано грязью, и на вас нельзя смотреть без смеха; ступайте, на сегодня визиты отменяются. Гулять по улице, которую загромождают омнибусы и телеги, комиссионеры с носилками и ванны на колесах[461], модистки с картонками и прачки с корзинами, а также тысячи прочих препятствий — это все равно что вовсе не гулять.
В Париже невозможно молиться… Во всяком случае, молиться в церквях сделалось весьма затруднительно. Туда приходит слишком много народу. Протиснуться сквозь эту толпу поближе к алтарю можно лишь с величайшим трудом. О том, чтобы опуститься на колени, не может быть и речи. Дети толкают вас под руку, женщины, сдающие внаем стулья, вам докучают. Дамы, задыхающиеся от духоты, желают выйти на улицу; надобно дать им дорогу — новое развлечение, отрывающее вас от молитвы[462]. Меж тем все это нисколько не удивительно; иначе и быть не может, ибо количество храмов в Париже не соответствует населению. Мыслимое ли это дело: тридцать восемь церквей на девятьсот тысяч душ?[463] Но кто дерзнет сегодня строить в Париже храмы? Уж не нынешнее ли министерство? Вполне возможно: господин Тьер сегодня единственный человек, который способен отважиться на постройку церкви; в личной заинтересованности его никто не заподозрит.
Мы сказали также, что в Париже невозможно любить. Почему? Мы это уже объяснили прежде[464]: потому что в нем не осталось настоящих женщин.
Еще в Париже невозможно работать, потому что здесь вы целый день не знаете ни минуты покоя, потому что с утра вы просматриваете дюжину газет, потому что за час вы оплачиваете десяток мелких счетов, а за минуту получаете четыре записки, потому что у вас есть родственники, которых вы уважаете, друзья, которых вы любите, а также знакомые, которых вы обожаете и не можете не принять; все эти милые люди приходят повидать вас на минутку, не дольше, сказать вам пару слов, не больше, но поскольку в общей сложности этих визитеров набирается не меньше двух десятков, их минутки слагаются в часы и поглощают весь ваш день; их пары слов образуют длинную увлекательную беседу, которая не позволяет вам заняться каким бы то ни было серьезным делом. Например, писать так, как мы пишем сегодня, поминутно откладывая перо ради общения с остроумнейшими парижанками и с достойнейшими парижанами, — это все равно что вовсе не писать. Впрочем, наше сочинительство, по счастью, не работа.
Наконец, в Париже стало невозможно думать: во-первых, потому, что здесь слишком много действуют; а во-вторых, потому, что здесь высказывают все без остатка.
Странная вещь! с тех пор, как стало возможно говорить обо всем, с тех пор, как люди дерзают обсуждать все на свете, беседе пришел конец. Отгадайте, чем занимаются сейчас в наших гостиных те, кто не танцуют и не поют? Они играют в карты: молодые дамы играют в тридцать и сорок или в двадцать одно и получают от этого удовольствие!.. Поистине, в этой новой моде есть что-то загадочное. Надобно будет попытаться ее разгадать.
Кстати о беседе, одна светская дама, известная своим блестящим умением поддерживать разговор, давеча отпустила в беседе с нами злую, но остроумную шутку насчет одного человека, который всегда стремится выказать свой ум и предпринимает для этого усилия похвальные, но безуспешные. «Вообразите, — сказала эта дама, — бедняжка Икс наконец-то сказал прелестное словцо; я очень за него рада: он так долго об этом мечтал». В самом деле, в свете немало несчастных искателей остроумия, которые сгорают от желания высказать прелестное словцо, но ничего путного выдумать не могут — возможно, именно потому, что очень стараются. В остроумии, как и в любви, прелестно лишь то, что невольно. Вообще все всегда очень высоко ставят волю, восхищаются сильной волей. Мы же, наоборот, радуемся лишь тому, что невольно, потому что невольное — плод вдохновения.
Странный случай произошел недавно на площади Мадлен: во дворе у господина де П… содержался молодой кабанчик, пойманный в лесу ***; его собирались отправить в ***, поместье господина де П…, однако быть в Париже и не увидеть Парижа — вещь невыносимая даже для кабана. Самое дикое существо желает познакомиться со столицей своего отечества, да и вообще чем меньше в тебе знаний, тем больше любознательности. Одним словом, житель лесов нашел способ вырваться на свободу и сбежать со двора. Он бросился на бульвар; за ним выслали погоню; он обогнул церковь Мадлен и направился к Королевской улице; он хотел полюбоваться Луксорским обелиском, но преследователи заградили ему дорогу и вынудили повернуть на улицу Предместья Сент-Оноре. Располагая осмотреть богатые магазины, превращающие эту улицу в роскошный базар, наш пострел заглянул в несколько лавок, в том числе к Убигану[465], где, как говорят, совершил немало покупок в весьма энергической манере. Отдав предпочтение превосходным щеткам, происхождение которых было ему слишком хорошо известно, и вылив на себя несколько флаконов модных духов, он продолжил прогулку по городским улицам, а прохожие и собаки с удивлением вдыхали нежный аромат ириса, амбры и ванили, который оставлял за собой странник из рода кабанов.
18 апреля 1840 г.
Лоншан[466]
Шесть часов вечера. Мы только что из Лоншана; видели Елисейские Поля во всей красе: неторопливые тени, тянущиеся сквозь облака пыли. Мы любовались этим видением целый час. Картина первая: русский князь в карете, запряженной четверней. — Картина вторая: дама в небесно-голубом платье с глубочайшим декольте, с ирисовым шарфом… с узорчатым зонтиком… в открытом милорде[467] (ибо лордов было мало, зато милордов предостаточно). — Картина третья: знаменитая иностранка в карете, запряженной четверкой превосходных лошадей, с курьером, форейторами и свитой из нескольких экипажей. — Картина четвертая: фиакр № 518, в прекрасном новом вкусе. — Картина пятая: открытая коляска, а в ней четыре красотки, одна в восхитительном светло-зеленом капоте, другая в соломенной шляпке и бархате — прелесть что такое… — Картина шестая: экипаж с претензиями, ливрея фантастическая, кучер чернокожий. — Картина седьмая: на всех парусах мчится фургон для перевозки мебели, ломящийся от седоков; возница багроволиц. — Картина восьмая: кавалькада элегантных красавцев: жеребцы породистые, волосы и бороды пудреные. — Картина девятая: дюжина экипажей, перевозящих фосфорные спички. — Картина десятая: красивая женщина с прелестным ребенком в английской коляске. — Картина одиннадцатая: ландо, полное собак и муфт, — псарня на колесах… — Картина двенадцатая: наемный кабриолет, а в нем — толстая женщина в трауре покатывается со смеху.
А зеваки, расходясь по домам, восхищаются: Лоншан в этом году великолепен, как никогда[468].
Жан-Анри Марле. Прогулка в Лоншан.
Эжен Лами. Прогулка в шарабане (предместье Сен-Дени).
23 мая 1840 г.
Выгодные недостатки и пагубные достоинства. — Что нам делать с Огюстом?
— Депутат без направления — Горе от деликатности
Прискорбная правда, которую мы вынуждены признать и не побоимся провозгласить, заключается в следующем: преуспеть в свете можно только с помощью недостатков.
Заметьте, что мы говорим не «на этом свете», а «в свете»: разница существенная.
Так вот, если успех нам сулят только недостатки, нет ничего более жестокого, неловкого, неосторожного, чем призывать нас эти недостатки исправить; ведь это означало бы разорить нас, погубить, истощить источник нашего благоденствия, отнять у нас наше оружие и опору, наши вдохновительные иллюзии и надежды.
Пожелать избавиться от собственных недостатков… да ведь для этого нужно научиться их сознавать, а это само по себе уже большое несчастье.
Философ сказал: «Познай самого себя». Да, если ты желаешь оставаться философом, иначе говоря, ни на что не притязать и ничего не добиться, тогда познавай себя, сколько твоей душе угодно; ты можешь предаваться этому жалкому удовольствию совершенно безопасно; знание самого себя, созерцание своих несовершенств, пожалуй, смогут сделать тебя немного мудрее… Но если ты желаешь жить в обществе себе подобных и всех превзойти, если ты хочешь сделать карьеру и приобрести состояние, тогда остерегайся познавать самого себя, не изучай и не разбирай свой характер, ни о чем не задумывайся, иди прямо, иди быстро, не глядя ни назад ни вперед! Да-да, главное, не вздумай познавать самого себя, ведь лишь только ты узнаешь, кто ты, тебе станет ясно, на что ты можешь рассчитывать, а это навсегда отобьет у тебя охоту действовать. Ибо нередко, взвесив свои силы, человек приходит к выводу, что он ни на что не годен. Открытие это немало раздосадовало бы нынешних честолюбцев. Ведь они, напротив, свято веруют в собственное могущество; они почитают себя способными на многое, и все кругом разделяют их убеждение; вера заменяет им право; они восклицают: «Вот наша цель!», а глупцы повторяют: «Вот их цель!» — не задумываясь о том, в силах ли эти бахвалы ее достичь, и тем самым способствуют их успеху, ибо в свете людей судят не по тому, что они значат, но по тому, на что они притязают, а если бы люди научились познавать самих себя, это существенно уменьшило бы их притязания. Итак, незнание самого себя есть необходимое условие успеха. О, если бы все те выскочки, что сегодня гордятся высокими должностями, к которым они совершенно не приспособлены, — если бы эти выскочки понимали, чего они стоят, они никогда бы не взобрались на те вершины, где пребывают ныне; познав себя, они знали бы и свое место, они никогда не замахнулись бы на посты столь ответственные, и скромность отняла бы у них то блаженство, каким их наградило самодовольство.
Итак, мы не боимся утверждать, что из всех недостатков наиболее выгодный — это самодовольство; его-то и надо пестовать с особенным тщанием. Этот недостаток один равняется целому состоянию. Для юноши, желающего сделать карьеру, лучше быть бахвалом без единого су, чем скромником с поместьем в Нормандии. Самодовольство есть род наследственного владения.
На втором месте после самодовольства стоит совершенная глупость — качество для карьеры также чрезвычайно выгодное. Будьте уверены: наделенный этим недостатком, светский человек никогда не пропадает. Предположим, у вас есть два молодых кузена: один из них юноша отважный, деятельный, умный; вы признаете его достоинства и говорите: «Ну, за этого я спокоен!» И в самом деле, его будущность вас нимало не беспокоит. Он не нуждается ни в вашей поддержке, ни в вашем покровительстве; вы предоставляете ему трудиться по мере сил и выкручиваться самостоятельно. Вы не тревожитесь на его счет, вы уверены, что он никогда ни о чем вас не попросит. Но у него есть брат — совершенный балбес; он безграмотен, его нельзя приставить ни к какому делу; вот этот вызывает у вас большую тревогу, потому что из-за него на вас в любую минуту могут посыпаться неприятности. Вы собираете родственников и взволнованно спрашиваете у них: Что нам делать с Огюстом? А родственники, знающие, на что способен младой наследник, уныло переглядываются и повторяют: Что нам делать с Огюстом? сам он никогда ничего не добьется, нужно пристроить его в какую-нибудь префектуру (бедная префектура!) или найти ему какую-нибудь должность в правительстве (бедное правительство!). Да хранит вас Господь от Огюста!
На первый взгляд этот выход: поручить дела государственные молодому человеку, который не способен вести свои собственные дела, — может показаться чудовищным, безумным, невыполнимым… Ничего подобного. Благодаря усердию или, лучше сказать, благодаря отчаянию всех своих родственников Огюст получит место, на которое его прочат. Дядюшка-депутат будет обивать пороги; он пообещает проголосовать за кого надо и не поддерживать кого не надо. Кузен-директор произведет в своем департаменте две или три перестановки, истинная причина которых останется никому не понятна. Тетушка-баронесса нанесет визиты девятнадцати глупым гусыням, которых она презирает. Томная красавица-кузина будет без устали кокетничать со старыми болтунами, которых она терпеть не может.
Наконец, добрая матушка Огюста будет повсюду со слезами описывать его горестную участь!.. И Огюст получит искомое место; правда, очень скоро он его потеряет, но тут же получит взамен место гораздо более выгодное: ведь та первая должность, с которой он не справился, будет считаться прецедентом, свидетельствующим в его пользу. Потеряет он и второе место, но семья сплотится и добудет ему третье, затем четвертое и наконец пятое, самое хлебное — его он сохранит, потому что хлебные места — это те, где не нужно делать вовсе ничего. Таким образом, Огюст, вечно поддерживаемый и продвигаемый влиятельными родственниками, сделает блестящую карьеру и очень быстро обгонит своего бедного брата: ведь умный человек, идущий пешком, всегда отстает от глупца, едущего в экипаже; ведь человек независимый, добивающийся всего своим трудом, может рассчитывать только на собственные силы, тогда как ленивый глупец, напротив, пользуется поддержкой всех высокопоставленных особ, за него ответственных.
Еще один превосходный недостаток — обидчивость. С обидчивым человеком нельзя обращаться бесцеремонно. Ему всегда оставляют лучший кусок, лучшее место. Тот, кто показал себя обидчивым, всегда может рассчитывать на доброе слово, хорошее кресло, вкусное куриное крылышко и так далее и так далее. Главное же, он может рассчитывать на самое большое счастье, какое уготовано человеку на грешной земле, — ему не грозит быть забытым.
Отличный недостаток с множеством приятных следствий — надоедливость. Надоедливые люди неотразимы во всем, даже в любви.
По этой же причине неплохие шансы у упрямцев. Об упрямом человеке говорят: От этого вы ничего не добьетесь. И больше к нему не пристают. Способ безотказный: упрямство принадлежит к числу недостатков, вызывающих почтение, а это недостатки первосортные.
Хороша также и гневливость: приступ ярости служит ответом на любой вопрос. Грубость — аргумент не хуже других; за благородным негодованием можно скрыть жалкую неправоту. Вдобавок угрозами легко добиться милостей. В наш век — век страха — угрозы куда действеннее просьб; блаженны те, кто внушает трепет, нынче только им одним и кадят льстецы.
Неплохим недостатком следует признать также наглость, однако она чревата некоторыми опасностями. Впрочем, те счастливцы, которых природа одарила наглостью, обладают также дивным инстинктом; они управляют своим недостатком с невероятной ловкостью и безошибочно определяют время и место, когда выгодно к нему прибегнуть, и особ, перед которыми прибыльно его обнаружить. Благодаря наглости в свете можно добиться… Впрочем, к чему слова? вы знаете все это куда лучше нас.
Наконец, перейдем к миру политическому: здесь иные недостатки представляют собой настоящие сокровища. Быть непостоянным, не иметь ни характера, ни принципов — значит обеспечить себе блистательную будущность. Если человек имеет счастье слыть бессовестным, удачная политическая карьера ему обеспечена. Депутат без совести, носящий почетное звание депутата без направления, — единственный, кто, можно сказать, отыскал философский камень. Депутат без направления — король Франции, вершитель ее судеб, ибо он нужен всем без исключения. На что может сгодиться депутат с убеждениями, который открыто объявляет о своей принадлежности к определенному лагерю? Какой в нем прок? Какую пользу может он принести?.. Взгляды его известны заранее, и все их уважают или, вернее сказать, отчаиваются поколебать, а поскольку в политике интерес вызывают лишь люди, которых можно перекупить, к нему никто интереса не проявляет.
Депутат без направления, напротив, живо интересует всех; за него бьются, ему стараются понравиться, его осыпают комплиментами, у него нет отбоя от приглашений. Сегодня он завтракал у одного из 221 депутатов, а обедать поедет к министру; на следующий день он позавтракает у министра, а обедать поедет к одному из 221 депутатов[469]. Депутату без направления незачем нанимать повара: он желанный гость в любом доме; ему предлагают билеты на все представления; его ублажают, перед ним заискивают, его речам внимают, на его вопросы отвечают, для него делают то, чего не делают ни для кого другого. Накануне важного голосования обычно составляют два, а то и три списка; каждая партия подсчитывает тех, на чьи голоса она может рассчитывать. Так вот — о чудо!.. — фамилия депутата без направления фигурирует в двух, а то и в трех списках. Сторонники министерства говорят: «Он за нас, за него поручился такой-то…» Представители оппозиции возражают: «Да что вы! Он за нас! Дело решенное: *** обещал нам его голос; он за него ручается». Положим, депутат без направления проголосовал за вас; вы полагаете, что залучили его на свою сторону!.. Не тут-то было; он дал вам залог, и ничего больше… В политике дать залог не означает завербоваться под знамена; это означает просто-напросто, что вам оказали услугу и, возможно, окажут еще кое-какие услуги в будущем. Сегодня депутат без направления выступил на вашей стороне, но завтра он опять будет свободен, как ветер. Его всякий раз нужно покупать заново; то, что он дал вам, он легко может пообещать и другому. Вы постоянно зависите от его прихотей: он подобен несносной кокетке, чье непостоянство не дает вам ни минуты покоя; он — политическая Селимена[470], чью репутацию легко скомпрометировать, но невозможно погубить.
Мы начали с утверждения, что преуспеть в свете можно только с помощью недостатков; теперь нам предстоит доказать, что погубить себя в этом же самом свете можно только с помощью достоинств.
Если иные недостатки полезны и выгодны, иные достоинства, увы! вредны и губительны. К несчастью, это как раз те самые, которые особенно возвышенны.
Вы благородны — и тем наживаете себе сотню заклятых врагов; в свете лучше быть развязным, бесцеремонным и злобным, нежели вести себя достойно, сдержанно и великодушно.
Вы добры — если это вам и не вредит, то во всяком случае роняет вас в глазах окружающих.
Вы откровенны — и слывете безумцем; вы независимы — и кажетесь оригиналом.
Вы беспристрастны — и остаетесь в одиночестве; беспристрастие всегда подозрительно.
Вы отважны — и тем самым навлекаете на себя смертельную опасность. Человек, выказавший отвагу, — существо погибшее; это пария, которого все бегут из страха заразиться его добродетелью; в свете лучше слыть прокаженным, чем храбрецом. Отважного человека никто не любит и никто не защищает; самое большое, на что он может рассчитывать, — это восторги и рукоплескания нескольких женщин.
Однако самое пагубное из всех достоинств, то, которое карается беспощадно, то, которое обрекает чистую душу на самое большое число мук и самое большое число презрительных взоров, это благороднейшая из добродетелей — деликатность! Это достоинство гибельно не только потому, что оно унижает всех тех, кто его лишен, но и потому, что, неизменно окруженное тайной, оно легче всего становится жертвой клеветы. Ничто так стремительно не вызывает ужасных подозрений, как добрый поступок, причины которого неясны; ничто так не походит на безграничное зло, как безграничное добро. Мы имеем честь находиться в дружбе с людьми, наделенными чрезвычайной деликатностью характера, любящими добро с романической страстностью; их великодушие доходит до героизма, милосердие — до неосторожности, бескорыстие — до глупости. Так вот, друзья эти составляют великое несчастье нашей жизни. Мы только и делаем, что их защищаем. Из-за их заблуждений? — О, вовсе нет, совсем наоборот: из-за прекраснейших их поступков, из-за чистейших их чувствований — поступков столь благородных, что они превосходят все ожидания; чувствований столь сокровенных, что они прячутся от всех взглядов. Как печальна необходимость защищать то, чем восхищаешься! Но зато какой великой радости мы преисполняемся, какой безграничной гордостью мы проникаемся, когда после нашей пламенной защитительной речи, речи совершенно правдивой, а потому особенно убедительной, из уст бывших обвинителей, обратившихся в нашу веру, вырывается восхищенный и изумленный крик: «Так вот как это было! Я же ничего не знал; право, это великолепно!» […]
Не стоит упрекать наш бедный свет в том, что подобные тонкости ему недоступны; мало того что наших светских людей никто не учил угадывать чужое великодушие, его от них тщательно скрывают. Люди, наделенные той прискорбной добродетелью, о которой мы ведем речь, исполнены благородной скрытности! Как же можно их понять? Как заставить их объясниться? Всю свою деликатность они пускают в ход ради того, чтобы эту деликатность утаить.
Итак, мы утверждаем, что недостатки полезны, а достоинства вредны; из этого утверждения соблазнительно сделать вывод, что жизнь в свете ужасна и что зрелище общества, где зло преуспевает, а добро страдает, наводит беспросветную тоску. Вывод этот был бы ошибочен. Наши рассуждения призваны, напротив, служить источником сладостных утешений. Человеку тонкому должно быть приятно говорить себе: «Зло преуспевает… но мне такое преуспевание не нужно. Чтобы добиться успеха, мне довольно совершить всего один дурной поступок, да и то не из самых дурных… но я его не совершать не стану. Довольно однажды пойти на небольшую подлость, чтобы потом быть счастливым всю жизнь… но я подлостей делать не стану. Довольно один раз солгать, чтобы добиться всего, о чем я мечтаю… но я лгать не стану». Отвергнуть блистательную карьеру ради верности своим принципам, принести себя в жертву идее, которая доставит вам одни неприятности, знать, что вас осудят, и пренебрегать этим жестоким судом человеческим, — да, это прекрасно; это просто-напросто значит доказать, что на свете есть Бог.
30 мая 1840 г.
Характерные недостатки, они же профессиональные достоинства.
— Нарядные нотариусы, любвеобильные судьи, обворожительные врачи, актеры-землепашцы, суровые парикмахеры и умные штыки
Однажды нам уже случилось рассуждать о выгодных недостатках и пагубных достоинствах. Ныне предметом нашего трактования станет материя еще более деликатная; речь пойдет о недостатках-достоинствах, или, если угодно, о достоинствах-недостатках, иначе говоря… как бы это выразиться пояснее… иначе говоря, о тех преувеличениях, странностях, маниях, в которых обычно упрекают представителей определенных профессий; свет несправедливо именует эти свойства характерными недостатками, мы же, со своей стороны, назовем их профессиональными достоинствами.
Сегодня свет так бледен, общество так беспорядочно лишь из-за отсутствия достоинств, неотъемлемых от того или иного звания; профессии сегодня пребывают в таком небрежении лишь из-за того, что все они утратили изначальные недостатки, составлявшие всю их ценность, а нередко служившие залогом их полезности.
Только ленивый, например, не смеялся над степенностью нотариусов. Только ленивый не издевался над их тяжеловесностью. Поговорки гласили: «Уныл, как нотариус, скучен, как нотариус» и прочее в том же роде. Что же вышло в результате? Нотариусы обиделись на эти глупые насмешки и были совершенно правы. Ведь их упрекали в достоинствах, как если бы это были недостатки; таких вещей не прощают. В умной осмотрительности нотариусов видели беспомощную робость, а в их скромной воздержанности — смешное пуританство. Их именовали тугодумами, потому что они были осторожны, и унылыми, потому что они были рассудительны. Нотариусы решили исправиться — и сделались светскими людьми; они стали легкомысленны и нарядны; в их пыльные конторы ворвалась фешенебельная мода. Тогда-то на наших глазах и свершилась странная, небывалая революция, самая удивительная из всех, какие произошли на нашем веку, — эмансипация нотариуса!.. В результате нынешние исправленные нотариусы уже не отличаются от прочих смертных степенностью манер и простотою нравов: они щеголяют на весь Париж азиатской роскошью, они обставляют свои жилища по-княжески и не отказывают себе ни в одной из радостей элегантного мира. Право, сегодняшних нотариусов никто не упрекнет в унылости; некоторые из них забавляются так истово, что доходят до банкротства, — новый род развлечения, прелестная шалость, на которую никогда не отважились бы их степенные коллеги прошлых времен.
Как же правы были наши отцы и какой мудрости были исполнены их предрассудки! Знаете ли вы, почему они требовали, чтобы нотариус держался степенно, а жил скромно, почему они отлучали его от светской роскоши и запрещали ему сибаритствовать? Во-первых, потому, что эти почтенные манеры внушали доверие, во-вторых же и в главных, потому, что эта необходимость вести размеренный образ жизни отпугивала всех, кому противопоказано быть нотариусом: всех повес и честолюбцев, всех интриганов и лентяев, наконец, всех тех, кто алчет удовольствий и страшится лишений. В те далекие времена всякая профессия представляла собой род одежды, которую мог надеть лишь тот, кто имел подходящий рост и стан, ум и характер; сегодня же профессии превратились в мешковатые пальто, которые не сшиты ни на кого специально и ни на ком не сидят как следует.
Судьи в ту пору тоже были степенны и, разумеется, имели на это полное право; тем не менее их также упрекали в излишней серьезности; чопорные их манеры превратили в посмешище, и судьи, наскучив этими недостойными, хотя и лестными упреками, решили, по примеру нотариусов, исправиться. Одни стали блестящими весельчаками, другие — кокетливыми модниками, третьи зашли так далеко, что превратились в дамских угодников. Некогда дамы соблазняли, или, по крайней мере, пытались соблазнить судей; сегодня сами судьи сделались соблазнителями.
А несчастные врачи! чего только не говорили об их ученом виде и церемонных манерах! Мольер высмеивал лишь их невежество, светская же публика, хотя и охотно прибегала к их помощи, смеялась над их степенными повадками. Врачей обвиняли в том, что они хвастают своими познаниями, что они употребляют странные слова, что, отправляя больных в мир иной, напутствуют их на непонятном языке… Какой хохот вызывали их пышные парики и трости с золотым набалдашником! Сколько раз слышали мы восклицания: «Доктор педант! Скучный доктор! Неуклюжий ученик Гиппократа!» Эпиграммы эти сегодня утратили всякий смысл, ибо нынешние врачи умеют шутить и болтать едва ли не лучше всех. Можно ли не наслаждаться пикантными анекдотами, которые они рассказывают с таким блеском; но можно ли принимать всерьез рецепты столь забавного доктора? Заслушавшись его, вы забываете о собственных болезнях. Вы не осмеливаетесь прервать его рассказы даже криком боли: он не исцеляет вас от недуга, но отвлекает от него, да и вообще, слушая его рассказы о чрезвычайно удачной операции или об удивительном медицинском феномене, вы не можете не признать собственную ничтожную невралгию, собственный вульгарный гастрит сущими пустяками. Вы не находите слов, чтобы рассказать о том, что ощущаете, а если все-таки рассказываете, то опускаете множество подробностей, которые могли бы дать врачу представление о роде вашего заболевания и способе лечения, — вы торопитесь, чтобы вдоволь насладиться красноречием врача. О, с нынешними докторами не соскучишься; они люди очень любезные; увы! слишком любезные и потому более жестокие, чем их предшественники; они точно так же отправляют нас на тот свет, но при этом заставляют острее сожалеть о жизни, которой их увлекательные беседы сообщают столько приятности.
Военных обвиняли в слепом послушании; издевались над их верностью уставу, над покорностью дисциплине, над тупой солдатской самоотверженностью: насмешники не понимали, сколько мудрости содержится в превосходном армейском порядке, сколько равенства и справедливости несет в себе военная иерархия, вселяющая в каждого, от капрала до генерал-лейтенанта, уверенность: «Сегодня беспрекословно повинуюсь я, а завтра так же беспрекословно будут повиноваться мне». Военным твердили, что они просто-напросто машины, пускаемые в ход по воле командиров. Им кричали: «Вы дети, не имеющие ни характера, ни воли; вы не думаете, не действуете самостоятельно; вы глупцы, у которых в голове не найдется даже двух идей». Военные обиделись и, чтобы доказать, что по крайней мере две идеи у них найдутся, сделались заговорщиками, а иные — под тем предлогом, что у них умные штыки[471], — даже предателями родины.
Много насмешек вызывала также бедность поэтов, и поэтам надоело жить в нищете, пусть даже весьма поэтической. Они принялись работать для денег, иначе говоря, принялись писать прозу, приводя в оправдание чудовищный аргумент: «Как быть? Стихи не продаются!» Тогда на смену поэмам пришли романы, а поэты стали красоваться в салонах вместо того, чтобы затворяться на чердаках, и почивать на диванах вместо того, чтоб грезить на соломе.
Актеров упрекали в том, что они разговаривают и ходят по-особенному, иначе говоря, в том, что они четко произносят слова и не горбятся при ходьбе, одним словом, имеют вид актеров. Тогда актеры решили заняться политикой и сельским хозяйством; самые хитроумные стали даже притворяться, что не учат ролей, — лишь бы не казаться актерами вне сцены.
Мы могли бы еще долго перечислять профессии, испорченные и даже почти погубленные несправедливыми упреками; однако эта тема чересчур обширна и завела бы нас чересчур далеко. Мы сделаем под конец лишь одно замечание, кажущееся нам довольно забавным: эмансипация врача совершается параллельно с капитуляцией цирюльника!.. Странная вещь… Следите за этими непостижимыми преображениями. Врач превращается в светского человека… цирюльник превращается в парикмахера. — Врач сияет… цирюльник-парикмахер мрачнеет. — Врач беседует, болтает… цирюльник-парикмахер теряет дар речи. Врач в курсе всех происшествий, у него всегда в запасе два десятка свежих новостей; цирюльник-парикмахер не знает больше ничего, потому что ничего не хочет знать. Его ведь тоже засыпали упреками. Водевилисты высмеивали его веселость, упрекали его в остроумничанье, называли забавным болтуном, и он тоже счел себя обязанным исправиться[472]. Веселиться, исполняя дело столь ответственное, — как можно?! Парикмахер ощутил все неприличие, всю неуместность своей болтовни, он наконец подошел к делу серьезно. С гребнем не шутят! Парикмахер в наши дни — единственный серьезный человек в государстве; политики нынче легкомысленны, законники игривы, деловые люди опрометчивы, литераторы рассеянны, но парикмахеры! Парикмахеры совсем другое дело! они скромны и полны достоинства, вид их важен и торжествен. Они держатся, как секретари посольства (из чего не следует, что секретари посольства держатся, как парикмахеры), они ходят на цыпочках, роняют односложные слова — из боязни прослыть болтунами; в покоях дамы, которую причесывают, царит мертвая тишина, ибо она не осмеливается сказать своему парикмахеру: «Это уже не в моде, лучше сделать по-другому». Она робеет перед лицом особы столь почтенной; да и как не робеть при виде господина с такими прекрасными манерами: рядом с ним светская дама чувствует себя принужденно и не постигает, как дерзнула злоупотребить его любезностью и попросила заплести косу или накрутить волосы на папильотки, — ведь эти вульгарные занятия его недостойны. Тут-то и начинаешь сожалеть о наивном парикмахере былых времен: с этим добрым малым вы могли обращаться без церемоний; к нему вы могли выйти на час позже без всякого стеснения. А поскольку никто не любит стеснять себя даже ради хорошей прически, мы видим вокруг множество тюрбанов и чепцов: женщины идут на все, лишь бы пореже прибегать к услугам парикмахера — этого важного господина, которого надобно принимать с превеликим почетом.
Итак, в наши дни каждый стыдится своего ремесла и, занимаясь им, думает только об одном: как бы сделать вид, что он им не занимается… меж тем никто никогда не выполняет хорошо то дело, которого стыдится. Как преуспеть в искусстве, от которого ты отрекаешься? как приобрести талант, который не любишь и которым не гордишься? Если гений есть навязчивая идея, талант есть страстный труд. Не бывает превосходства без мономании, а мономании — без явного преувеличения. Художник, который будет художником только в своей мастерской, останется посредственностью. Чтобы превосходно овладеть какой-то областью искусства, нужно быть ею одержимым; чтобы добиться блестящих результатов в какой-то профессии, нужно ее уважать и лелеять, нужно предаться ей целиком. Если профессия эта имеет мелкие недостатки и смешные стороны, нужно отважно выставлять их напоказ; нужно принимать их как неизбежное следствие тех достоинств, какие потребны для этой же профессии. Актер должен быть актером; он должен ходить изящно, а не так, как вы, и произносить слова с необычайной четкостью; ибо, если он будет говорить как все, его не услышат со сцены. Нотариус должен иметь вид нотариуса, чтобы его спокойные простые манеры внушали клиенту доверие. Никто ведь не станет доверять свои секреты и диктовать завещание красавцу-денди, не так ли? Банкир, напротив, должен хвастать богатством; его опасной и яркой профессии пристали блеск роскоши и соблазны тщеславия; таким образом он завязывает новые связи и приманивает невежественных светских клиентов, которые жаждут быть ослепленными позолотой; кредитор нуждается в почтении, а неизбывного почтения, полагают иные глупцы, достойна только роскошь. Адвокат должен быть адвокатом, как бы нас ни убеждали в обратном; речь его красна потому, что изворотлив ум; именно потому, что у него нет окончательного мнения ни о чем, он всегда готов блестяще рассуждать обо всем. Повторяем, нужно быть самим собой и этого не стыдиться; нужно отважно носить на себе печать своей профессии и не краснеть за ее недостатки, ибо мнимые эти недостатки суть самые настоящие достоинства.
6 июня 1840 г.
Incendio di Babilonia[473]
[…] На этой неделе мы слышали прелестную, чарующую, восхитительную оперу; слова ее обворожительны, они блистают умом и веселостью; музыка под стать словам; все зрители пришли в восторг, все рукоплескали с воодушевлением, хохотали с наслаждением; все арии были прелестны; одни, плавные и мелодичные, были достойны Россини; другие нежной печалью напоминали любовные жалобы Беллини; третьи звучали грозно, четвертые насмешливо; все итальянские стили были воспроизведены удивительно удачно, ибо подражания были оригинальны, — полная противоположность творениям наших современных авторов, у которых вся оригинальность сводится к подражанию. Успех был так велик, что публика потребовала повторить представление, однако авторы — невинные овечки! — проявили неколебимую скромность: они назвали свое сочинение робким опытом, ни к чему не обязывающей шуткой, которой они не желают сообщать ни малейшей публичности, и прибавили еще много фраз, в которых было много самоуничижения, но мало смысла. Мы сказали им в ответ: позвольте нам и нашим друзьям послушать вашу оперу еще раз — и мы не скажем о ней ни слова. Не хотите? — что ж! В таком случае мы разберем ее так же подробно и беспристрастно, как если бы она была представлена на королевском театре. Скажите еще спасибо, что покамест мы не назовем ваших имен. Но если по прошествии трех дней вы откажетесь снова, мы поведем себя так же безжалостно, как и вы, мы торжественно объявим ваши имена, профессии и адреса, которые так трудно узнать и которые вы тщетно надеетесь скрыть. Мы назовем поименно ваших исполнителей: финансистов, боящихся, что клиенты выяснят, как тонок их слух; чиновников, трепещущих при мысли, что начальник департамента узнает, как прекрасен их голос; юных дев, опасающихся, что свет осудит их за ангельское пение; осмотрительных судей, страшащихся утратить репутацию людей степенных, если станет слишком очевидно, что они поют, как соловьи, — всех этих робких созданий, которые скрывают свой талант, словно преступление или благодеяние; мы назовем их имена все до единого. Советуем им как следует обдумать наше предупреждение… Мы ждем ответа.
Эта опера-буффа называется «Incendio di Babilonia»; название объясняется очень просто: в этой опере нет ни пожара, ни Вавилона; не всякий автор либретто может похвастать резонами столь основательными. Сюжет оперы незамысловат. Все обстоит так же, как в любой другой итальянской опере: принцесса любит юношу, за которого не выходит замуж; выходит она за кровавого тирана, которого не любит. Имена действующих лиц говорят сами за себя: Жесточино, тиран Сиракузский (в самом деле, если уж быть тираном, то только в Сиракузах); Орландо, мальтийский рыцарь (разве рыцари водятся где-нибудь, кроме Мальты?); Клоринда, иностранная принцесса (определение туманное, но тем более загадочное). Жесточино прогуливается по лесу в ожидании Клоринды, на которой намерен жениться! Он слышит пение гондольера… Гондольер в лесу!.. в Вавилоне!.. Неважно, оперные либретто приучили нас к вещам куда более странным. Является паломник, который, разумеется, оказывается не кем иным, как переодетым соперником. Тиран и паломник затягивают дуэт — безмерно смешной, безмерно остроумный и безмерно итальянский; невозможно сочинить пародию более обворожительную, более тонкую и более ехидную; тиран в течение четверти часа произносит одно-единственное слово parlate[474] на все лады, с самыми блистательными и самыми разнообразными модуляциями. Паломник все время пытается ответить, но тиран постоянно прерывает его, выкрикивая свое вечное parlate! parla…a…a…te, par…la…te… parla…te. Наконец паломнику удается вставить, что он паломник; но и он тоже ничего другого сказать не способен, и в конце концов тиран, наскучив этой монотонной репризой, отвечает ему по-итальянски: Voi rabachate, amico[475]. Тут является Клоринда; она узнает Орландо; не в силах скрыть своего волнения, она поет по-настоящему прекрасную арию, слова у которой очень итальянские и очень забавные; двое соперников осыпают друг друга оскорблениями, как в настоящей итальянской опере, и удаляются, чтобы сразиться, а принцесса сходит с ума, как и полагается в итальянской опере. Во втором акте Клоринда исполняет большую арию вместе с хором. Либретто описывает это так: «Она бледна и растрепана с одного бока, из чего, по-видимому, следует сделать вывод, что она еще обретет рассудок». Сцена безумия сделана восхитительно: музыка исторгала бы слезы, когда бы слова не вызывали хохота. Жалобная песнь Клоринды исполнена такого отчаяния и такой страсти, что ее невозможно слушать без волнения и восторга, однако в минуту наибольшего страдания принцесса восклицает: Sono touta defrisata[476]. С этого мгновения зрители забывают о серьезности и рукоплещут остроумию, хотя только что восхищались страстью. Если нам не позволят услышать «Incendio di Babilonia» еще раз, мы объявим в следующую субботу, что автор либретто — господин…, а музыку сочинил господин…. Сочинение столь талантливое и столь оригинальное не может долго оставаться анонимным[477].
13 июня 1840 г.
Балласт
Наступило лето, и кажется, будто Париж замер, на самом же деле он развлекается еще более бурно, чем зимой. Поездки в театр сменяются поездками за город, утренние прогулки предшествуют вечерним балам; вместо того, чтобы сказать друг другу «прощай» до осени, светские люди танцуют очередную мазурку; в большую моду вошли балы для узкого круга; изобретено даже средство их усовершенствовать: теперь на них вовсе не приглашают докучных гостей, какие в просторечии именуются балластом (скоро мы объясним вам значение этого слова). Докучных сбрасывают со счетов под тем предлогом, что они якобы уехали из города еще неделю назад. Хозяева во всеуслышание сокрушаются о том, что не могут позвать к себе этих надоедал, а встретив их, восклицают с простодушным изумлением: «Как? вы еще в Париже!.. Если бы я знал!.. вы ведь говорили мне… — Что уеду в следующем месяце. — А я услышал „в следующее воскресенье“. Какая жалость!» Вот так хитроумные устроители балов расправляются с докучными гостями и получают возможность развлекаться без балласта.
А вот и обещанное толкование слова: согласно словарю Французской академии, балластом в переносном смысле именуют в разговорной речи особу чересчур полную и потому двигающуюся с большим трудом, а также такую особу, которая в обществе никому не доставляет удовольствия, но зато причиняет многим немалые неудобства[478]. Эта женщина превратилась в балласт; право, она настоящий балласт; вот уж балласт так балласт; как избавиться от подобного балласта?!
То было толкование; а вот применение: в свете балластом называют обычно всех докучных людей — тех, кем никто не гордится и в ком никто не испытывает нужды; например, на балу
Дядюшка-миллионер никогда не бывает балластом;
А тетушка из провинции бывает им всегда;
Иностранка… никому не известная особа, которая задает роскошные балы, никогда не бывает балластом, пусть даже она толста, как слон, больна и слаба;
Острая на язык кузина, которой прекрасно известны все ваши смешные стороны, ваши честолюбивые помыслы или ваш возраст, всегда будет балластом, пусть даже она стройна, как тополь;
Сестра того, кого вы любите, никогда не бывает балластом;
Друг того, кого вы больше не любите… это балласт! балласт! ужасный балласт!
Муж-волокита никогда не бывает балластом;
Муж-ревнивец — балласт, достойный почтения… но все же балласт!
Жена министра никогда не бывает балластом; она называется иначе — крупной шишкой;
Жена уволенного чиновника через секунду после того, как он лишился места, превращается в балласт;
Интриган не бывает балластом никогда;
Милейший человек бывает балластом почти всегда;
Старый фат редко бывает балластом;
Юный и восторженный воздыхатель делается балластом время от времени;
Англичанка преклонных лет может не быть балластом, если вам предстоит поездка в Лондон;
Толстая немка имеет все шансы стать балластом, если у вас нет намерения еще раз побывать в Германии;
Араб в тюрбане, турок в рединготе, грек в юбке, шотландец в мундире не бывают балластом никогда;
Чересчур белокурый датчанин и чересчур смуглый португалец, явившиеся к вам с рекомендательными письмами от дальних родственников, — несомненный балласт;
Модная красавица, причиняющая вам тысячу огорчений, — ни в коем случае не балласт;
Врач, спасший вам жизнь, но не известный никому в свете, — очевидный балласт.
И это отнюдь не полный перечень людей, достойных звания балласта… Да будет нам позволено не перечислять их всех. Говоря короче, на балу для узкого круга все, что не пленяет взора и не тешит честолюбия, безусловно лишнее. Гостей для салона надо выбирать ничуть не менее тщательно, чем мебель. Вельможи и богачи здесь все равно что зеркала и позолота; элегантные юноши и хорошенькие женщины — все равно что светильники и цветы. Что же касается старых друзей и старых книг, благочестивых воспоминаний и прекрасных полотен, добрых искренних чувств и добрых старых кресел, их место — не в гостиной, а в кабинете. Свет — загадка, разгадку которой узнаёт не тот, кто сострадает людям, а тот, кто льстит их тщеславию. […]
11 июля 1840 г.
Переезды по расчету и переезды по любви
Хотите знать, чем занимаются последнюю неделю жители Парижа, а вернее сказать, те из его жителей, которые остались в Париже? — Они переезжают: ведь переезды — одна из традиционных летних забав.
Подобно бракам, переезды совершаются либо по прихоти, либо по расчету.
Существует, правда, и третий вид переезда, который можно было бы назвать переездом по любви: это тот случай, когда, сменив предмет любви, человек желает сменить и квартал; но об этом виде переезда мы сейчас говорить не будем.
Переезд по прихоти не лишен приятности: как правило, если вы решаете сменить квартиру без особой необходимости, то лишь ради того, чтобы вселиться в квартиру гораздо более уютную; нередко случается так, что квартира эта давно вам известна, давно вызывает у вас зависть и именуется в ваших разговорах не иначе как «квартира госпожи Такой-то». В течение года вы говорите сами себе: «Ах, если бы эта гостиная была моя, я бы обставила ее совсем иначе». Поэтому, когда перед вами наконец открывается возможность переселиться в это вожделенное жилище, вы не слишком смущаетесь тяготами переезда. Вдобавок перемена квартиры не вынуждает вас переменять ваши привычки: вы остались в том же квартале, возможно даже на той же улице; рядом по-прежнему живут родственники и друзья, которые спешат посетить вас на новом месте и дать вам советы — иногда полезные, а иногда и престранные.
— На вашем месте, — говорит первый визитер, — я устроил бы в этой комнате спальню, а из этой сделал бы вторую гостиную — элегантный салон, какие сейчас в большой моде[479]. — Превосходно, — отвечает терпеливый новосел, — а куда прикажете поместить моего ребенка? — У вас есть ребенок? — Моя жена на восьмом месяце. — Правда? а я и не заметил. — Да мы ведь из-за этого и переехали. — Ах вот как! — Когда имеешь ребенка, любезнейший, тут уж не до элегантных салонов. — Теперь я понимаю, почему вы не хотите завести вторую гостиную, но в таком случае вы можете завести второго ребенка; комната отличная, из нее выйдет прекрасный дортуар.
— Лично я, — говорит другой визитер, — поставил бы вот этот Булев шкаф между двумя окнами. — Да он там не поместится. — А я вас уверяю, что он там будет смотреться превосходно.
Недоверчивый друг измеряет шкаф и трюмо, стоящее между окнами; разница чудовищная: недостает полуметра, не меньше…
— Пожалуй, вы правы, — говорит он.
Тут является молодая женщина, воображающая себя превосходной музыкантшей.
— Какое святотатство! — восклицает она. — Поставить восхитительный рояль работы Эрара на сквозняке, между дверью и окном! Это непростительно! — Куда же прикажете его поставить? — Вон туда. — Но ведь там он очутится между окном и двумя дверями. — Ах, так вот это — дверь? — Да, сударыня. — Надо же, а я ее не заметила.
Наконец является элегантный мазила, который мнит себя Рафаэлем оттого, что дружит с одним талантливым живописцем.
— Эта картина висит не на месте! — восклицает он. — Перевесьте ее вот сюда; здесь гораздо светлее! — Да, но здесь еще и гораздо теплее: внутри этой стены идет дымоход того камина, что обогревает столовую; на эту стену ничего нельзя вешать. — Ах вот как; тогда дело другое.
В конце концов каждый из советчиков отдает справедливость хозяину дома, который, преодолев множество препятствий, совладав со множеством трудностей, приняв во внимание множество обстоятельств, устроился в своем новом жилище наилучшим образом; затем советчики восхищаются его безупречным вкусом, прекрасным выбором тканей, восхитительным преображением старой мебели. Наконец, истощив весь запас любезных комплиментов, родственники и друзья удаляются, бормоча: «Какое убожество! — Настоящий склеп! — Прежняя квартира нравилась мне гораздо больше!»
Если же, напротив, новая квартира настолько лучше старой, что отрицать это невозможно, тогда в ход идет философия. «Конечно, это стоит больших денег, — говорят визитеры, — но лично я не гонюсь за роскошью; неужели вам нравятся все эти картины, вся эта позолота в гостиной? — Мне? нисколько; чувствуешь себя как в кофейне».
Когда речь идет о нас, друзья наши так требовательны, что всегда хотят чего-то большего.
Что же касается переездов по расчету, они, как и браки по расчету, суть не что иное, как ужасные жертвы, на которые может толкнуть только отчаяние. Вы, например, жили в прекрасном особняке, который вынуждены сдать внаем, а за собой оставить только уголок, чтобы, возвращаясь в Париж, находить приют — ничуть не более удобный, чем приют для найденышей; или — что еще печальнее — вы владели прелестным домом, который вынуждены продать, а с ним связано столько драгоценных воспоминаний! Покидать его вам так тяжело, что к поискам нового жилища вы относитесь с безразличием и даже с отвращением. Все парижские дома, на ваш взгляд, равно безобразны. Вы не можете разобраться в их причудливом устройстве. В тех огромных казармах, которые возводят в Париже последние шесть лет, есть таинственные квадратные дворики и застекленные колодцы, в которых вы угадываете какую-то непонятную ловушку; лестницы кажутся вам бесконечными. Комнаты для прислуги, располагающиеся прямо под свинцовой крышей, напоминают вам страшные венецианские темницы. А при виде чахлых садиков, в которых нет ни деревьев, ни воздуха, ни света, вы вспоминаете словцо одного шутника, который говорил, открывая окно: «Давно пора проветрить мой сад». Вы осыпаете проклятиями всех архитекторов, всех домовладельцев, всех жильцов и всех привратников. Прежде вы жили в своем доме один, а теперь вам придется обитать в некоем фаланстере, населенном целой толпою незнакомцев. И это еще не все: чтобы снять пристойную квартиру по сходной цене, вам пришлось переменить квартал; в новом квартале вы никого не знаете, а старые друзья живут слишком далеко и у вас не бывают; одним словом, переезд по расчету обрушивает на вашу голову все несчастья разом. Вы теряете одновременно и счастливую возможность не зависеть от соседей, и приятное право общаться с ними по доброй воле. В новом доме вы никогда не остаетесь в одиночестве, зато в собственной гостиной вы одиноки всегда. […]
1 августа 1840 г.
Война. — Господин Тьер. — Вас не уважают? тем лучше для вас
Прошедшая неделя была богата событиями самого разного рода, тревогами и надеждами, разочарованиями и развлечениями. На дворе июль. Война! война! вот клич, который слышится со всех сторон; полезная война, как выражался процитированный нами недавно господин Фурье[480]. А с какой, собственно, стати война? А с той, что господин Тьер — любезный шалопай; он превосходно умеет заключать союзы, но не умеет их предвидеть; политическая справедливость — не пустой звук: кто с мечом придет, от меча и погибнет, кто победил с коалицией, от коалиции и погибнет[481]. Некогда все европейские державы объединились, чтобы отомстить Наполеону; сегодня те же державы объединяются, чтобы оставить с носом господина Тьера. Это единственное сходство между человеком великой судьбы и человеком малого роста, какое мы сумели отыскать. А в результате Франция будет ввергнута в неравную борьбу, из которой она выйдет со славой, в этом мы не сомневаемся, но которая будет стоить ей множества солдат и множества денег… Уже теперь все наши торговые сношения под угрозой, все наши промышленные предприятия погублены, все наши мануфактуры парализованы, все наши интересы ущемлены… Уже теперь мятежники поднимают голову и все права подвергаются пересмотру; вся Европа вот-вот запылает… А почему?.. Говоря откровенно, по одной-единственной причине: потому что господин Тьер захотел во что бы то ни стало сделаться министром.
Тому, кто, как мы, смотрит на политику с философской точки зрения, представляется, что это довольно ужасное следствие для такой мелкой причины.
Впрочем, следует отдать должное господину Тьеру: он не единственный, кто желает быть министром, и если он становится им довольно часто[482], то лишь потому, что пользуется поддержкой самой живой части нации, которой он служит природным вождем и истинным представителем. Мы нынче — нация завистников, мы стремимся провести наших вождей и согласны следовать лишь за тем, кого мы презираем. Мы похожи на тех мужей, которые желают любой ценой отстоять свою независимость и потому отвергают советы жены, но зато исполняют прихоти любовницы: первую они не слушаются потому, что признают ее суждения верными и боятся подпасть под ее влияние; второй они покоряются незаметно для себя, потому что считают ее недостойной ими командовать; превосходство первой оказывается ее слабостью, посредственность второй становится ее силой. Все гордецы таковы: им на роду написано подчиняться тем, кого они презирают; между тем ныне, когда все мы отравлены завистью, люди поистине великие нам страшны, а люди достойные — противны; благородство характера нас унижает, чистота языка — оскорбляет, а элегантность манер приводит в ужас. Мы честные республиканцы и ненавидим любые короны, хоть королевские, хоть графские, и любые венки, хоть из лавра, хоть из плюща — символа невинности. Мы рьяные демократы и ненавидим всякое благородство — хоть рождения, хоть поведения, хоть манер; всякий знатный человек нам подозрителен, а человек выдающихся достоинств — просто невыносим, если достоинства эти не искупаются множеством смешных черт и множеством опрометчивых поступков. Мы, французы, любим господина Тьера именно потому, что он человек худого рода, дурного сложения и плохого воспитания[483]; именно благодаря этому мы прощаем ему острый ум, незаурядные таланты и великодушные чувства. Недостатки его извиняют в наших глазах его достоинства.
В такую эпоху, как наша, самое страшное для политика — иметь благородное происхождение, благородную стать и благородные манеры. В этом трагедия господина де Ламартина[484]. Напротив, самое прекрасное — иметь заурядное происхождение, заурядную стать, заурядные манеры. В этом счастье господина Тьера.
Однако те самые бесценные преимущества, которые внутри Франции помогают политику быстро прийти к власти, за ее пределами вредят ему самым досадным образом. Европа ничего не смыслит в наших либеральных идеях; она все еще заражена самыми смешными предрассудками. Ей подавай знатных вельмож с элегантными манерами, она до сих пор охотно толкует о придворной учтивости — меж тем для нас эти слова утратили всякий смысл. Напротив, то, что нас чарует, Европе не нравится, и ей стоит большого труда принимать всерьез наших дипломатов из приказчиков и наших вельмож из плебеев. Она насмехается над ними, и совершенно справедливо; они этого заслуживают, потому что не смогли заставить себя уважать.
Огюст Пюжен. Палата депутатов.
Огюст Пюжен. Собор Инвалидов.
У них был способ стать более величавыми, чем самые величавые вельможи, более благородными, чем самые благородные европейские семейства, — для этого нужно было только остаться на своем месте и возвести в добродетель последовательное самоотречение. Министры, получившие назначение после Июльской революции, должны были поражать европейцев простотою манер и устрашать их скромностью. Человек, лишенный тщеславия, обладает огромным преимуществом перед человеком, который только тщеславием и живет. Вельможа утрачивает величие, имея дело с человеком, который не верит в вельмож. Дорант и Доримена остаются важными персонами до той поры, пока имеют дело с мещанином во дворянстве, но в глазах госпожи Журден, которой смешно их великородие, они сущие ничтожества[485]. Господин Тьер, дитя революции, провозгласившей эру равенства и царство ума, должен был остаться верным тем принципам, какие воплощал. Вместо того чтобы хвастать смешной роскошью, щеголять пестрыми знаками отличия, напяливать расшитые мундиры (и какие мундиры!), вместо того чтобы подражать манерам всех послов, которых он принимал, он должен был, напротив, поражать их подчеркнутой скромностью, последовательным безразличием к любой роскоши и любой пышности[486]. Смешным и уязвимым человека делают только его претензии. Вдобавок у каждой власти свои источники уважения; представителю народа пристало завоевывать уважение собственной простотой.
Какое огромное влияние оказал бы сегодня господин Тьер на всех европейских дипломатов, когда бы не радовался с непристойной ребячливостью визиту любого посла, а дал понять со всей учтивостью, что визит этот отрывает его от патриотических трудов; когда бы не гнался за приманками для честолюбцев давно прошедших веков, а провозгласил великие основания политики новой эпохи! Как переменились бы роли в этом случае! Тогда бы не выскочка принимал у себя знатных господ, тогда человек независимый, ибо мыслящий, принимал бы у себя людей зависимых, ибо корыстолюбивых; тогда бы не сумасбродная и буйная юная Франция выслушивала поучения от старых царедворцев, а возрожденная, грозная, но снисходительная Франция давала ветхой Европе шанс омолодиться. Тогда будущее, уже обладающее огромной силой, уважало бы причуды прошлого. Тогда нарождающаяся демократия, царица мира, терпеливо сносила бы существование старой европейской аристократии, как род почтенного недуга. Тогда юная мысль великодушно протягивала бы руку старому предрассудку. Тогда разум и сила выказывали бы себя добрыми и снисходительными по отношению к слабости и тщеславию… Но как быть?! Господин Тьер верит в вельмож; если лорд шутки ради соблаговолит написать ему письмо, это ему льстит; если знатная дама смеху ради решит его навестить, это ему льстит; если его одаряют широкой лентой любого цвета, это ему льстит; а ведь всем известно, как обращаются с людьми, падкими на лесть:
Всякий льстец Живет за счет того, кому польстил он[487], —и вот почему после двадцати пяти лет мирной жизни мы ввяжемся в войну. Да хранит Господь Францию! […]
6 декабря 1840 г.
Политические впечатления. — Лесоторговцы и трикотажники в роли публицистов.
— Политика господина Тьера есть не что иное, как поэзия
Всю последнюю неделю внимание парижан было занято блестящими выступлениями в палате депутатов[488]. Не желая оставаться в стороне, мы решили также познакомиться с этими великими талантами и выслушали некоторые из этих великолепных речей. Вот что примерно мы услышали (сравните с газетами, выходившими на минувшей неделе).
ПОЛИТИЧЕСКИЕ ВПЕЧАТЛЕНИЯ. — Первая речь господина Гизо: Господа, дипломатия — игра, которая, как и все прочие, требует честности. Европейские дипломаты заметили, что многоуважаемый господин Тьер жульничает, и не пожелали больше с ним играть; вот отчего они подписали конвенцию 15 июля.
Речь господина Тьера: Многоуважаемый господин Гизо вводит палату в заблуждение. Я написал ему письмо следующего содержания. Он ответил мне письмом, которого я вам не сообщу, но которое докажет вам, что он был скверным послом[489]. А что касается короля, я на него смертельно обижен за то, что он позволил мне уйти в отставку в тот самый момент, когда я больше не мог оставаться на посту. А ведь я сделал ему такой подарок, какого не дерзнул сделать никто, я подарил ему отдельно стоящие форты[490]!
Речь господина Одилона Барро: Господину Тьеру было угодно выдвинуть меня в председатели палаты. Я тоже хочу что-нибудь для него сделать. Сказать мне нечего; неважно, все равно я буду говорить три часа. Это мой долг… Не забуду я и о моей партии. Отныне вместо господин Бруннов я буду говорить господин Вруннов…[491] (Оратора прерывают.). Я благодарю того, кто меня прервал, он дает мне возможность оправдаться. Да, господа, уступая чувству, простительному в юном существе, я в 1815 г. вступил в число волонтеров-роялистов; но я никогда не входил в число волонтеров-роялистов[492].
Речь господина Берье. Господа, невозможно поверить, чтобы Европа не пожелала отринуть то правительство, какое не нравится мне. Я заодно с господином Тьером и некоторыми дамами сделаю все, чтобы его свергнуть… Голос мне изменяет… не могу говорить… лучше я спою вам Марсельезу[493].
Речь господина де Ламартина: Это правительство нравится мне не намного больше предыдущего, но интриганы губят мою страну, и я хочу по крайней мере попытаться ее спасти; вдобавок, когда дело идет о французской чести и военной славе, я скорее доверюсь маршалу Империи[494], чем адвокатам, которые никогда не держали в руках оружия.
Речь господина Ремюза: Господа, я мог бы сказать… но…[495]
Бывший министр внутренних дел с жестоким великодушием утаил от нас свои мысли, последуем же его примеру… Не станем говорить всего, что мы думаем о его искренности.
Речь господина Гарнье-Пажеса[496]: Господин Гизо ничем не лучше господина Тьера; господин Тьер ничем не лучше господина Барро, а тот не лучше всех остальных. Что касается меня, то я, признаюсь честно, ни на что не годен и не желаю никаких прав, кроме права насмехаться над всем и вся.
Вторая речь господина Гизо: Я не потерплю, чтобы сегодня о королевской власти говорили то, что говорил я сам два года назад. Мне не могут простить того, что я состоял в коалиции. Я и сам не могу себе этого простить. Воспоминание об этом ежеминутно терзает меня; но мой долг — прогнать его раз и навсегда. Я не позволю провозглашать с этой трибуны, что король вмешивается в дела страны. Это клевета, которую я обязан опровергнуть[497]. Король, господа, вовсе не интересуется тем, что творится в его королевстве. Он прекрасно знает, что сделан королем только на том условии, что царствовать не станет. Никогда он не забудется до того, чтобы высказывать министрам свое мнение; он позволил господину Тьеру сделать все ошибки, какие вам известны; он позволит мне сделать все те, на какие способен я. Когда речь идет об управлении Францией, король ничто, не способен ни на что и ни за что не отвечает; его дело — быть мишенью для убийц. Нам — власть, ему — выстрелы: каждому свое. Да здравствует Хартия!
Речь господина Жобера[498]: Прежде я находился под влиянием господина Гизо, нынче я нахожусь под влиянием господина Тьера, но это ничуть не уменьшает моей независимости; вот вам доказательство: я бранюсь и гневаюсь, как человек, который больше всего на свете любит себя самого. Я произвел множество общественных работ в личных целях (как то: большое шоссе, канал и железную дорогу, которые ведут к моему металлургическому заводу в Фуршамбо и которые не стоили мне ровно ничего); я подал хороший пример. Министр общественных работ не должен пренебрегать работами частными. […]
Следует заметить, что во время выслушанной нами достопамятной дискуссии все речи начинались одними и теми же словами: «Я желаю положить конец этим недостойным намекам и проч.» — и все заканчивались этими самыми недостойными намеками. Подобное начало внушает ужас, и недаром: только тот испытывает потребность сказать: «Боже меня упаси от намеков на какие бы то ни было личности», кто как раз и собирается намекнуть на некую личность, причем намекнуть очень грубо, — иначе незачем было бы вообще поминать намеки. Точно так же как если человек говорит: «Я не стану напоминать вам о таких-то и таких-то обстоятельствах», это всегда означает, что он напомнит об этих обстоятельствах подробнейшим образом.
Другая ораторская уловка: «Если бы я не боялся прибегнуть к сильным выражениям, я сказал бы…». После этого оратор прибегает к выражениям очень сильным и даже запрещенным; но он заранее отвел от себя обвинения; он ведь не сказал, а сказал бы.
Еще одна уловка, ничуть не менее опасная: «Я не буду говорить долго…». «Я не буду говорить долго» означает «я буду говорить два часа без остановки». Преамбула устрашающая, но еще не самая страшная. Куда хуже, когда оратор начинает со слов: «Я не злоупотреблю вниманием палаты…». В этом случае уходите немедленно; такой зачин означает: «Я намерен говорить четыре часа кряду и ни минутой меньше». Считайте, что вас предупредили.
Тем не менее заседания палаты, судя по всему, вызывают большой интерес: трибуны заполнены слушателями и, главное, слушательницами. А ведь провести день в палате — испытание не из легких. Как неудобно сидеть даже на самых лучших местах, как там тесно! Какие острые углы у трибун! Как негостеприимны и немилосердны банкетки, установленные здесь в целях экономии! Только тот способен высидеть на них неподвижно шесть часов подряд, кто от души гордится талантом своих друзей… или от души потешается над промахами своих врагов! Только воодушевление помогает нам сносить пытки. А парламентскую пытку может снести без ропота лишь тот, кто сильно любит или сильно ненавидит.
Было замечено, что в те дни, когда должны выступать господин де Ламартин и господин Берье, залу палаты заполняют женщины. Как прекрасно было заседание, на котором можно было услышать обоих этих блистательных ораторов; мы очень сожалели, что не попали в число счастливцев. Шутки в сторону: судя по всему, господин Берье говорил в тот день еще лучше и еще убедительнее, чем обычно. Господин Берье не просто блестящий оратор, он истинный творец! А потому он воспламеняется, возбуждается, попадает под власть собственной идеи; он горит, дрожит, трепещет, его снедает жар вдохновения. Трибуна для него — треножник.
После этой прекрасной импровизации пророка слово взял господин де Ламартин; он произнес превосходную речь государственного мужа, но господа журналисты внезапно возопили все хором: «Это речь поэта!»[499] Много ли остроумия в том, чтобы постоянно попрекать политика его профессией? А если бы так же поступали с вами, господа, что бы вы сказали? Если бы, например, вместо того чтобы обращаться к вам как к публицистам, вам вечно припоминали ваши прежние занятия; если бы вместо «Французский курьер полагает, что Европа нас оскорбила» говорили: «Господин Леон Фоше, гувернер детей господина Дайи, полагает, что Европа нас оскорбила[500]»; если бы вместо «Насьональ обвиняет российского императора в завоевательских намерениях» писали: «Лесоторговцы из Насьональ обвиняют российского императора в завоевательских намерениях»[501]; если бы вместо «Конститюсьонель советует князю фон Меттерниху…» ставили: «Трикотажники из Конститюсьонель[502] советуют князю фон Меттерниху», — сочли бы вы все эти обороты проявлениями хорошего вкуса? Конечно нет. В таком случае отчего же вы каждое утро упрекаете господина де Ламартина в том, что он поэт, и отчего никак не желаете признать, что если все вы, лесоторговцы, отошедшие от дел, неудавшиеся трикотажники и разочарованные аптекари, мните себя политиками, и притом превосходными, поэт тоже может быть хорошим политиком? Разве кто-нибудь оспаривал у вас право отправлять в отставку министерства и лишать покоя Европу? Отчего же вы отказываете в праве обсуждать вопросы государственной важности большому поэту — человеку, который испытывает сердца, изучает историю, просвещает народы, судит королей и вопрошает Бога?
Кстати, разве то, чем занимаетесь вы, называется политикой? Нет, это вовсе не политика, это чистой воды поэзия; а кто такой ваш патрон господин Тьер? Политик? Ничуть не бывало, он самый настоящий поэт. К чему сводятся его министерские грезы? К тому, чтобы произвести поэтические эффекты, и ни к чему иному. Господин Тьер посылает наши корабли за море, на скалу Святой Елены за прахом великого императора, дабы гений битв, триумфально водворенный в отечественные пределы, мог покоиться под родным небом в окружении своих старых солдат[503]. Можно ли назвать это серьезной политической идеей? Нет. Но зато это идея поэтическая, и притом исполненная величия.
Господин Тьер приказывает изготовить монументальную колесницу, которая, явив всему городу свою погребальную мощь, доставит к славной усыпальнице священные останки июльских жертв. Имена героев высечены на элегантной колонне, увенчанной гением Свободы. Можно ли назвать это серьезной политической идеей? Нет. Но зато это идея поэтическая, даже мифологическая, и притом бесспорно прекрасная[504].
Господин Тьер отправляет к паше в качестве тайного посланника господина графа Валевского… Можно ли назвать это серьезной политической идеей? Нет. Но зато граф Валевский в Египте… это идея поэтическая, и притом весьма соблазнительная[505].
Господин Тьер хлопочет о награждении своей юной супруги орденом Марии-Луизы Испанской; в конце концов он добивается своего. Можно ли назвать это серьезной политической идеей? Нет. Но украсить очень хорошенькую молодую особу превосходной бело-малиновой лентой — это идея поэтическая, и притом весьма изящная. Во всяком случае, это безусловно идея не революционная.
Заметим, что есть вещи, которых мы не можем слышать хладнокровно; одна из них — это речи господина Тьера, в которых он именует себя революционером; нам они кажутся невероятным фатовством. Господин Тьер революционер!.. Куда там! в деле управления государством нет человека более косного, более ретроградного. Господин Тьер правит древними проверенными методами; к его услугам военное положение и черный кабинет[506], старые полицейские традиции, старые чиновничьи предрассудки и старые министерские приманки: большое жалованье, роскошные обеды, заискивание перед иностранными послами, брильянтовые пряжки, орденские ленты, одним словом, все обветшавшее тряпье Империи (но без ее славы) и Реставрации (но без ее достоинства). В остальном — ни единой реформы, ни единой новой идеи; об организации демократического правления — ни слова; об усовершенствовании выборной системы — ни слова; об интересах землепашцев — ни слова; о благосостоянии и воспитании народа — ни звука. Как быть! Все эти вещи для господина Тьера недостаточно блестящи; они не приносят славы и не сулят эффектных театральных развязок; политик, которого интересует в первую очередь поэзия, не может их не презирать, они кажутся ему чересчур земными и холодными. Зато их, возможно, сочтет привлекательными поэт, которого интересует в первую очередь политика.
20 декабря 1840 г.
Возвращение со Святой Елены. — Принц Жуанвильский[507]
Боже мой! как прекрасен французский народ! как любит он все великое, благородное, поэтическое, великодушное! Как много потребуется слов и трудов, чтобы превратить его в народ эгоистический и буржуазный! Да и то ради того, чтобы преуспеть, придется пойти на обман. Ибо тем-то и славен наш народ, что развратить его можно только благородными речами, сбить с пути истинного — только идя прямым путем, предать — только скрывшись под прекрасной личиной. Все те, кто уже много веков пытались толкнуть его на преступления, уважали его характер и потому прибегали к лицемерию: все плуты, подлецы, завистники, честолюбцы, которые использовали в собственных целях его героизм, вынуждены были взывать к его рыцарскому великодушию и обольщать его блистательными обманами. Никто не осмеливался сказать ему: сделай это для своей пользы, возьми это ради своего обогащения. Его заставляли творить зло именем добра. Те, кто замышляли резню Варфоломеевской ночи, толковали ему о религии и кричали: «Защити своего Бога!» Те, кто возводили эшафоты 1793 года, толковали ему о свободе и кричали: «Избавь от рабства своих братьев!» Те, кто сегодня готовят мятежи и убийства, толкуют ему об оскорблениях, которые необходимо смыть кровью, и кричат: «Отомсти за свою поруганную честь!»[508] Один-единственный человек был честен с народом; он сказал ему: «Сражайся за меня!» — и французы пошли за этим человеком с восторгом, и поклоняются его памяти по сей день, и будут поклоняться ей вечно, потому что он один понял их, он один не требовал от них никаких преступлений, он один не прививал им дурных страстей, он лишь приказывал им гибнуть с честью на поле боя, и они повиновались. О, если бы явился другой человек и приказал им жить со славой, они также повиновались бы. Французы — народ очень покорный, и те, кто учат этот народ плохому, — великие грешники; они не понимают, с кем имеют дело!
Как прекрасно было зрелище великодушного народа, с любовью приветствующего гроб победителя! Сколько рвения! сколько волнения! Четырехчасовое ожидание под снегом ни у кого не отбило охоту присутствовать на церемонии[509]. Люди дрожали, хмелели от холода, страдали безмерно, однако никто не ушел: моральную поддержку толпа черпала в любопытстве, умственную — в энтузиазме. Одни рисковали своим талантом: простуда грозила лишить их голоса; другие рисковали хлебом насущным: отнявшиеся руки сулили им нищету; третьи рисковали жизнью и все без исключения — здоровьем. Не важно! все ждали терпеливо и отважно. Конечно, пытаясь согреться, люди переступали с ноги на ногу; публика, пишут газетчики, не отличалась сосредоточенностью… Между прочим, публика была совершенно права: сосредоточенность под снегом равносильна смерти!
На церемонии присутствовало шестьсот тысяч человек, и из этих шестисот тысяч всего две сотни оказались смутьянами, которые пытались нарушить торжественную тишину своими криками[510]. Как! на шестьсот тысяч человек, алчущих порядка, пришлось всего две сотни любителей пошуметь? Мужайтесь же, люди рассудительные, объединяйтесь, сговаривайтесь и не позволяйте самым малочисленным быть самыми сильными.
Из всех возмутительных криков, прозвучавших в этот достопамятный день, самый странный звучал следующим образом: «Долой смертную казнь! Всех предателей — на гильотину!» Что же в таком случае эти новые законники подразумевают под отменой смертной казни? Право убивать других, сохраняя жизнь самим себе? Хотелось бы уточнить подробности.
Париж по сей день только и говорит что о знаменательном событии. Все спрашивают друг у друга: «Ну и как вы все это вынесли?» Для того чтобы вынести все с начала до конца, требовалось в самом деле немалое мужество; недаром сразу после церемонии все кругом сделались больны. Все разговоры начинаются с жалоб; каждый перечисляет недуги, какими поплатился за присутствие на церемонии. Лишь затем начинается обмен впечатлениями.
— У меня сердце забилось особенно сильно, когда тело императора внесли в храм, — говорит молодая женщина. — Раздался пушечный выстрел, и когда я подумала, что стреляет пушка особняка Инвалидов, а император этого не слышит, я не могла сдержать слез.
— А меня, — рассказывает молодой художник, — больше всего поразил луч солнца, который внезапно осветил мост Согласия в тот самый миг, когда там остановилась колесница. Игра света была так прекрасна, что и передать невозможно. Штыки, копья, каски, позолоченные конские попоны — все блестело; колесница сияла — то был настоящий апофеоз.
— Меня, — говорит женщина, возвысившаяся при Империи, — очень тронуло зрелище блестящих шталмейстеров и адъютантов императора, которые пешком следовали за его гробом. Сколько раз я видела, как они следовали верхом за ним самим! В какое прекрасное время мы жили!
— Да, — соглашается юная девица, — они были там все-все, даже бедный герцог Реджио[511]. Паралитик, идущий за гробом. Невозможно было на него смотреть без волнения.
— А бравые солдаты старой гвардии, — восклицает школьник, — как они были довольны, что им воротили императора! Как славно они плакали!
— Меня, — с улыбкой признается англичанин, — особенно умилил крик: «Долой англичан!»[512] Мне он показался довольно глупым, но я не стал об этом говорить: ведь акцент мог меня выдать, а я был совсем один. Такие мысли хорошо высказывать, заручившись поддержкой товарищей.
— Меня, — говорит суровый критик, — все это оставило совершенно равнодушным; я считаю, что оперная пышность оскорбляет величие смерти. Зато на меня произвело огромное впечатление прибытие «Дорады»[513]. Вот это зрелище было по-настоящему благородным и трогательным! Спасибо хорошему вкусу принца Жуанвильского: благодаря ему все театральные тряпки были выброшены на свалку. Молодой военачальник понял, что все эти прикрасы, вся эта позолота, способная пленить праздных и тщеславных жителей большого города, не пристали морякам, которые бороздят океаны; он понял, что корабль, везущий гроб императора и осененный крестом Господним, не нуждается в других украшениях!
— Принц Жуанвильский в течение всего этого путешествия держался великолепно, он был полон отваги и решимости, — подтверждает жена морского офицера, — мой кузен участвовал в этом плавании и обо всем мне рассказал. Вдобавок я сама видела, как принц с борта корабля узнал королеву: она поджидала прибытия сына на берегу Сены. Издали завидев мать, простирающую к нему руки, он и сам протянул руки к ней, а затем вновь принял вид серьезный и торжественный; это зрелище тронуло всех без исключения.
Огюст Пюжен. Застава звезды.
— Народ все время кричал: «Да здравствует принц Жуанвильский!» — говорит завсегдатай королевского дворца.
— Да, поездка на Святую Елену сделала его очень популярным, — продолжает старый генерал. — Он храбрый юноша, честный и прямой. Император бы его полюбил.
— Возможно! но будь император на его месте, он не стал бы возвращать свой прах.
— Вечно вы мелете вздор!
— Вы это называете вздором, а я — истиной.
Мы слушали эти разговоры и думали о том, что время — большой философ, а история — превосходная мать семейства: время все устраивает, все объясняет, все извиняет; история в конце концов примиряет своих детей со всем светом. Взять хотя бы этого подлого узурпатора, коварного корсиканца, отвратительного тирана, ненасытного людоеда, мерзкого крокодила, его проклинали, его ненавидели, ему изменяли, больше того, его забыли!.. И что же? теперь те, кто его проклинали, им восхищаются, те, кто его ненавидели, ему поклоняются, те, кто ему изменили, его оплакивают, те, кто его осуждали, его воспевают… Какие удивительные превращения! а ведь прошло всего два десятка лет! Как! неужели ненависть так непостоянна!.. Это открытие, пожалуй, заставляет по-новому взглянуть на любовь.
1841
24 января 1841 г.
Париж укрепленный. — Париж оглупленный. — Старые и молодые пустомели.
— Кому охота быть королем при конституционной монархии? — Вам неохота? мне тоже
Мы только что возвратились из палаты депутатов, где слушали речь господина де Ламартина, и она произвела на нас впечатление столь глубокое, что ни о чем другом мы и думать не можем[514]. Никогда еще наш поэт не выказывал себя таким блестящим оратором; никогда еще голос его не был так звучен, осанка так горда, взгляд так благороден, тон так страстен. Сидевший рядом с нами бывший депутат, человек весьма остроумный, до начала заседания высказывался довольно скептически насчет энтузиазма, с каким мы и наши друзья относимся к господину де Ламартину. «Не постигаю, отчего вы называете его лучшим нашим оратором…» — говорил он до начала заседания. После его окончания он заговорил по-другому: «Теперь я и думаю так же». Что же до нас, мы вернулись из палаты, не в силах думать ни о чем, кроме политики; помимо воли мы размышляли исключительно о фортификациях, сплошной крепостной стене и отдельно стоящих фортах и в результате преисполнились самого настоящего ужаса, ибо намерение окружить Париж укреплениями кажется нам чрезвычайно опасным.
Для нас это вопрос не только политический и национальный, это вопрос духовный, и проект, который не может не погубить нарождающееся в Париже царство ума, нас пугает. Мы убеждены, что, да простят нам это выражение, Париж укрепленный — это Париж оглупленный.
Скажите откровенно, знаете ли вы хоть один город на земле, который мог бы одновременно воевать и мыслить? Не знаете, ибо такого города не существует. Между тем парижское фирменное блюдо, как говорят рестораторы, — это выработка идей; весь Париж — гигантская фабрика по их производству. Есть города, которые живут торговлей, есть города, которые живут политикой или промышленностью, что же касается Парижа, то это единственный город на земле, который мыслит. Париж — философ, не делайте же из него солдата[515]. Не надевайте на него доспехи, тяжелая кираса помешает ему прогуливаться, размышляя о судьбах мира. Не надевайте на него каску, это помешает ему запускать руку в волосы, обдумывая новую идею; вдобавок идеи страшатся железа, они робеют явиться на свет в столь грозном головном уборе. Бонапарт, знавший тайну каски и осведомленный о действии, какое она производит на мозг, не носил ничего, кроме треуголки.
Да, дело идет прежде всего о судьбах ума, и вот вам доказательство: все люди выдающегося ума пламенно протестуют против этого безумного проекта укрепления, а вернее сказать, оглупления Парижа; всем людям, известным своими свершениями в сфере умственной, эта идея претит — всем, за исключением господина Тьера; впрочем, это последнее вполне объяснимо: господин Тьер — умный человек, который не любит ум; собственным умом он доволен, но желал бы оставаться единственным умным человеком в своем окружении; общество других умных людей его никогда не привлекало.
Если об этом варварском проекте заговаривают с господином де Шатобрианом, он с сожалением поднимает глаза к небу.
Господин Гюго выслушивает защитников этого прекрасного проекта в молчании и смотрит на них с улыбкой.
Господин де Ламартин… вы видели вчера, как грозно и непреклонно, ведомый возвышенным инстинктом, сражался он против этой замаскированной ловушки, как насылал на нее громы и молнии и, подобно орлу, разгадавшему козни птицелова, отважно рвал еще невидимую сегодня сеть.
Человек совершенно иного образа мыслей, господин Мишель Шевалье, в свой черед возмущается и приходит в отчаяние, предвидя порабощение промышленности и удушение науки[516].
Удручены и те из военных, кто желает воевать не силой, а умом; они понимают, что осуществление этого проекта разрушит военную науку, уничтожит искусство стратегии. В самом деле, на что уметь сражаться, если успех или неуспех баталии зависят исключительно от провианта и боеприпасов, от времени сражения и численности войска, а вовсе не от храбрости и ловкости бойцов?[517]
Наконец, все благородные мыслители Франции, все великие ораторы, все глубокие мыслители, поэты и романисты, господин Берье, господин де Бальзак, господин Альфонс Карр, господин Теофиль Готье, господин Жанен и господа Бертен (что весьма забавно[518]) и два десятка других, чьи имена мы бы назвали, когда бы не боялись их скомпрометировать, — те, кто живет за счет плодов своего ума, — все как один объяты страхом и ощущают угрозу своему существованию… Таким образом, как видите, речь идет не о войне французов против иностранцев, но о сражении куда более страшном, потому что тот, кто проиграет его, проиграет и все остальные, о борьбе подспудной и роковой, о тайном и необъявленном поединке между насилием и разумом, между грубой силой и человеческой мыслью.
Намерение окружить Париж крепостной стеной есть не что иное, как заговор против ума, и потому он, естественным образом, заставляет трепетать всех тех, кому есть что терять.
Но в то же самое время это и заговор против свободы, лишнее доказательство чему — тот пыл, с которым сторонники угнетения встали на защиту этого проекта все до единого; дело в том, что он обладает способностью пленять разом всех пустомель, и старых, и новых. Постигаете ли вы это удивительное явление? Люди, которые ненавидят друг друга больше всего на свете, которые вот уже двадцать лет бьются не на жизнь, а на смерть… внезапно объединяются под этим сомнительным знаменем[519]. Вы ведь знаете, что во Франции существуют две партии, которые ненавидят друг друга, но имеют много общего и внушают нам равный ужас:
Партия себялюбивых собственников и
Партия завистливых пролетариев;
Представительница первой — газета «Журналь де Деба»;
Предшественница второй — газета «Насьональ»;
Первая ненавидит будущее и его посулы;
Вторая ненавидит прошлое и его воспоминания;
Первая хочет задушить то, что должно родиться;
Вторая хочет уничтожить то, что уже родилось.
И та и другая — два жука-точильщика, которые вгрызаются в разных направлениях, но с равной страстью, в национальный дуб, в дерево свободы:
Одна сбрасывает с дерева плоды;
Другая рвет его корни.
В том, что касается принципов и идей, и та и другая — ненасытные людоеды. Вкус и диета у них, конечно, разные, но аппетит равно могучий.
Более старая питается младенцами из колыбели;
Более молодая предпочитает почтенных старцев;
Более робкая орудует позолоченным гасильником;
Более свирепая потрясает заржавевшим от крови топором;
Одна избрала себе девизом: Все сберечь и ничего не делать!
Вторая знает только один припев: Ничего не беречь и все переделать!
И вдруг свершается какое-то жуткое чудо: два людоеда-соперника, одинаково глядя на вещи и одинаково сияя от восторга, намереваются сообща наброситься на добычу! Два врага вступают в союз, две противоречащие точки зрения примиряются, два насилия смягчаются и растворяются одно в другом, две крайности сближаются. А вы, те, кто по старой привычке их разделяете, вы, кто пытаетесь сделать выбор между ними, вы не можете постигнуть истинного смысла их странного союза, вы не можете вычислить истинную цену их сомнительного торга. А между тем это яснее ясного: если восторжествует партия старых пустомель, это положит конец развитию умственному. Окружив Париж новыми бастилиями, старые пустомели станут распоряжаться там по-хозяйски, а значит, изгонят оттуда все новые идеи, все благородные чувства, все плодоносящие иллюзии, все животворные химеры; верх возьмут беотийцы[520]; наступит эра умственного уравнительства. Тогда прощай свобода печати, прощай свобода парламентского красноречия, прощайте надежды на славное будущее.
Второй исход положит конец цивилизации, да и всему человечеству. Если восторжествуют пустомели молодые, верх возьмет безжалостная чернь; наступит эра кровавых расправ. Тогда прощай свобода писать и мечтать, смеяться и говорить, прощай свобода жить. Прощайте все прекрасные воспоминания. Прощайте все великие замыслы! Прощай, честь, прощай, слава, прощай, Франция!
Неважно, какая именно из двух партий одержит победу: для нас исход в обоих случаях будет равно печален; орудие тирании в их руках окажется равно гибельным. Ров, которым вы намереваетесь окружить Париж, есть не что иное, как пропасть, куда одни сбросят мысли человеческие, а другие — и мысли, и те головы, в которых они зреют. Вот и вся разница…
И это еще не все: дикий проект кажется нам преступлением не только против человечества, против свободы, против нации, он кажется нам еще и преступлением против конституционной власти.
Неужели вы полагаете, что королю доставляет большое удовольствие править в согласии с конституцией и что он продолжит уважать конституцию, живя в столице, превращенной в крепость?.. Какие бы благие намерения он ни питал, поступить так он не сможет. Поставьте себя на его место… впрочем, вы, возможно, именно этого и хотите… и вы сами согласитесь, что на его месте вы бы так поступить не смогли. Возможность употребить власть — искушение, перед которым не может устоять ни ангел, ни святой, ни коронованный филантроп! Следствия всемогущества неисчислимы! Власти другого можно сопротивляться, но невозможно противиться власти, какой обладаешь ты сам. Не только всякий король, но всякий мужчина и всякая женщина зависят, если позволено так выразиться, от собственного могущества и не способны предвидеть, куда оно их заведет. Кто запретит королю мечтать о покорности подданных? но с той минуты, как подобная мечта посетила его ум, он уже не может не отдавать приказаний; самый конституционный монарх, постоянно вдыхая запах пороха, непрерывно наблюдая орудия тирании, наводящие на мысль об отмщении и безнаказанности, нечувствительно и невольно деконституционализируется[521]. Вдобавок, скажем откровенно, мы не верим, что в мире найдется король, который покоряется конституции по доброй воле. Король Луи-Филипп прилагает огромные усилия к тому, чтобы оставаться конституционным или, по крайней мере, казаться таковым; Карл X этого никогда не умел и нашел в себе смелость от конституционной власти отказаться. Людовик XVIII, пожалуй, исполнял эту роль с наибольшим смирением, и это понятно: он был калека. Кто передвигается только в портшезе, тот уже одним этим подготовлен править в согласии с Хартией.
Но неужели вы не понимаете, что значит быть конституционным монархом, неужели вы не чувствуете, сколько терпения, отваги, самоотверженности, патриотизма необходимо, чтобы взять на себя эту роль? Прирожденному государю парламентское правление сулит одни лишь муки, труды и докуку; вечно притворяться и всего бояться, обо всем торговаться и все подсчитывать… вот его жизнь! Это не что иное, как узаконенное лицемерие. Абсолютный монарх, по крайней мере, честен; он желает чего-то и прямо говорит: «Я этого желаю!» Другое дело правление парламентское; здесь нет ничего, кроме хитростей, уловок и обманов; здесь люди желают чего-то, но никогда не говорят: «Мы этого желаем». Говорят они иначе: «Мы предлагаем…», а затем употребляют все силу своего характера для того, чтобы внушить свои желания другим. Только ценою проглоченных оскорблений и унизительных уступок, постыдных компромиссов и недостойных расчетов короли и министры сохраняют ту рваную, штопаную и латаную, отсыревшую от влаги и выгоревшую на солнце, изъеденную крысами и червями, ничего не весящую и ничего не стоящую вещицу, которую по старинке именуют властью!
Отдадим справедливость нашим противникам: среди них не найдется ни одного, кто захотел бы по доброй воле заняться безрадостным ремеслом конституционного монарха. Что же до нас, мы понимаем тех людей, которые соглашаются на самые неблагодарные занятия, с гордостью избирают ремесло самое тяжелое и становятся земледельцами, которые копают и мотыжат землю, борются с градом, наводнениями и пожарами, ставят все свое существование, весь свой годовой рацион в зависимость от капризов погоды и ярости ветров; но мы не понимаем тех, которые без отвращения вступают в борьбу со всеми дурными страстями и всеми завистливыми посредственностями, тех, которые ставят славу своего имени и судьбу своего царствования в зависимость от нечистой совести одних и безудержной глупости других.
Мы понимаем тех, кто отправляется в пустыни Нового света проповедовать религию и даровать цивилизацию дикарям любого цвета, красным или зеленым, желтым или синим. В этой опасной экспедиции поддержкой им служит вера; если им удается быть убедительными, благодарная публика превозносит их до небес, если красноречие их не имеет успеха, та же публика поджаривает их и съедает, но им, по крайней мере, не грозит опасность стать жертвой клеветы и подвергнуться тем страшным мукам, какие обречен сносить несчастный конституционный монарх, не имеющий ни славы, ни признания, ни награды, вечно страдающий, но никогда не признаваемый мучеником.
Скажем еще раз, мы не понимаем тех, кто охотно соглашается на подобную участь, и полагаем, что всякий разумный человек должен стремиться при первом удобном случае ее переменить. Всякий человек, у которого по жилам струится кровь, желает абсолютной власти; всякий человек, знающий, что такое собственное достоинство, желает абсолютной власти; всякий человек, могущий похвастать острым умом, желает абсолютной власти; нормальное состояние любого короля есть обладание абсолютной властью. Конституционный порядок — изобретение превосходное, оно сулит людям защиту, оно исполнено предупредительности и предусмотрительности, но оно противно природе; это великолепное устройство, которое надо поддерживать, совершенствовать, освящать, но в то же самое время и держать под строгим надзором по причине его искусственности; конституционный порядок — подавляемая сила, которая постоянно готова взорваться, точно газ, прорвать плотину, точно вода; было бы весьма неосторожно создавать газу или воде слишком удобные условия для того, чтобы вырваться на свободу.
Сегодня бастилиями окружена королевская власть; завтра, если ваш проект будет приведен в исполнение, в кольцо бастилий попадет свобода.
Впрочем, не будем кончать наш очерк в тоне столь торжественном; скажем иначе: снабдить короля крепостями и сказать ему: «Оставайся конституционным монархом!» — это все равно что дать ребенку барабан и сказать ему: «Не шуми!»; это все равно что открыть клетку и сказать птице: «Дай честное слово, что не улетишь!»
10 февраля 1841 г.
Три способа смотреть на вещи: до, во время и после
Неделя, а вернее сказать, месяц, началась с события очень печального и очень серьезного, которое, однако, никого не испугало, а непонятые несчастья страшнее всего[522]. Париж сам проголосовал за собственную гибель и продолжал забавляться и смеяться, петь и плясать так, как если бы по-прежнему оставался свободен. Он безмятежно смотрит, как куются его цепи, и не может взять в толк, что носить эти цепи придется именно ему. Этот легкомысленный город нимало не тревожится о своем будущем. Один остроумный человек сказал: «В политике есть три способа смотреть на вещи: до, во время и после». Люди большого ума предвидят события до того, как они свершились: зная причины, они угадывают следствия, зная преступление, предчувствуют наказание, видя сев, предсказывают урожай; такие люди — пророки: ими восхищаются, но не более того. Люди ума прямого и справедливого, но совершенно земного видят события в то время, когда они происходят, и это уже много. Они сознают беду, которая пришла, и если у них не хватило чутья для того, чтобы ее предвидеть, у них, по крайней мере, хватает ума для того, чтобы вступить с нею в борьбу; они называют вещи своими именами, они говорят о несчастье: «Это несчастье», а о подлости: «Это преступление»; они не пророки, но судьи, а порою умелые врачи.
Люди малого и ограниченного ума, с большими потухшими или крошечными зажмуренными глазами, глупцы с ложными представлениями, недоверчивые болтуны, которые сомневаются во всем, потому что не сомневаются ни в чем; простаки, которых возбуждают лишь чужие страсти; вся эта невежественная чернь, которая, как принято считать, блуждает между добром и злом, на самом же деле всегда без колебаний выбирает зло, — все эти люди замечают события только после того, как они произошли; когда все уже свершилось, когда назад уже нет возврата и ничего нельзя изменить, они наконец открывают глаза и с ужасом сознают, какие чудовищные глупости натворили, какой непоправимый вред причинили.
Этот способ классифицировать политиков кажется нам восхитительным, и мы, со своей стороны, уже давно взяли его на вооружение. Часто, глядя на политического мужа, мы задаемся вопросом, к какой из этих трех категорий он принадлежит, и приходим к выводам, которые могут показаться удивительными: например, мы заметили, что среди наших депутатов очень мало людей, принадлежащих ко второй категории. Казалось бы, следовало ожидать, что эта категория будет самой многочисленной: ничуть не бывало, она самая скудная. Да ведь наблюдать за событиями по мере того, как они происходят, легче легкого, возразят нам; возможно — однако же этого почти никто не делает. Пожалуй, легче даже предугадывать то, что может произойти; для этого довольно иметь благородные инстинкты или дурные намерения; ибо следует заметить, что в категорию людей, которые провидят события до того, как они совершились, необходимо включить бунтовщиков, революционеров, дурных вожатых: все они отнюдь не новички в науке провидения. Они прекрасно знают, что тот путь, на который они вас толкают, — путь гибельный; они мгновенно угадывают, что принимаемый закон сулит неисчислимые несчастья, они бегло читают в книге будущего, из которой играючи вырывают самые прекрасные страницы. Гений зла все-таки остается гением.
Другое дело светские люди… О! эти видят происшедшее после, сильно после, они понимают, что случилась беда, если из-за этой беды отменили праздник[523]; сегодня они развлекаются так же беззаботно, как вчера, а когда с ними заговаривают о чудовищном, позорном голосовании, они нетерпеливо восклицают: «Как! Опять укрепления! Сколько можно! Когда вы наконец прекратите толковать нам про эти скучные укрепления?» — Когда они будут построены… Уверяем вас, когда это произойдет, вам уже не станут толковать ни про укрепления, ни про что бы то ни было другое. В ту пору журналистам сделается нелегко писать остроумные фельетоны; любое правительство, получив в свои руки эти бастилии, непременно предпишет литераторам молчание; какой властитель окажется настолько наивен, чтобы, обладая подобными средствами убеждения и введя подобную цензуру, позволить подданным себя критиковать? Попробуйте иронизировать над цитаделями, попробуйте разить эпиграммами противников, которые отвечают вам артиллерийскими залпами! Господин де Ламартин давеча был совершенно прав, когда сказал, что не доверяет обещаниям левых и тревожится за свободу. Что значит статья закона против двадцати фортов и одной непрерывной цепи укреплений, откуда по одному сигналу телеграфа могут открыть огонь три тысячи орудий? Против такой атаки конституция бессильна. «Когда Бонапарт после 18 брюмера захватил абсолютную власть, — сказал господин де Ламартин, — он стал деспотом именем республики. Тогдашние либералы, точно так же как и теперешние, были довольны, а свободе пришел конец».
Господин де Ламартин произнес эти слова, обращаясь к группе депутатов, собравшихся подле трибуны во время рокового голосования. Один из них, то ли по неосторожности, то ли по наивности, взялся защищать новый закон и выдал истинные намерения его создателей: «Укрепить Париж — значит укрепить власть». Господин де Ламартин отозвался мгновенно: «Это значит укрепить гильотину». Поэты — пророки. О господа пэры, имейте же мужество испугаться.
Но куда там! их подкупают в розницу, индивидуально, каждого по отдельности. Их приглашают на обед, они понимают скрытый смысл этих приглашений и отвечают согласием, не слишком удивляясь этим искусительным учтивостям. Что на обед приглашают депутатов, в чьих голосах заинтересованы устроители обедов, это понятно; депутаты этим нимало не оскорбляются, они сами устраивают обеды для своих избирателей, чтобы заполучить их голоса, и потому считают совершенно естественным, что и с ними поступают таким образом; но люди независимые, но пэры Франции[524]… это совсем другое дело; они вправе возмутиться подобными авансами. Иные, самые чувствительные, так и поступают, однако это не мешает им отправляться на обеды и не помешает проголосовать так, как хочется устроителям обедов.
И вот результат: страшный, гибельный, антинациональный, антилиберальный, антиконституционный закон будет принят обеими палатами, несмотря на убеждения одних и обязательства других[525]. […]
21 февраля 1841 г.
Балы. — Грандиозный бал. — Тщеславный бал. — Туземный бал.
— Холостяцкий бал. — Придворный бал. — Вынужденный бал
Мы обещали рассказать вам об американском бале[526], состоявшемся на прошлой неделе; рассказ окажется далеко не так увлекателен, как можно было ожидать. Бал этот решительно не удался, потому что в нем не было гармонии, а без гармонии ни в чем не бывает ни изящества, ни красоты. Чтобы стать удачным, празднество должно иметь узнаваемый характер, носить на себе особую печать, обладать внятным смыслом. Не все празднества одинаковы, даже если говорить только о празднествах большого света; у каждого свои достоинства, свое очарование; вот почему непозволительно давать бал, не имеющий своего лица и не принадлежащий ни к одному из существующих разрядов, разряды же эти мы сейчас постараемся перечислить и описать.
Вы хотите и можете устроить то, что мы называем грандиозным балом? Тогда не скупитесь; заведите у себя роскошные гостиные, великолепные залы, цветочные галереи, бесчисленных лакеев и не скудеющий буфет; а затем пригласите две тысячи гостей: англичан, русских, французов, испанцев, немцев, чтобы заполнить, населить и оживить эти залы, чтобы насладиться и насытиться всеми этими удовольствиями. Взорам ваших гостей предстанет феерическое зрелище, рождающее головокружительные иллюзии, живая панорама, в которой будут со славой представлены все нации Европы. В число приглашенных войдут знаменитые особы; гости унесут с собой приятные воспоминания; все явившиеся будут танцевать, беседовать, прогуливаться, развлекаться; конечно, они немного устанут; их будет мучить грохот оркестра, многолюдье толпы, сверкание огней; голова у них пойдет кругом, но душа преисполнится восхищения, и они воскликнут с восторгом: «Какое великолепие! Никогда еще я не видел такого прекрасного празднества!» В самом деле, из всех собраний такого рода грандиозный бал пользуется наибольшим спросом; впрочем, он по плечу далеко не всем. Он требует огромного размаха и не выносит никакой задней мысли, никакой скаредности, никакого жульничества. Вы обязаны предоставить в распоряжение гостей весь свой дом, пожертвовать им всеми вашими сокровищами, цветами из вашей теплицы, картинами из ваших покоев; вы обязаны дать возможность блистательной толпе разгуливать повсюду, а тем, кто желает от нее отдохнуть, вы обязаны предоставить убежище в вашем элегантном кабинете. Вы обязаны устроить так, чтобы, когда настанет час ужина, вся эта масса гостей в одно мгновение если не насытилась, то хотя бы насладилась зрелищем роскошного стола и вышколенной челяди. Люди страдают от голода, лишь когда боятся, что им ничего не достанется; они замечают, что на балу многолюдно, лишь когда испытывают недостаток во всем: в воздухе, чтобы дышать, в месте, чтобы стоять, в стульях и столах. Напротив, если все это достается им без труда, они не ропщут против соперников. Где есть изобилие и простор, там многолюдство не помеха! Мораль: чтобы все были довольны, у всех всего должно быть довольно.
Вторую разновидность бала мы называем балом тщеславным. Такой бал, как правило, очень пышен и безупречно элегантен, но серьезен, как всякое тщеславие, и холоден, как всякая претенциозность. На тщеславный бал гости являются скрепя сердце и памятуя о принесенных жертвах. Одна дама ради того, чтобы получить приглашение, пошла на подлость; другая ради того, чтобы сшить бальное платье или купить парочку мелких брильянтов, вышла из бюджета: ведь мелкие брильянты подчас обходятся дороже крупных. На тщеславном балу хозяин дома едва знаком со знатными вельможами, которых он пригласил и которые удостоили его своим приездом исключительно из почтения к его раззолоченным покоям и роскошным обоям; он приветствует гостей с принужденным видом и, чтобы скрыть свое смущение, начинает важничать. Успокаивается он, только увидев, как высокие гости созерцают великолепное убранство его дома с презрительной завистью. Куда как лестно стать предметом зависти для людей, которые тебя ни во что не ставят! Тщеславные балы редко бывают многолюдны; на них приглашают немногих. Гостям здесь невесело, но приятно. Тот, кого сюда позвали, чувствует себя избранным, ощущает себя стоящим выше толпы; на таком балу нетрудно даже вообразить, что у тебя более деликатная натура, чем у простых смертных, потому что здесь всегда холодно и легко подхватить простуду; впрочем, этому горю легко помочь; достаточно всю следующую неделю сообщать тем приятельницам, которых на этот бал для избранных не позвали: «Мне, милочка, очень нездоровится, я давеча ужасно простудилась на балу у госпожи ***. — Ах! Так вы там были? — Да, бал вышел прелестный, просто очаровательный».
Все же тщеславные балы имеют свое лицо, и этого нельзя не признать: их отличительные черты — это роскошь, в которой устроители знают толк, великолепие, к которому они, кажется, давно привыкли, и чрезвычайная изысканность деталей; впрочем, сама эта изысканность не лишена печали; сама эта роскошь не может не навевать грустных мыслей. Созерцая все эти прекрасные вещи, понимаешь, что они страдают непоправимым изъяном: они не что иное, как предмет торга. Уберите позолоту, сдерите со стен обои — и все блистательные особы, которые так гордятся приглашением и в то же самое время так ясно дают понять, что пришли исключительно из милости, все они… тотчас исчезнут. Стоит вспомнить об этом, и прекрасные вещи, которые поначалу вызывали одно лишь восхищение, очень скоро покажутся вам уродливыми, да, уродливыми, как… как любой предмет торга. А есть ли на свете что-нибудь более уродливое, чем предмет торга?
Третью разновидность бала мы, за неимением другого слова, назовем балом туземным. Туземным балом мы называем такой, который устраивают без усилий, без хлопот, без претензий, в своей стихии, в своем квартале, в своем особняке для своего круга и своей семьи, в согласии со своим состоянием и своим званием. Хозяин дома сам приглашает гостей и знает их всех без исключения. Другое дело, что он не всегда их узнаёт. Нередко случается так, что хозяйка дома удивленно кланяется прекрасному танцору, чье чело украшают великолепная борода и гордые усы, и, кланяясь, мучительно пытается сообразить, кто же это такой? А он подходит поближе и с улыбкой спрашивает: «Вы не узнаете меня, сударыня? — Ах! Шарль, это вы! Как я рада! — С тех пор как я воротился, я уже несколько раз заезжал к вам, но… — Да-да, ваша матушка мне говорила; я завтра у нее обедаю, вы мне расскажете о ваших странствиях». Заметьте, что в этом обществе молодые люди не считают, что единственный способ прослыть элегантным — проводить жизнь в праздности. Легкомысленным наслаждениям они предаются лишь после того, как подвергнут себя суровым лишениям, серьезным опасностям. Иные из них каждый год отправляются в новое путешествие, как, например, господин герцог М…, который проводит лето то в России, то в Морее. Некоторое время он нигде не показывается, а потом является в Опере. — Откуда он? — Из Константинополя. Он исчезает еще на какое-то время, пропускает два-три прелестных бала, а затем мы вновь встречаем его на балу. — Вы не были на последнем представлении у господина де Кастеллана; отчего же вы не пришли? — Я был в Москве[527]. — Причина более чем уважительная. Другие молодые путешественники избирают для своих странствий маршруты еще более экзотические и опасные. В поисках развалин Старого света и его зыбких воспоминаний они добираются до Персии, а потом, проведя долгие и мучительные месяцы вдали от света, оставивши позади пустыни не только ужасные, но и ужасно скучные, презрев опасности самые разнообразные, от смертельной жары чересчур азиатского происхождения до встреч с бандитами чересчур романического и чересчур живописного вида; промокнув от ливня в одном краю и избежав чумы в другом; испытав тревоги за ближних, от которых нет вестей, и тоску от разлуки, которая не имеет пределов, — пережив все это, они возвращаются домой и весело вальсируют на туземных балах, точь-в-точь как простые парижане. Впрочем, парижанами их никто не зовет. По названию той далекой страны, откуда они воротились, их именуют персами. Так вот, персы нынешней зимой в большой моде. В каждом квартале имеются свои персидские львы; Сен-Жерменское предместье гордится господами Роже де ла Б… и Филибером де ла Г… Предместье Сент-Оноре хвалится господами де Серее, Сирюсом Жераром и Дарю; предместье Шоссе д’Антен выставляет вперед господина де Лавалета. Впрочем, персы не единственные элегантные господа, любимые модой. Не менее любезны ее сердцу африканцы; так именуют тех знатных и богатых юношей, которые, подобно господам Франсуа де Ла Рош…, Арману де М… и Луи де ла Бриф…, отправляются в Африку либо офицерами, либо простыми солдатами, чтобы развеять скуку, и убивают арабов, чтобы убить время. Как! неужели богатые люди становятся солдатами и плывут в эту проклятую страну, хотя могли бы жить здесь в свое удовольствие! Что поделаешь? они находят, что древнее имя и хорошее положение в свете — еще не причина для того, чтобы оставаться безвестными и бесполезными, и, при прочих равных, предпочитают завоевывать славу в Африке, а не на бульваре Итальянцев, и входить в историю благодаря военным подвигам, а не подвигам совсем иного рода, как то: выкуривание трех дюжин сигар в день, пятикратное падение в грязную лужу или соблазнение танцовщицы из Оперы.
Африканцы и персы на туземных балах — дорогие гости. Нетрудно догадаться, что танцоры, у которых за плечами сражения либо путешествия для собственного образования и удовольствия, — замечательные собеседники. Вдобавок на туземных балах эти молодые люди чувствуют себя практически в кругу семьи; все те элегантные юные особы, которые за время их отсутствия так сильно взрослеют и так дивно расцветают, приходятся им либо родственницами, либо свойственницами; они росли бок о бок с ними, и милые воспоминания детства, на которые накладывается нынешнее кокетство, сообщают знакомству уже давнишнему, но одновременно и совсем новому дополнительное очарование. На этих удивительных балах все друг друга знают, и притом уже давно, а потому никто не стремится никого обмануть. Матери не скрывают своего возраста; не скрывают они и своих дочерей; к чему уловки? всем и так известно, сколько лет этим дочерям — около двадцати. Здесь никто не стремится блеснуть заемной роскошью; к чему пускать пыль в глаза? всем и так известно состояние каждого с точностью до сантима; здесь не в ходу ни лицемерие, ни наглость; всем и так известно, кто вы такой и что у вас в прошлом. А раз никто не стремится играть какие-либо роли или громоздить обман на обмане, все предстают в наилучшем свете, блещут собственным умом, собственной любезностью и собственным добрым нравом. Да здравствуют туземные балы! Они ни для кого не утомительны, даже для хозяйки дома, от которой требуется лишь быть такой же учтивой и приветливой, как и во все прочие дни. Спросите лучше у госпожи де Шуа… или у госпожи де Шаст… — вы ведь были у них на прошлой неделе? — Да, оба праздника были восхитительны: два самых прелестных бала в нынешнем году!.. — Так вот, эти два бала как раз относятся к числу туземных.
Есть и еще одна разновидность балов; они не более элегантны и не более изысканны, ибо это невозможно, но более чудесны, более утонченны, можно даже сказать, более хитроумны — это балы холостяцкие. Порой тот, кто их устраивает, женат, и даже не единожды, но это не меняет дела: если у бала нет хозяйки, значит, это бал холостяцкий. Празднества эти восхитительны, и у них-то точно есть свое особое лицо: женщин сюда зовут только хорошеньких; независимый человек волен не обременять себя балластом[528]. Его салон — уже не салон; это арена, на которой сражаются красавицы всех народов; это соревнование в элегантности, поединок на веерах, в котором не бывает побежденных, ибо у каждой из участниц находятся свои сторонники, готовые отдать за нее свои голоса, и свои герольды, готовые возвестить о ее триумфе. Вы ведь знаете, что в Париже у каждого квартала, у каждой элегантной котерии имеется своя королева красоты, своя Селимена, своя законодательница мод. Так вот, этот удивительный бал есть не что иное, как славный конгресс, на котором все царственные соперницы сходятся вместе, дабы достойно защитить репутацию своей красоты и честь своей котерии. Какая выставка парюр, какие фейерверки учтивости! Вообразите себе великолепный букет, в котором все цветы наперебой стремятся вскружить вам голову прекраснейшими красками, сладостнейшими ароматами. Самые знаменитые балы в этом роде дает князь Тюф…[529]; особенно хорош был последний: сколько хорошеньких англичанок! сколько прекрасных московиток! сколько очаровательных парижанок! Как легко угадывалась с первого взгляда главная мысль, лежащая в основе этого празднества! как ясно был выражен ее смысл! как скоро можно было понять, глядя на этих прелестных молодых женщин, что они приглашены сюда по праву элегантности и красоты![530]
К числу приятных празднеств мы относим также балы по случаю, или балы путешествующих. Здесь никто не намеревается поразить гостей красотой обоев или роскошью занавесок; это праздник импровизированный, оживленный, веселый и забавный, как все импровизированные развлечения. Хозяйка дома, кажется, говорит: «Я не дома, я ни за что не отвечаю, я взяла все, что нашла в вашем Париже самого лучшего; если вам это не по нраву, пеняйте на себя: зачем вы не произвели мне на радость что-нибудь более красивое? Приезжайте ко мне в Неаполь, в Вену, в Санкт-Петербург или Мадрид — вот там вы сможете судить о том, чего я стою. Я не даю в вашу честь бала, я лишь обещаю вам свое гостеприимство; помните только одно: где бы я ни находилась, я везде буду счастлива вас принять». Эти балы по случаю, эти экстраординарные празднества иной раз имеют такой успех, что хозяева вынуждены их повторять; вот увидите, госпожа Обр…[531], у которой давеча танцы не прекращались до пяти часов утра и у которой вы, госпожа герцогиня, засиделись так поздно, не откажется устроить после Великого поста третий импровизированный праздник.
А детские балы!.. О, как они восхитительны, особенно с тех пор как возвратилась мода на настоящих детей! Еще недавно настоящие дети были редкостью! Дети оставались детьми от полугода до пяти лет; после пяти лет все они превращались в педантов и стариков; то были юные господа шести с половиной лет от роду, уже слегка фатоватые и очень глупые, презирающие своих сестер и делающие выговор своим матерям за ошибку в английской фразе; то были модницы от силы пяти лет, щеголяющие в мантильях и надевающие шляпку с опытностью старой кокетки, критикующие то, высмеивающие это с апломбом старого журналиста. Право, вместо детей мы повсюду встречали только маленьких старичков и старушек. Вместо: «Серьезный, как советник» впору было говорить: «Серьезный, как школьник»; вместо: «Величавая, как королева» — «Величавая, как пансионерка». В самом деле, тогдашние дети держались так серьезно, что страшно было угостить их конфеткой. Благодарение небу, нынче дети вновь сделались детьми; давеча в прекрасной гостиной госпожи Ш… мы с удовольствием наблюдали, как скачут хорошенькие девчонки, как носятся прелестные мальчишки[532]. Напрасно степенный и торжественный учитель танцев, водрузив на нос огромные очки, пытался навести порядок в движениях маленьких ножек и сковать их неуемную веселость цепями кадрили, ничего не выходило: ножки топали, ручки переплетались, и все вместе производило восхитительную мешанину. А мы смотрели, как бесятся эти прелестные существа, болтали с их отцами и дедушками, талантливыми ораторами и видными политиками, и думали, любуясь очаровательным золотоволосым мальчишкой, снискавшим всеобщее восхищение: «А ведь этот бело-розовый ангел в один прекрасный день может стать министром… Какой ужас!» Детский бал — если он в самом деле детский — это прекрасно!
Придворный бал… вы и сами знаете, что это такое: собрание буржуа.
Бал или, точнее, вечер знаменитостей… и это вы тоже знаете: восхитительное собрание людей высшего ума, портретная галерея мыслителей: все стремятся на них посмотреть. Здесь получить удовольствие нетрудно; само приглашение сюда лестно, а лесть всегда греет душу.
Наконец, последняя разновидность бала — бал вынужденный, даваемый из нужды, по обязанности и по долгу службы. Отличительная его черта — восхитительная гармония. Здесь каждый изъян уравновешивается изъяном противоположного толка. Залы украшены безвкусно… но зато дурно освещены. В этой комнате слишком жарко… но зато в другой слишком холодно. В салоне гости задыхаются… но зато в столовой, выходящей прямо на ледяную лестницу, у них зуб на зуб не попадает. Оркестр состоит из одних посредственностей… но зато его совсем не слышно; он играет в соседней комнате. Угощение скудное, но зато скверное. Кавалеры редки… но зато стары. Дамы некрасивы… но зато одеты не к лицу. На таком балу не встретишь ни умелых танцоров, ни хорошеньких барышень, — а без них элегантного бала не устроишь; впрочем, хозяина это не заботит; ему важно собрать у себя как можно больше людей, от которых он зависит и в которых нуждается: начальников, имеющих власть, либо вельмож, пользующихся влиянием; между тем люди, до которых мы имеем нужду, всегда кажутся нам уродливыми. Говоря короче, вынужденный бал всегда печален и на редкость скучен; зато он заканчивается рано, а это большая удача; вдобавок если у хозяина дома, когда он с вами прощается, на лице написано: «Я пригласил вас не ради собственного удовольствия» — вы, откланиваясь, можете придать своему лицу выражение, означающее: «Да и я искал не веселья».
Вот и все разновидности балов. Мы забыли упомянуть лишь один — тот, на который мы приглашены сегодня вечером. Время не ждет, пора собираться.
17 апреля 1841 г.
Навуходоносоры. — Турецкий концерт
Каждый день мы слышим: предрассудки побеждены… Теперь, когда предрассудков больше не осталось… Это могло сойти с рук в те времена, когда предрассудки еще были в силе, но теперь…
Теперь их больше, чем когда бы то ни было; мало того, предрассудки царят повсюду и распространяются на всё без исключения; каждая из сторон выдвигает свои предрассудки в пику стороне противной. Да и как можно ожидать, чтобы в стране выскочек не было предрассудков? Что же такое жажда преуспеть, как не потребность подняться вверх по общественной лестнице и, достигнув высоких степеней, презирать всех тех, с кем знался в юности? Что такое честолюбие, как не предрассудок, вытекающий из излишней любви к почестям? А ведь тот, кто питает излишнюю любовь к почестям сегодняшним, становится помимо воли сообщником тех гордецов, что питают излишнее почтение к почестям прошлого. Страстно желать того же, что и твои противники, значит признать их заслуги. Разве не вправе поборники прошлого сказать одному из современных государственных мужей: «Вы гордитесь, что стали президентом; а между прочим, среди моих предков президентов найдется целых три[533]!» Разве не имеют они права сказать другому: «Вы гордитесь, что стали министром Его Величества Луи-Филиппа; а между прочим, мой прадедушка был министром Его Величества Людовика XIV». Наконец, они имеют право сказать третьему: «Вы добиваетесь чести представлять короля-гражданина при дворе республиканца Эспартеро; а между прочим, мой двоюродный дедушка имел честь в 1528 году представлять христианнейшего короля при дворе Его Католического Величества короля Испании». Как видите, если кто и поддерживает древние предрассудки, так это сами новые выскочки.
Вдобавок, поскольку эти новые гордецы занимают все почетные места, они вынуждают старых гордецов хвалиться одними лишь воспоминаниями. Старых гордецов вытесняют из настоящего, и они укрываются в прошлом; лишившись всех должностей из-за собственной преданности, они утешаются памятью о тех славных должностях, какие занимали некогда их предки. Они находят удовольствие в том, чтобы меряться древностью рода; можно ли их упрекать? Ведь ничего другого им не остается; в ожидании занятий более серьезных они играют в игрушки. Виноват же в этом не кто иной, как вы, господа выскочки; вы сами без ума от того, чем гордились ваши предшественники, и, следовательно, поднимаете в цене предметы их гордости; вы отлучаете этих людей от дел, а они сходятся, чтобы посмеяться над вашими притязаниями; в уединении их гордыня растет не по дням, а по часам, и чем многочисленнее предрассудки, какие вы питаете в пику им, тем охотнее они отвечают вам взаимностью.
Как! У них осталось одно-единственное преимущество перед вами, и вы хотите, чтобы они от него отказались? это было бы безумием с их стороны: они должны держаться за него тем более крепко, что других вы им не оставляете.
Кстати, нет ничего более забавного, чем наблюдать за тем, как нынче в большом свете готовятся браки.
За сведениями о женихе обращаются теперь не к его родственникам и не к его друзьям; нет, за ними обращаются в библиотеку; родные невесты тайком роются в старых дворянских грамотах, и если обнаруживается, что претендент происходит из рода слишком молодого, известного всего две или три сотни лет, ему отказывают без колебаний, как бы он ни был хорош, умен и влюблен; и точно так же без колебаний предпочитают ему более удачливого соперника — хилого урода, глухого недоумка, чье общество отвратительно, зато герб безупречен.
Предположим, мать невесты узнает, что благородный муж, коего она прочит в супруги своей возлюбленной дочери, страдает тем недугом, какой исцеляли короли Франции, но какого не исцеляет король французов[534]… Матримониальных ее планов это не изменит; неважно, что у будущего зятя нехорошо со здоровьем; главное, что он из хорошего рода. Другое дело, если она узнает, что жених происходит не из славного рода нормандских Навуходоносоров (мы нарочно выбираем имя столь экзотическое, чтобы избежать каких бы то ни было намеков), а, совсем напротив, из захудалого рода Навуходоносоров овернских; что он родня вовсе не хорошим Навуходоносорам, а Навуходоносорам плохоньким… В этом случае она тотчас разорвет помолвку: о свадьбе не может быть и речи… И не подумайте, что невеста придет в отчаяние и будет возражать против столь сурового приговора; нет-нет, она и сама прекрасно знает, чем настоящие Навуходоносоры отличаются от поддельных; она ни за что не согласится на мезальянс; она не захочет повторить судьбу той несчастной, чью историю мы слышали накануне, — бедняжка происходит из славного рода и желала найти себе супруга под стать, но ошиблась в выборе. — Она выбрала неподходящего… мужа?.. — Гораздо хуже, она выбрала неподходящего… Навуходоносора. Через три месяца после свадьбы она обнаружила, что супруг ее принадлежит вовсе не к тому родовитому семейству, имя которого он носит!.. что он происходит не от хороших Навуходоносоров, а от Навуходоносоров плохоньких. — Несчастная! Как мне ее жаль! — Самое же ужасное в ее положении то, что она ждет ребенка, и это открытие заранее осквернило для нее все радости материнства. Ведь, как она ни старайся, она сможет произвести на свет только плохоньких Навуходоносоров и будет иметь право воскликнуть, по примеру госпожи де Ла Реньер: «Стоило ли так сильно мучиться ради того, чтобы произвести на свет простолюдина!»[535]
Если случается так, что девушка родовитая и богатая хочет выйти за юношу, чей род также благороден, но чуть более молод, поднимается ужасный крик: «Девица Икс…! Выходит за Игрека…! Какое безобразие!..» У этих людей не укладывается в голове, что древнее семейство, о котором последние три сотни лет никто слыхом не слыхивал, способно породниться с новым семейством, которое последние три сотни лет покрывало себя славой. У тщеславия острый взор. Там, где все различали сотню оттенков, оно открывает еще одну сотню, которую также надобно взять в расчет: тут поневоле собьешься с толку. Проще всего посмеяться и над теми, и над другими: это единственный способ упростить дело.
Впрочем, и это еще не все. Не успели обе стороны счесться званиями и славой, как является некто, готовый доказать положительно, с документами в руках, что славных родов теперь вообще не существует. Семейство М… — да ведь это младшая ветвь; семейство Р… — да ведь их род пресекся уже много лет назад; семейство Г… — да разве кто-то из них жив? — Но если славных родов не существует, стоит ли так стараться породниться с их представителями?
Впрочем, сами эти представители свято веруют в древность своих родов.
И все это происходит в то самое время, в те самые минуты, когда современные утописты-реформаторы отменяют имена и звания, семью и собственность и проч.
Наш век снисходителен, он открыт идеям любого рода, но признаем честно: идеи эти, при всем своем несходстве, имеют меж собой немало общего: крайности одних недалеко ушли от преувеличений других, безумие этих неизбежно ведет к сумасбродству тех.
На эти размышления нас навели странные разговоры, которые последние две недели ведутся в салонах по поводу двадцати самых известных брачующихся пар: ведь нынче сезон свадеб. Право, мы не понимаем, почему в свете больше не носят пудреных париков: в те времена, когда их носили, разговоры шли ровно такие же; мысли были ничуть не более здравые, зато головы — куда более благоуханные. […]
Недавно в салоне госпожи де Мерлен Лаблаш пел прелестную итальянскую песенку[536]. Она вложена в уста пьянчужки, который зевает во время пения, но зевки его оборачиваются восхитительными руладами. Лаблаш зевал так натурально, что все кругом помимо воли последовали его примеру и принялись зевать, но зевали они не от скуки, а от радости, что было весьма ново и забавно. После того как прозвучала последняя зевательная рулада, сосед сказал нам: «Какое удивительное единодушие! мы все зеваем». — «Да, — подхватил господин де Н., зевая, — но далеко не все при этом выводим рулады».
Кстати о музыке: на прошлой неделе в доме знаменитого востоковеда состоялся турецкий концерт. «Что вы разумеете под турецким концертом?» — Я разумею концерт, устроенный одним-единственным турком, который играет на всех музыкальных инструментах своей родной страны. Сначала турок сыграл на гуслях, гусли эти — маленькая гитара с тремя струнами и огромным двухметровым грифом, род гармонической лопаты. Струны этого инструмента надобно не щипать, а царапать посредством пластинки из китового уса; ритурнели тянутся полтора часа, а мелодия звучит не больше пяти минут. Поначалу думаешь, что перед тобой гитарист или, если угодно, гуслярист; ничуть не бывало, это певец, но певец очень нерасторопный. Когда он открывает рот, это означает, что музыка уже закончилась. Мелодия соответствует по длине самому инструменту, а ритурнель — его грифу. Покончив с гуслями, турок взялся за большую скрипку из светлого дерева, такую тяжелую, что ему пришлось положить ее себе на колени, и вновь завел свои трели-ритурнели. Из огромного инструмента он извлекал тоненькие турецкие звуки; он играл не на скрипке, а со скрипкой. Все кругом хохотали, некоторые дамы от смеха едва не лишились чувств. Наш турок пел тихим голосом; турки не понимают, что без крика нету пения; что взять с этих варваров!
26 апреля 1841 г.
Навуходоносоры в ярости
Надо полагать, всю последнюю неделю Навуходоносоры очень сильно гневались на нас; речь, как вы понимаете, идет о плохоньких Навуходоносорах. Хорошие Навуходоносоры только посмеялись над нашими шутками, зато другие разозлились, и было отчего; мы обвинили их в безумной гордыне да вдобавок доказали, что они не имеют на нее никакого права! это уж слишком. Гнев Навуходоносоров искренний, но неуклюжий, и все кругом очень забавляются их яростью, видя в ней не что иное, как признание вины.
— Отчего же господин де *** сердится? Эта критика его не касается. — К несчастью, касается. — Разве он принадлежит не к старинному роду ***? — Ничуть не бывало. Фамилия его образована от названия поместья, но рожден он просто господином С… — Вот оно что. А господин де Икс…? — А это другое дело, он даже сердиться не имеет права. — Отчего же? — Оттого что его даже плохоньким Навуходоносором не назовешь. — Но я думал… — А я вас уверяю, что он тут вообще ни при чем; он не хороший и не плохой, он не Наву, не ходо и не носор, а весь его гнев продиктован просто-напросто смехотворным тщеславием.
О, за последнюю неделю мы узнали благодаря Навуходоносорам массу в высшей степени забавных вещей; дело в том, что нередко мы лишь назавтра понимаем смысл того, что сказали вчера. Мы так сильно боимся намеков, что, дабы их избежать, пускаемся в околичности и невольно грешим намеками еще более опасными. Того, что мы страшимся сказать, мы не говорим; но мы говорим нечто другое и, как выясняется, сами того не ведая, говорим колкости. Мы так тщательно маскируем похождения одного, что невзначай описываем похождения другого. Критики и романисты — пропащие люди; какой бы смешной изъян они ни описывали, у них непременно получается портрет; какой бы роман ни сочиняли, у них непременно выходит пересказ истинного происшествия. И на что им сдалась эта правдивость? Другое дело букеты Дора или Флориановых пастушков — ни те ни другие решительно никого не возмущали. Неужели и мы обязаны писать так же? Нет, мы обязаны лишь заниматься своим ремеслом добросовестно, какими бы неприятностями и опасностями это ни грозило. Наше дело — изображать смешные черты окружающих, ваши, да и наши тоже — ведь мы и над собой нередко смеемся от души. Наш долг — описывать нравы нашего века. Если мы выводим в наших фельетонах вас, сударь, и вас, сударыня, виноваты в этом вы сами. Зачем ваша жизнь — самая настоящая картина нравов? […]
17 мая 1841 г.
Летние планы. — Скачки в Шантийи. — Проект правительственной реформы
[…] Вдоволь наговорившись о планах на лето, парижане принимаются обсуждать Французскую академию и великое событие, назначенное на 3 июня[537]. И все спрашивают друг у друга: «У вас есть билеты? Как раздобыть билеты?» И все делятся друг с другом теми хитростями, на какие они собираются пойти, чтобы обзавестись билетами на это достопамятное заседание.
— Мне пришла в голову мысль, — говорит один. — Это не сулит ничего хорошего. — Отчего же? — Оттого что такая же мысль, возможно, пришла в голову и всем вокруг. — Какая наглость; я имею основания думать, что мои мысли достаточно оригинальны и приходят в голову отнюдь не всем вокруг. — Охотно верю. Ну так скажите же, что это за мысль. — Написать самому Виктору Гюго. — Ну вот, я так и знал, что ваша мысль дурна! Насколько мне известно, вы шестьдесят седьмой человек, которого посетила эта счастливая мысль!.. — Вы меня удивляете; ведь это очень дерзкий поступок. — В высшей степени дерзкий, но, как видите, нашлось шестьдесят семь человек, которые оказались куда более дерзкими, чем вы, и написали поэту раньше вас; впрочем, мысль-то все равно негодная. Тот, кого принимают в Академию, не имеет ни малейшей возможности раздавать билеты незнакомым людям. Испокон веков билеты, которыми он располагает, достаются его родным, друзьям и благодетелям, тем, кто покровительствует ему, если таковые имелись, и тем, кому покровительствует он, если таковые имеются; его соавторам, если сам он писатель не первого ряда; его сеидам, если он вождь секты; его сторонникам, если он государственный деятель. Не говоря уже о многочисленных женщинах любимых, любезных и любящих (академики нуждаются и в тех, и в других, и в третьих): о тех, кого принимаемый в Академию уже не любит, и о той, кого он любит в настоящий момент, а также о той, которую он, по всей вероятности, полюбит в скором времени… Сами видите, какая толпа страстных поклонников и законных претендентов, а у принимаемого в Академию на все про все два десятка билетов, не больше! Виктор Гюго уже раздал все, что ему причиталось, членам своей семьи; возможно, у него не осталось уже ни единого билета даже для самых преданных друзей.
— Вы правы, не стану ему писать… Мне пришла в голову другая мысль… Что если я напишу господину де Сальванди[538]?
— Эта мысль ничем не лучше предыдущей. Неужели вы не понимаете, что в этом случае вас ждут те же самые затруднения? Все, что я вам сказал о принимаемом в Академию, относится и к тому, кто его принимает. Ему тоже предстоит произнести речь; у него тоже есть родственники, которые жаждут его послушать; у него тоже есть друзья, приятели, любимые женщины, льстецы и приживалы, которые жаждут ему рукоплескать. Написать господину де Сальванди! человеку, который целых два года был министром и на этом посту не обделил своими милостями ни одного из своих друзей, включая самых скромных и самых старинных… Бьюсь об заклад, у него билетов уже нет; он без труда заполнил бы всю залу теми бесчисленными счастливцами, кому покровительствует.
— Но к кому же мне обратиться?
— К первому встречному академику или, вернее сказать, к первому встречному институтнику[539], хотя бы к вашему галантному обожателю господину ***. — Да разве он член Института? — Разумеется. — Никогда бы не подумала; по виду этого не скажешь; да чем же он заслужил эту честь? — Не знаю; спросите у него, возможно, он знает. — И вы полагаете, что у него есть билеты? — Каждый член Института имеет право на три билета. Все знаменитые ученые и художники, скорее всего, уже распределили свои. Обратитесь же к академику, который с виду не похож на академика. Возможно, никому еще не пришло в голову попросить билет на торжественное заседание у него. — Куда там! как бы безвестен ни был художник или ученый, всегда найдется кто-то, кто считает его знаменитым, а значит… — Кто-то один, конечно, найдется, но двое или трое — это уже сомнительно, между тем имею честь напомнить вам, сударыня, что всякий академик располагает тремя билетами. Последуйте же моему совету, ничего другого вам не остается.
Между тем и нам тоже пришла в голову мысль. Множество женщин, читающих наши очерки, сгорают от желания побывать 3 июня в Академии; возможно воспользовавшись нашим советом, они решат обратиться с просьбой к господам Такому-то и Такому-то. — Вот будет забавно! Горе вам, безвестные ученые, художники, академики и проч., — каждый из вас завтра получит благоуханное письмецо!
Следующая тема, которую парижане обсуждают, вдоволь наговорившись о планах на лето, — это скачки в Шантийи. Нам пишут:
«Суббота, 15 мая, утро.
Вчерашние скачки были великолепны: превосходные лошади, множество элегантных гостей из Парижа. Все знаменитые красавицы, все без исключения, явились в Шантийи, и, к несчастью, первенство не всегда доставалось светским дамам: юные джентльмены курили фимиам (гаванский) не им одним. Бедные светские дамы! Стоило ли с такой самоотверженностью и с такой снисходительностью начать курить, чтобы вместо благодарности вас оставили курить в одиночестве! На смену социальной розни пришла рознь политическая; вечером в пику придворному балу был устроен бал антипридворный; один алтарь был воздвигнут — а точнее говоря, один оркестр был нанят — в пику другому. Вы без труда угадаете, как сильно досаждало мне это мелочное сведение счетов. У меня у самого, как вам известно, есть убеждения; но я не постигаю, как можно растрачивать свою ненависть на такие пустяки, как можно компрометировать дело столь великое и серьезное ребяческими выходками, его не достойными, — мрачно хранить молчание, когда первыми к цели приходят жокеи принца Орлеанского, и, напротив, неистово рукоплескать жокеям лорда Сеймура[540]. Я сам пламенный легитимист, но втягивать в политику скаковых лошадей — это не по мне».
За рассказом об общем празднестве следуют рассказы о празднествах особых. Профессиональные охотники критикуют охоту. Охотники, изволите видеть, великие педанты! Они утверждают, что охота устроена из рук вон плохо, что собаки, хоть и породисты, но дурно воспитаны и дурно содержатся. Но ведь иначе и быть не может. Охота — развлечение не для конституционного монарха; короли-охотники во Франции больше не в моде; тех, кто охотится слишком хорошо, отсылают за границу, охотиться на чужой земле. В старые времена старые либералы наговорили столько фраз об урожае бедняка, растоптанном наглой монаршей сворой, что народ принял все эти разговоры всерьез; он привык видеть в охоте стихийное бедствие и разучился понимать, что на самом деле охота — не бедствие, а благодеяние. Крестьяне постепенно дошли до осознания этой истины именно тогда, когда бедствие уже перестало разорять их поля; дело в том, что бедствие это имело существенное преимущество; на время охотничьего сезона захолустные деревеньки превращались в оживленные города; здесь жили на широкую ногу, весело и шумно, здесь не переводились курьеры, верховые лошади и почтовые кареты; элегантные путешественники являлись сюда со всех сторон; самая жалкая комнатенка стоила безумных денег; самый скверный омлет был на вес золота. Здесь, не скупясь, устраивали импровизированные празднества; здесь, не задумываясь, позволяли себе самые безумные выходки, а безумцы всегда щедры; повесы умеют вознаградить за причиненные ими же неудобства; люди королевской крови разоряют с неизъяснимым благородством! Спросите у фермеров из окрестностей Шантийи; они расскажут вам, как горько сожалеют о том, что господин герцог де Бурбон[541] уже не охотится в здешних краях! За малейший ущерб он платил в пять или шесть раз больше положенного; многие крестьяне засевали целые участки нарочно для потравы, и порой два или три арпана такой земли, где любят пастись дикие звери, приносили больше, чем целая ферма в крае Бос. Ах охота, охота! что ни говори, у этого стихийного бедствия были свои хорошие стороны! И будь жители маленьких городков, расположенных на опушке леса, посмелее, они непременно добились бы от депутатов и пэров права быть разоряемыми, как прежде[542].
Однако какой государь дерзнет сегодня признаться в том, что любит охоту, и позволит себе завести королевскую свору? — Никакой; все, что можно и должно иметь нынешнему королю, это жалкая конституционная свора, составленная из голодных и ленивых псов, которые превратились из вассалов в граждан, но не выучились никакому ремеслу и озабочены только собственной независимостью. Впрочем, подождите немного: лишь только вокруг Парижа будут построены укрепления, власть имущие почувствуют себя более вольготно и начнут охотиться на самых разнообразных тварей, прежде всего на людей острого ума. […]
Огюст Пюжен. Контора дилижансов «Королевская почта».
Огюст Пюжен. Французский институт.
Проект нового государственного устройства, обнародованный коммунистами, не снискал особого успеха[543]. Что до нас, мы находим их предложения, призванные вдохнуть новую жизнь в наши свободы, весьма остроумными.
Вот что нам предлагают:
Свобода печати. Правительство берет на себя все заботы о формировании общественного мнения. Газете, которая осмелится высказать собственный взгляд на вещи, будет объявлена война не на жизнь, а на смерть.
Свобода образования. Правительство берет на себя все заботы об обучении детей. Родитель, который пожелает сам воспитывать своего сына, будет объявлен извергом и приговорен к смерти.
Личная свобода. В возрасте пяти лет всякий ребенок будет разлучен с родителями по приказу правительства, ибо оно одно имеет право давать новым гражданам отеческие наставления.
Свобода вероисповедания. Священники упраздняются; религии отменяются; ваше единственное право — не верить ни во что.
Свобода промышленности и торговли. Обогащаться запрещено.
Право на труд. Все граждане имеют право трудиться, но лишь если поклянутся не получать никакой платы. Каждый будет трудиться сам на себя: портные станут шить платье и сами его носить; шляпники будут изготавливать шляпы и украшать ими собственные головы; сапожники будут тачать сапоги и натягивать их на собственные ноги и проч. И это совершенно справедливо: ведь эксплуатация человека человеком есть вещь чудовищная и недопустимая, а бедняки не созданы для того, чтобы прислуживать богачам. Мы просим только об одном-единственном добавлении к закону: там должно быть сказано, что авторы будут сами наслаждаться собственными произведениями, ибо умные люди не созданы для того, чтобы забавлять болванов.
«Фаланга»[544] упрекает нас в издевательствах над «синими чулками»; желая добиться от нас сочувствия к несчастным женщинам, которых мужья лишают писательской славы, «Фаланга» спрашивает, что бы мы сказали злобному тирану, который вознамерился бы запретить нам сочинять эти фельетоны. Что бы мы ему сказали? О господи! мы бы осыпали его тысячью благодарностей; мы назвали бы этого злобного тирана освободителем, избавившим нас от этой чудовищной пытки, и тотчас сложили бы стихи в его честь[545]. — А если бы он не позволил вам опубликовать эти стихи? — Ну что ж! тогда мы бросили бы их в огонь, как бросили те стихи, которые мы начали год назад, полгода назад, неделю назад. Неужели в простоте своей вы полагаете, что поэты сочиняют для вас? О публика, публика! ты просто старый фат, возомнивший, что все только о тебе и думают.
30 мая 1841 г.
Человек острого ума и его шутка
[…] Мы были совершенно правы, когда утверждали, что алчущие пригласительных билетов на заседание Академии не дают проходу Виктору Гюго. На днях в театре «У ворот Сен-Мартен» его чуть не задушили: вокруг него столпились добрых два десятка просителей. Что было делать? Обещать билет каждому он не мог. На помощь пришел человек острого ума. «Я не имею чести близко знать вас, сударь, — сказал он, — но я надеюсь, что вы позволите мне сделать вам подарок. — Мне, сударь? — Да-да; я хочу подарить вам одну вещь, которая доставит вам большое удовольствие… — Что же это, позвольте узнать? — Я хочу подарить вам пригласительный билет на то заседание, где вас будут принимать в Академию. Мне обещали достать один билет, так вот, я перешлю его вам; я вижу, что вы будете нуждаться в билетах до последней минуты!..» Господин Гюго поспешил принять это любезное предложение, а докучные просители, догадавшись о нескромности своих притязаний, разошлись.
Кому же мы обязаны этой бесподобной шуткой? — Господину Нестору Рок-плану[546].
6 июня 1841 г.
Французская академия. — Прием Виктора Гюго
Никогда еще ни одному академику не доводилось видеть в Академии такого притока посетителей, никогда еще толпа, собравшаяся перед академическими вратами, не была столь шумной и столь беспокойной; никогда еще парижане не обменивались таким количеством кулачных ударов из любви к литературе, и никогда еще кулаки не опускались на плечи столь прекрасные; никогда еще — вы слышите, никогда! — столько дам, и притом очень хорошеньких, не собиралось в стенах ученого сообщества; никогда еще в этой старой роще не расцветало разом столько очаровательных цветов.
С десяти утра зала[547] была полна народа; в четверть одиннадцатого экзекуторам[548] приходилось уже пускать в ход всю свою смекалку, иначе говоря, использовать каждое свободное место и размещать повсюду микроскопические табуреты. С одиннадцати же часов утра до двух пополудни, когда началось заседание, двери Академии подверглись форменной осаде. Ужасный слух гласил, что мест больше нет. В тесную малую прихожую, где в обычное время с трудом помещается десяток человек, набилась целая толпа. Время от времени отворялась узкая дверка, ведущая внутрь, и возникавший на пороге лысый человек провозглашал: «Четверо, только четверо», после чего четверо избранников получали право проникнуть в темный коридор; они исчезали там с громкими криками, а толпа, исполненная зависти к счастливцам, яростно рвалась за ними следом. Стремясь сдержать ее нетерпение, лысый господин возымел счастливую мысль прибегнуть к помощи военных. Тут-то и началась ужасная давка, тут-то наблюдатель и получил возможность оценить принципиальное различие между затянутой в перчатку рукой светского человека и ничем не прикрытым кулаком человека военного. Последний бесспорно бьет сильнее. Впрочем, не особенно любопытствуя удостовериться в последнем выводе, мы поспешили спастись бегством и ретировались в более просторную большую прихожую. Полтора часа ожидания пропали даром; кто бы мог подумать, что в стенах самой Академии можно сделаться жертвой свирепой солдатни? — Кто мог подумать? Тот, кто помнит, что другое имя Минервы — Паллада. Достаточно увидеть на пригласительном билете женскую фигуру в шлеме, чтобы не удивляться военным маневрам в стенах Института. Солдаты между тем выстроились в два ряда, и до слуха толпы донеслось: «Принц и принцессы!» После чего герцог и герцогиня Орлеанские, герцогиня Немурская и принцесса Клементина прошли мимо нас и направились на приготовленные для них места. И каждый, кто видел это, подумал: «За последние десять лет принц крови впервые переступает порог Академии. Это хороший знак и вдобавок смелый поступок. Неужели во дворце решили выказать искреннее почтение литературе? Неужели эпоха увлечения посредственностями уходит в прошлое? Неужели люди выдающиеся получили шанс пленить людей, обладающих властью?» Внезапное явление принца и принцесс пробуждало множество мыслей и надежд.
Следом за принцессами в залу проследовали господа члены Института, а желавшие попасть внутрь толпились по обе стороны от прохода, и каждая из обделенных дам душераздирающим голосом взывала к своему академику: «Господин Дюпати, у меня нет места. — Господин де Жуи, я здесь… — Господин де Сальванди, будьте милосердны!» Юная особа, умолявшая господина де Сальванди о милосердии, была на редкость хороша собой… Но неблагодарные знаменитости остались глухи к мольбам, и неприкаянные души продолжали маяться за оградой. В число отверженных входили графиня М***, баронесса де Ротш…, госпожа Ж***, красавица мадемуазель С*** с матерью, герцог де Валь…, граф В… — в обществе столь блестящем было не стыдно оставаться за порогом. Тем более что господа академики, на наш взгляд, имели вид отнюдь не завидный; за исключением тех, кого мы уже назвали, а также господина Моле, господина Лебрена и самого господина Виктора Гюго, все остальные пришли во фраках[549] и были одеты очень скверно — точь-в-точь как депутаты; сравнение жестокое, но верное[550]. Мало кто одобрил это явление академиков в парламентском неглиже.
Наконец нас впустили в залу. В первое мгновение мы решили, что попали в женскую академию. Нам досталось место неподалеку от председательского, так вот, оттуда мы видели одни лишь цветные шляпы, а из-под них выглядывали прелестнейшие в мире лица. Чрезвычайная элегантность публики наполнила нашу душу тревогой; Виктору Гюго было угодно накануне прочесть нам свою восхитительную речь; мы уже знали, что она исполнена мыслей глубоких и серьезных, и опасались, как бы мысли эти, проникая сквозь легкие кружева в умы столь юные, столь свежие и столь веселые, не натолкнулись на некоторые препятствия. В восемнадцать лет все женщины могут понять возвышенные и страстные грезы поэта, но проникнуться трагичностью его воспоминаний, оценить презрительную невозмутимость его философии, разделить горькую снисходительность его суждений способен лишь тот, кто ценою слез и отчаяния приобрел печальное знание, которое светские люди именуют опытностью, а мы называем разочарованием.
Итак, поначалу этот партер, заполненный беспечными юными особами, привел нас в ужас, но вскоре мы совершенно успокоились, ибо все эти прелестные особы внимали поэту с нескрываемым воодушевлением, а величественный и грозный финал его речи удостоили восторженной овации. Вы знаете содержание этой прекрасной речи и можете угадать произведенное ею действие: она вызвала разом и восхищение, и удивление. О да, огромное удивление; от господина Гюго ожидали язвительных обвинений, оскорбительной похвальбы, дерзких деклараций, одним словом, ожидали, что он скажет: «Вы трижды[551] отвергали меня, и все же я стою здесь, перед вами. Вы осудили мои убеждения, а они побеждают; вы глумились надо мной, а теперь настал мой черед посмеяться над вами, мелкими прозаиками без стиля, мелкими поэтами без мыслей; вы восхваляете Корнеля, а сочинения ваши доказывают, что вы его не понимаете; вы прославляете Мольера, а сами похожи лишь на изображенного им смехотворного Триссотена[552]. Вы отстаиваете чистоту языка, а сами, критикуя меня, громоздите одну нелепость на другую и делаете в каждой фразе по два десятка ошибок против французского языка и проч.» Вот какой речи — разумеется, более складной, но ничуть не менее беспощадной — все ждали от новоизбранного академика.
Вместо этого он произнес слова, исполненные достоинства и покоя, кротости и открытости[553]; о себе как вожде литературной школы или даже секты… он не говорил вовсе; это означало бы напомнить об оказанном ему сопротивлении, иначе говоря, бросить академикам упрек. О своих общественных убеждениях… он умолчал; это означало бы объявить об их победе, иначе говоря, унизить побежденных. О призвании художника… он не стал распространяться; рассказать о новых литературных верованиях означало бы оскорбить предрассудки собратьев; это означало бы бросить им в лицо: «Я молод, вы стары. Вы отжили свой век». Он же, напротив, хотел сказать им совсем иное: «Успокойтесь, в сердце моем нет злобы, ибо в уме моем нет тщеславия; я не стану говорить с вами о наших распрях. Я забыл гонения, каким вы меня подвергали; я сумею заставить вас забыть ваши клеветы. Подобному вздору не смутить моих грез; меня занимает и всегда занимало совсем другое — достоинство искусства, независимость мысли, триумф истины, будущее цивилизации, слава Франции, величие Бога, — благородные идеи, вдохновляющие благородные души; о враги мои! узнайте же наконец, кто я такой, и отбросьте тревогу: человек, размышляющий о подобных материях в те минуты, когда его оскорбляют, прощает своим неприятелям заранее!»
Итак, господин Гюго предстал перед лицом своих врагов, по доброй воле отринув самое могущественное свое оружие: напоминания об их мелочной вражде, рассказ о их жалких клеветах, описание их смешной напыщенности. Он явился перед ними доверчивый и великодушный, он шел вперед, даже не глядя под ноги, ибо не допускал и мысли о ловушке; и этот человек — гордый победитель, которому германские студенты воздвигают триумфальные арки; человек, слава которого на родине Байрона так велика, что недавно один нескромный джентльмен назвался его именем, чтобы благодаря этой хитрости добиться благосклонности всех молоденьких и хорошеньких англичанок, обожающих французского поэта; человек, у которого есть свои сеиды, как у Магомета, а также своя старая и своя молодая гвардия, как у Наполеона; человек, который по праву считается одним из королей мысли, одним из триумвиров своего века… — этот человек держался скромно, был почти так же бледен, как его жена, и почти так же взволнован, как его дети, ибо принимал это литературное торжество всерьез; он верил в достоинство Академии, ибо знал, что собратьями его будут отныне господин де Шатобриан и господин де Ламартин, чувствовал, что вступает в славное царство ума, ибо видел подле себя господина Суме, а напротив — господ Моле, Руайе-Коллара, Вильмена, Гизо и Тьера.
В его великодушии было столько искренности, в его простоте было столько хорошего вкуса — а ему ответили эпиграммами, его речь вознамерились опровергнуть слово за словом[554]. На все факты из жизни господина Лемерсье, которые он упомянул в своей речи и которые стали ему известны не от кого иного, как от вдовы покойного, ему отвечали рассказами противоположными; каждая фраза этого ответа, казалось, гласила: «Вы полагаете, что автор „Агамемнона“ в такое-то время имел такие-то намерения: ничего подобного, он их не имел… Вы утверждаете, что он совершил такой-то поступок: ничего подобного, он его не совершал. Вы убеждены, что он произнес такие-то слова: ничего подобного, он никогда их не говорил». Что же касается достоинств самого нового члена Академии, о них было сказано примерно следующее: «Учась в коллеже, вы невзначай сочинили прекрасные стихи: ничего лучшего вы с тех пор на свет не произвели. Творения зрелого мужа не превзошли плода ребяческих забав. Вы упрекаете Непомюсена Лемерсье в дерзости: ах, сударь, он и сам упрекал себя в ней, ибо его дерзкие выходки породили ваши». И так без конца; вначале публика рукоплескала кое-каким красноречивым пассажам и кое-каким остроумным выпадам[555], но затем подобная жестокость ее возмутила, и всеобщее негодование вынудило того, кто, к несчастью, осмелился взять на себя обязанности палача, прервать поток этих оскорблений и опустить всю вторую часть своей речи. О, мы бы охотно ответили на этот ответ!.. Но тот, кто его произнес, принадлежит к числу наших любимцев, а когда те, кого ты уважаешь и любишь, опускаются до подобной несправедливости, их поступки достойны осуждения… но не осмеяния.
Что же касается политических притязаний литераторов, то по этому вопросу мы разделяем всеобщее убеждение и даже идем дальше, ибо, если поэту мы запрещаем унижаться до презренной деловой прозы, политику мы дозволяем воспарять до служения искусству и литературе. Бывают, однако, эпохи исключительные, когда мыслители утрачивают право наслаждаться праздностью и предаваться грезам. В обычное время мы, как и все, говорим поэту: «Предоставь свой челн течению волн; пускай матросы гребут; их дело — направлять лодку, а твое дело — слушать ропот моря, созерцать звездное небо; восхищаться, дышать, думать, любить, петь и молиться — вот твоя миссия, вот твое призвание; прими его с радостью, ибо ничего лучшего не придумано…» Но если лодка в опасности, если матросы пьяны, не знают, куда плыть, и дерутся вместо того, чтобы грести; если впереди скалы, а море штормит, тогда мы кричим поэту: «Проснись! Сегодня твой покой — преступление; перестань петь и вспомни, что голос твой способен также и приказывать; пусть он заглушит бурю, пусть усмирит мятеж. Ступай к матросам, вмешайся в их спор и разреши его; прими участие в их труде и облегчи его; возьмись за весло, подай пример, спаси возлюбленный челн, с которым неразрывно связаны все чувствования твоего сердца и все сокровища твоей славы, твоя семья и твоя любовь, твой стяг и твоя лира».
Конечно, когда короли сражаются меж собой за провинции, когда народы нападают друг на друга из-за мимолетных неудовольствий, поэт должен сохранять гордое спокойствие и презирать победителей; но когда обезумевшие нации учиняют резню из-за идеи, когда кровь проливается из-за разногласий сугубо интеллектуальных, поэт не вправе оставаться в стороне; он обязан рассеять роковой мрак сиянием всех своих лучей; он обязан заглушить все безрассудные крики звучанием всех своих аккордов; он обязан исцелить все эти гнойные раны бальзамом своего милосердия; он обязан противопоставить этим опасностям всю свою отвагу, отдаться этому священному делу всем своим существом[556]. Способность укрощать безумие есть один из секретов гармонии: песни Орфея усмиряли ярость демонов; арфа Давида усыпляла гнев Саула. О бедные народы, о несчастные нации, потерявшие рассудок, не отталкивайте поэтов, они одни могут вас исцелить, могут избавить вас от бедствий, над вами тяготеющих; лишь жители горних сфер способны разоблачить ваших лицемерных тиранов; лишь любимцы славы способны разорвать путы тщеславия; лишь бессмертные мыслители способны заставить замолчать несносных болтунов. […]
13 июня 1841 г.
«Пресса» и «Парижский вестник»
Последний наш фельетон был воспринят некоторыми читателями как объявление войны, войны всем и каждому, войны Германии и немецким поэтам[557], войны депутатам и академикам; из этого был сделан вывод, что «Пресса» изменила направление и, прекратив благородную борьбу за мир на всем земном шаре, принялась ратовать за всемирную войну. О читатели! сколько же можно вам повторять, что «Пресса» и «Парижский вестник» — вещи совершенно различные и одна от другой нимало не зависящие. «Пресса» нисколько не отвечает за то, что утверждает «Парижский вестник», сходным образом и «Парижский вестник» не несет никакой ответственности за то, что печатает «Пресса».
«Пресса» — серьезная газета, а «Парижский вестник» — насмешливый вестовщик; это означает, что их характер, убеждения, исходная позиция, цель и обязанности не имеют между собой ничего общего.
Серьезная газета обязана быть последовательной и рассудительной; от насмешливого же вестовщика не требуется ничего, кроме элегантности, а порой верх элегантности состоит в том, чтобы болтать вздор. Вернемся, однако, к нашему сопоставлению.
«Пресса» имеет заветные убеждения, но это не мешает ей учитывать расстановку сил на политической сцене, отдавать дань условностям, целесообразности и проч. Зачастую она не высказывается откровенно на счет тех или иных лиц, нередко она откладывает на завтра обнародование той или иной истины, представляющее опасность сегодня, наконец, ей постоянно приходится брать в расчет не только настоящее, но и будущее.
«Парижский вестник», напротив, — беспечный наблюдатель, не обязанный покоряться никаким условностям; как все равнодушные люди, он абсолютно неколебим в своих убеждениях. Кому ничего не нужно, тот ничего и не получает. О, равнодушие — это страшная сила!
Поскольку «Парижский вестник» не исповедует ни одной системы, не входит ни в одну партию, не принадлежит ни к одной школе, он может без промедления говорить все, что думает о событиях и лицах; он не ищет под истиной дату, истина кажется ему верной и уместной независимо от того, когда она была высказана. Он идет своим путем, поглядывая по сторонам и осуждая все, что ему не нравится. Порой его останавливают и говорят: «Берегитесь, поступок, который вы критикуете, совершен очень важным лицом». — «Тем хуже, — отвечает „Парижский вестник“, — мне до этого дела нет». Нередко ему говорят и другое: «Вы с ума сошли, недостатки, над которыми вы смеетесь, присущи вам самим». — «Тем лучше, — отвечает он, — значит, они присущи мне вдвойне, и как их обладателю, и как их наблюдателю, а в этом случае я дважды вправе над ними смеяться». И продолжает смеяться.
«Пресса» — отважная защитница монархии, и ее редактор раз в три года бывает во дворце Тюильри. Сочинитель «Парижского вестника» не бывает там никогда.
«Пресса» проповедует милосердие в политике и, несмотря на возмутительную несправедливость палаты депутатов, призывает относиться к третьей власти с уважением; она всегда отзывается об этом почтенном сообществе в самых приличных словах.
«Парижский вестник» проповедует неумолимость, он не видит оснований прощать ни трусость, ни несправедливость; он говорит обо всем этом откровенно, а поскольку он убежден, что, если нация благородная и великодушная представлена в парламенте людьми скверно одетыми и дурно воспитанными, — это большое несчастье, он считает своим долгом указывать господам депутатам на несообразность их наряда и вульгарность их манер и не пропускает ни одного случая это сделать.
Наконец, «Пресса» мечтает о мире, потому что вместе с миром приходят процветание страны, совершенствование земледелия, развитие промышленности и торговли, смягчение нравов и благоденствие человечества; да будет так!
«Парижский вестник», со своей стороны, время от времени мечтает о войне, не как политик, а как философ, не из любви к смертоубийству, но из отвращения к тому, что его заменяет. Ибо знаете ли вы, чем мы наслаждаемся, когда не ведем войну? Мы наслаждаемся чумой, желтой лихорадкой и холерой, либо революциями и мятежами; так вот, раз уж мир устроен так, что каждые двадцать лет на человечество обрушивается какой-нибудь мор, «Парижский вестник» полагает, что лучше погибнуть со славой на поле боя, чем увянуть на больничной койке или расстаться с жизнью на эшафоте; смерть есть смерть, но в первом случае тебя оплачут благодарные соотечественники, во втором — покинут все друзья, а в третьем — предадут трусы и подлецы. Не то чтобы «Парижский вестник» любил войну, но раз уж в этом благословенном мире нам остается лишь право выбирать между разными стихийными бедствиями, он осмеливается остановить свой выбор на войне.
Огюст Пюжен. Главная почтовая контора Парижа.
Мы уже угадываем ваш вопрос: как же получается, что «Пресса», газета столь рассудительная и последовательная, печатает фельетоны автора столь взбалмошного и нередко утверждающего сегодня полную противоположность тому, что он утверждал вчера? Все дело в том, что року, преследующему нас неотступно, угодно было сделать так, что наша жалкая болтовня имеет успех; чем сильнее скучаем мы сами, сочиняя наши фельетоны, тем больше, кажется, они забавляют публику; чем они глупее, тем, кажется, больше нравятся читателям; когда мы трудились на совесть, иначе говоря, сочиняли серьезные статьи в расчете на признание со стороны серьезных людей, это приходилось по вкусу лишь немногим; зато болтовня, самая настоящая болтовня, пленила всех без исключения, между тем для того, чтобы болтать с приятностью, много ума не надо; надо лишь быть в курсе всего, что говорится в самых разных сферах: в мире политическом, в мире артистическом, в мире литературном, в мире элегантном, а мы на беду обладаем и этим роковым преимуществом. Говоря короче, все сходятся на том, что у нас есть свое фирменное блюдо, и это блюдо — вздорные пустяки, а поскольку ни одна уважающая себя газета не может обойтись без известной дозы вздора, «Пресса» не может обойтись без нас, а если ты не можешь без кого-то обойтись, тебе волей-неволей приходится его терпеть. Нам скажут: «Но неужели никто не может вас исправить?» — Каким же это образом? Пригрозив, что не будут нас печатать?.. Угроза столь соблазнительная нас лишь раззадорит! Дал бы бог, чтобы в один прекрасный день нас захотели наказать и отпустили нас на волю! Но не стоит обольщаться пустыми мечтаниями, свободы нам не видать. Так что придется вам набраться терпения и смириться с нашим присутствием на страницах «Прессы»; как быть? совершенства в мире нет. «Пресса» — серьезная газета, выпускаемая с великим тщанием; наши проклятые фельетоны — единственный ее недостаток. Простите же ей привязанность к нашему злосчастному «Парижскому вестнику», а главное, не возлагайте на нее ответственность за вздор, который он несет шутки ради, и за его нападки на палаты, Академию, Германию и многие другие предметы. […]
1844
3 марта 1844 г.
Карнавал. — Магдалина возвратилась в свет. — Человек отменного остроумия в костюме канарейки
Что ни говори, кто-то должен рассказать вам о главных событиях нынешнего карнавала.
Начался он самым покойным и достойным образом — с концертов. Концерты суть естественная прелюдия к развлечениям. Скажем сразу, что прекраснейшим из гармонических праздников был тот, что состоялся в доме герцогини Гальера[558]. Там имелось все, что необходимо для безупречного концерта: публика, подобранная умно и тщательно; превосходные певцы и — для тех гостей, кто не любит музыку, — превосходные собеседники; наконец, та важная деталь, без которой ни один праздник не достигает совершенства; тот прелестный предлог, который оправдывает все на свете: богатые парюры и прелестные турнюры, царственную походку и платья со шлейфом, двойные туники и тройные воланы; то хитроумное средство избежать скопления гостей в одном месте; та неисчерпаемая тема, которая служит началом для любого разговора; та общая цель, которая сближает всех своенравных гостей; тот секрет, который сообщает празднеству притягательность и живость; тот верх элегантности, который мы назовем паломничеством. Без паломничества праздник не праздник!
Под паломничеством мы разумеем прогулку по просторным гостиным и увитым цветами галереям, которую гости совершают ради того, чтобы насладиться лицезрением чудесного произведения искусства, таинственно укрываемого или, вернее сказать, почтительно сохраняемого в дальних покоях великолепного особняка — в неведомом святилище, куда профаны прежде допущены не были. В тот день, о котором мы ведем речь, роль чудесного шедевра, к которому тянулись вереницы паломников, исполняла Магдалина Кановы[559]. Кающаяся красавица оплакивала свои прегрешения в тиши и во тьме; впрочем, на нее падал луч света, который лишь подчеркивал ее прелести, а дамы в бархате и атласе, в жемчугах и брильянтах одна за другой приносили дань своего почтения этому поэтическому воплощению скорби и смирения. Кругом только и слышалось: «Вы видели Магдалину Кановы? — Я только что видел Магдалину Кановы. — Сходите же взглянуть на Магдалину Кановы. — Как? вы еще не видели Магдалину Кановы?..» Один из наших друзей осыпал нас колкостями из-за этой самой Магдалины Кановы. «Ну, — спросил он, — вы только что от нее; что скажете? — Последний раз мне довелось ее видеть двенадцать лет назад; так вот, положа руку на сердце, признаюсь, что она сильно изменилась». Друг наш счел этот ответ на редкость потешным.
Вернемся к концерту у герцогини Гальера: итак, разве не вправе мы назвать безупречным такое празднество, на котором в доме женщины пленительной и остроумной, в окружении знаменитостей, прибывших со всех концов света, гости слушают музыку Россини и созерцают шедевр Кановы?
Следом за концертами наступил черед благотворительных празднеств. Величественный особняк Ламбера, недавно приобретенный княгиней Чарторижской, предоставил свои роскошные гостиные для бала в пользу поляков[560]; на этом балу предметы для паломничества не переводились; праздник вышел чудесный и удался на славу. Выскажу лишь одно замечание: пожалуй, французов на этом празднике было маловато. Что ж! — возразят мне, — разве недостаточно того, что делает для чужестранных изгнанников правительство? А делает оно немало, доказательством чему служит недавняя просьба бургундского крестьянина назначить его на должность испанского эмигранта[561]. Правительство делает немало, это правда, однако щедроты правительства оплачивают бедные люди, платящие налоги, тогда как благотворительность — это налог, взимаемый не с бедных, а с богатых; если бы богачи давали больше, беднякам, возможно, не пришлось бы давать вовсе ничего. Мы дерзаем вынести это предположение на суд читателей. […]
Мало-помалу карнавал оживился, и наступила пора костюмированных балов. Новшество этого года — обеды и ужины под маской; не стоит это понимать буквально: под маской были гости, а не блюда. Иные из этих трапез прошли очень весело.
В артистической среде карнавал праздновали так же, как и всегда, — весело и остроумно. Говорят, что прелестен был бал у Сисери[562]. Сам хозяин нарядился старым солдатом-инвалидом. Все прелестные женщины явились на этот бал в прелестных костюмах, но лучше всех была мадемуазель Плесси в костюме торговки устрицами… не подумайте дурного, торговки устрицами, сошедшей — если говорить галантным языком — с картины Грёза[563]. Гости, не запасшиеся костюмами, получали доступ на бал, лишь сказавшись больными; в этом случае им выдавали ночной колпак и халат; выбор между возвращением домой несолоно хлебавши и внезапным приступом болезни совершался очень скоро: все хотели позабавиться и потому предпочитали скоропостижно занемочь; началась форменная эпидемия. Эти строгости напомнили нам шутку в том же роде, имевшую большой успех несколько лет назад. Один из прославленных художников, публикующийся в «Психее»[564], явился на бал без костюма и был безжалостно выгнан вон. Вначале несчастный впал в отчаяние, но затем его осенило: он бросился в ближайшую бакалейную лавку, купил лист бумаги и смастерил из него громадный дурацкий колпак, на котором вывел: «Наказан за то, что явился без костюма». Само собой разумеется, на сей раз его не только пустили, но и приняли на ура.
Графиня Мерлен позволила прийти без костюма только пяти послам и политикам. Посему на ее балу изобиловали хитроумные домино, болтавшие прелестный вздор; мужчины облачались в домино небесно-голубого цвета, женщины разгуливали в розовых домино, а несколько черных домино привлекали всеобщее внимание своей загадочностью. Сама госпожа Мерлен была в великолепном греческом наряде, расшитом драгоценными каменьями; маркиза де Ла Гр…[565] — в самом настоящем персидском костюме, который она носила с изяществом поистине восточным. Графиня Самойлова нарядилась в охотничье платье века Людовика XIV; как ни широка была ее фетровая шляпа, непослушные пряди прекрасных волос все равно вырывались на свободу. Две юные англичанки изображали День и Ночь: первая, яркая и сияющая, укрывалась под длинным белым покрывалом, расшитым золотыми блестками, которые играли роль солнечных лучей; вторая, молчаливая и печальная, скрывала под складками черного крепа тысячу серебряных звезд.
Госпоже Тьер нездоровилось, и она ограничилась тем, что надела белое домино, однако домино это своей продуманной простотой и восхитительной элегантностью затмевало наряды самые затейливые.
В полночь зазвучали фанфары. Настала пора для кадрили охотников времен Людовика XIII; она снискала успех — большой и заслуженный. Всеобщего одобрения удостоился также молодой человек, одетый Амуром. Вот краткое описание его наряда: одежда — лазурная туника; головной убор — пудреный парик и розовый венок; перевязь — гирлянда из роз; усы — два розовых помпона; страдания — невралгия. — Вы причисляете страдания к парюрам? — Да, и по праву; недаром ведь говорят: страдания украшают влюбленного; согласитесь, что влюбленные этим пользуются совершенно беззастенчиво. Так вот, этот несчастный Амур в течение всего вечера корчил страшные гримасы и открывал окрестному эху тайну своих мучений. При виде его мук мы вспомнили прелестный стих, который прочли накануне в последнем поэтическом сборнике господина де Латуша «Прощания»; советуем вам без промедления ознакомиться с этой книгой. Так вот, мечтатель из Ольне[566] определяет любовь следующим образом:
Любовью мы зовем в страдании потребность.Конечно, очень дурно припоминать столь печальный стих при виде столь забавного Амура. Но для карнавала нет ничего святого. А вот другой костюм — еще более оригинальный и еще более остроумный. Тот, кто его придумал, явился на бал во всем канареечном: во фраке и панталонах канареечного цвета, в канареечных туфлях и в канареечной шляпе, увенчанной тремя прелестными чучелками канареек весьма шаловливого и пикантного вида. Этот канареечный гость известен как человек отменного остроумия. Вот так всегда и бывает у нас во Франции: некто в течение полутора десятков лет создает себе репутацию человека острого ума… ради богатства, ради славы, ради счастья?.. Нет, ради того, чтобы в один прекрасный день нарядиться канарейкой.
Те, кто побывал на балу у графини Мерлен, могли также насладиться лицезрением двух индейских вождей: наряжены эти два дикаря были очень хорошо, но вот одеты очень плохо. Все кругом восхваляли их костюм за чрезвычайную достоверность. Охотно допускаем, что эти суждения справедливы, однако не можем не заметить, что мало кто из тех, кто судил о копии, видел оригинал; что же касается этой копии, то материи на нее пошло немного: несколько кусочков желтого полотна и несколько серых перьев. Возьмите старую перяную метелку и пару льняных лент — и вы тоже сможете завести себе костюм из драгоценной индейской ткани. Не обошлось и без украшений, а именно рыбьих косточек и собачьих костей, носорожьих рогов и орлиных клювов, ястребиных когтей и тигриных клыков, акульих челюстей и крокодильих слез… Так вот, красотой все это не блистало; самые захудалые брильянты производят куда больше впечатления, чем редкости такого рода. Вдобавок, как вы сами понимаете, дамам в газовых платьях с кружевными оборками соседство дикарей, вооруженных костями, когтями и клыками, сулит множество неудобств! Дикарские украшения оказались увлекательны сверх меры: танцуя, новоявленные индейцы то и дело увлекали за собой трех или четырех партнерш разом, что не могло не внести путаницу в фигуры танца. «О как несносны эти дикари! — воскликнула одна молодая женщина, чей газовый шарф только что зацепился за браслет из орлиных клювов. — О как они несносны!..» Тут она заметила адмирала де ла Сюза, который только что снял маску, и учтиво осведомилась у него: «Любезнейший адмирал, вы объехали весь свет: не можете ли вы указать им какой-нибудь необитаемый остров?» Дикари наши, как и подобает всем добропорядочным дикарям, отличались яркими татуировками. У одного из них физиономия была желто-красная, а у другого — в желто-черно-зеленую полоску, точь-в-точь китайская тафта. Пожалуй, в их наряде то была единственная материя, радовавшая глаз.
Кстати о татуировках: говорят, что однажды придворные медики короля Швеции[567], собравшись пустить ему кровь, обнаружили на августейшем предплечье три слова: «Свобода, равенство или смерть!» Изумление докторов не знало предела. Карл XIV так давно сделался королем, что все успели позабыть о временах, когда он был всего лишь героем, королем же он сделался столь замечательным, что трудно вообразить себе времена, когда он был не менее замечательным республиканцем. Но какое же, право, удивительное это зрелище: король с татуировкой, превозносящей свободу! Вся история нашего века заключена в этой фразе: «Свобода, равенство или смерть!» В наши дни именно этот девиз приводит человека на престол[568]. […]
На бульварах карнавал был печален и уродлив. Бедные дети томились в колясках или шлепали по отвратительной снежной кашице, своего рода черному мороженому, леденившему им ноги, — все ради того, чтобы посмотреть на маски; они с плачем призывали их, но маски не появлялись; чтобы утешить детей, родители выискивали в толпе смешные фигуры и указывали на них детям, говоря: «Вот тебе маска!» Особенный успех имели родители друзей… По-настоящему великолепен был в этом году только жирный бык персикового цвета — прекрасный цвет для жертвы.
Хозяйки серьезных и степенных салонов, желая слегка развлечься и доказать самим себе, что на дворе карнавал, приглашали Левассора. Его озорные песенки пользуются в элегантном мире чрезвычайной популярностью. Чем роскошнее убранство салона, чем богаче обои, чем дороже брильянты, чем непреклоннее пожилые дамы, чем неприступнее молодые женщины и чем неинтереснее юноши, тем с большим восторгом принимают в таком салоне «Биби на молитве» и «Тити в театре». Примечательно, что особы самые надменные забавляются исключительно вещами, их недостойными; все остальное они считают ниже своего достоинства[569].
Дамы, именуемые синими чулками, оставались во время карнавала нелюдимы и суровы, что само по себе смешно[570]. В комнате, обставленной самым странным образом, при зыбком свете полупогасшей лампы женщины с невообразимыми прическами изводили друг друга заунывными александринами… О хитроумный карнавал, ты простираешь свою власть даже над теми, кто знать тебя не желает!
Мы не станем рассказывать вам, как проходил карнавал в палате и в Опере. Почтение к приличиям накладывает на наши уста печать молчания.
24 марта 1844 г.
Женщины в Академии. — Отчего этому не бывать? Оттого что француженки умнее французов.
— Салический закон. — Его происхождение. — Законы против волков принимаются лишь в тех странах, где водятся волки.
— Законы против женских амбиций принимаются лишь в тех странах, где женщины амбициозны до предела
Последние десять дней весь Париж обсуждает выборы в Академию; значит, придется поговорить об Академии и нам; позвольте же поделиться несколькими довольно необычными соображениями, которые родились у нас на этот счет.
Лишь только объявляется новый претендент на академическое кресло, галантные поклонники наших прославленных дам хором затягивают одну и ту же льстивую песню:
— Да ведь это вам, сударыня, следовало бы баллотироваться в Академию!..
Тотчас некий академик спешит принять участие в разговоре:
— Я, сударыня, обещаю вам свой голос.
Затем с улыбкой очаровательной или отвратительной (смотря по своим возможностям) академик добавляет:
— Право, отчего бы не завести во Французской академии два кресла специально для дам: одно отдать Жорж Санд, а другое — госпоже Такой-то?.. (На второе кресло в каждом салоне своя претендентка.) Отчего бы не позволить женщинам большого таланта стать членами Академии?..[571]
Отчего?.. Сейчас узнаете…
Оттого что это было бы ненормально, непоследовательно, смешно и не в наших правилах. Мы ответим вам вопросом на вопрос: разве могут женщины мечтать об академическом кресле в стране, где они не могут претендовать на трон? Разве могут они гордиться своим пером там, где им отказывают в скипетре? Разве могут далеко пойти благодаря своему гению, если не имеют никаких преимуществ благодаря происхождению? Зачем вы даруете им привилегии, если отняли у них законные права? Во Франции женщина может быть герцогиней или графиней, лишь если она вышла за герцога или графа; что ж, значит, академикшей она может стать, лишь если вышла за академика. В стране прекрасных рыцарей женщинам заказано личное достоинство; их единственное право — сверкать отраженным светом; повсюду — и вы прекрасно это знаете — они наталкиваются на салический закон[572]; не пытайтесь же их от этого закона освободить; исключения опасны: они нарушают равновесие, рождают безумные надежды и отдаляют угнетенных от благословенного, счастливого мига — мига, когда жертвы проникаются смирением и начинают черпать в нем свою силу. СМИРЕНИЕ! возвышенное слово, за которым скрывается так много всего: разгаданная тайна, отысканное сокровище, хитроумные уловки, нежданная помощь, сыгранная роль, незаметные труды, потаенные люки, шелковые лестницы, замурованные двери, вертящиеся зеркала, неслышные шаги, семейная война, тайное могущество, глубокая вера, мрачная гордыня, непреклонная скромность, учтивая ненависть, презрительная вежливость, ласковая месть, вечная горечь, — вот что скрывается у женщин за словом «смирение». Понятно, насколько важно им смириться без промедления и без остатка.
Мужья и тираны, если женщина произнесла страшные слова: «Как быть! пришлось смириться…» — трепещите!.. начиная с этого дня, распечатывайте ее корреспонденцию, обыскивайте все ящики ее комода, ее секретера и рабочего стола[573]; спите только вполглаза и не пейте ничего кислого.
О галантные законодатели! Не трогайте салического закона; это мудрый закон, который не нужно менять ни в одном пункте. Женщины должны не проклинать, а, напротив, ценить этот закон, ибо, по видимости унижая их, он на самом деле им льстит. Неужели вас никогда не удивляло, что народ Франции, народ трубадуров и паладинов, рабов любви и защитников красоты, оказался тем единственным народом, который навеки лишил женщин права на престол[574] и отнял у них все привилегии, как дворянские, так и литературные? Неужели вас никогда не удивляло, что этот народ, состоящий из обожателей прекрасных дам, вынес столь суровый приговор женщинам? Как же можно иметь разом нравы столь куртуазные и законы столь безжалостные? В чем причина этого удивительного противоречия?
— В зависти.
— Мужчины завидуют женщинам?
— Не совсем так… Французы завидуют француженкам, и у них есть на то основания…
Итальянец умнее итальянки.
Испанец умнее испанки.
Немец умнее немки.
Англичанин умнее англичанки.
Русский умнее русской.
Грек умнее гречанки[575].
Но француженка умнее француза.
Спешим уточнить, что мы не имеем в виду людей высшего ума, людей выдающихся. Во-первых, человек безупречного ума принадлежит всем странам мира, что, впрочем, не мешает ему принадлежать своей собственной стране: что ни говори, гений всегда универсален; во-вторых, умный мужчина всегда умнее умной женщины по той простой причине, что человек высшего ума, человек гениальный, соединяет в своей персоне все природные совершенства, и мужские, и женские; мужская сила в нем сочетается с женской деликатностью. Доказать, что гениальному мужчине свойственны женские достоинства, нетрудно: достаточно сказать, что ему присущи также и женские недостатки; он капризен, раздражителен, впечатлителен, беспокоен, подозрителен, ревнив, как балованное дитя; вдобавок он отличается тонкостью и хитростью — а если учесть, что на его стороне также сила и стойкость, это уже явный перебор. Что же касается гениальной женщины, она этими двойными преимуществами не обладает (исключения лишь подтверждают правило); как она ни старайся, ей не обзавестись ни мужскими достоинствами, ни мужскими недостатками. Сила, которую женщина лихорадочно пытается придать своему таланту, всегда останется преходящей и бесплодной; после этих судорожных попыток — своего рода интеллектуальной эпилепсии — женщина всегда будет снова впадать в состояние расслабленности и смятения; ведь эта заемная энергия отнимает у нее природные силы, которые она черпает не в накале страстей, не в глубине ученых штудий и не в мощи философических размышлений, а в тонкости наблюдений, в пылкости верований и возвышенности чувств.
Каким же образом, спросят нас, вы оправдываете существование женщин, сочиняющих трагедии?[576] На это мы ответим, что, если женщины эти сочиняют женские трагедии, они имеют на то полное право; что женщина может, не впадая в смешную претенциозность, воспеть в драме или поэме героический поступок другой женщины. Больше того, женским пером могут быть описаны и некоторые мужчины — в том случае, если совершили поступки отнюдь не героические: описания эти станут для них возмездием за проявленную слабость. Антоний в Риме, призывающий отмстить за смерть Цезаря, — предмет для мужского гения, а вот Антоний в Египте, поклоняющийся Клеопатре, — предмет, достойный пера женщины; изображение победителя при Филиппах она обязана предоставить Шекспиру; другое дело Антоний, терпящий поражение при Акциуме, — согласитесь, что этого беглеца пристало живописать женщине[577]. Итак, в истории немало событий, служащих предметом для того, что мы предлагаем назвать женским искусством, — ибо такое искусство существует, и отрицать это невозможно. Разве не вправе мы сказать, что литературное произведение, которое занимало бы среди созданий умственных такое же место, какое занимает женщина среди созданий господних, было бы самым настоящим шедевром? А коли так, разве не позволено попытаться его сотворить? Ведь если бы попытка удалась, разве не стоила бы эта прекрасная книга-женщина целой библиотеки книг-мужчин — скверных, уродливых недомерков?
Итак, мужчин и женщин высшего ума мы в расчет не берем, что же касается всех остальных, то вывод наш неизменен: француженки умнее французов. Этим-то и объясняется та война, какую со времен завоевания Галлии франками ведут между собою в нашем возлюбленном отечестве мужчины и женщины.
Всякий француз ненавидит женщину, в которую влюблен.
Всякая француженка видит в своем возлюбленном смертельного врага; она смотрит на него тревожно и подозрительно — точь-в-точь как араб в пустыне, который, даже прилегши отдохнуть, кладет подле себя заряженное ружье, а неподалеку держит оседланного коня.
Любовь француза и француженки есть не что иное, как замаскированная вражда, удобный предлог для шпионства; это гармоническая борьба двух тиранов, завидующих один другому, это коварное соглашение двух завоевателей-соперников, каждый из которых мечтает о победе и о единоличном господстве. Да-да, их любовь есть не что иное, как ненависть; доказательством нашего утверждения служит та радость, какую испытывают эти нежнейшие враги, открыв в предмете своей страсти какой-нибудь ужасный изъян, какой-нибудь неисправимый порок; казалось бы, любящего человека такое печальное открытие должно огорчить, они же приходят в восторг. «Вот она и попалась», — думает француз. «Ему от меня не уйти», — думает француженка. Впрочем, будем откровенны: из двоих больше оснований для радости у француза; ведь именно его владычество постоянно находится под угрозой. Поэтому его страх перед теми женщинами, которые способны вызвать его уважение или восхищение, не знает предела! Он ухаживает за ними, но исключительно из тщеславия, и заставляет их дорого заплатить за свои вынужденные любезности.
Француз может любить без памяти лишь ту женщину, которую слегка презирает. Поэтому он предпочитает женщин из мира фантастического[578]: он полагает, что эти жалкие создания зависят от него, и не замечает, что по вине своего жалкого характера сам зависит от них; он милостиво соглашается повиноваться им, ибо не признает за ними права отдавать приказания. Эти женщины — единственные, которым он прощает наличие ума.
А между тем во Франции умны все женщины, кроме тех, которые именуются синими чулками. Мужчины — дело другое, те из них, кто умны, умны не на шутку, однако очень многие французы вовсе не имеют ума. На сотню мужчин приходятся двое остроумных; на сотню женщин — одна глупая. Сравните — и сделайте выводы.
Подойдите к привратнику и спросите, дома ли хозяин? — «Не знаю». — «А хозяйка уже вернулась?» — «Не могу сказать». — «А гости еще не ушли?» — «Затрудняюсь ответить». От привратника (исключения лишь подтверждают правило) вы не услышите ничего иного; дым от собственной печки и от собственной трубки его отупляет; он ничего не видит, ничего не слышит… Другое дело привратница; она ответит вам без колебаний, что хозяин у себя, что хозяйка вернулась; больше того, за полчаса до полуночи она наверняка сообщит вам, что гости уже разъехались, — ведь в противном случае вы подниметесь к хозяйке дома и засидитесь у нее до двух часов пополуночи, а затем именно ей, привратнице, придется вас выпускать. Всякая привратница — настоящий Аргус, или, если изъясняться языком менее мифологическим и более современным, всякая привратница — вылитая Анастази Пипле, а всякий привратник — точь-в-точь ее супруг Альфред[579].
Теперь взгляните на служанку: это истинная госпожа, заправляющая всем в доме.
Полюбуйтесь на горничную: это трудолюбивая, ловкая фея, для которой нет ничего невозможного.
Присмотритесь к ученице горничной… Это тонкая штучка: она еще ничему не выучилась, но уже все умеет.
А теперь поглядите на мужчин, трудящихся в том же доме: их здесь целая дюжина: за исключением управляющего (он же промышленник), дворецкого (он же поэт), повара (он же архитектор) и кучера (он же естествоиспытатель и торговец, имеющий опыт общения не только с лошадьми), — за исключением этих достойных господ все прочие — величайшие лентяи, умеющие только пить, есть и спать. Иначе говоря, женщин в доме четыре, и все они умны; а мужчин двенадцать, но умны из них только четверо, а остальные восемь — полные ничтожества.
Войдите в магазин: там трудится дюжина приказчиков; четверо умны и прекрасно воспитаны; остальные восемь — истинные Шаламели из «Парижских тайн»[580]. Женщина в этом магазине одна; манеры ее любезны, речи благопристойны, и порой она в одно мгновение одним словом исправляет непостижимые глупости, на которые так щедры восемь Шаламелей.
Обратимся к изящным искусствам. Спросите в Опере, сколько дурочек среди статисток? Вам ответят: не больше трех. А среди статистов?.. Тяжелый вздох будет вам ответом.
Возьмите армию. В полку три тысячи солдат; из них сотни две отличаются истинно солдатским остроумием: этим все сказано; поварих же в полку всего три, и эти три поварихи умнее, чем весь полк.
Есть одно-единственное сословие в нашем обществе, где у мужчин ума не меньше, чем у женщин, — это землепашцы; ничего удивительного: тяжелый сельский труд притупляет воображение женщин, и это способствует установлению равенства.
Женщина безнадежно глупая во Франции — явление крайне редкое. Вот уже полтора десятка лет, как мы, бывая в свете, поневоле наблюдаем человеческую природу; перед нами проходят типы и образцы, исключения и правила, но до сих пор мы видели всего одну женщину, которую можно назвать совершенно безмозглой, глупой как пробка или как гусыня — кому что больше нравится… Впрочем, не будем скрывать, что у этой гусыни есть брат; так вот, он гораздо глупее ее.
Кстати, объяснимся: когда мы говорим о глупом мужчине, мы имеем в виду вовсе не более или менее воспитанного господина, который, явившись в гостиную, час напролет болтает всякий вздор; вполне может статься, что этот болтун добился замечательных успехов в финансах, в промышленности, в политике или даже в литературе; светский жаргон — условленный язык, придуманный для посредственностей, и людям выдающегося ума порой нелегко им овладеть. Глупым мы называем такого господина, который бесконечно серьезно, бесконечно скучно, бесконечно долго рассказывает вам о своих планах; начнем с того, что планы эти абсурдны; они выдают полное непонимание нынешних обстоятельств, современных потребностей и пристрастий. Но глупого господина это не смущает; он принимается перечислять шансы на успех — несбыточные мечты, безумные следствия несуществующих причин; предвидя возражения и преграды, он вдохновенно живописует способы их преодоления; он разворачивает перед вашими глазами нескончаемую череду бессмысленных доводов, обрушивает на вас лавину беспросветных глупостей, с изумительной щедростью ослепляет вас чередой заблуждений… Но и это еще не все: особенно ярко его скудоумие высказывается в плане мести врагу… План этот поистине великолепен; он тщательно продуман, и мститель добьется своего: он сумеет… помочь своей жертве получить чаемое место на два года раньше намеченного.
Для человека веселого и ценящего смешное даже комедия Мольера не может сравниться с монологом глупца, которому не дают покоя… лавры Макиавелли.
Женщине никогда не достичь такого высочайшего уровня глупости. У нее на это не хватит сил. В этом, как и во всем прочем, мужчины всегда сохранят пальму первенства.
Поэтому, когда мы говорим, что француженки умнее французов, мы вовсе не утверждаем, что первые выше вторых; мы имеем в виду лишь одно: умных женщин во Франции больше, чем умных мужчин; тут все дело в количестве. Но эта количественная разница — не безделица; она позволяет объяснить то огромное влияние, которое имеют женщины в этой стране, где у них так мало власти, где они не значат ровно ничего и где тем не менее все совершается с их помощью и ради их удовольствия. Ни в Париже, ни в провинции нет мужчины, который, сознает он это или нет, не покорялся бы воле женщин. За каждым из наших политиков стоит женщина. В Париже все сколько-нибудь важные персоны внимают советам какой-нибудь интриганки из своего окружения втайне; в провинции секретов нет: там женское влияние возводится в ранг закона. Мы прожили около полугода в Турени: там, в маленьком городке, все мужья действовали по указке своих жен, за исключением одного: тот повиновался жене соседа.
В конечном счете все, что мы здесь говорим, не слишком лестно для француженок; они так страстно предаются наслаждениям умственным лишь потому, что не знают других; будь у них больше чувств, они имели бы меньше мыслей; умей они сильнее любить, они бы меньше страдали от неудовлетворенного тщеславия; но француженки — странный народ; у них пламенное воображение и холодная натура; безумные амбиции и рассудительное сердце.
Тщеславие составляет смысл их жизни; власть над светом составляет предел их мечтаний. Любовь для француженки не что иное, как победа; она хочет быть любимой лишь для того, чтобы доказать, что она способна внушить любовь.
Единственная страсть, которую француженки могут испытать и понять, это материнство, ибо священное чувство материнской любви позволяет гордиться и тщеславиться на законном основании.
Глупые женщины во Франции — редкость, но почти такая же редкость здесь женщина великодушная. Богатые наследницы выходят замуж вовсе не потому, что жених молод и красив; одна стремится стать женой посла, другая хочет сделаться герцогиней.
Стоит скончаться жене старого маршала-подагрика, как все юные красавицы с богатым приданым обращают на вдовца свои взоры… Шутка ли: госпожа супруга маршала!.. могут ли порадовать нежную душу звуки более сладостные?
Французы великодушны и способны на благородные безумства: у них доброе сердце, и это не может не вызывать восхищения. У француженок сердце не такое доброе; конечно, они тоже творят добрые дела и оказывают важные услуги — но лишь для того, чтобы доказать свою власть и сохранить влияние в своем кругу.
Чем моложе француженка, тем она амбициознее и корыстнее.
По правде говоря, великодушные мысли не посещают француженку до тех пор, пока ей не исполнится тридцать; тут она начинает задумываться, задаваться вопросом, не сбилась ли она с пути, не стоят ли нежные чувства дороже высокого положения в свете; чувствительность ее внезапно просыпается, она сознает всю суетность прежней жизни и решается поверить собственному сердцу, осмеливается полюбить; но опыт этот длится недолго, очень скоро натура берет свое: испробовав, что значит быть нежной покровительницей безвестного юноши, француженка возвращается на проторенный путь и, чтобы вернуть себе прежний вес, делается наставницей какого-нибудь влиятельного старца; мгновение любовного безумства она искупает годами жизни по законам рассудка и гордыни.
Конечно, и это правило знает исключение… Конечно, существуют женщины, которые влиятельны сами по себе и потому не имеют нужды жертвовать своими чувствами ради положения в свете; как знать, однако, остались ли бы они так же великодушны, если бы прозябали в безвестности, и на что бы решились, не будь они уже влиятельны благодаря происхождению или таланту.
Спору нет, женщинам пришлось пустить в ход очень большую ловкость, чтобы забрать себе такую власть над светом, несмотря на бесчисленные препоны и невзирая на законы, принятые против них подозрительными и завистливыми мужчинами. Они добились этой власти лишь с помощью невинного лицемерия; они смирились; они кротко приняли ту скромную роль, какую навязали им мужчины, и утаили свои великие притязания; они скрыли свое истинное превосходство под намеренным, преувеличенным, несносным легкомыслием и усыпили бдительность своих тиранов, а точнее, своих соперников, которые, видя, как безрассудно и бездумно дамы предаются наслаждениям, не заметили, что это не мешает им питать замыслы самые дерзкие и самые амбициозные.
Женщины танцевали, чтобы никто не знал, что они умеют думать; они болтали вздор, чтобы никто не знал, что они угадывают истину; некоторые из них даже делали вид, будто влюблены, чтобы никто не знал, что они видят своих возлюбленных насквозь; женщины похитили скипетр и спрятали его среди тряпок, и, видя их покорность, мужчины позволили им царствовать.
Дело было сделано с чудесной, пожалуй даже дьявольской сноровкой; впрочем, один наш старый друг, большой философ, утверждал, что всякая француженка с дьяволом на дружеской ноге. Конечно, говорил он, она не подписывала с Сатаной никакого договора; француженка не так наивна, чтобы скомпрометировать себя собственноручно подписанной бумагой; но Сатана ее опекает, а она с ним заигрывает. Хоть она его и не привечает, но все-таки прислушивается к его речам; что же до него, то если он не гордится подобным вниманием — как поступил бы на его месте любой мужчина, — то лишь потому, что от гордости один шаг до надежды, а Сатана обитает в таких краях, где, как уверяет Данте, надежде места нет!
Вот каким образом француженки сумели обойти салический закон. Победа, которой можно гордиться; тем более что несколько лет назад «синие чулки» едва не погубили все дело. Безумные!.. они взбунтовались, объявили, что женщина свободна; потребовали прав, воздуха и чернил для всех без исключения! Женщины перестали танцевать!.. и начали стремительно утрачивать свое влияние.
Спасибо польке, которая явилась очень вовремя[581]; француженки постепенно обретают былое легкомыслие; скоро к ним возвратится и власть над светом.
Конечно, кто-то может сказать, что безрассудно раскрывать суть заговора, если желаешь ему успеха. Рассказывать в газете, выходящей большим тиражом, об уловке, вся сила которой в окутывающей ее тайне, — неосторожно; оповещать дичь о том месте, где на нее собираются поставить капкан, — непредусмотрительно. Ни одно руководство для охотников таких советов не дает… Вы правы, но французы настолько… простодушны, что бояться тут нечего. Прочтя наш фельетон, французы пожмут плечами, возмутятся, расхохочутся и ровно ничего не поймут, иначе говоря, сочтут все это более или менее сумасбродным парадоксом.
Другое дело француженки! Француженки узнают, откуда происходит салический закон и как можно его обойти без бунтов и мятежей. Что же касается женщин знаменитых, они скажут вам, что нимало не мечтают об академических лаврах; искусство для них не ремесло, а религия; талант — не сокровище, которое они пускают в ход из корысти или гордыни, как это делают мужчины, но дар Небес, который они пестуют с любовью и почтением. Оставьте себе кресла в ваших ученых собраниях, господа мужчины; женщинам, выбравшим смирение, довольно треножника[582].
24 марта 1844 г.
Парижский денди[583]. — Курить, играть и есть — вот жизни смысл его. — Игроки-макиавеллисты.
— Ставки на сердце человеческое. — Профессиональные питухи. — Куда подевались хорошенькие женщины?
После дней поста, смирения и покаяния Париж оживает и предстает еще более надменным и блистательным, чем прежде. Весна пьянит его, он греется на солнце, разводит пыль потоками воды и очень этим доволен; дело в том, что этот город, бесконечно элегантный и беспредельно роскошный, знает только два времени города — дурное, когда он утопает в грязи по воле природы, и хорошее, когда он купается в той же грязи совершенно добровольно.
Юные парижане прогуливаются по щедро политым бульварам, а посвятив целый день этим бесцельным прогулкам, какие прежде позволяли себе только богатые рантье, отправляются в какое-нибудь золоченое кафе и там вечер и ночь напролет едят, как людоед или как сиделка при больном, пьют, как тамплиер или как английская гувернантка, играют, как старый дипломат, и курят, как поэт.
Такую жизнь ведет всякий уважающий себя юный житель Парижа.
Великий поэт сказал:
Любить, молиться, петь — вот жизни смысл моей[584].Блистательный парижанин переиначил этот восхитительный стих на свой лад:
Курить, играть и есть — вот жизни смысл моей.Не подумайте, однако, что он ведет такую жизнь по недомыслию и недоразумению: народ, зараженный конституционализмом, подходит всерьез ко всему, а особенно к развлечениям; легкомыслию здесь не место. Для юного парижанина курение — не отдых, а работа; игра — не страсть, а дело; еда — не удовольствие, а наука. Он ест из принципа и по правилам; утром он обдумывает обед, который съест и оценит вечером. В двадцать лет он уже великий знаток кулинарного искусства; он уже презирает родительские пироги и бабушкину шарлотку; этот надменный юнец еще не знает жизни, но уже разбирается до тонкостей во всех соусах цивилизации.
Огюст Пюжен. Театр «Амбигю».
Огюст Пюжен. Театр «Варьете».
Парижанин созревает рано; в двадцать лет он уже безупречный гастроном, а в двадцать пять — законченный игрок. Игра нынче уже не дерзкий вызов судьбе, не сильное чувство, рождаемое схваткой со случаем, и даже не отважное вопрошание оракула, ответа которого ожидаешь с тревогой и сладким ужасом… Это уже не то поэтическое опьянение, не то пленительное беспокойство, которое Жорж Санд описала с таким искусством на красноречивых страницах «Лелии»…[585] Игра нынче — холодная спекуляция, жестокий расчет, строящийся на знании человеческих характеров; это бесчестная эксплуатация недостатков, которые игрок подглядел, общаясь с противником вдали от игорного стола, и достоинств, которые он коварно поощрял под предлогом мнимой дружбы, дабы воспользоваться слабостями и благородством соперника в решающий момент игры.
Когда азартные игры были публичными, игроки сражались с банком, то есть существом отвлеченным и коллективным, таинственным, словно сфинкс, бесстрастным, как судьба. Сражение было честным. Вам везло или не везло — это решало всё. Теперь игроки сражаются со своими товарищами по развлечениям, а порой даже с друзьями, и все дело решает не случай, а расчет. Теперь важна не удача, а ловкость, чтобы не сказать: наглость. В подобной борьбе оружием служат не карты, а характеры; кто из игроков более деликатен, тот и более несчастен. Если вы физиогномист, вы легко угадает по лицу, кто обречен на неуспех. Вот чело благородное и задумчивое; с такой честной улыбкой больших сумм не выиграть. Вот, напротив, взгляд хитрый и лживый; на этого человека можете ставить без колебаний[586]. Вы не прогадаете: этот всегда устроит дело так, что случай будет на его стороне. Метода у него самая простая: если он проигрывает… тотчас выясняется, что он любит ночь, может жить только ночью; день, говорит он, это время для дураков; только буржуа и дикари обожают солнце, сам же он без ума от света люстр; он способен пить, любить, творить только ночью; так вот, напевая «О прекрасная ночь!», он заставит вас пить и играть с ним до утра, то есть до того момента, когда отыграет все деньги, какие вам проиграл… Если же он выигрывает… о, тогда дело другое: тогда он делается мрачен и молчалив; он сам не понимает, отчего… но с некоторого времени его часто посещают внезапные приступы дурноты, и это его тревожит; он открывает окно, выходит в сад… или на террасу. Ему предлагают вернуться за карточный стол… «Сейчас», — отвечает он, придавая своему голосу точно отмеренную томность… Его место за столом занимает другой; сам он выжидает несколько времени, а затем, воспользовавшись разгоревшейся между игроков ссорой, незаметно берет шляпу и уходит. Здоровье его будет оставлять желать лучшего еще неделю или две — до тех пор, пока он снова не начнет проигрывать; тогда с самым простодушным видом он снова начнет уверять вас, что любит ночь и только ночь, что ночная жизнь ему ничуть не повредит, напротив, только ночь, посвященная вину и картам, способна исцелить его недуги. Пожелай мы исчислить все хитрости, на какие идут нынешние игроки, нам пришлось бы составить толстый том, и том этот оказался бы трактатом по психологии, дипломатии и политике, достойным самого Макиавелли. Вот почему сегодня игрока двадцати пяти лет от роду уже не отличить от старого наблюдателя нравов, разочарованного в людях. Ничто не старит ум так быстро, как эта гадкая наука страстей, как это корыстное изучение характеров. Увы! кто богатеет, делая ставки на человеческое сердце, тот должен навсегда распроститься с иллюзиями.
Сегодня игра ведется в частных домах, и это заставляет нас сожалеть о той игре, какая происходила в игорных домах публичных. Когда случай находился под контролем, он был не так опасен. Но конституционное лицемерие — враг здоровой нравственности; наши добродетельные пуритане запретили игорные дома, но не подумали о том, что не в их силах запретить игру[587]; они стремились не столько сдержать пагубную страсть, сколько уничтожить средства за нею надзирать, ибо в своей законодательной невинности перепутали надзор с пособничеством. Удивительно, что люди столь тонко чувствующие и столь беспредельно щепетильные до сих пор не уничтожили сточные канавы. В самом деле, разве могут наши высоконравственные депутаты допускать, чтобы эти потоки нечистот оскверняли подведомственную им территорию? С другой стороны, мы ведь живем в век свободы, так не пора ли провозгласить наконец самую прекрасную из них — свободу грязи?
Если мы так много уделяем внимания игре, то лишь потому, что никогда еще наши соотечественники не предавались игре так истово, как ныне. Игра не приходит одна, за игорным столом вино льется рекой, и ловкие игроки охотно этим пользуются; они пьют воду, а противников себе избирают из числа поклонников Бахуса. Меж тем цивилизация и химическая наука не стоят на месте, и с их помощью люди, к несчастью, открыли пропорции, позволяющие много пить, но не слишком пьянеть. Нет ничего более коварного и более опасного, чем то странное состояние, в каком пребывает ум профессиональных питухов. Это нечто среднее между бодрствованием и сном, разумом и безумием, днем и ночью; покуда ум дремлет в потемках, человек совершает сотню непоправимых оплошностей. Ему хватает хладнокровия на то, чтобы действовать, но недостает здравомыслия на то, чтобы свои действия контролировать. Он может идти прямо, но не знать, куда именно он направляется; он может играть дерзко, но не понимать, как далеко он зашел; он может показаться в свете, но вечер напролет говорить глупости; при этом, поскольку он не имеет вида пьяного человека, он имеет вид человека неумного, а это гораздо хуже. Мы не в восторге от этих питухов-профессионалов.
— Так вы, значит, предпочитаете любителей?
— Да, нам больше по душе те, кто после трех стаканов вина немедленно падает под стол.
— Отчего же?
— Оттого что они там и остаются. Самое умное, что может сделать пьяный, — это улечься под пиршественным столом или на городской мостовой. Там его место, и там его никто не обидит, потому что никто не вправе возвысить голос против человека, знающего свое место. Но зачем пьяные являются в наши гостиные? Зачем смущают покой наших празднеств? В свете дозволено сулить опасность, но грозить неприятностями — ни за что.
После игры и вина естественно заговорить о красотках. Мы бы охотно так и поступили, но увы: каждый скажет вам, что в свете в этом году красивые женщины — редкость, зато — утешение не из последних! — некрасивые в изобилии. Вид театральных залов ужасен: всю зиму Итальянский театр, прежде по праву слывший местом сбора всех модных красавиц, заполняли чудища всех национальностей. После спектакля, при разъезде еще можно было заметить там и сям хорошенькие личики в обрамлении черных бархатных капюшонов или на фоне белых кашемировых бурнусов, но в зале эти редкие островки красоты терялись среди уродливого большинства. Вообразите себе целые ряды старух в тюрбанах, и каких тюрбанах! Театральная зала походила не на собрание дилетантов[588], наслаждающихся пленительной гармонией, а на трибунал старых кади, отправляющих правосудие: зрелище внушительное, но ничуть не прекрасное. Вдобавок в зале Итальянского театра теперь не увидишь ни единого юноши; разве что какой-нибудь почтительный сын составит компанию любимой матушке; балкон занят людьми почтенными, партер — людьми зрелыми. Неужели молодые люди не любят музыку? Сомневаюсь; куда вероятнее, что они не любят старых кади[589].
В Комической опере женщины ничуть не более красивы, но зато гораздо хуже одеты: одно к одному. Место тюрбанов занимают так называемые крестьянские чепцы, отличительная черта которых состоит в том, что они слывут модными уже много-много лет. Зала походит на крестьянский рынок. В те дни, когда театр представляет занимательную оперу «Калиостро» или восхитительную «Сирену», вид залы, пожалуй, даже приятен: все крестьянки улыбаются и становятся почти хорошенькими. Но если дают «Дезертира» и фермерши все как одна принимаются всхлипывать, зрелище этих трех сотен Перрет, в одно и то же мгновение опрокинувших свои горшки с молоком, наводит тоску; вся эта деревня, объятая безысходным горем, кажется злой шуткой[590]. […]
Но куда же, в конце концов, делись женщины хорошенькие, одетые со вкусом, безупречно элегантные? В каком театре можно их встретить? Ступайте в «Варьете»[591]; там собираются женщины стройные и прекрасные, с изысканными манерами и тонкой талией. В очаровательных капотах из белого крепа или в легких соломенных шляпах являются там прелестницы с чертами самыми тонкими и бросают вокруг взгляды самые нежные; у этих восхитительных красавиц, точно сошедших со страниц кипсека, лица романические, кудри оссианические, бледность байроническая; пленительная смесь хрупкости и свежести, меланхолии и молодости способна свести с ума человека самого хладнокровного. Как же зовут этих женщин? Но их виду сразу ясно, что это женщины приличные. — Не поручусь. — Но скажите же, как их зовут? — Не знаю; они сами выбирают себе имена и часто их меняют. — Как? неужели это женщины фантастические? Но ведь они держатся так же безукоризненно, как самые элегантные из великосветских дам! — Почему бы и нет? Они носят те же шляпы, читают те же газеты, любят тех же героев!.. А если у женщин одинаковые уборы, одинаковый круг чтения и одинаковые похождения, они очень скоро начинают и вести себя одинаково. […]
19 мая 1844 г.
Провинциалы во власти парижских ощущений
— Простите, сударь. — Простите, сударыня. — Извиняйте, барышня! — Да что же это! Зонтиком прямо в глаз! — Как можно! Тростью прямо по ноге! — Но кто эти оцепеневшие прохожие, у которых глаза велики, а шажки малы? Вон тот господин уже четверть часа созерцает здание «Драматической гимназии» — истинный шедевр архитектуры!.. Вот чудеса!.. Мы не знакомы, но он обращается ко мне: — Не подскажете ли, где находится золотой дом? — На углу улицы Лаффита! — А не подскажете ли, где находится улица Лаффита? — Ступайте на бульвар Итальянцев. — Но… этот бульвар… Итальянцев… он-то где? — За Монмартрским бульваром. — Ну тогда понятно: возле Монмартрского холма. — Да что вы такое говорите? До него рукой подать![592] — Дело в том, сударь, что я впервые в Париже. — Оно и видно!
[…] Господин победоносной наружности ведет под руку богато разряженную даму в зеленом платье, красном шарфе и розовой шляпе с перьями. Господин обращается к привратнику, который поливает водой тротуар и прохожих:
— Где здесь стоянка фиакров? — Она перед вами. — Но здесь нет ни одного фиакра. — Их здесь никогда и не бывает. — Тогда почему же это называется стоянкой фиакров? — Потому что они здесь должны быть.
Господин и дама совещаются; результат переговоров: тогда лучше пообедать в «Парижском кафе», а потом пойти в Комическую оперу[593]. Провинциалы входят в «Парижское кафе». Через мгновение они выходят с удрученным видом. Дама восклицает: «Нет мест! Это вы виноваты, я вам предлагала пообедать в два часа, но вы не пожелали. Я лично считаю, что в таком случае обедать вовсе не надобно; пойдем прямо в театр…» Господин, кажется, не разделяет этого мнения; разгорается спор… в конце концов верх берет дама: обед отменяется… но она готова на уступку… Они идут в кондитерскую… Господин подавлен… Жена, желая его утешить, прибавляет: «Но мы поужинаем». Супруги направляются в Комическую оперу.
— Два места в ложе первого яруса? — Все занято. — А во втором ярусе? — Ничего не осталось. — В третьем? — Последние билеты только что проданы. Может, желаете места в четвертом ярусе?
Приходится согласиться. Супруги скрываются в коридоре-лабиринте, ведущем к театру; господин бормочет: «Пожертвовать обедом ради того, чтобы тебя запихнули в четвертый ярус!..» А дама приговаривает: «Если бы я знала, что придется сидеть в райке, я бы не стала одеваться так красиво!»
Два молодых человека в дорожных фуражках останавливаются перед гостиницей: «Две комнаты, пожалуйста. — У нас все занято». Юноши делают знак комиссионеру, который несет их багаж, и направляются к другой гостинице. «Две комнаты, пожалуйста. — Да что вы, сударь, у нас уже целую неделю все комнаты заняты». Юноши советуются с комиссионером, и тот ведет их в третью гостиницу. «Одну комнату, пожалуйста! — Все занято». Новое совещание с комиссионером… Он на мгновение задумывается, а затем снова отправляется в путь; незадачливые путешественники плетутся следом, по дороге выясняя отношения. «Если бы мы выехали в субботу, как я предлагал, места бы нашлись. — Не волнуйся, все уладится; смотри, вот гостиница, здесь наверняка есть места. Давай спросим: — У вас найдется комната? — Ага, как же! — отвечает гостиничный слуга. — Комната! Да я даже свою собственную комнату три дня назад отдал одному господину из Страсбурга; сам сплю вот тут (показывает на банкетку); это моя постель, могу уступить». Молодые люди принимают это предложение за глупую шутку и бросают разгневанные взгляды на своего комиссионера. На того внезапно нисходит вдохновение, и он припоминает одну маленькую гостиницу, такую скверную, с такой дурной славой, что это вселяет некоторую надежду. Два пыльных тиса в старых зеленоватых кадках несут караул возле узкой двери; комиссионер сам заводит разговор с несчастным гостиничным слугой, бледным, измотанным и, кажется, находящимся на последнем издыхании. «Мне бы комнату вот для этих господ…» Слуга меланхолически качает головой, что должно означать: ничего нет. У несчастного нет даже сил говорить; усталость лишает его дара речи. Вид провинциала приводит его в трепет; он единственный слуга в этой скверной гостинице — последнем прибежище приезжих, которые оказываются здесь против воли и ворчат по любому поводу; все срывают злость на слуге, а он видит в каждом путешественнике палача, явившегося в столицу единственно для того, чтобы портить ему жизнь. Не стоит расспрашивать его о нравах провинциалов. Он, похоже, сильно пристрастен. Молодые люди явно потеряли надежду. «Как! ни единой комнаты? Нигде, даже в этом жутком трактире?..» Предоставим им продолжать поиски и не будем добивать их сообщением о том, что один известный путешественник обошел пятьдесят две гостиницы, но так и не нашел свободных мест. Одна знатная дама из рода Бонапартов смогла снять только скверную квартиру в пятом этаже. Мадемуазель Тальони тоже примостилась на пятом этаже, но ей-то это не страшно: один прыжок — и она уже дома. Гостиницы переполнены, кафе переполнены, театры переполнены, фиакры переполнены, причем самым элегантным образом: вчера мы видели в одном фиакре целых пять шляп с перьями. О провинция, ты можешь воскликнуть вместе с беарнцем: «Вы узнаете меня в фиакре по моему белому султану!»[594]
Спозаранку рестораторы уже подают обед; с полудня до шести часов вечера окна всех кафе наливаются красной краской: ибо все эти люди, поглощающие обед, красны как раки: один задыхается оттого, что с самого утра осматривал достопримечательности и бегал по музеям; другой горит оттого, что провел две ночи в дилижансе, третий искрится от солнечного удара, четвертый полыхает от ярости: он обрыскал весь Париж в поисках неуловимого должника или пропавшего покровителя, он потерял день, и возмущению его нет предела. И все эти раскрасневшиеся господа набиваются десятками в залы кафе и ресторанов, воздух которых с гибельным упорством наперебой уснащают своими причудливыми ароматами самые разные супы; и все они боятся куда-нибудь опоздать; их манят парижские удовольствия, они торопятся, едят быстро, но не потому, что хотят проглотить побольше еды, а потому что стремятся проглотить побольше впечатлений — и вот почему лица у них пылают. В пять часов пополудни перед Оперой уже собирается толпа. Что дают? Неважно; хороша музыка или плоха, старые балеты представляют или новые, в голосе певцы или не в голосе — для провинциалов это значения не имеет. Должны же они хоть один раз побывать в главной парижской Опере! Они заполняют залу и заполоняют фойе; парижан они оттуда вытеснили и за столичных жителей принимают друг друга; они потешаются над соседями или, что еще забавнее, берут с них пример. Дама из Гренобля восхищается нарядом дамы из Бове, которую принимает за парижскую львицу; она всматривается в изящные очертания ее накидки. Щеголь из Кагора уставился на причудника из Аббевиля, которого он принимает за прославленного денди; он изучает хитроумный покрой его жилета. Эти заблуждения ужасны! Мы заклинаем жителей провинции: будьте бдительны! Было бы слишком обидно привезти домой из столицы образчики эльзасских или беррийских мод! Мы умоляем провинциалов не судить о нас по первому впечатлению; конечно, побывав в Париже, они увидели Париж; но скажем откровенно: парижан они не видели.
О! с какой любовью смотрят провинциалы на Париж, этот постоянный предмет их мечтаний; с каким страхом они с первого дня вспоминают о необходимости рано или поздно его покинуть; как скоро привязываются к нем), пусть даже дела призывают их воротиться домой; как быстро понимают его, как точно угадывают; как тонко провидят за тысячью соблазнов, явленных их взорам, тысячу других, от них ускользнувших, — ибо они успевают узнать лишь самые вульгарные из его красот; они бывают на публичных празднествах, но не бывают на празднествах светских; они видят могучее богатство города, но не видят его элегантной роскоши; они видят тело, но не видят души; видят промышленность, но не видят науки; видят плоды, но не видят трудов, а труды и есть самое великое свершение этого города, этого короля мысли; плоды суть его прошлое, труды же — его будущее. Днем ветреный лицемер притворяется, будто его дело — одни лишь забавы, но зато ночь проводит над компасом и книгами, перед тиглями и перегонными кубами; он меняет благоуханный будуар на продымленную лабораторию; он не знает ни минуты покоя: изобретения и открытия, которые он преподносит вам сегодня, — не что иное, как предвестие новых изобретений и новых открытий, какие он подарит вам завтра. […]
2 июня 1844 г.
Провинциалы, ставшие парижанами. — Господин, разыскивающий птичьи глаза. — Вандомская колонна — мы там были.
— Триумфальная арка — мы там были. — Собор Парижской Богоматери — мы там были
Провинциалы по-прежнему здесь, но их не узнать. Их манеры и повадки переменились полностью; куда делось то простодушное изумление, которое немедленно указывало на их происхождение? куда делись те поразительные уборы, которые обличали их малую родину? куда делись белые остроконечные галстуки, обдуманные с таким тщанием и завязанные с такими претензиями, куда пропали тоненькие черные галстуки, завязанные раз, и еще раз, и еще несколько раз и свисающие до пояса, словно веревочная лестница? куда делись гобеленовые жилеты, зеленые перчатки и часы на ленте из красного бархата? Провинциалы нынче одеты точь-в-точь как элегантнейшие из наших денди, то есть с умной простотой; они ходят, как обычные люди, не вертя головой по сторонам; ничто их не останавливает, ничто не поражает; они в курсе всех событий, они смотрят на мир с превосходным равнодушием, отличающим людей, чье любопытство было не раз обмануто, а симпатии не раз узурпированы; и не сохрани они своего произношения, которое выдает их с головой, и своего языка, который не утратил грамматической невинности, их запросто можно было бы принять за чистокровных парижских зевак.
Эрудиция же их столь безгранична, что вынести это, право, невозможно; на каждом шагу они унижают нас своими разнообразными познаниями; они педанты, ничем не уступающие тем самозваным ученым, которых запоздалые успехи на ниве просвещения наполняют весьма незавидной гордостью. Эти парижане-выскочки — куда большие парижане, чем те, которые прожили в Париже всю жизнь, точно так же как вельможи-выскочки куда более кичливы, чем те, кто знатен от рождения. Для провинциалов нет большего удовольствия, чем смутить парижанина; цель их жизни — поймать нас врасплох. Что же до нас, мы часто предоставляем им эту возможность. Мы плохо знаем столицу; у нас вечно недостает времени осмотреть сегодня то, на что можно взглянуть и завтра; самое большее, что мы видели, — это несколько самых главных достопримечательностей нашего славного города, и поддержать беседу на парижские темы с туристом, полным свежих впечатлений, мы решительно не в состоянии.
Поэтому мы для них такая легкая и аппетитная добыча! С каким наслаждением эти умники язвительно бросают нам: «Как же так? Вы сочиняете „Парижский вестник“ и вовсе не знаете Парижа?!» А после этого вновь принимаются устраивать нам ловушки; один такой провинциал давеча нас вконец измучил; он явился к нам нарочно для того, чтобы убедить наших друзей в нашем невежестве, а заодно — с акцентом, который мы предоставляем вам вообразить самостоятельно, — похвастать новоприобретенными драгоценными познаниями.
— Вчера, — объявил он, — мы осмотрели мануфактуру Гобеленов; было очень интересно[595]. — Мы ответили молчанием; он продолжал: — Вы не находите, что это очень интересно? — Мне там бывать не довелось. — Как?.. вы… вы не видели эту чудесную жемчужину? — Меня туда многократно приглашали; мне этого довольно. — О, Гобелены восхитительны; но, пожалуй, фарфоровый завод в Севре еще лучше; мы там давеча побывали и вернулись в полном восторге; я посетил несколько фарфоровых заводов, но этот самый лучший из всех. — Пожалуй. — Вы, должно быть, бывали там сотню раз? — Я? Ни единого раза, но меня туда не раз приглашали, и это отбило у меня охоту. — Как же вы ленивы! Вам никогда не сделать того, что сделали мы в четверг… да, точно, в прошлый четверг; мы поднялись на вершину Вандомской колонны, а во второй половине дня, около четырех пополудни, снова поднялись, только теперь уже на вершину Триумфальной арки! — Ах, боже мой! можно запыхаться только от одних рассказов об этих восхождениях… утром колонна, вечером Триумфальная арка! — Мы поднялись и туда, и туда в один и тот же день. — Да сколько же можно карабкаться по лестницам! — Зато нам открылись такие виды! Особенно с Триумфальной арки — нам там так понравилось, что мы провели наверху целый час; с Вандомской колонной вышло похуже; во-первых, подниматься туда нужно очень долго, лестница скверная, нам даже пришлось оставить наших дам внизу; а потом, не успели мы взобраться наверх, как у кузена Тюпиньера вдруг закружилась голова; ему вообще с тех пор, как мы приехали в Париж, все время неможется, вот нам и пришлось сразу отправиться вниз. — Ох, как я вам сочувствую; осматривать Париж — такая мука.
— Это еще что! Вот если я вам скажу, чем мы занимались на следующий день, в пятницу!.. — Должно быть, поднялись на башни собора Парижской Богоматери? — Именно! — Бог мой! мы-то располагали пошутить… — Впрочем, поднялись не все; кузен Тюпиньер отказался. — Он, вероятно, был уже сыт по горло? — Тюпиньер-то?.. да, он очень близорук и сказал, что бессмысленно подниматься так высоко, чтобы не увидеть ровно ничего. — Здравомыслящий юноша. — Да его вообще памятники не интересуют; он любит только животных; дай ему волю, он бы не вылезал из Ботанического сада… Кстати, вы ведь знаете всех именитых парижских торговцев, не подскажете ли, куда мне податься за птичьими глазами?..
Слова эти были встречены громовым хохотом. Юный провинциал смутился.
— Что же смешного в моем вопросе? — воскликнул он. — Смешон не ваш вопрос, смешно, что вы адресуете его мне. Я, право, совершенно не в состоянии дать на него ответ; я знать не знаю, где продаются птичьи глаза; больше того, я даже не знаю, на что они вам. — Как на что? На чучела! Не мои, а кузена Тюпиньера; он набивает чучела превосходно, таких чучел, как у него, я не видал нигде. — Да и я тоже… — Тут все опять засмеялись. — Над чем вы все время смеетесь? — Я смеюсь над вашими словами: вы сказали, что господин ваш кузен очень любит животных, а теперь выясняется, что он их любит в виде чучел. — Живыми он их тоже любит; спросите хоть у сторожей в Ботаническом саду; они его уже узнают; сегодня он водил туда меня, и я видел там такого красивого зверя! Тюпиньер говорит, что это называется черная пантера; вы ведь наверняка ее видели? — Нет. — Да что ж такое! Про что ни спросишь, вы ничего не видели. Позвольте вам сказать, господин Парижский вестник, что вы не настоящий парижанин. — Я не охотник до хищников. […]
— Не слишком ли безжалостно вы издеваетесь над провинциалами? — спросят нас. — Пожалуй… последние две недели; но нас извиняет то, что все остальное время мы издеваемся над парижанами.
23 июня 1844 г.
Парижские салоны: дипломатические, политические, поэтические, фантастические. — Клубы и их преимущества.
— Они поглощают людей докучных. — Да здравствуют клубы! — Дух беседы. — Система госпожи Кампан. — Ее ученица герцогиня де Сен-Лё
Париж наконец перестал быть блистательным — какое счастье! Кое-кто уехал, кое-кто надел траур — и вот уже город вновь принял тот меланхолический вид, который, на наш вкус, ему так к лицу. Париж бывает горделив и надменен; в эту пору мы им восхищаемся, но не любим его. Его шумные забавы нам не по душе; его роскошные празднества мы посещаем скорее по обязанности, нежели ради удовольствия. Нам куда больше нравятся собрания в узком кругу; большие салоны, открытые для всех, влекут нас куда меньше, чем маленькие салоны, открывающие свои двери лишь для нескольких друзей.
Сверканию мощных люстр мы предпочитаем скромный свет ламп; пышная гостиная, залитая огнями, будит в душах тщеславие, а нам тщеславиться скучно; мы любим те дома, куда можно приезжать без цели и где можно болтать без церемоний. Если бы вы знали, как очаровательны наши выдающиеся соотечественники, когда снисходят до подобных бесед, вы не утверждали бы, что беседа во Франции умерла. Для людей талантливых простота — лучшее украшение; застать их ум в неглиже— все равно что прийти к скупцу в ту минуту, когда он еще не успел спрятать свои сокровища; поверьте, никогда еще французское общество не могло похвастать более полным собранием мастерских рассказчиков и остроумных собеседников на любой вкус. Салонов больше нет, говорят нам, и, припомнив несколько салонов, блиставших в прошлом, — салон госпожи де Сталь, салоны герцогини де Дюрас, госпожи де Монкальм, герцогини де Брой[596], — добавляют элегическим тоном: «Теперь не то! Ни одного знаменитого салона!»
— Хотите знать, почему теперь нет ни одного знаменитого салона? Потому что их целых два десятка; слава разделилась на много частей, но не сделалась от этого менее блистательной; если вам кажется, что ныне не умеет беседовать никто, то лишь по той простой причине, что теперь умеют беседовать почти все[597].
— Вы решаетесь утверждать, что в Париже сегодня есть двадцать влиятельных салонов, завсегдатаи которых владеют искусством беседы? Назовите же их; ручаюсь, вам это не удастся.
— Отчего же? Вот три первых попавшихся имени: салон госпожи Рекамье, салон госпожи де Ламартин, салон госпожи Виктор Гюго[598].
— Ну, эти-то салоны — знаменитые.
— Это еще не причина для того, чтобы о них забывать.
— Вдобавок их всего три.
— Продолжаю: салон госпожи де Буань и салон госпожи де Кастеллан[599].
— Это салоны политические…
— И что с того? Это тоже не причина для того, чтобы отказывать им во влиянии… Продолжаю: номер шесть — салон госпожи де Курбон[600].
— Это салон дипломатический.
— Так что же? Это опять-таки не причина для того, чтобы он не имел веса в обществе; номер семь — салон госпожи…
— Видите, вы уже с трудом подбираете имена…
— Напротив, я с трудом выбираю их из длинного списка. Вот целых пять салонов, каждый из которых достоин первого места: они принадлежат герцогине де Майе[601], госпоже де Шастене[602], герцогине де Лианкур, герцогине де Розан[603], виконтессе де Ноай[604]. А за ними следует десяток других, которые людям острого ума хорошо известны: салон госпожи д’Агессо и ее племянницы, госпожи де Ла Гранж; салон госпожи Филипп де Сегюр, ее сестры госпожи Александр де Жирарден[605], госпожи де Подена, госпожи д’Осмон, госпожи де Нансути, госпожи де Ремюза[606], госпожи де Вирьё, графини Мерлен[607] и наконец салон госпожи Дон, который прежде был местом встречи прославленных художников и видных деятелей либеральной партии, а затем сделался прибежищем — чтобы не сказать арсеналом — для всех недовольных и разочарованных политиков[608]. Заметьте, что я не называю ни одного из салонов, в которых царят «синие чулки» от литературы, не говорю об иностранных салонах, не произношу имен княгини Ливен, княгини Бельджойозо, госпожи Свечиной[609]; не упоминаю я также и салонов странных, где беседу ведут на темы весьма рискованные, причем это не только не мешает, но, напротив, помогает ей быть весьма забавной… Одним словом, говоря о двух десятках, я ничуть не преувеличиваю.
Когда люди одних и тех же мыслей обсуждают множество самых разных тем, когда люди самых разных мыслей обсуждают одну и ту же тему, — может ли беседа не быть легкой и приятной? Однако, восклицают мастера беседы, помнящие старые времена, согласитесь, что клубы[610] убили беседу! Клубы!.. совсем напротив, они ее спасли: с тех пор как в Париже появились клубы, беседа переживает второе рождение. Если что ее и убивало, так это обилие пустых знакомств. С некоторого времени у парижан появилась привычка приглашать на самый ничтожный праздник по три сотни человек; от этого все сделались так сообщительны, что случайные люди не оставили в наших салонах места друзьям. Задушевную беседу то и дело прерывали визиты посторонних. Светские люди проводят в Париже по шесть месяцев в году; так вот, если за эти полгода три сотни персон пожелают оказать вам уважение и поблагодарить за бал или концерт всего два раза, это обеспечит вам в среднем двух докучных посетителей за вечер. Этого довольно, чтобы распугать завсегдатаев, чье общество приятно, а разговор увлекателен, ибо появление незнакомого лица способно прервать беседу самую оживленную. Вдобавок следует сказать, что иные особы вообще наделены роковой способностью останавливать ход мыслей, точно так же как иные яды останавливают ток крови в жилах; у одних способность эта врожденная и не покидает их никогда; других она посещает лишь от случая к случаю; по причине плохо скрытого неудовольствия или чересчур неотвязной тревоги люди эти помимо воли превращаются в яд — и в этот несчастливый день вносят холодность и смятение в тот самый салон, где еще накануне служили источником оживления и веселости. Так вот, всех этих людей с умом неповоротливым и праздным, всех людей, страдающих от скуки и наводящих ее на окружающих, — всех их, как губка, впитали клубы! Клубы стали домами призрения для всех убогих и отверженных светского общества, чей блеск они омрачали; клубы — приют для людей докучных, их двери открыты всем, кого мы не желаем видеть и от кого бежим, как от огня, а именно:
Мужьям, страдающим от дурного настроения;
Игрокам, ищущим дурного общества;
Сонливым папашам;
Болтливым дядюшкам;
Занудливым опекунам;
Людям, которые плохо слышат;
Людям, которые плохо говорят;
Людям, которые ничего не понимают;
Ультра-иностранцам, которые говорят по-французски чересчур тщательно; можно не без приятности побеседовать с немцем, который говорит вам «страсте!», но с упрямцем, который, прожив три года в Париже, по-прежнему приветствует вас возгласом «сыдыравыстывуете!», общий язык найти невозможно. В клуб его, и поскорее!..
Людям, которые скрывают горькое разочарование;
Людям, которые утром получили дурную весть;
Людям, которые днем сделали неприятное открытие;
Людям, которые только что повстречали кредитора;
Людям, которые только что упустили богатую наследницу;
Людям, которые начали подозревать, что любимая женщина им изменяет;
Людям, которые начали подозревать, что любимая лошадь захромала;
Людям, которые накануне объелись за обедом;
Людям, которые накануне дурно спали;
Людям, у которых только что начался насморк;
Людям, которые вечно страдают от невралгии;
Наконец, всем людям, которые иногда или постоянно хмурятся из-за страданий и забот, из-за унижений, волнений и недугов.
В гостеприимных стенах клуба все эти мелкие невзгоды светской жизни никому не смогут помешать; стоны и жалобы страдальцев потонут в общем хоре речей пустых и ничтожных. Оказавшись в обществе людей, которые не знают вашего горя, а если бы и знали, все равно не стали бы ему сострадать, утешаешься очень быстро. Прежде люди делились своими невзгодами с домашними и, разделяя дурное настроение с ближним, помимо воли его продлевали; видя, как жена, сестра, мать тревожится о нем, человек проникался уважением к собственной беде; он не смел сразу забыть о ней из опасения показаться легкомысленным; теперь другое дело; вы не в духе, вы больны, вы невыносимы — ступайте в клуб… Да здравствуют клубы! Они служат не только приютом для мужчин в дурном расположении духа, но и притоном для юношей, получивших дурное воспитание. Люди слабые пребывают во власти предрассудка, который заслуживает если не уважения, то снисхождения; назовем его поклонением грубости. Мужчины воображают, будто грубость и есть сила, и почитают своим долгом несколько раз на дню разражаться бранью, чтобы доказать самим себе свою мощь. Брань — это рев тех милых попугаев, которые присвоили сами себе звание львов. Признайтесь, что этих самозваных хищников разумно содержать в помещении хорошо отапливаемом и тщательно охраняемом, где они могут во всякое время дня рычать и браниться, подобно Вер-Веру[611], без опаски и без острастки. Это их успокаивает; они выказали свою силу, убедились, что при желании могут быть резкими и грубыми: значит, в другой раз они смогут позволить себе быть кроткими и учтивыми. Но, возразят нам, для этого они должны покинуть свои проклятые клубы, а они ведь проводят там дни и ночи. — Тем лучше! Однажды нам довелось слышать беседу нескольких корифеев некоего клуба, и смеем вас заверить, что наши салоны ничего не потеряли от того, что эти мастера демонстрируют свое искусство вдали от нас.
Умные люди умеют извлекать из существования клубов множество преимуществ; они проводят там несколько часов, узнают о происшествиях, собирают слухи; вдобавок этот благословенный приют служит оправданием для всего на свете; он предоставляет светским людям готовый ответ на любой вопрос, ложь, предусмотрительно заложенную заранее и поджидающую у ворот… — Куда вы? — В клуб. — Откуда вы? — Из клуба. — Что вы делали вчера вечером? — Был в клубе. — Где вы завтра обедаете? — В клубе… Иначе говоря, клубы, о которых рассказывают столько гадостей, собирают людей докучных, привлекают скучающих и раскабаляют любезных!.. А вы, сударыни, ропщете на клубы! Признайтесь, что вы неправы. Мы, в отличие от вас, убеждены, что роптать тут не на что; клубы забрали у света то, что свет и сам охотно бы отдал, только и всего.
Огюст Пюжен. Вандомская колонна.
Жан-Анри Марле. Бальный вечер.
Качество беседы зависит от трех вещей: опытности собеседников, согласия умов и порядка расстановки мебели в салоне. Под порядком расстановки мебели мы подразумеваем полный беспорядок в ее расстановке. Увлекательная беседа ни за что не завяжется в салоне, где строго соблюдены законы симметрии. Как же в таком случае, спросят нас, отцам нашим удавалось быть остроумными, если посреди большой гостиной наших матерей царил скучный мраморный стол с почтенным чайным прибором из фарфора? — Ответ не заставит себя ждать: отцы наши были остроумны не дома, в больших гостиных своих больших особняков; они выказывали остроумие лишь в маленьких гостиных своих маленьких загородных домов, куда отправлялись развлекаться, нести вздор и разбивать тарелки, мстя проклятому фарфору, который им до смерти надоедал и отбивал у них всякий вкус к беседе. В наши дни еще можно отыскать гостиные, обставленные по старинной моде: посетители там получают свою порцию скуки с соблюдением всех законов благопристойности. Поскольку в этих гостиных царит строгий порядок и стулья расставлены симметрически, выходит, что женщины там сидят все вместе, а мужчины, не смея придвинуть стулья, расставленные вдоль стен, предпочитают оставаться на ногах и вести споры друг с другом; меж тем если спорить можно и стоя, то беседовать — только сидя[612]. Соблазнительно объяснить такой разлад тем, что эти мужчины не знакомы с этими женщинами; тем, что первые чересчур серьезны, а вторые чересчур легкомысленны; наконец, тем, что им нечего сказать друг другу… Ничего подобного, все дело в том, что кресла и стулья расставлены плохо или, точнее, слишком хорошо.
Расставляя мебель в гостиной, берите пример с английского сада, где мнимый беспорядок вовсе не следствие случайности, но плод высочайшего искусства, результат действий строго продуманных; не превращайте вашу гостиную в партер французского сада; стулья и диваны должны быть расставлены свободно — точно так же, как свободно посажены кусты и деревья в саду английском. В салонах, где мебель расставлена симметрически, начало вечера проходит в смертельной скуке; до тех пор, пока стулья стоят на своих местах, беседа едва тлеет; лишь к концу вечера, когда симметрия все-таки нарушается, когда потребности общения одерживают победу над строгим порядком, завязывается настоящий разговор, доставляющий собеседникам радость. Но в эту самую минуту наступает пора прощаться. Знаете ли вы, как вам следует поступить после ухода гостей? Изучите осмысленный беспорядок, в который они привели ваш салон; стулья и кресла остались в тех местах, которые более всего благоприятствуют беседе; кажется, что они сами продолжают вести какой-то увлекательный разговор. Ни в коем случае их не переставляйте; поблагодарите мудрый случай и сделайте беспорядок этого вечера порядком всех последующих дней. Поверьте, так будет лучше, и когда к вам в следующий раз придут гости, они начнут веселиться на три часа раньше. Это уже неплохо, но этого недостаточно. Хорошие говоруны ненавидят праздность. Люди острого ума ни на что не способны до тех пор, пока продолжают с церемонным видом держать в руке шляпу; в отличие от людей простодушных, они не умеют управляться с ней во время разговора — не умеют ни растерянно крутить и вертеть ее, как крестьяне, ни смущенно разглаживать, как школьники; им потребны вещи подороже: английские флаконы, турецкие курильницы, бонбоньерки саксонского фарфора, золотые цепочки, золотые кости, золотые ножницы… Да-да, именно это: ножницы, перочинные ножи, кинжалы; люди острого ума обожают холодное оружие!.. Вооруженные, они обретают весь свой ум и становятся очень опасны. Как ни занят политик, как ни много у него дел, он часы напролет будет болтать, смеяться и рассуждать вам на радость, если у вас достанет ловкости подложить ему перочинный ножик или ножницы; ничто так сильно не вдохновляет наших государственных мужей. Шутка, близкая к правде: чем больше пустяков будет в вашем салоне, тем меньше их окажется в разговоре.
Есть и еще одна вещь, о которой следует помнить: если вы хотите, чтобы в вашем салоне завязалась интересная беседа, не прилагайте к этому никаких усилий. Боже, как скучны те люди, которые почитают сами себя блестящими говорунами и выставляют напоказ собственное искусство; которые гордо думают: «Вот как прекрасно я веду беседу!»; которые произносят бесконечные монологи, а на тех, кто их перебивает, смотрят с ненавистью и презрением, как бы говоря: «Фи! Вы не знаете, что такое настоящая беседа!» Заранее обдуманная беседа приятной не бывает. В гостиной собрались добрые друзья; завязывается разговор ни о чем; каждый говорит без затей все, что приходит ему в голову; одни — люди серьезные, другие — сумасброды; одни стары, другие молоды; одни глубокомысленны, другие простодушны; некая дама задает коварный вопрос, некий господин дает на него язвительный ответ; энтузиаст делится бурными восторгами, скептик отвечает суровой критикой; сплетня прерывает спор, эпиграмма его возобновляет, страстное похвальное слово подливает масла в огонь… дурацкая шутка примиряет всех спорящих. Время пролетает незаметно, и вот уже пора расставаться; все довольны, каждый внес свою лепту в разговор и, к собственному удивлению, имел успех. Собеседники обменялись идеями, выслушали новый анекдот, узнали интересные известия; уходя, они продолжают смеяться над нелепой идеей чудака, улыбаться прелестной наивности молодой женщины и похвальному упорству старого ученого; вот и получается, что, хотя никто из этих людей не готовился к беседе и не обдумывал ее, она удалась на славу.
Нам не по душе те чересчур услужливые хозяйки дома, которые утром продумывают меню салонной беседы так же тщательно, как и меню обеда. Госпожа Кампан[613] разработала на сей счет целую систему, которой учила своих воспитанниц и которая всегда казалась нам ничуть не увлекательной; согласно этой системе, беседа за столом должна зависеть от числа гостей. Если их дюжина, говорить следует о путешествиях и литературе; если восьмеро — об изящных искусствах, науках, новых изобретениях; если шестеро — надобно затеять разговор о политике и философии; если четверо, можно дерзнуть обсудить чувствования, сердечные грезы, романические приключения. — А если обедают двое? — Тогда торжествует эгоизм: каждый говорит о себе.
Об этой странной системе госпожи Кампан мы узнали от ее прославленной ученицы герцогини де Сен-Лё, которая любезно посвятила нас во все детали; мы не раз вместе смеялись над ними. Когда в замок Арененберг случалось нагрянуть неожиданным гостям, герцогиня восклицала: «Все мои планы нарушены; я-то собиралась поговорить о философии, а теперь придется обратиться к литературе и путешествиям». Что в переводе означало: за обедом будет десять человек. Увы! сегодня эта тонкая шутка навевает одну лишь печаль[614].
К счастью, приготовления такого рода совершенно не нужны людям, которые владеют искусством беседы; они настолько доверяют собственному уму, что не чувствуют потребности упражнять его заблаговременно. Вот отчего мы так нежно любим людей выдающихся: поскольку ум у них острый, они никогда не считают нужным остроумничать.
Между тем, объясняя вам, как беседуют посетители наших салонов, мы забыли рассказать, о чем они беседуют… Ничего не поделаешь! мы прощаемся с вами и спешим покинуть Париж, ибо жара здесь последние три дня стоит совершенно невыносимая.
29 сентября 1844 г.
Париж, превратившийся в маленький немецкий городок
Мы возвратились в Париж после трехмесячного отсутствия — и не узнали его. Вообразите маленький немецкий городок — спокойный и степенный, населенный людьми добропорядочными, рассудительными и праздными. Куда делись оживление и шум? Куда пропали суетливые человечки с зеленоватым цветом лица и красными руками, шныряющие по улицам и разговаривающие сами с собой? куда делись высокие тощие женщины со свирепым видом и завистливым взглядом, глядящие на каждую встречную как на неприятельницу или жертву? куда исчезли приметы деятельной жизни и напряженного труда? всех их сменили на парижских улицах добродушные толстяки с румяными щеками и простодушной улыбкой, которые прогуливаются молча, неторопливо и беспечно, и всем своим видом, кажется, говорят: «Я гуляю для собственного удовольствия; никто меня не ждет, я никуда не спешу», и красивые нарядно одетые женщины, которые не выставляют свой убор напоказ и с терпеливым любопытством разглядывают дома, деревья и экипажи. По всему понятно, что это иностранки. Француженке, если она одета нарядно, нет никакого дела до того, что происходит вокруг; она не смотрит на встречных и заботится только об одном: смотрят ли встречные на нее… Рано или поздно итальянское словечко, испанское восклицание, английское yes или немецкое ja выдают, из какой европейской страны прибыли к нам эти прекрасные незнакомки, — о чем, впрочем, мы уже догадывались, ибо осанка и походка ничуть не менее красноречивы, чем слова. Таковы новые обитатели Парижа, — независимые путешественники, которые странствуют ради забавы, никуда не торопятся и выбирают для посещения прославленной столицы удобный момент — тот, когда постоянные жители ее покинули; так туристы предпочитают осматривать знаменитый замок в тот день, когда владельцев нет дома.
Если вам все-таки попадется на глаза элегантная парижанка, вас поразят ее бледность и томность; молодой женщине неможется, она либо на сносях, либо только что родила; если же — что еще менее вероятно — вы встретите парижанку, которая не страдает ни от какой болезни, будьте уверены, что она носит глубокий траур и пребывает в большой печали: странная вещь, удивительная вещь: три месяца назад все эти причудницы тоже носили глубокий траур, но весело разъезжали в колясках и хохотали, как безумные. Вы осведомлялись у них, по кому они носят траур так долго и с таким удовольствием, и слышали в ответ: «Это траур по привычке». Понятно, что нынешний печальный траур кажется вам вещью довольно странной и не перестает вас удивлять. Что же до наших элегантных парижан, завидев одного из них в толпе мирных чужестранцев, вы тотчас в тревоге устремляетесь к нему; он делает тщетные попытки добраться до вас, но увы, он больше не ходит вприпрыжку, напевая новую польку, он хромает и стенает: то ли оттого, что в первый день скачек свалился в канаву, то ли оттого, что недавно вернулся из Неаполя, где его укусил скорпион (истинное происшествие!); он спешит рассказать вам о своих злоключениях и тем извинить свое присутствие в Париже, ибо приличному человеку в это время года в столице делать нечего. В самом деле, сейчас в Париже остались одни жертвы. Вообразите только эту роковую метаморфозу: неугомонный город, который в одночасье покинули все местные буяны, все депутаты, адвокаты, журналисты, «синие чулки» и кокетки; громадный театр, который лишился разом оркестрантов, актеров и актрис; родину тщеславия, где не осталось ни одного честолюбца; вообразите только Париж, по улицам которого расхаживают люди, не имеющие ни ожиданий, ни притязаний, которые не стремятся ни ослепить, ни оглушить, ни унизить, ни обмануть! Зрелище чудесное и непостижимое, великое в своей простоте, выдающееся в своей наивности и потому исполненное прелести. Ни на бульварах, ни на улицах не заметно никакой суеты, экипажи ездят совершенно свободно, пешеходы шествуют, а не бегают; осенние парижане — существа непритязательные; в столице не осталось никого, кроме молодых приказчиков, получающих скромное жалованье, которого недостает на оплату сельских радостей; кроме старых кассиров, вечных пленников большого города, забывших о существовании ручьев, лугов и долин и помнящих из всех даров природы лишь один-единственный — табак; кроме старух, живущих на ренту, согбенных под тяжестью лет и бесформенных темно-синих капотов и накопивших ровно столько денег, сколько хватает на содержание старой служанки, которая помогает хозяйке дотащиться до гостеприимной скамейки в парке, освещенной лучами осеннего солнца; кроме юных вдов и осиротевших девиц, которым блестящее образование служит источником заработка и которые, дав последний урок и распростившись с последней ученицей, скрепя сердце наслаждаются разорительным бездельем. Не в силах пройти мимо цветочного рынка, они покупают букетик фиалок, пучок гелиотропов, горшочек с ромашками! Это дорого; но ведь наступили каникулы[615] — надо же побаловать себя.
Торговки в лавках ведут светский образ жизни: придя к ним за покупками, вы сразу почувствуете собственную неделикатность. В их глазах вы прочтете изумление и немой упрек. И не вздумайте, сударыни, пытаться что-нибудь купить в эту переходную пору, когда элегантный мир пребывает в спячке… Ленты из тафты? — Все вышли. — Ленты из атласа? — Еще не прибыли. Знаменитые магазины могут предложить только грубую синель красного, зеленого или оранжевого цвета, годную для украшения непритязательных чепцов простодушных иностранок […]
О салонах не стоит и говорить; они закрыты; разве что две-три дамы, только что восставшие с одра болезни, собирают у себя нескольких друзей. Визиты наносятся по-домашнему, без затей! Скромный капот, закрытое платье — вот и все, что требуется; тщательно уложенные волосы производят фурор, платье с короткими рукавами вызывает скандал; приходится пускаться в объяснения, ссылаться на чрезвычайные обстоятельства. — «Ах, милочка, к чему такая роскошь?» — «Я обедала у супруги английского посла». — «Тогда другое дело, я бы вам не простила, если бы вы так нарядились ради меня». В самом деле, в это время года простить роскошный наряд нелегко: ведь хорошо одетая дама спугнет других посетительниц, которые приходят пешком, по-соседски, в утреннем туалете и почтительно ретируются при виде туалета более тщательного. А между тем гости редки, за ними охотятся, их приманивают. Каждый визитер на вес золота; отъезд хотя бы одного человека — настоящая драма, но зато возвращение хотя бы одного завсегдатая — праздник. Возвратившиеся всегда так любезны, у них наготове столько великолепных историй, столько свежих известий, столь лакомых сплетен! Они делятся ими мимоходом по дороге из одного замка в другой. В Париже они проводят всего несколько часов — ровно столько, сколько нужно для того, чтобы рассказать милый скандальный анекдот, прелестную гнусную выдумку, невинную злобную гадость; а уж дальше те из слушателей, кто остаются в Париже, переносят новость из дома в дом, из квартала в квартал, а те, кто уезжают из Парижа, перевозят ее из замка в замок, из города в город, так что, когда зимнею порой герои и героини этих летних поэм, этих импровизаций, сочиненных анонимными труверами, возвращаются в Париж, они с величайшим изумлением узнают о своих собственных бурных похождениях. Госпожа Т… обнаруживает, что была страстно влюблена в господина Икс…, которого никогда в жизни не видела; мадемуазель де З… выясняет, что в Баньере вышла замуж за некоего англичанина, а в Бадене — за некоего немца, и сделалась то ли леди, то ли баронессой. Господин де Р… с неменьшим удивлением узнает, что вот уже три месяца путешествует в обществе чудовищного «синего чулка» — дамы, не вызывающей у него ничего, кроме ненависти. Все они возмущаются, негодуют, возражают… Ладно-ладно, — отвечают им, — нечего было модничать, строить из себя элегантных господ, разъезжать по водам и курортам; оставались бы в Париже, как мы, простые буржуа, — никто бы про вас и слова не сказал. Вы что же, полагали, что в нашем царстве элегантности можно быть элегантным безнаказанно?.. Заблуждение, грубейшее заблуждение! Во Франции вам скорее простят гений, чем элегантность. Вот почему увеселительные поездки на воды вызывают такую зависть; случается, что отъезд на месяц ссорит старых друзей на всю жизнь; известия о подобных поездках всегда сопровождаются горькими сарказмами: «Жеслены, говорят, отбыли в Швейцарию». — «Видно, денег куры не клюют», — тотчас отзывается какой-то доброжелатель. «Госпожа Фурнье с дочкой едет в Дьепп». — «Давно пора, малышка совсем пожелтела», — комментирует другой. Так-то вот наши лучшие друзья относятся к увеселениям, милым для нашего сердца. Должно быть, скучать вовсе не так приятно, как уверяют пуритане и пуританки, проповедники величавой угрюмости. Будь скука забавна, они меньше завидовали бы тем людям, которые развлекаются в свое удовольствие. Их зависть — род признания; пусть возьмут это себе на заметку и не выказывают своих чувств так явно; лишь в этом случае можно будет без улыбки слушать их велеречивые похвалы скуке. […]
13 октября 1844 г.
Что, если Прометей похитил огонь с небес ради того, чтобы зажечь сигару?
[…] Прогуливаясь недавно по Елисейским Полям, мы стали свидетелями сценки, немало нас удивившей, более же всего удивило нас то обстоятельство, что окружающие удивились нашему удивлению. Фраза звучит не слишком вразумительно; попробуем рассказать все по порядку:
По аллее шли рука об руку двое превосходно одетых молодых людей. Один из них курил. Навстречу им двигалось, пошатываясь, настоящее чудовище — грязный, отвратительный, вульгарный субъект, куривший скверную сигару. Завидев такое существо, всякий порядочный человек содрогается от ужаса и спешит перейти на другую сторону улицы. Но наши два денди не только не испугались урода, но с восторгом устремились прямо к нему; негодяй понятливо кивнул, после чего тот из юношей, что курил, отважно приблизил свое приятное лицо к омерзительной физиономии чудовища, дабы призанять огоньку. У нас — простодушного свидетеля этой сцены и ненавистника курения — сценка эта, разыгранная самым естественным образом, вызвала глубочайшее отвращение. Но каково же было наше изумление, когда вечером, пересказав увиденное друзьям, мы убедились, что гнев наш не вызывает у слушателей ничего, кроме смеха! Так всегда бывает, объяснили нам, повсюду, где люди курят; каждый имеет право попросить огня у того, кто этим огнем располагает; недавно некий рабочий обратился с подобной просьбой к принцу Ж[уанвильскому], и тот охотно ссудил его собственной сигарой; более того, в Испании всякий, кто откажет прохожему в этой услуге, рискует навлечь на себя серьезные неприятности; самый жалкий нищий вправе попросить прикурить хоть у самого испанского короля и наверняка не встретит отказа; вы улыбаетесь, но это правда; скажу больше: сам король… — О, я верю, верю; короли — люди в высшей степени учтивые. Добавлю лишь одно философическое замечание: итак, добиться аудиенции у повелителя всех Испаний, дабы испросить его королевского благословения на открытие Нового света или на какое-либо иное героическое деяние, — дело почти невозможное; зато окликнуть короля, чтобы зажечь с его помощью отвратительную вонючую сигару, — вещь самая простая… Мораль: короли дозволяют нам просить у них лишь тех милостей, которые нас унижают и отупляют; они отказывают нам во всех тех милостях, которые способны прославить нас и возвеличить. Когда бы Прометей похитил огонь с небес ради того, чтобы зажечь сигару, боги не стали бы ему в этом препятствовать.
Кстати о сигарах, господин де Бопре только что выпустил чрезвычайно любопытную книгу под названием «Общие начала французского права для сведения женщин». Сочинение это появилось весьма кстати и обречено на успех. Будущее Франции принадлежит женщинам. Мужчины, усыпленные, размягченные, одурманенные неумеренным употреблением табака, очень скоро окажутся не в состоянии всерьез заниматься делами. Не пройдет и пятидесяти лет, как женщины встанут во главе всех предприятий, во главе префектур, банков и проч.; уже сейчас они вершат всеми политическими делами под рукою; через полвека они будут руководить всеми промышленными и административными делами совершенно открыто; именно они будут сочинять парламентские доклады и памятные записки для министров, а мужья их тем временем будут дремать подле камина с сигарой во рту. Такую судьбу готовит им то священное растение, которое ботаники именуют никотианой, а мы зовем табаком. О, француженки уже сейчас провидят свое блистательное будущее; посмотрите, с какой предупредительностью эти хитрые и честолюбивые особы относятся к драгоценному сообщнику, призванному дать им в руки вожделенную власть! Они не только не восстают против употребления этого зелья, но, напротив, поощряют курение всеми возможными способами, окружают курильщиков самой трогательной заботой, дарят своим друзьям прелестные портсигары, изготовленные в Индии, и элегантные пепельницы, изготовленные в Севре; пуская в ход интриги и кокетство, они получают из Гаваны запрещенные к ввозу сигары и преподносят вам, о легковерные французы, эти коварные дары по случаю вашего дня рождения и дня ваших именин, по случаю Рождества и Нового года… О! бойтесь этих опасных подарков: так коварный убийца усыпляет отравленным питьем неосторожную жертву, так чревоугодник-людоед кормит пленника, которого намеревается съесть, ароматными травами; так ловкая Цирцея опаивала колдовским напитком путешественников, которых хотела удержать в своем доме… И именно так умная женщина одурачивает табаком гордеца, которого желает подчинить своей власти. О чересчур доверчивые французы, остерегайтесь тех своих маний, какие женщины поощряют; француженки подобны королям, они даруют своим подданным лишь предательские милости, по вине которых одаряемые неминуемо утрачивают могущество и честь.
Можно было бы написать целую книгу под названием: «О роли сигары в эмансипации женщин». Она послужила бы прекрасным дополнением к книге господина Бопре — книге весьма полезной[616]; вообще-то мы вовсе не считаем, что женщины непременно должны вершить делами, но раз уж, к несчастью, они на это обречены, пусть будут во всеоружии.
12 ноября 1844 г.
Первая обязанность женщины — быть красавицей. — Разные способы быть красавицей. — Башмаки, имеющие глупый вид.
— Букеты, пахнущие болотом. — Беспородные вина. — Избави нас Господь от филантропов
Однажды мы объявили, что первая обязанность матери — быть безжалостной[617], и, к нашему великому удивлению, этот парадокс пришелся публике по вкусу; посмотрим, что она скажет по поводу нашего нынешнего афоризма.
Итак, мы торжественно объявляем, что первая обязанность женщины — быть красавицей.
Заметьте, что, утверждая это, мы вовсе не хотим сказать, что все женщины обязаны иметь античный профиль мадемуазель Джулии Гризи или графини де Бо…, загадочный взор госпожи Санд или ангельский взгляд госпожи графини д’Осс…, королевскую стать герцогини д’Ист… или весеннюю свежесть княгини Гал… Вовсе нет; обладать подобной красотой — счастье, а быть может, и несчастье, но вовсе не обязанность; столь великих совершенств мы не требуем; мы справедливы, а вдобавок и осторожны.
Дело не в том, чтобы быть красавицей, дело в том, чтобы казаться таковой; именно в этом и заключается обязанность; существуют два вида красоты: невольная и рукотворная, дарованная природой и сотворенная обществом, та, которую дал Господь, и та, которую воспитал свет; та, которую получаешь, и та, которую созидаешь. […]
Красивая женщина сидит в гостиной перед столиком с шитьем и думает: у меня кончился зеленый шелк, надо будет завтра за ним съездить; а еще нужно подыскать красную шерсть и навестить больную тетушку.
Напротив сидит женщина куда менее красивая; она смотрит на красавицу и думает: «Эта женщина недостойна своей красоты. О! имей я такие глаза, как много могла бы я выразить взглядом!»
Так вот, это стремление к красоте пленительно само по себе; лицо той женщины, которая мечтает стать красавицей, куда приятнее, чем лицо той, которая красива невольно и бездумно.
Поверьте, нет ничего более прелестного, чем превратившееся в навязчивую идею желание или, вернее, потребность нравиться; прелесть эта не может наскучить, ибо принимает каждый день новый облик и связана неразрывно со всем, из чего состоит жизнь, от грандиозных честолюбивых мечтаний до мелких деталей повседневного существования. Трудно не оценить красоту женщины, чьи слова и поступки говорят, кажется, только одно: «Я хочу вам понравиться». Сначала она привлекает ваше внимание любезным намерением, затем чарует вас неизменным усердием, наконец, трогает героическим постоянством, и вы начинаете так же страстно желать ей преуспеть в покорении вашего сердца, как страстно желают успешного завершения любого изящно задуманного и отважно исполненного предприятия.
Тут ужасная мысль останавливает наше перо… Как навязчивы сделаются некрасивые женщины после прочтения этих строк!.. Ну что ж! Тем хуже… Или, вернее сказать, тем лучше!.. Впрочем, хороши и мы со своей гордыней… можно подумать, будто эти дамы и без наших советов давно не сообразили, как им действовать.
Завсегдатаи парижского большого света говорят без обиняков: красота чарует их меньше, нежели элегантность; многие из них простодушно признавались нам, что им в сотню раз милее женщина не то чтобы совсем некрасивая, но, как говорится, не красавица, которая утопает в роскоши и усыпана брильянтами, нежели женщина совершенной красоты, которая ходит в лохмотьях и живет в бедности. Находятся, конечно, юные оригиналы, предпочитающие писаных красавиц, но их немного, и дурной вкус этих дутых авторитетов никогда не станет законом для света.
Что же до истинных ценителей, им кажется куда более привлекательной та красота, что сотворена обществом; вот почему в Париже проживает великое множество женщин безмерно обожаемых, нежно любимых и очень-очень любезных, чья красота состоит из:
Прелестного чепчика работы госпожи Деланно: розовые ленты выгодно оттеняют цвет кожи;
Очаровательного шелкового платья: фасон идет к фигуре, цвет — к лицу;
Девичьих башмачков;
Скромного браслета, дешевого, но сделанного с большим вкусом;
Драгоценного перстня, надеваемого с благоговением;
Вышитого носового платочка, разворачиваемого с изяществом;
Пышного букета фиалок, которые пахнут фиалками;
Дюжины камелий в китайских жардиньерках;
Двух раскрывшихся роз в старинной фарфоровой вазе;
Конфетницы севрского фарфора, полной конфет;
Превосходно начищенного серебра;
Превосходно поданного чая;
Правильно сваренного кофе по-турецки;
Настоящего хереса[618];
Прекрасных лошадей в отличной упряжи;
Безупречного дворецкого;
Почтительного и услужливого камердинера;
Прославленного друга;
Прекрасно воспитанного и красивого ребенка;
Учтивого мужа.
Все эти женщины не красавицы и не избалованы природой, но они знают, как призанять чар у общества, прелестей у моды. Добиться успеха им помогает вовсе не богатство, а только лишь желание нравиться, нравиться одному мужчине… вовсе нет, нравиться всем и каждому, старой тетушке и молоденькой кузине, мелкому аудитору и толстому депутату, всем, кто бывает в их доме и кого они встречают в свете; все дело в этом постоянном стремлении выбрать из всех вещей лучшую, дабы внушить вам лестное впечатление и оставить приятное воспоминание. Есть женщины куда более богатые, которые, однако, не умеют извлечь из своего блистательного положения никаких преимуществ.
Они носят чепец, обшитый великолепными кружевами, но старомодный и вовсе к ним не идущий;
Они — так же как и те, первые, — надевают прекрасное шелковое платье, только цвет у него неудачный, а тяжелые украшения смотрятся на нем дурно;
Они носят башмаки, которые плохо сшиты и имеют глупый вид;
Они носят браслеты, которые звенят, как бубенчики на шее у цирковой собаки;
Они носят перстни, купленные у шарлатана;
Носовые платки у них накрахмалены так сильно, что щетинятся острыми рогами;
Букеты фиалок у них пахнут болотом;
В жардиньерках у них красуются искусственные цветы, которые камердинер взращивает с помощью метелки из перьев;
Конфеты с ликером у них лежат в конфетнице из агата;
Превосходное серебро выдает меню вчерашнего обеда;
Мебель у них неудобная и неуютная; большие кресла с резными деревянными спинками напоминают те кресла, которые стоят в церкви и у которых спинка украшена розетками из позолоченной бронзы; если вы садитесь, они вас царапают, если пытаетесь встать — вцепляются в волосы;
Чай у них, как в театре, — его обещают, но никогда не подают;
Кофе у них, как в трактире для проезжающих;
Вино у них беспородное;
Дворецкий у них держится без церемоний; он любит поговорить с гостями и дать им совет; он ведет себя примерно так же, как тот слуга, который однажды, разнося пирожные, сказал одному из гостей, от них отказавшемуся: «Вы неправы, пирожные превосходные».
Камердинер у них заика, он коверкает все имена, путает вас с ужасными людьми, которых вы ненавидите, и неизменно возвещает о вашем приходе самым нелепым образом;
Друзья у них никому не известные, завистливые, убийственно скучные;
Дети у них несносные, одетые на манер ученых собачек;
Мужья у них неряхи, прилюдно именующие своих женушек Козочками, Кошечками и Милочками!
Это — дело серьезное; это — черта характера; женщина несет ответственность за нежные прозвища, которыми ее награждают. Не в силах жены помешать мужу быть игроком, спорщиком, распутником, грубияном, но в ее силах запретить ему называть ее на людях Козочкой, Кошечкой и Милочкой! Та, которая сносит подобное надругательство безропотно, — женщина конченая; можно сказать заранее, что у нее нет ни вкуса, ни прелести, ни характера, ни деликатности, ни достоинства.
Возможно, она очень красива; но что с того?.. Разве соперница ее, убравшая из своего окружения все, что могло вас оскорбить, и окружившая себя всем, что способно вас пленить, — разве она не милее вашему сердцу? Разве если бы вам пришлось выбирать между ними, вы бы задумались? — Ни на минуту. Женщина, чья красота рукотворна, всегда одержит победу над опрометчивой красавицей, которая поленится прибегнуть к многочисленным орудиям обольщения. Одна бывшая кокетка однажды увещевала свою дочь — красивую, но чересчур дорожившую природной бледностью: «Берегись, дитя мое! молодых женщин, не употребляющих румян, всегда бросают ради старых, которые румянами злоупотребляют». И что же? предсказание сбылось. Не прошло и несколько месяцев, как муж оставил женщину добродетельную, но бледную, ради женщины увядшей, но всегда одетой тщательно, нарядно и, главное, очень ярко. Смысл этой притчи ясен: тот, кто имеет глупость пренебрегать своими превосходными качествами, всегда проигрывает тому, кто умеет выгодно подать качества весьма посредственные. В мире, где на первом месте видимость, форма всегда будет важнее содержания; брильянты настоящие, но необработанные всегда будут производить на балу меньшее впечатление, чем брильянты фальшивые, но обработанные и оправленные по последней моде[619].
Впрочем, в данном случае брильянт не фальшивый, и прелесть формы вырастает не из чего иного, как из содержания; именно из подлинных добродетелей рождается мнимая красота, та красота поступков, которая доступна всем женщинам. Поэтому мы продолжаем утверждать, что первая обязанность женщины — быть красивой, красивой из почтения к своим родным и друзьям, красивой из уважения к себе самой. Долг женщины — стараться понравиться всем вокруг; это род благотворительности, салонной благотворительности, которая имеет свои достоинства. Украсить досуг тех людей, кто зависит от нас, избавить их от невыносимой скуки, убрать с их пути колючки, очистить их дорогу от камней, предоставить им кров не только уютный, но и элегантный, протянуть им дружескую руку, источающую нежный аромат, принимать их с улыбкой неизменно приветливой, в уборе неизменно нарядном, — все это мелочи, которые, однако, означают: «Я всегда рада вас видеть»; поддержать старого отца, которого пугает старость; ободрить молодого супруга, которого возмущает несправедливость; возвратить вдохновение разочарованному поэту; развлечь больного ребенка; отправить благоуханный букет слепому, прекрасные гравюры — глухому, превосходные сигары — ленивцу, новые романы — подагрику; утешить больного, польстить честолюбцу, одним словом, жить ради того, чтобы нравиться, действовать ради того, чтобы казаться очаровательной, и, пленяя всех, составлять блаженство каждого, — это тоже призвание, и не самое плохое из всех. Пожалуй, жить так — лучше, чем из ложно понятой добродетели вечно брюзжать, из презрения к суетности пугать людей неопрятным видом и нелепым нарядом и, в то время как ваш старый отец умирает от скуки в пустой гостиной, ваш муж умирает от голода за невкусным обедом, а дети умирают от холода в тесных и сырых башмаках, бросать их всех ради того, чтобы навестить на чердаке одного из тех несчастных, которых, возможно, вы же сами обрекли на невзгоды своей неуместной скупостью; ведь источник ужасающей нищеты бедняков — в неблаговидной скаредности богачей.
О господи! если бы каждый из нас взял за правило облегчать жизнь тем немногим, кто зависит от него, быть может, великая проблема всеобщего блага была бы наконец разрешена; но мы предпочитаем приносить горе ближним, а себя посвящать счастью всего мира!.. Это, конечно, почетнее, да, пожалуй, и легче; ибо кто проверит результат? Вы пришли бы в ужас, когда бы узнали, сколько мелких гадостей совершает за день филантроп, сколько ужасных огорчений причиняет он своим домашним. Поэтому, вознося молитву к Судьбе, мы не раз восклицали со всем пылом, на какой способны: дай мне в друзья людей неблагодарных и эгоистичных, тиранов и даже гениев, хотя они считаются самыми жестокосердыми… но избавь меня от филантропов!
Огюст Пюжен. Цветочный рынок на острове Сите.
Доставлять радость ближним — вот главная цель каждой женщины, которая поистине милосердна; заметьте притом разницу в долге матери и жены: мать, по нашему убеждению, должна воздвигать перед ребенком все новые и новые преграды; жена, напротив, должна убирать их с пути мужа, отца, брата. Жизнь ребенка — сплошная игра, и для него преодоление препятствий — полезное упражнение; жизнь мужчины — сплошной труд, и для него преодоление препятствий — досадная помеха. Всякий мужчина, который трудится всерьез, от рабочего до министра, — в своем роде больной, безумец, эпилептик, нуждающийся в постоянном уходе. Непрерывные труды делают мужчину бесконечно раздражительным, и женщина, которая нежной заботой успокаивает его лихорадочное возбуждение, а благодетельным попечением отгоняет от него все неуместные и неприятные воспоминания, которая скрывает от него дурную весть, могущую понапрасну отвлечь от важного дела, а ласковым приемом развеивает его дурное настроение, которая окружает его предметами, милыми его сердцу, выбирает для своих нарядов цвета, приятные его глазу, подает ему его любимые блюда, выслушивает его рассказы и вникает в его планы с видом заинтересованным и понимающим, с улыбкой умной и ободряющей, — такая женщина для мужчины — настоящий ангел-хранитель, и ангел этот кажется ему писаной красавицей! Вот такими красавицами мы и желали бы видеть всех женщин без исключения!..
1845
26 января 1845 г.
Париж вновь спокоен. — Губительное влияние женщин на литературу
Какая, право, у нас забавная страна! С какой изумительной легкостью переходит она от самых жгучих страхов к самому безмятежному спокойствию! Вот оно, хваленое французское легкомыслие, которое мы так безуспешно пытались отыскать; оно живет не в умах французов, не в их вкусах, не в их развлечениях; оно обретается исключительно в их чувствах. Ненавидеть сегодня то, чему поклонялись вчера; осуждать вечером то, чем восхищались утром; бежать ныне от того, чего домогались прежде, — все это может считаться легкомыслием, и в этом смысле французы заслуживают звания легкомысленных. Месяц назад, как мы вам докладывали[620], Париж пребывал в оцепенении, повсюду только и было разговоров что об убийцах и их жертвах; рассказывали про женщину, которую удушили страшной смоляной маской, о юноше, которому нанесли десять ударов стилетом; толковали про украденные деньги, про похищенные часы и цепочки, и все вскрикивали, ужасались, возмущались, жалели пострадавших, проклинали власти, дрожали от страха за друзей и за самих себя и, вопреки предписаниям закона — того мудрого закона, который можно было бы сформулировать двумя словами: «Защищаться запрещается!», — вооружались ножами и кинжалами. Так вот, сегодня от всех этих страхов не осталось ни малейшего следа; у нас отняли одну за другой все те ужасные вести, какие нам подбросили прежде. Смоляная маска оказалась хитроумной выдумкой, а жертва — героиней любовной интриги[621]; ночное нападение на юного денди было столь же романическим: атаковал не разбойник, а соперник. Наши страхи были ошибкой; наше сострадание было ошибкой; никаких убийц не существует и никогда не существовало; кто посмел сказать, что они существуют? Сегодня того несчастного, который решится рассказать в кафе или клубе, что на него напали воры, безжалостно поднимут на смех; он может показать раны — его осмеют; он может истекать кровью — это вызовет еще больший смех; он лишится чувств — смех усилится; он умрет — но смех не смолкнет. Доверчивости объявлен бой. С ней необходимо покончить. Разбойники могут быть совершенно покойны, во всяком случае в течение некоторого времени; в них больше никто не верит. — Есть ли у нас основания для беспечности? — Нет; но у нас пропало желание бояться. — Опасность сохраняется? — Да; но о ней больше никто не думает. — А почему о ней больше никто не думает? — Потому что о ней уже думали прежде, а думать все время об одном и том же скучно.
Поистине, ничто так мало не походит на город, которому грозит опасность, как сегодняшний Париж; за исключением нескольких министерских чиновников, никто ни о чем не тревожится. Все заняты только забавами. С восьми вечера все женщины украшены гирляндами; они говорят только о бале, на котором были вчера, о бале, на который отправятся нынче вечером, и о бале, на который поедут завтра. […]
Кстати об Академии, иные дамы негодуют на господина Виктора Гюго. На следующий день после знаменитого заседания мы были на балу у госпожи Соломон Ротшильд; в увитой цветами и имеющей столь поэтический вид галерее, соединяющей бальную залу с роскошными салонами, нам встретилась любезная и остроумная женщина, с уст которой сорвался горестный стон: «Он сказал почти»[622]; мы поспешили успокоить ее: «Он сказал это не по своей воле» — и разгневанная красавица скрылась среди цветущих камелий. Поверите ли, господа академики испугались великодушия, с каким господин Виктор Гюго осыпал похвалами заслуги женщин; они потребовали от него исключения самых лестных пассажей, они потребовали от него добавления этого рокового «почти», которое ему вечно будут вменять в вину и в котором он почти неповинен. Мы узнали имена тех пугливых академиков, которые имели слабость потребовать от господина Гюго этой смешной жертвы; нам запрещено их называть, однако просим оскорбленных женщин поверить нам на слово: имена эти их бы утешили; недоброжелательство сих почтенных мужей более чем естественно: мужчины посредственного ума терпеть не могут женщин ума выдающегося.
Что же до нас, мы с восхищением выслушали прекрасную речь нашего прославленного друга с начала до конца, включая и тот пассаж, который вызвал столь бурное возмущение; у нас свой взгляд на роль женщин, мы уже излагали его в прошлом году[623], и с тех пор убеждения наши нисколько не изменились. Во всех случаях, когда надобно действовать, повинуясь интуиции и чутью, женщины всегда будут одерживать верх над мужчинами; напротив, во всех случаях, когда действовать необходимо, опираясь на доводы разума и выводы науки, бесспорное преимущество будет оставаться за мужчинами. Женщины не желают понять, что вся их сила — в их же слабости, в исключительной деликатности их чувств, болезненной раздражительности их нервов. Настоящая женщина, чью природу еще не исказило злосчастное образование, с избытком наделена чудесными дарами ясновидящих, чуткостью умнейших представителей животного царства. Подобно сомнамбуле, она способна невольно читать чужие мысли; подобно орлу, способна чуять добычу сквозь облака; подобно коню, способна угадывать пропасти в полной темноте; она умеет различать в ночи дыхание бездны; она может все, лишь бы вы не учили ее ничему. Всякая женщина рождается пророчицей, и грешно ей заглушать мощный голос божества, диктующего истину, ради того чтобы вслушиваться в гнусавый голос педантов, твердящих пустые слова своей бесполезной и лживой науки.
Поэтому влияние женщин велико и благотворно исключительно в тех областях, в которых они ровно ничего не смыслят. Например, в политике и в финансах женщинам порой удается принимать самые счастливые решения. Поскольку инстинкт их в этих сферах не замутнен никаким полузнанием, он служит им волшебной путеводной нитью; из горячечных видений они прежде всех узнают о грядущих событиях… Пророческий трепет извещает их заранее о неминуемых опасностях… Загадочные, непобедимые приступы отвращения указывают им на возможное предательство задолго до того, как у самого предателя родится коварный замысел. В политике и в финансах мнением женщин пренебрегать не следует. Другое дело — те сферы, в которых женщины мнят себя сведущими, но которые, однако, требуют обширных познаний, глубоких исследований; в изящном искусстве и литературе влиянию женщин благотворным не бывать. Полуобразованность сбивает их с толку, они заимствуют свои мнения из книг и таким образом теряют то, что составляло ценность их суждений, — а именно свежесть и искренность впечатлений.
Мольер просил не раз совета у служанки[624].У служанки — просил, а у жены — никогда. Женщины хорошо воспитанные, как правило, имеют о литературе понятия самые ложные[625]. О поэты! любите женщин, воспевайте их, но не вздумайте с ними советоваться. Просите у них вдохновения, но не наставлений; музы из них выходят хорошие, а судьи — дурные. Пишите для них, но невзирая на них. Всякий раз когда из печати выходит произведение чудовищное, смехотворное, винить в этом следует современниц автора, и только их одних. Да не прогневается на нас господин Э. Меннеше, который однажды с таким умом и восхищением воспел влияние женщин на литературу, воздействие салона Рамбуйе на французский язык было губительным, оно лишило его самых звучных слов, самых поэтических образов[626]. Влияние женщин на нынешнюю литературу ничуть не более благотворно. Именно их нежным настояниям обязаны мы всеми модными ужасами. Прелестные создания обожают преступления, они без ума от подробных описаний злачных мест; литераторы охотно идут им навстречу[627]. Вы осуждаете авторов и журналистов; но их ли вина в том, что они преподносят публике заказанные блюда? Все они поначалу рисовали картины самые жизнерадостные; на них никто не обратил внимание; пришлось искать иных предметов. […]
30 марта 1845 г.
Мальчик с пальчик. — Мыльные пузыри. — Управлять значит забавлять
[…] Герой дня, лев нынешнего сезона — генерал Мальчик с пальчик. Трудно было найти лучшего преемника для крошечных венских танцовщиц: вслед за куклами — карлик!..[628] Несчастное племя завистников, как безжалостно над тобой смеются! С какой тонкой иронией льстят твоим ребяческим вкусам! Известно, что ты не любишь смотреть вверх; ты соглашаешься восхищаться лишь тем, что барахтается у тебя под ногами: поэтому тебе подыскивают микроскопических идолов. Обожание бесконечно малых — вот еще одно из пленительных следствий провозглашенного равенства.
Жан-Анри Марле. Посетители диорамы.
Впрочем, справедливость требует признать, что порой и нашему завистливому народу случается поднять глаза и восхититься чем-то, что находится в вышине. В этом году, например, в четверг на средопостной неделе праздношатающиеся зеваки провели целый вечер, предаваясь восторгу весьма простодушному, но отнюдь не беспричинному. Около десяти тысяч человек простояли несколько часов на бульваре Итальянцев, задрав голову; с горящими глазами они созерцали… комету? воздушный шар? да нет, нечто еще более воздушное, а именно мыльные пузыри, вылетавшие из окна дома на углу улицы Ришелье. Пузыри эти, впрочем, были огромной величины и наполнены табачным дымом. Вначале каждый из зрителей думал: неужели это мыльный пузырь, может быть, это маленький воздушный шарик? Затем, когда пузырь налетал на край ставни или угол вывески и лопался, оставляя вместо себя легкое облачко и распространяя нежный аромат вожделенной сигары, зрители изумлялись еще больше и начинали задаваться другим вопросом: какому Эолу обязаны они этими громадными пузырями? Наконец из уст в уста стало передаваться имя Вивье; тут-то все и объяснилось. Для этого знаменитого мастера роговой музыки, который ухитряется извлекать из своего инструмента пять нот одновременно, три часа кряду выдувать из дудки мыльные пузыри на радость восторженной публике — безделица. Куклы, карлики, мыльные пузыри!.. Должно быть, народом, который так легко позабавить, нетрудно управлять: ведь управлять значит забавлять.
1847
10 января 1847 г.[629]
Моды 1847 года. — Школы: крикливая и загадочная. — Святотатственные сладости
В республике моды (империя Моды нынче вышла из моды) борются в настоящее время две школы: крикливая и загадочная. Цель первой — привлекать взоры и ослеплять их; цель второй — приковывать взоры и, если можно так выразиться, их интриговать. Последовательниц первой школы вы узнаете по их горделиво-безрассудным повадкам; над головой у них колышутся султаны из перьев, на лбу красуются диадемы из брильянтов. Последовательниц второй вы угадаете по манерам горделиво-сдержанным: перья у них клонятся долу, словно у плакучей ивы, брильянты прячутся в волосах или в складках платья. Одни желают производить впечатление открыто и смело; другие также хотят производить впечатление, но стараются этого не показывать. У крикливых план действий простой: облачаться в необычные наряды, которых не носит никто другой; у загадочных план более сложный: носить то, чего не носит никто, с таким видом, будто это носят все.
Казалось бы, один план решительно противоречит другому; вообразите, однако, что мадемуазель Фелиси нашла способ удовлетворить оба стремления и потрафить обеим партиям. Сторонницы загадочной школы получают от нее наряд закрытый и целомудренный, отвечающий их чаяниям; это маленькое манто из черного бархата, обшитое скромным позументом; другое дело, что бархат этот великолепен, скромный позумент превосходно сработан, а покрой манто выдает отличный вкус и руку мастера; женщина может носить это манто в любое время и в любом настроении: в радости, в печали, в тревоге… Преимущество прекрасной простоты в том, что она всегда прилична. В этом манто женщина может бывать всюду, и в кругу богачей, и среди бедняков. Вот элегантность, которая нам по душе, — элегантность скрытная, не выставляющая себя напоказ и способная оскорбить лишь завистливых знатоков. Скажем короче, это манто пристало героине романа.
Мадемуазель Фелиси не обделила и крикливую школу; сторонницам этой последней она приготовила наряд, соответствующий их вкусам: это то же самое маленькое манто из черного бархата, но только украшенное… вы не поверите… — украшенное СЕМЬЮДЕСЯТЬЮ метрами кружева! Да, вот оно — решение проблемы: один-единственный наряд обшит семьюдесятью метрами кружева!.. Причем ширина этого кружева в некоторых местах достигает полуметра. Понятно, что одеяние столь роскошное подобает лишь женщине-триумфаторше… Можно ли печалиться, нежась в этих кружевных струях?.. Можно ли ревновать, возмущаться, суетливо всплескивать руками, утопая в море кружев?.. Подобный наряд поощряет дерзость, хотя и не поощряет достоинство. О, это манто пристало не героине романа, а Селимене![630] Единственное, что можно предпринимать в таком уборе, — это одерживать тысячи побед.
Вместе с манто Селимена надевает шляпу, устроенную не менее сложно, — атласную с кружевами, перьями и бархатными бантами. Крикливая школа предпочитает госпожу Баренн, и не напрасно.
Загадочная школа имеет некоторые артистические притязания и потому отдает предпочтение мадемуазель Бодран, берущей за образец творения прославленных художников. Так, оригинал благородного и строгого убора, вызвавшего такое восхищение на последнем дипломатическом приеме, — прелестной бархатной шляпы гранатового цвета с белыми перьями, красовавшейся на голове супруги посла А…, — вы найдете на одном из портретов кисти Рубенса. Все обсуждали также восхитительный убор прекрасной госпожи де М…: легкое покрывало, изящно окутывавшее голову. Все восклицали: «Сколько вкуса! Как это изысканно! Как это ново!» — Ново! Да ведь это всего лишь точная копия убора Мадонны с виноградом[631]. Достаточно было золотому и серебряному дождю пролиться на это целомудренное покрывало, и убор Богоматери обернулся светской парюрой. — А вот прелестный чепчик госпожи де В… из белого тюля с белыми цветами, на который кокетливо накинута черная кружевная косынка, завязанная под подбородком, взят не у Рафаэля: за него следует благодарить Шардена, Ланкре или Ватто — одного из Рафаэлей эпохи рококо, творивших в веселые дни Регентства[632], или — для пущей классичности — просто какую-нибудь фарфоровую пастушку.
Что касается крикливой школы, то ее сторонницы заказывают платья исключительно у госпожи Камиллы. Сколько воображения, сколько эрудиции потребно великому мастеру! Мадемуазель Бодран, прежде чем взяться за очередную шляпку, погружается в историю живописи; госпожа Камилла, прежде чем приступить к очередному платью, изучает литературу. Сколько театральных костюмов — нарядов, почерпнутых из трагедий, драм и мелодрам, а затем преображенных и упрощенных с умом и талантом, — обязаны ей новым рождением. Греческие корсажи, турецкие рукава, польские куртки, китайские туники — она берет все эти чужеземные наряды и превращает их во французские платья. Результат странен, дерзок, но неизменно прелестен.
[…] Еще о моде: мы не можем не осудить те конфеты, которые вошли в моду в конце прошлого года; иначе как святотатственными эти сладости не назовешь. Конфеты эти изображают Мадонну и Младенца Иисуса. К каждой из благочестивых конфеток приложена истовая молитва: «О Матерь Божия!.. О непорочная Дева!..» Как ловко придумано: молиться, смакуя конфеты, говорить с Господом, грызя сласти; какое утонченное благочестие! какая усовершенствованная аскеза! Впрочем, усовершенствования эти были предсказаны еще Мольером, который угадал все выгоды, какие непреложное, а точнее, просто ложное благочестие может извлекать из лакомств:
Позвольте угостить — есть у меня лакрица![633]Насколько больше уважал приличия почтенный кондитер Бертелемо: он призывал на подмогу только Граций и Купидона.
11 апреля 1847 г.
Приторные мещанки[634]
Бедные литературные женщины[635]!.. Мы перед ними виноваты, и они вправе требовать удовлетворения; мы были к ним несправедливы: мы сказали, что эта разновидность женщин — самая неприятная, какая только может существовать… О нет!.. мы ошиблись; литературные женщин несносны, это правда; но они отнюдь не самые несносные. Мы назвали их самыми скучными; они не заслуживают этой чести. Звание самых скучных принадлежит разновидности куда более чудовищной, представительницы которой, увы, размножаются с пугающей быстротой.
Разновидность эта до сих пор еще не описана; в номенклатуре унылой флоры, произрастающей в тусклом саду Скуки, она еще не значится; но мы непременно подыщем ей точное наименование. Ведь мы решились объявить этим женщинам войну не на жизнь, а на смерть; мы желаем истребить весь их род; они чрезвычайно опасны; они умерщвляют все вокруг; позволь мы им размножаться безнаказанно, они погубили бы всю Францию; они сделали бы всех нас глупыми, хмурыми, угрюмыми и напыщенными, а это было бы равносильно гибели; французы перестали бы быть французами; вследствие этого рокового влияния Франция утратила бы первенство в сфере искусств, наук, литературы и даже моды, так что чужеземцы, являющиеся к нам в поисках развлечений, веселости, одним словом, жизни, бежали бы навсегда, убоявшись нашей угрюмой претенциозности и высокопарной пошлости. Истребление этой породы женщин имеет, как видите, значение политическое; помогите же нам в нашем трудном деле.
Отличительная черта женщин, о которых мы говорим, заключается в том, что они вовсе не похожи на женщин и более всего напоминают бойких кукол, внезапно обретших дар движения и речи; они изо всех сил стараются держаться величаво и степенно, но остаются чопорными и жеманными; туалеты их всегда очень богаты, даже роскошны, но быть разодетой — еще не значит быть одетой со вкусом.
Единственный способ правильно носить красивое платье — забыть, что оно на тебе надето. Чересчур радоваться своим нарядам и чересчур гордиться ими, как Лизетта из «Игры любви и случая»[636], — величайшая неловкость; тем самым вы признаёте, что не рассчитывали на подобную честь; признаёте вы и другое: вашим достоинством и вашей известностью вы обязаны не чему иному, как вашему туалету; вы как будто объявляете во всеуслышание, что успех ваш случайный, нежданный, нечаянный, что вы к нему не готовы и боитесь, как бы он не оказался мимолетным: так павлин гордится своим опереньем именно потому, что ежегодно его лишается.
Эти дамы помешаны на благородстве манер, и можно было бы исписать тома, перечисляя все хитрости, на которые они пускаются, все усилия, которые они предпринимают ради того, чтобы с боем завоевать искусственное величие, — и все зря; они думают, что имеют достойный вид, на самом же деле принимают вид официальный, и не более того. Они всегда начеку, вечно во власти неотвязной тревоги; два опасения терзают их душу с равной силой: как бы не услышать слова недостаточно приличные, как бы невзначай их не произнести.
От природы вовсе не злые, они всегда закованы в броню и вооружены страшнейшим оружием — шпильками. Они чувствительны, как мимоза: любая мелочь их обижает; любой пустяк превращается в трагедию. В самых невинных ваших словах они видят чудовищное оскорбление!.. оскорбление, о котором вы и не помышляли! Стыдитесь! это означает, что вы отнюдь не так щепетильны, как они.
Выходит, они просто-напросто ханжи? — Нет, ничего подобного; с ними позволительно говорить о чем угодно, но лишь употребляя определенные словечки и грассируя определенным образом. — Тогда, значит, они жеманницы? — Нет, у жеманниц куда больше изысканности и ума! Те, о которых мы ведем речь, — женщины заурядных дарований и буржуазного воспитания, по прихоти случая вознесенные на вершину социальной лестницы; очутившись внезапно в незнакомой сфере, не обладая, в отличие от избранных натур, природной склонностью ко всему благородному и прекрасному, не чувствуя за плечами, в отличие от женщин знатного происхождения, многовековой традиции, не имея ни сведений, ни знаний, ни врожденного вкуса, ни просвещенного ума, они придумывают на свой страх и риск некий кодекс элегантности, некий отдельный, особый этикет, который, однако, имеет все шансы стать кодексом общепринятым, этикетом общераспространенным, если только настоящие элегантные дамы, молодые женщины хорошего рода и хорошего воспитания, не будут вместе с нами отважно, непрестанно, неуклонно протестовать против рокового влияния и беззаконных приговоров этих приторных мещанок. Мы согласны, чтобы нам давали тон; но если тон этот фальшивый, мы имеем право воспротивиться.
А между тем, как ни печально это признавать, приторные мещанки нынче задают тон почти во всем: в литературе на них равняются люди театра; в живописи — творцы портретов и жанровых полотен; в музыке — сочинители несносных слащавых песенок; само французское изящество — наше главное национальное достояние — испытывает на себе пагубные следствия их влияния. Они строят из себя важных особ: все остальные женщины поневоле берут с них пример, и в результате все начинают походить на модных кукол. Прощайте, открытые улыбки, честные прямые взоры, свободные, изящные манеры; безумная озабоченность приличиями искажает гримасой самые очаровательные личики, сковывает панцирем самые гибкие талии. Честолюбивые притязания уродуют прелестные черты. Тщеславие и зависть гложут прекрасных молодых женщин, впиваются в их сердца острыми когтями… Случалось ли вам заметить, какой тусклый, мертвенно-бледный, зеленоватый цвет лица у всех завистниц?.. Проходит несколько лет, и от их красоты ничего не остается; они утрачивают даже тот благородный вид, которым обязаны природе и ради которого приносили все эти жертвы; ибо для того, чтобы иметь благородный вид, одного желания недостаточно, нужны еще благородные идеи: мысль преображает лицо; она чеканит черты, переменяет маску; лицо — безжалостный доносчик; в восемнадцать лет вы имеете тот вид, какой даровала вам природа; в двадцать пять — тот, какой сообщили вам ваши занятия; если мысли ваши неизменно великодушны и возвышенны, лицо ваше, пусть даже оно некрасиво, всегда будет умным, взгляд — значительным, манеры — прямыми и достойными; другое дело, если вас ежечасно терзает тщеславие, ежеминутно занимают вздорные, ничтожные тревоги, тогда, как бы безупречен ни был овал вашего лица, как бы правильны ни были ваши черты, вид ваш будет лжив, взор пуст, манеры глупы и напыщенны… Впрочем, вернемся к нашим приторным мещанкам, пожалуй, имя найдено — на нем и остановимся.
Приторные мещанки всегда печальны; правда, они заставляют себя улыбаться — но разве это улыбка! Это кривая и косая, с трудом натянутая на лицо гримаса, которая сообщает лицу вид в сотню раз более унылый, чем самое ледяное спокойствие. Но это еще не все: верх искусства заключается в том, чтобы, натянув на лицо эту кривую улыбку, говорить исключительно круглыми фразами. Если приторная мещанка заговорила, остановить ее невозможно; она должна закруглить фразу, и она закруглит ее во что бы то ни стало; помешать ей это сделать — значит выказать неуважение; если кто-то входит в гостиную, она на мгновение прервется, чтобы его поприветствовать, и продолжит закруглять фразу; бывает хуже: искра из камина упала на ковер: приторная мещанка даст своим слушателям время погасить огонь, а затем возвратится к брошенной фразе и закруглит ее. Сами знаете, на раутах нет времени договорить до конца ни единой фразы: вы спрашиваете у соседа, что нового, людская волна уносит его, и отвечает вам уже другой; нынче в свете невозможно ни рассказать историю, ни выразить мысль, пусть даже самую лаконичную; у всех дела, все являются в свет исключительно ради того, чтобы увидеться с тремя-четырьмя нужными людьми. Возьмем, например, салоны официальных лиц: какая женщина рассчитывает найти там себе слушателей? Дипломаты, пэры Франции, депутаты приходят туда каждый со своей нуждой: один желает говорить с господином Жени и ищет господина Жени; другому господин Эдмон Леклерк обещал место для одного из избирателей, и он ищет господина Эдмона Леклерка!.. Третьему что-то посулил господин Феликс Равессон, и он неотступно следует за господином Феликсом Равессоном[637]. Единственное занятие всех салонных просителей — не сводить глаз с названных значительных особ, единственная цель — подстеречь то мгновение, когда они будут свободны… Ни одна разумная женщина не станет претендовать на внимание людей, занятых делом столь ответственным!..
Приторная мещанка — дело иное; ее не собьешь, и она будет закруглять свою фразу до тех пор, пока на глазах у ее несчастного собеседника господин Равессон, господин Жени или господин Эдмон Леклерк не простятся с хозяйкой дома и не скроются за дверью… Дипломат не добьется своей цели, депутат не будет переизбран, коллеж останется без преподавателя, но разве это важно?.. Главное, что приторная мещанка закруглила свою фразу: долг превыше всего; она свой долг знает.
Приторная мещанка печальна, но плачет она только на представлениях «Драматической гимназии»[638]. «Гимназия» — ее любимый театр; героини там никогда не признаются в любви прямо, а только лишь иносказательно; они никогда не скажут попросту: Я вас люблю, а воскликнут с ложной многозначительностью: Нет, сударь, я не могу любить вас\ Приторную мещанку это трогает безмерно, потому что она отличается не чувствительностью, а, с позволения сказать, чуйствительностью. Она сострадает любым мукам, кроме естественных; вдобавок плакать она желает только в литерной ложе, а утирать слезы — только кружевным платочком; без этого слезы у нее тотчас высыхают.
И такая-то женщина сегодня слывет королевой!.. И вы мните, что такая королева не погубит королевство? Все ее верные подданные в конце концов уподобятся ей самой. Все разучатся смеяться, потому что она смеяться не умеет; все разучатся шутить, потому что она шуток не понимает; все перестанут вести себя непринужденно, потому что она постоянно принуждает и насилует свою натуру; все будут скучны, потому что скучна она…
Ах боже мой! да вот и мы сами уже стремимся закруглить фразу — точь-в-точь как она. Вот уже и на нас распространяется ее влияние. Какой ужас! […]
11 июля 1847 г.
Министр господин Гизо читает с трибуны конфиденциальные письма![639]
— Как управляют Францией. — Холодная телятина и золотой телец
[…] Трудно даже вообразить, как сильно влияют политические распри на парижское общество и в особенности на частную переписку. Люди больше не смеют писать друг другу.
Люди не смеют больше писать… Право, они не дерзают обмениваться даже коротенькими записками; каждый боится, сам того не подозревая, ввязаться в политику. С тех пор как государственные мужи взяли за правило декламировать конфиденциальные письма с парламентской трибуны и сопровождать прочитанное комментариями, полностью искажающими его смысл, никто не чувствует себя в безопасности, даже сочиняя частное послание. Не успеет рука вывести: «Будьте готовы к восьми вечера, мы за вами заедем», как страшная мысль пронзает ум. Какая неосторожность! Конечно, речь всего лишь о поездке в театр, но ведь недоброжелатели могут решить, что готовится заговор!.. Письмо порвано; начнем сызнова: «Нынче вечером я на вас рассчитываю…» Женщина пишет мужчине: «Нынче вечером я на вас рассчитываю!» — да ведь это форменное безумие! Ведь это тоже может быть перетолковано в самом плохом смысле; предубежденный читатель разглядит за этими простенькими словами бездны непристойности… И вот уже новое письмо тоже порвано… Так мы пытаемся предугадать все возможные толкования и битый час исправляем и вымарываем, рвем и сжигаем все эти опаснейшие записки, начатые по недомыслию. Трудно выбросить из головы, что эти проклятые письма в любой момент могут стать известны членам обеих палат; вот и приходится, сочиняя их, заботиться не о том, чтобы быть галантным, шутливым, остроумным, убедительным, красноречивым, пленительным; теперь, набрасывая короткую утреннюю записку, приходится заботиться лишь об одном — о том, чтобы потрафить парламенту.
Те, кто живет неподалеку от особняка на бульваре Капуцинок[640], встревожены больше других и берутся за перо с особым трепетом; они утверждают, будто секретные агенты господина министра иностранных дел похищают любовные письма, которыми обмениваются жители квартала; стоит какому-нибудь ответу запоздать, в ход идут самые страшные предположения; соседи и соседки министра, опасаясь за раскрытие самых заветных своих тайн, ожесточились и приняли решение отомстить при первом удобном случае. Что скажете вы, господин министр, если кто-нибудь похитит и предаст гласности одну из тех утренних записок, посредством которых любезничаете вы?.. О, тогда обнаружится множество интереснейших вещей, разъяснится не один политический вопрос, ведь ваши очаровательные приятельницы против вашей воли нередко обсуждают с вами эти политические вопросы и, если верить слухам, ждут от вас не столько любви, сколько сведений[641]. Но это же… чудовищно… Да, прежде это казалось чудовищным, но сегодня все переменилось!.. О, что делает власть с мелкими честолюбцами! Совершить некрасивый поступок ради того, чтобы прозябать в министерском кресле, и тем заклеймить себя навеки! И этот человек именует себя историком!
Когда в свете не говорят о скорой революции[642], говорят о свадьбах и банкетах. В элегантном мире люди женятся, в мире политическом — пируют. Вчера, в пятницу, состоялся банкет во славу реформы[643]; имена неявившихся произносятся с отвращением. За этим банкетом последуют другие: вчера был дан обед в пользу избирательной реформы, вскоре будет дан обед в пользу свободы торговли; не пройдет и полугода, как наши политические мужи закусят всеми острыми вопросами. Странный способ ускорить созревание идей! Как говорит Альфонс Карр, если идея вызревает слишком медленно, тогда люди собираются и едят в ее честь холодную телятину. Холодная телятина — основное блюдо современной политики; народ, умирающий с голоду, насыщается от одного лишь сознания, что его преданные друзья отведали ради его процветания холодной телятины.
Один наш молодой друг не без оснований утверждает, что нынешние французы поклоняются лишь двум божествам: золотому тельцу и холодной телятине. Золотой телец — это богатство; холодная телятина — это популярность; те, кто разоряют страну, говорит наш молодой мыслитель, приносят жертвы золотому тельцу; те, кто льстят народу, приносят жертвы холодной телятине; те, кто пишет скверные романы, приносят жертвы золотому тельцу; те, кто пишет романы социальные, приносят жертвы холодной телятине. Находятся, впрочем, и такие ловкачи, которые ухитряются молиться обоим идолам одновременно. […]
1848
13 мая 1848 г.[644]
Вид Парижа. — Вынужденный отдых. — Пятьдесят тысяч Титиров под сенью бука. — Последний виконт
[…] Да, республика могла быть прекрасной… могла — когда бы не республиканцы.
А покамест Париж печален. Кто не был в городе три месяца, сегодня его бы не узнал. Самые богатые кварталы приводят на память Гоморру — проклятый город, жителей которого тайно предупредили о грядущем истреблении[645].
Прекрасные квартиры в больших особняках пусты; владельцы их перебрались на антресоли или на третий этаж, в укромные комнатки, более соответствующие нынешним нравам. Лучше чувствовать себя скромным гражданином в уютной маленькой квартирке, чем важным барином в жилище роскошном, но неопрятном. Никто не устраивает приемов; все живут отшельниками. Многие продали свое серебро Монетному двору, чтобы оплатить зимние долги; теперь, в ожидании перемены к лучшему, они пользуются посудой из неизвестного металла, состав которого по оригинальности оставил далеко позади огненной памяти коринфский сплав[646]!
В некоторых салонах женщины вдруг являются в роскошных туалетах; но как безрадостно это зрелище! Дамы носят платья из тяжелых зимних материй, потому что им не на что купить легкие весенние ткани. За ослепительной роскошью скрывается нищета.
На Елисейских Полях кое-где вдруг показываются, как прежде, элегантные всадники, но вид у них не торжествующий, а скучный, как у делового человека перед решающим свиданием; гарцуя на ретивых скакунах, они смотрят кругом серьезно и уныло, и в глазах у них написано: этого коня мне нужно продать, я езжу на нем не для удовольствия, а для привлечения покупателей.
Блестящих экипажей нет и в помине. Все, что движется по улицам, имеет вид экипажей наемных. Иллюзия полная. Кучера и лакеи одеты донельзя вольно: на них рединготы с шалевым воротником, цветастые жилеты, пасторальные галстуки. Прислугу не отличить от господ. Можно подумать, что целое семейство отправляется за город. Дядюшка сидит на козлах, любезный юный кузен, лишь только экипаж остановится, помогает родственницам выйти. Хорошие манеры сделались почти опасны; старым слугам отказывают от места по той причине, что они держатся чересчур достойно, и нанимают за полцены прислугу из деревни; результат: те, кто служили в богатых и знатных домах, выброшены на улицу. Объявив, что хорошие манеры — преступление, вы их разоряете; умение себя вести, знание света были их капиталом; вы все это отменили — но что предложили взамен? Многоумные экономисты, до тех пор пока вы не заведете реальных ценностей, которых хватит на всех, не разрушайте ценности искусственные; утешительные вымыслы рождает не одна поэзия.
Титулы, которые вы упразднили[647], были ценностью искусственной; и тем не менее титул заменял целое состояние; если молодой человек был беден, но носил титул маркиза, он мог жениться на богатой девице, желавшей сделаться маркизой; вы у него этот шанс отняли. Неужели вам нет дела до всех этих честолюбивых мечтаний, которые вы так безжалостно разрушили? А как быть с теми несчастными женщинами, которые вышли замуж за недоумков ради того, чтобы стать графинями? Их судьба вас не волнует? Между тем она достойна сожаления: жены перестали быть графинями, но мужья-то остались недоумками!.. Этот титул не властна отменить даже революция.
В солнечные дни Париж обретает праздничный вид, который способен ввести в заблуждение иностранцев. На бульварах полно народу; по утрам целые толпы прогуливаются там с прелестным спокойствием, точь-в-точь как блаженные тени, у которых нет иного дела, кроме как вечно бродить по загробному Элизиуму. Но как страшен этот вынужденный покой! ведь это не отдых трудящегося, а праздность нищего. Фабрикант прогуливается, потому что фабрика его ничего не производит! Торговец прогуливается, потому что ему нечем торговать! Рабочий прогуливается, потому что он не работает! Эти трое прогуливаются порознь, а потом встречаются и после встречи продолжают прогулку с видом еще более печальным, чем прежде. Лавки закрываются в восемь вечера. Стоит ли тратить масло и газ на освещение товаров, которые никто не покупает? Торговцы закрывают лавки и опять-таки отправляются на прогулку; идет гулять и сторож, охранявший лавку в течение дня.
Нынче прогулка — единственное занятие парижан. Две недели назад пятьдесят тысяч работников и работниц отправились прогуляться в Булонский лес и растянулись там в тени дерев, точь-в-точь как Вергилиевы пастушки… Вообразите только это зрелище: пятьдесят тысяч Титиров, предающихся праздным грезам под сенью бука!
О Melibcee, Ledru hœc otia fecit[648]. […]О новых модах мы говорить не станем; мы не смеем соперничать с Временным правительством. Последние два месяца нарядами занимается только оно. Оно ввело вышитые воротники для лицеистов, остроконечные шляпы для парижских полицейских, красную кайму для жандармов, круглые помпоны для национальных гвардейцев, белые жилеты с грозными рогами для представителей народа и для самого себя; оно изобрело мундиры и наряды для всех разрядов общества; отдадим ему справедливость: за исключением бедняков, оно одело всех поголовно. Следует заметить, что прославленные торговые дома прониклись республиканским духом: от их щедрот всякий может прикупить элегантности по бросовым ценам. Бодран предлагает роскошные капоты по двадцать франков за штуку; на улице Шоссе-д’Антен прелестное платье обойдется вам в восемь франков, за шерстяную шаль просят всего три франка. Говорят, что портнихи собираются основать ассоциацию… Впрочем, подробнее мы расскажем вам об этом в следующем фельетоне.
Мы сказали «фельетон»!.. Неужели это правда! неужели мы снова примемся сочинять фельетоны — ведь мы так радовались возможности помолчать, мы столько раз давали себе клятву больше ничего никогда не писать! Но когда говорить становится опасно, молчать невозможно; в дни борьбы лень оборачивается трусостью; она теряет всякую прелесть и, более того, всякий смысл, ибо ей начинают сопутствовать угрызения совести, а угрызения совести для ленивого ума — та же работа. Итак, соберемся с силами и продолжим сражение; мы слабы, но будем грозным соперником; мы не укрыты броней, но не скрываемся под маской; наша хилая рука не удержит меча, но против лицемеров у нас припасено оружие страшнейшее — яркий факел.
Лишь одна вещь нас тревожит: какую подпись нам теперь ставить под фельетонами? — Виконт? Но ведь титулы отменили; с другой стороны, что останется от нас, если мы перестанем быть виконтом? Выдуманные создания существуют лишь благодаря своим вымышленным свойствам; наделите их реальными правами — и они рассеются, как дым… Фея Моргана может быть только феей Морганой, и никем иным; превратив ее в гражданку Моргану, вы подпишете ей смертный приговор. Точно так же обстоит дело с виконтом де Лоне; сделав этого господина гражданином Делоне, вы его уничтожите. — Как же быть?.. Выбор очень нелегок… Впрочем, попробуем рассуждать логически: люди, которые упразднили титулы, воевали с титулами по-настоящему ценными, с теми, за которыми стояли славные свершения монархии, бессмертные сражения Империи; до прочих титулов им дела не было; титулы выдуманные, не имеющие ровно никакой ценности и не составляющие предмета гордости, завистникам неинтересны. Посему, не боясь их прогневить, мы будем подписываться так же, как и прежде: ваш покорный слуга ВИКОНТ ДЕ ЛОНЕ.
3 сентября 1848 г.[649]
Два милейших припева: расстрелять, расстрелять; гильотинировать, гильотинировать. — Любовь к собственности.
— Последняя религия французов. — Нынешнее божество — красное дерево. — Чудовищные радости буржуа.
— И этому-то вы завидуете? — Неведомая миру поэзия. — Литература на военном положении
Одиночество, вечное одиночество!.. Нам на роду написано не принадлежать ни к одной из партий.
Нынче власть над Францией оспаривают две партии, но нас не привлекает ни та ни другая; партии эти вот какие:
Партия тех, кто хочет все сохранить,
Партия тех, кто хочет все забрать,
Партия эгоистов,
Партия завистников.
Одни начертали на своих знаменах прелестное словцо, высказывающее их заветную мысль:
Расстрелять, расстрелять!
Система других выражается в другом, не менее прелестном словце, выражающем всю их систему:
Гильотинировать, гильотинировать![650]
Неужели кто-то полагает, будто мы, поэты, поклонники героев, проповедники великодушия, способны поддержать эту людоедскую политику!.. что мы великодушно протянем руку этим кровопийцам!.. что мы возьмемся за золотую лиру ради того, чтобы вторить этим милым песням; что мы согласимся делать выбор между этими двумя любовными признаниями:
Расстрелять, расстрелять!
Гильотинировать, гильотинировать!
Ни за что на свете!..
Ступайте, сыны Каина, делить меж собой окровавленную землю, но не требуйте, чтобы сыны Авеля участвовали в ваших отвратительных сражениях; позвольте нам воскурить на вершине святой горы чистый ладан, позвольте нам возжечь там священный огонь, который вы в ненависти своей готовы затоптать, а если наши жалобы вас утомили, если наши чересчур проницательные взгляды мешают вам в ваших бесконечных распрях, обрушьте на нас братоубийственное оружие, мы примем смерть без страха, наш выбор сделан, мы готовы быть жертвами, но не сообщниками. Бейте без колебаний, мы умрем, благословляя вас! Прекрасно умереть потому, что ты прогневил злодеев; прекрасно умереть потому, что ты угоден Господу!
Но как же все это печально! В прославленной Франции, в отечестве самоотвержения, в колыбели рыцарства проливается кровь… кровь течет ручьями… и во имя чего?
Чтобы защитить родную землю?
Оскверненную религию?
Попранную свободу?
Задушенную истину?
Нет! Кровь льется не ради этих заветных идей, дорогих сердцу поэта и философа, мыслителя и героя… Кровь льется ради другой идеи, милой сердцу нотариуса, прокурора и понятого; кровь в нашей доблестной Франции льется из-за собственности, которую одни хотят присвоить, а другие — защитить!
Позор нашему веку! Позор нашему народу! позор стране, где кровь людская проливается по такому поводу!
Собственность! Защита собственности!.. а от кого, собственно, требуется ее защищать? — От воров? От утопистов и эгалитаристов, от людей, которые сами не владеют никакой собственностью и по этой причине считают необходимым лишить собственности все остальное человечество? Эти люди, именуемые радикалами, просто-напросто завистники, которые позволяют людям иметь только корни, и не более того. Никаких стволов, никаких ветвей, никакой листвы, никаких цветов и никаких плодов; корней — сколько угодно, но лишь при условии, что они не дадут ростков. Сходным образом эти люди позволяют вам что-либо приобретать лишь при условии, что во владении у вас все равно не останется ровно ничего. Они радуются вашему разорению, они идут на смерть ради того, чтобы собственники лишились всего, что имели… а собственники, со своей стороны, идут на смерть ради того, чтобы защитить то, чем они владеют, или думают, что владеют.
Какие трогательные соперники! Какой возвышенный турнир! Как жалки отважные рыцари давних времен, все эти Ланселоты Озерные, Амадисы Галльские, Эспландьё, Тристаны, Галаоры[651]! Они сражались за любовь прекрасной дамы!.. что за глупые варвары!.. Нынче у нас другие дамы — дом о пяти этажах, ферма в краю Бос, коровий лужок, мельница! В добрый час! Да здравствует цивилизация!
Скажем больше: порой все обстоит еще смешнее, ибо эта самая «собственность», о которой нам прожужжали все уши, — не что иное, как обольстительный обман. Собственность — одно из самых химерических созданий общественной фантазии. Вернее сказать, собственность-то у нас есть, но нету собственника. Чистокровный собственник в нашей стране — почти такая же редкая птица, как и чистокровный республиканец. Большинство собственников похожи на тех разорившихся вельмож, которые продолжают гордо носить имя земли, давно ими проданной. Полем чаще всего пользуется не тот, кому оно принадлежит. Первое, что делает человек, только что купивший дом, — закладывает его, чтобы оплатить покупку; право, такого человека трудно назвать собственником. Итак, только люди, охваченные безумной гордыней, могут полагать, будто бой идет за собственность; думать так — фатовство нового рода, ибо в реальности собственность, как правило, принадлежит не одному собственнику, а целой группе кредиторов; так вот, скажите на милость, разве группа кредиторов — это в каком-то смысле не предмет мечтаний коммунистов? Будь мы ученым экономистом или ловким статистиком, мы бы, возможно, сумели вам доказать, что тот коммунизм, которого вы так боитесь, уже давно существует во Франции в самых разных формах и самых разных сферах, а вы просто-напросто не желаете замечать его тайного присутствия. Конечно, обладай мы логикой господина Прудона и красноречием господина Тьера[652], мы бы уже давно всех убедили. — Каким же образом? — Во-первых, объяснив буржуа — раз уж всех так занимает судьба буржуа, — объяснив этому Дон Кихоту собственности, что он не настоящий собственник, а во-вторых, объяснив народу, который так слепо и так несправедливо ему завидует, что этот незадачливый буржуа, навлекающий на себя всеобщую ненависть из-за своего мнимого блаженства, есть несчастнейшее существо в мире.
За что было нанесено столько смертельных ударов, из-за какого вздора пало столько благородных жертв? Когда бы мы дерзнули обнажить всю тщету и всю смехотворность этой борьбы, мы без труда обезоружили бы заклятых врагов и заставили каждого из противников посмеяться над самим собой! Прекрасный способ исправить скупцов — доказать им, что драгоценнейшее из их сокровищ ровным счетом ничего не стоит. Не менее прекрасный способ исправить завистников — отбить у них почтение к предмету их зависти. Чем же, скажи на милость, о народ, — чем таким бесценным владеет горделивый парижский буржуа, которого ты преследуешь так неумолимо? У него нет ни замков, ни особняков, ни лесов, ни лугов; он нанимает тесное и унылое жилье в так называемом доходном доме. Жизнь в этом оштукатуренном улье не дарит ему ни одной из тех радостей, какие пристали человеку зажиточному; он не видит ни простора, ни света, не имеет ни воздуха, ни покоя, не наслаждается ни уединением, ни тишиной. Он живет бок о бок с людьми, которых не знает; ему известны только их изъяны; он не может сказать, честны ли его соседи, милосердны ли, добры ли; зато он может поклясться, что они беспутны и грубы, что они громко хлопают дверями, возвращаются домой очень поздно и едят странные блюда, тошнотворными ароматами которых отравлены все коридоры. Но ведь это неудобное жилье, возразишь ты, богато обставлено; буржуа не владеет домом, но зато он владеет движимостью. — Вот-вот, наконец-то слово найдено: настоящее сокровище парижского буржуа — это движимость, именно за него он сражается, не жалея жизни. И вот ради этого-то чудного сокровища ты, народ, собираешься биться с буржуа! Разве не правы мы были, когда утверждали, что битва эта — разом и печальная, и смешная? Умереть за движимость… и какую движимость!.. Отвратительное нагромождение бесформенных предметов, воплощение дурного вкуса всех времен; вещи, не представляющие никакой ценности, не соответствующие никакому стилю, не обличающие никакого мастерства, некрасивые и неудобные, вещи, приводящие в ужас художников и их учеников, но греющие душу буржуа, который ими восхищается, который раздобыл их ценой трудов и лишений и будет защищать их до последней капли крови. Он охотнее расстанется с жизнью, чем с чудовищными алебастровыми каминными часами, равно как и с двумя не менее чудовищными алебастровыми подсвечниками, подпирающими часы с обеих сторон; буржуа именует это уродство каминным гарнитуром; одному Богу известно, скольких усилий ему стоило обзавестись этой жуткой роскошью!.. сколько былых огорчений скрывается за этим нагромождением алебастра и сколько грядущих мучений оно предвещает: ибо это бесценное сокровище вызывает зависть родственников и соседей. Сколько оскорбительных подозрений, сколько язвительных реплик навлекает на буржуа и его жену обладание этим шедевром! «Должно быть, это подарок от друга дома; дар покровителя или плата за какие-то темные дела» — все эти едкие речи и злобные взгляды, все эти преувеличенные восторги, полные яду, означают лишь одно: «Честным путем на такое алебастровое чудо не заработаешь!»
О народ! если бы ты знал, как уродливо то, чему ты завидуешь, ты простил бы парижскому буржуа его счастье… Неужели ты хочешь убить его за отвратительный комод красного дерева, который сам способен убить кого угодно, ибо его мятежный, непокорный ящик выдвигается только ради того, чтобы рухнуть на ноги владельцу? Неужели ты хочешь убить его за чудовищный, безобразный зеркальный шкаф, за чудовищный балдахин красного дерева, вечно угрожающий свалиться хозяину на голову; за чудовищный столик из того же красного дерева, хромающий на все ножки сразу; за чудовищный погребец для ликеров — естественно, из красного дерева, за чудовищный фарфор невозможного цвета, заставляющий любого человека с хорошим вкусом скрипеть глазами; за скверные литографии на стенах, — неужели за все эти вещи, столь заурядные, столь дурно выбранные, столь уродливые, ты хочешь его убить?
Одумайся, бедный парижский рабочий, поверь нам, в гордой простоте твоей мансарды куда больше величия и поэзии, чем в мнимом благополучии буржуа; ты бросил родную деревню ради скверной парижской роскоши, но вспомни, неблагодарный дезертир, бедную, но достойную жизнь в хижине твоей матери, вспомни большую дубовую кровать, занавешенную зеленой саржей; вспомни темный шкаф из того же резного дуба, куда матушка вешала твое скромное воскресное платье; вспомни простой и элегантный ларь, куда убирали синие тарелки — старые фаянсовые тарелки, сделанные с таким строгим вкусом; вспомни старое кресло, в котором по вечерам отдыхал от тяжких трудов твой отец, вспомни скамеечку, на которой сидела твоя младшая сестра, и старые стенные часы, чей верный маятник раскачивался так размеренно, и прекрасное ореховое дерево, дарившее вам свою тень и свои плоды, и виноградную лозу, обвивавшую ваше окно, и легкий ветерок, и чистый воздух, который вы могли вдыхать полной грудью, и бескрайний горизонт, который простирался перед вашим взором, и глубокую ночную тишину, охранявшую ваш сон, и птичьи концерты, служившие вам будильником и радостно возвещавшие начало трудового дня; вспомни все эти вещи, исполненные изящества и достоинства, и скажи, разве не стоит эта утварь, этот покой, эти деревья, этот свежий воздух, эта тишина и эти концерты, — разве не стоит все это в сотню раз дороже, чем тесное жилище на узкой улице, безликая мебель буржуазного салона, спертый городской воздух, вопли торговцев газетами или странные фанфары, какими оглушают горожан наши новоявленные дилетанты, приставленные караулить публичные фонтаны, — все те концерты, которые безжалостно пробуждают от сна нервных обитателей современного Вавилона?
Как видишь, парижский буржуа вкушает все неудобства столичной жизни, но не наслаждается ни одной из ее царственных радостей; он испытывает на себе все обиды и притеснения, какими чревата жизнь в обществе, но не ведает изысканных прелестей, какими богата жизнь в свете; он усвоил этикет — эту скучную условность, но не усвоил элегантности — этой поэзии бытия, которая позволяет сносить и даже любить все издержки цивилизации. Труд буржуа уныл и безжизнен; ты, по крайней мере, можешь работать и петь, работать и мечтать; а откуда ему взять время на мечты или на песни? ведь он вечно занят подсчетами. Меж тем цифры ревнивы, они гонят любую мысль, грозящую стать их соперницей. Радости буржуа еще более унылы, нежели его труды: прогулки по пыльным улицам, скверные водевили с обветшалыми шутками, скромные балы с большими претензиями, жизнь без богатства и без величия, без веселости и без свободы. Нет-нет, не парижскому буржуа должен ты завидовать, великодушный народ; завидуй другим: знатному вельможе, великому художнику, прославленному поэту, наконец, миллионеру — всем этим людям возвышенного и многоопытного ума, которые, с избытком вкусив фальшивых радостей света, воротились к честным радостям обычной жизни. Мы откроем тебе их секрет, и ты тотчас поймешь, что их радости легко могут сделаться твоими.
Не подумай, впрочем, что, призывая тебя завидовать богачам, мы советуем тебе отправиться грабить их особняки!.. Увы, сделай ты это, ты получил бы страшный урок: попав внутрь, ты покраснел бы от стыда. С тех пор как слово «грабеж» вошло в политический лексикон, роскошные особняки опустели… Тебя поджидали, к твоему приходу подготовились: тебе остались одни голые стены… Серебро отдано в переплавку; брильянты отправлены в Англию, картины — в Голландию, ценные вазы и другие произведения искусства — в Бельгию. Ступай же в эти дворцы, некогда великолепные, а ныне из-за твоих угроз сделавшиеся голыми и пустынными; ступай, ищи, ищи хорошенько, ты не найдешь ничего — ничего, кроме бесчестия!
Радости, какие ты можешь похитить у богачей, таятся не в особняках, а в мыслях, в сердцах, в наслаждениях умственных. Повторяем: тот, кто пресытился всеми изысками цивилизации, алчет простоты и правды и находит их в природе; знаешь ли, что нравится тому, кто нанимал ложи во всех театрах, кто видел Неаполитанский залив в Опере, Индийский океан в театре «Амбигю», лиссабонский порт в театре «Гэте», марсельскую гавань в Историческом театре[653], а венецианский Большой канал — в Итальянской опере, — знаешь ли, что нравится такому человеку, что его забавляет? Растянуться на настоящей скале в Сент-Адресе или в Этрета и следить глазами за настоящим кораблем с настоящими матросами, который плывет по настоящим волнам.
Знаешь ли, что нравится такому человеку, который слышал всех виртуозов музыкального мира, Рубини и Марио, Малибран, Гризи и даже Даморо, — знаешь ли, что ему нравится, что его забавляет? Слушать песню пастуха, которой вторят колокольчики стада.
А хочешь ли ты знать, что нравится тому, кто был миллионером, тому, кто ослеплял Париж своим богатством, кто владел самыми прекрасными лошадьми и самыми элегантными особняками; тому, кто соблазнил десяток герцогинь, дюжину маркиз и даже парочку гордых леди, — хочешь ли ты знать, что забавляет такого человека?.. Выйти из дому с зонтиком под мышкой и отправиться пешком повидать веселую гризетку, которая живет в каморке под самой крышей и смеясь морочит ухажера.
Возьмем, наконец, того, кто слыл великим, кто прославился на весь мир, кому курили фимиам, кого пьянили рукоплескания толпы, — хочешь ли ты знать, что нравится ему, что забавляет его?.. Быть любимым так, как бывают любимы люди безвестные; забыть о своей славе и глупейшим образом радоваться тому, как бьется сердце при звуках единственного в мире имени.
Таковы радости знатных господ, таковы радости великих умов. Добивайся же их, о народ, и ты перестанешь завидовать тягостным и фальшивым наслаждениям мелких парижских торговцев. Ты горюешь о том, что не имеешь алебастровых светильников, — любуйся же прекрасным звездным небом; ты горюешь о том, что не имеешь гравюр господ Морена и Детуша, — любуйся же Рафаэлевым «Святым семейством» и Венерой Милосской; они ведь принадлежат тебе[654]; как только ты научишься восхищаться шедеврами, ты перестанешь завидовать ничтожеству… тогда буржуа, твой невинный враг, мирный любитель красного дерева, сможет без опасений наслаждаться своей драгоценной движимостью, тогда великий вопрос собственности будет разрешен!.. Ибо, как мы вам только что доказали, в Париже, где эта битва уже началась, она сводится к мелкой семейственной ссоре, к спору из-за красного дерева. Стоит ли красное дерево стольких громких слов и стольких потоков крови? Ведь этот спор можно уладить с цифрами в руках. Предоставьте решение этой проблемы нашим экономистам и законникам; не позволяйте больше людям храбрым, умным, дерзким тратить свой талант, кровь и отвагу из-за гадкого слова «собственность». Что же касается до нас лично, мы за собственность сражаться отказываемся; то немногое, чем мы владеем, мы заработали своим трудом; если у нас все отнимут, что ж? Либо мы погибнем, и в этом случае нам не потребуется ровно ничего; либо мы выживем и вновь заработаем все необходимое[655].
Кстати, нас уверяют, что господин………………………[656]
Что это — недосмотр? Ирония? Тайна сия осталась неразгаданной.
Другая странность. В тот день, когда председатель Республиканского собрания[657] праздновал свое избрание, его супруга, госпожа Марраст, явилась с напудренными волосами, словно……………………… Говорят даже, что……………………… на берегу пруда на манер цапель два лакея с галунами!
Нравы не слишком сельские, но зато чисто республиканские. Кому, кроме республиканца, может прийти в голову такая идея — расцветить луга ливрейными лакеями! Конечно, герцог де Люин до этого бы не додумался; все, на что он способен, это раздавать сотни тысяч франков бедным; впрочем, он ведь и республиканцем сделался не вчера[658].
Генерал Кавеньяк тоже не обошелся без анахронизма. В день своего большого приема………………………
Генерал Кавеньяк нанял на Вареннской улице особняк, который прежде нанимал генерал Торн[659], и выступает продолжателем диковинных традиций американца. Нынче право въезжать во двор предоставлено исключительно экипажам дипломатического корпуса. А прежде по приказу мирного американского генерала все экипажи получали это право только после десяти часов вечера, и по Вареннской улице тянулась длинная вереница карет с гербами, в которых герцоги и герцогини, князья и княгини терпеливо ожидали благословенного часа, когда им будет позволено засвидетельствовать свое почтение строптивому янки.
В свое время мы подняли голос против подобной снисходительности[660]; нынче мы остаемся при том же мнении; республика никого не сделала благороднее. Все наши великие политические мужи, бывшие министры Луи-Филиппа, философы, серьезные люди, смиренно ожидают той минуты, когда смогут предстать пред очами главы государства, а он молча, величаво стоит у камина и лишь время от времени, когда привратник выкрикивает имя, овеянное славой, снисходительно кивает. Принцы крови, император, даже сам генерал Торн не могли бы держаться с большим почтением и смирением, нежели гости генерала Кавеньяка. Право, нельзя не восхититься великодушием генерала: он не следует примеру свирепого Гесслера, который некогда заставлял швейцарцев поклоняться своей шляпе, и не приказывает нам поклоняться его кепи или мундиру, вздернутому на верхушку шеста, а ведь поступи он так, среди французов не нашлось бы Вильгельма Телля, способного метким выстрелом сбить предмет поклонения.
Удивительная страна, где люди одновременно так умны и так глупы, так отважны и так трусливы!.. Здесь боятся всего, кроме пуль. Здесь у всякого достанет храбрости сложить голову, но ни у кого не хватает мужества держать ее высоко.
В ближайшие дни нас ожидают парламентские и политические грозы, причем говорят, что на сей раз источником молний послужит не кто иной, как громоотвод[661]. Какое ужасное сравнение! никогда мы не простим его нашему прославленному другу; смеет ли орел низводить себя до уровня громоотвода? Смеет ли он смущать покой Олимпа и похищать огненные стрелы, доверенные ему Юпитером? Зачем прибегать к хитрости, когда на твоей стороне сила, зачем добывать обманом то, что принадлежит тебе по праву? Кто всемогущ, тому пристала честность; ни в коем случае не следует мошенничать в игре, особенно если играешь с огнем. Но увы! действуя на политическом поприще, господин де Ламартин страдает тем же изъяном, который уже погубил господина Гизо и который погубит его самого, если в судьбе Франции не произойдут благотворные перемены. Господин де Ламартин свято верит во всемогущество ловкости. Друзья столько раз твердили ему, что он поэт, только поэт, что он в конце концов разуверился в своем вдохновении, а ведь именно оно составляет его истинную силу. Он отвергает вдохновенную мысль ради искусно продуманной комбинации — и проигрывает; он изощряется в выдумках; он уподобляется дневной птице, которая стремится стать ночной: он воображает, будто видеть в потемках куда полезнее, нежели отважно встречать свет солнечных лучей. Но если обстоятельства переменятся и серьезная опасность заставит его довериться собственной натуре, он прекратит притворяться государственным деятелем и вновь станет тем, кем его создала природа, — гениальным творцом; если на небе засияет заря, орел вновь обретет свое славное чутье. Нынче небо еще затянуто густыми черными тучами, которые то и дело скрывают от наших взглядов прихотливый рисунок орлиного полета… но терпение! Довольно одного взмаха крыла, чтобы орел снова взмыл в царство чистой лазури.
Мы говорим об этом с грустью; нам ничего не остается, как трепетать и тревожиться за участь нашего друга и учителя; мы больше не можем полностью доверять его политическим решениям, во всяком случае, тем политическим решениям, какие он принимает нынче, но мы по-прежнему доверяем его гению. Именно в вечном восхищении этим гением мы и черпаем надежду. У людей, отмеченных Богом, таланты суть не что иное, как обещания. Господь не для того щедро одарил одного из смертных, чтобы он употребил эти дары во зло или оставил без плода; Господь не для того так любовно зажег сей факел, чтобы он, едва вспыхнув, угас до срока; Господь не для того увенчал одно и то же чело тройной короной поэта, оратора и историка, чтобы внезапно лишить этого человека разума; Господь не для того позволил гению свыкнуться со всеми разновидностями власти, чтобы новые полномочия изумили и опьянили его, как нового Мазаньелло[662]!.. Несчастный рыбак мог сойти с ума оттого, что толпа так стремительно вознесла его на престол; житель долины, внезапно очутившийся на высокой горной вершине, страдает от головокружения; но поэт… Для поэта естественно пребывать в вышине, он сызмальства проникает взором в страшные пропасти: он привык созерцать мир у своих ног, мерять взглядом простор, искать ответа у бездны; с какой же стати у него закружится голова, если он встанет у кормила власти? Ведь для него путь к престолу — это не подъем, а спуск.
25 числа нынешнего месяца ожидается… Новое представление? — Да, и еще какое! — Большое празднество в Зимнем саду[663]? — Куда там, до празднеств ли теперь! Ожидается установление красной республики[664], иными словами………………………
Угроза красной республики, разумеется, заставляет всех бежать из Парижа, и это очень досадно: будь нынче в городе хотя бы подобие светского общества, оно радовало бы очарованием и живостью. Стоит в каком-нибудь салоне собраться хотя бы четверым завсегдатаям, как остроумие начинает бить ключом; беседа течет легко и непринужденно, мнения пребывают в гармоническом согласии, собеседники изъясняются с той свободой, которая напоминает о золотом веке парижской беседы; ни бурных споров, ни язвительных намеков, ни честолюбивых притязаний; все придерживаются одних и тех же взглядов, все критикуют, бранят, осуждают, проклинают нынешнее состояние дел с похвальным единодушием и пылом. Каждый вносит свой вклад в общее негодование; одного особенно возмутило то, другого больше всего оскорбило это. Один рассказывает смешной анекдот, другой делится скандальным открытием, кто-то знает некий случай, но не знает имен участников; ему немедленно их сообщают вместе с подробностями эпизода: каждый из братьев по злословию чистосердечно спешит помочь другому, обменяться с ним впечатлениями.
Правда, чтобы поговорить о дипломатии, приходится дожидаться, пока совсем юные отправятся спать; кое о чем в их присутствии рассказывать невозможно………………………
Хотите позабавиться? Едва ли не в каждой семье есть шалопай, который вот уже десять лет служит причиной волнений и огорчений всех родственников от мала до велика; так вот, осведомьтесь, как он поживает; вам ответят:………………………
У модных магазинов новая мода — банкротства; самые знаменитые, даже те, которые некогда зарабатывали за несколько дней целое состояние, вынуждены закрыться. У любителей элегантности мода другая — умирать от голода; больше того, теперь этим уже никого не удивишь. Наконец, в литературе мода на книгу господина д’Эстурмеля «Воспоминания о Франции и Италии»[665]; именно она слывет нынче верхом остроумия. А в политике мода………………………
Простите нам, а вернее сказать, простите им этот литературный плод военного положения[666]. По прошествии двух недель нам возвращают этот фельетон: он устарел, он изувечен, он лишился не только злободневности, но и смысла. Публикация его в таком виде, конечно, свидетельствует о нашей непритязательности, но, возможно, также и о язвительности, ибо ни одной из наших эпиграмм не сравниться с этими удивительными умолчаниями. Из нашего фельетона вычеркнули все сколько-нибудь остроумные фразы, все сколько-нибудь великодушные мысли… Неужели эта страна, где больше не дозволено иметь ни ума, ни отваги, — наша Франция?
Указатель имен[667]
Абд-эль-Кадер (1807–1883) — арабский эмир Алжира. 135.
Абдул-Меджид (1823–1861) — сын турецкого султана Махмуда II, ставший султаном 1 июля 1839 г., после смерти отца. 365.
Агессо (урожд. де Ламуаньон) Мари-Катрин, маркиза д’ (1759–1849) — хозяйка салона. 417.
Агу (урожд. де Флавиньи) Мари, графиня д’ (1805–1876) — писательница, мемуаристка. 8, 9, 12, 32.
Адан Адольф (1803–1856) — композитор. 144, 199, 408.
Аддисон Джозеф (1672–1719) — английский писатель. 19.
Алибо Луи (1810–1836) — анархист, пытавшийся убить короля Луи-Филиппа. 54, 247.
Анаис, мадемуазель (наст. имя и фам. Анаис-Полина Обер; 1802–1871) — актриса. 190.
Ангулемская Мария-Тереза, герцогиня (1778–1851) — жена герцога Ангулемского, дочь Людовика XVI и Марии-Антуанетты. 60, 131.
Ангулемский Луи-Антуан де Бурбон, герцог (1775–1844) — старший сын Карла X. 60.
Анжевиль Анриетта де Бомон д’ (1794–1871) — альпинистка. 272.
Анненков Павел Васильевич (1812 или 1813–1887) — русский литератор. 152.
Ансело Жак-Арсен-Франсуа-Поликарп (1794–1854) — писатель. 62, 418.
Ансело (урожд. Шардон) Виржини (1792–1875) — писательница. 49–51, 62, 418.
Антоний Марк (ок. 83–30 до н. э.) — римский полководец. 394–395.
Антье Бенжамен (1787–1870) — драматург. 199 (Робер Макер).
Аппоньи Антон, граф (1782–1852) — австрийский дипломат, посол Австрии в Париже в 1826–1848 гг. 78.
Аппоньи Рудольф, граф (1802–1853) — австрийский дипломат, кузен Антона Аппоньи, мемуарист. 253, 339, 362.
Араго Франсуа (1786–1853) — физик, астроном, политический деятель. 219.
Ариосто Лудовико (1474–1533) — итальянский писатель. 63.
Арленкур Виктор, виконт д’ (1789–1856) — писатель. 105.
Арналь Этьенн (1794–1872) — комический актер, выступавший в театрах «Варьете» и «Водевиль». 190.
Аффр Дени-Огюст (1793–1848) — архиепископ парижский с 1840 г. 311.
Ахмед-бей — правитель Константины в Алжире в 1830–1848 гг. 182.
Ахмед-Фетхи-паша — турецкий посол во Франции в 1830-е гг. 265.
Байёль Антуан, журналист, брат Жака-Шарля Байёля. 342–343.
Байёль Жак-Шарль (1762–1843) — политический деятель и журналист. 342–343.
Байрон Джордж Ноэл Гордон (1788–1824). 63, 79, 112, 113, 184, 186, 380, 408.
Балабин Виктор Петрович (1813–1864) — русский дипломат. 417.
Балиссон де Ружмон Мишель-Никола (1781–1840) — драматург. 49, 253.
Балланш Пьер-Симон (1776–1847) — философ. 416.
Бальзак Оноре де (1799–1850). 11, 12, 13, 15, 19, 34, 62–64, 122, 193, 228, 237, 265, 351, 402, 434.
Барбе д’Оревийи Жюль-Амедей (1808–1889) — писатель. 7, 22, 27, 28, 44, 260, 313, 402.
Барбес Арман (1809–1870) — революционер. 237, 264.
Барбье Огюст (1805–1882) — поэт. 131–132.
Баренн, госпожа — модистка. 443.
Баржон, госпожа — владелица цветочного магазина. 141.
Барро Одилон (1791–1873) — адвокат-либерал, вождь умеренных левых в палате депутатов. 112, 208, 339, 340.
Барт Феликс (1795–1863) — государственный деятель («министр юстиции»). 161.
Бастид Жюль (1800–1879) — журналист, политический деятель. 342.
Бауер (урожд. Кури де Шангран) Александрина-Софи, баронесса (1773–1860) — писательница. 188.
Бауер, барон (ум. 1810) — муж Александрины-Софи Бауер. 188.
Баур-Лормиан Пьер-Мари-Франсуа (1770–1854) — писатель. 194.
Беккер Николаус (1809–1845) — немецкий поэт. 383.
Беллини Винченцо (1801–1835) — итальянский композитор. 53, 181, 327.
Бельджойозо (урожд. Тривульцио) Кристина, княгиня (1808–1871), жена князя Бельджойозо, хозяйка салона. 418.
Бельджойозо Эмилио, князь (1800–1858) — итальянский певец-любитель. 91, 328.
Бенкендорф Александр Христофорович, граф (1781–1844) — русский государственный деятель, шеф Корпуса жандармов. 51.
Беньямин Вальтер (1892–1840) — немецкий писатель и мыслитель. 24, 25.
Берлез, аббат — садовод. 242.
Берлиоз Гектор (1803–1869). 43–44.
Бернадот Жан-Батист-Жюль (1763–1844) — маршал, с 1818 г. король Швеции и Норвегии под именем Карла XIV. 390.
Бернар Симон, барон (1779–1839) — генерал государственный деятель. 41, 106.
Бернарден де Сен-Пьер Жак-Анри (1737–1814) — писатель. 63–64.
Беррийская (урожд. Бурбон-Сицилийская) Мария-Каролина (1798–1879) — жена герцога Беррийского. 11, 59–60, 62, 254.
Беррийский Шарль-Фердинанд, герцог (1778–1820) — младший сын Карла X. 59, 108.
Бертелемо, кондитер. 444.
Бертен Луиза-Анжелика (1805–1877) — композитор и поэтесса, дочь Л.-Ф. Бертена. 43–44, 97 («Эсмеральда»).
Бертен Луи-Франсуа (Бертен-старший; 1766–1841) — главный редактор газеты «Журналь де Деба». 43, 351.
Бертен де Во Луи-Франсуа (1771–1842) — брат и сотрудник Л.-Ф. Бертена. 351.
Бертран Анри-Гасьен, граф (1773–1844) — наполеоновский генерал, в 1815 г. последовавший за императором на остров Святой Елены, а в 1840 г. руководивший возвращением его праха в Париж. 346.
Берту Самюэль-Анри (1805–1891) — журналист. 166.
Берье Пьер-Антуан (1790–1868) — адвокат, депутат-легитимист. 112, 208, 224, 340, 342, 351.
Бетюн Леони, княгиня де (1804–1858). 293.
Бланки Луи-Огюст (1805–1881) — революционер. 237.
Бо…, графиня де — Бофор (урожд. Шатобриан) Мари-Антуанетта-Клементина, графиня де, племянница Франсуа-Рене де Шатобриана. 431.
Бовале Пьер-Франсуа (1801–1873) — актер. 191.
Богарне Гортензия де (1783–1837) — падчерица Наполеона I, жена Луи Бонапарта, в 1806–1810 гг. короля Голландии; с 1814 г. носила титул герцогини де Сен-Лё. 55–56, 67, 425.
Бодлер Шарль (1821–1867). 402.
Бодран, мадемуазель, модистка-шляпница. 109, 183, 443, 453.
Бомарше Пьер-Огюстен Карон де (1732–1799). 325.
Бонапарт Жозеф (1768–1844) — старший брат Наполеона I. 56.
Бонапарт Луи (1778–1846) — брат Наполеона I, отец Наполеона III. 55.
Бонапарт Луи-Наполеон, принц — см. Наполеон III.
Бонапарт Матильда (1820–1904) — кузина Наполеона III. 55.
Боплан Амедей (1790–1853) — композитор, сочинитель романсов (в том числе и на слова самой Дельфины). 250–251.
Бопре Б. де, литератор. 429–430.
Бордоский Генрих де Бурбон, граф де Шамбор, герцог (1820–1883) — сын герцога Беррийского, внук Карла X. 46, 56, 59–60, 133, 199.
Боссюэ Жак-Бенинь (1627–1704) — теолог и проповедник. 135.
Браммел Джордж Брайан (1778–1840) — английский денди, законодатель мод. 256.
Бриффо Эжен (1799–1854) — журналист. 20.
Брой (урожд. де Сталь) Альбертина, герцогиня де (1797–1838) — дочь Ж. де Сталь, хозяйка салона. 415.
Бруннов Филипп Иванович, барон, затем граф (1797–1875) — русский дипломат. 339.
Бруссе Франсуа (1772–1838) — врач. 289.
Брут Марк Юний (85–42 до н. э.) — глава заговора против Цезаря. 395.
Брюнетьер (урожд. Кабаррюс) Тереза (род. 1802) — дочь Терезы Талльен, любовница Эмиля де Жирардена. 13.
Буавен-младший, перчаточник. 104.
Буавен-старший, перчаточник. 104.
Буане, трикотажник. 342–343.
Буань (урожд. д’Осмон) Адель, графиня де (1781–1866) — хозяйка салона, мемуаристка. 416.
Буланже Луи (1806–1867) — художник. 189.
Буль Андре-Шарль (1642–1732) — краснодеревщик. 138, 186, 331.
Бурбон Луи-Жозеф, принц де Конде, герцог де (1756–1830) — отец герцога Энгиенского, владелец замка Шантийи, последний представитель рода Конде. 98, 372.
Бюргер Готфрид Август (1747–1794) — немецкий поэт. 79.
Бюффон Жорж-Луи Леклерк, граф де (1707–1788) — естествоиспытатель, литератор. 114.
Валевский Александр, граф (1810–1868) — литератор и политический деятель, побочный сын Наполеона I. 281, 286, 343.
Валентино Анри-Жюстен-Жозеф (1785–1865) — скрипач и дирижер. 79, 198.
Вальмор — см. Деборд-Вальмор Марселина.
Вальш Теобальд, граф (род. 1792) — литератор. 113.
Ван Амбург Исаак, американский укротитель. 272.
Ватто Антуан (1684–1721) — художник. 443.
Вату Жан (1792–1848) — историк, приближенный Луи-Филиппа. 52.
Вашингтон Джордж (1732–1799). 172.
Вей Франсис (1812–1882) — литератор. 179.
Велизарий (ок. 504–565) — византийский полководец. 209.
Веллингтон Артур Уэлсли, герцог (1769–1852) — английский полководец и государственный деятель. 245.
Веллони, мороженщик, основатель кафе на бульваре Итальянцев, известного как кафе Тортони. 145.
Вергилий Марон Публий (70–19 до н. э.). 453.
Верон Луи-Дезире (1798–1867) — врач, журналист, администратор. 87, 202.
Виардо (урожд. Гарсиа) Полина (1821–1910) — оперная певица, меццо-сопрано. 208, 211.
Вивье Эжен (1817–1900), музыкант, композитор и литератор. 441.
Вильмен Абель-Франсуа (1790–1870) — историк литературы, член Французской Академии с 1821 г. 8, 381.
Виньи Альфред, граф де (1797–1863). 10, 191.
Вирье (урожд. де Лостанж) Шарлотта де, жена Лу-Гюстава де Вирье, хозяйка салона. 417.
Водемон (урожд. де Монморанси) Луиза, княгиня де (1763–1832). 417.
Вольнис (урожд. Фэ) Леонтина (1811–1876) — актриса. 189, 190.
Вольтер (наст. имя и фам. Франсуа-Мари Аруэ; 1694–1778) 7, 28, 33, 63, 97, 191, 240.
Всеволожский Николай Сергеевич (1772–1857) — русский литератор и путешественник. 136.
Вьель-Кастель Орас, граф де (1802–1864) — писатель. 116–120.
Вьенне Жан-Понс-Гийом (1777–1868) — литератор, депутат. 191.
Вяземский Петр Андреевич, князь (1792–1878) — русский писатель. 20.
Гаварни Поль (1804–1866) — художник. 166.
Гайяр де Ла Буэксьер, откупщик. 134.
Гайярде Фредерик (1808–1882) — журналист, драматург. 191.
Гал…, княгиня — см. Голицына, княгиня.
Галеви Фроманталь (1799–1862) — композитор. 202.
Гальера (урожд. Бриньоле-Сале) Мария, герцогиня (1812–1888) — итальянская меценатка, подолгу жившая в Париже. 386–387.
Гальера Рафаэль Феррари, герцог (1808–1876) — итальянский банкир, подолгу живший в Париже, меценат, муж М. Гальера. 386.
Ганеман Самюэль (1755–1843) — немецкий врач. 289.
Ганнибал (ок. 247–183 до н. э.). 172.
Гарнье-Пажес Этьенн-Жозеф-Луи (1801–1841) — адвокат, глава республиканской оппозиции в палате депутатов. 340.
Гарсиа, мадемуазель — см. Виардо Полина.
Гатти де Гамон Зоя (1806–1854) — писательница, последовательница Ш. Фурье. 333.
Гейне Генрих (1797–1856). 191.
Генрих III (1551–1589) — король Франции с 1574 г. 271.
Генрих IV (1553–1610) — король Франции с 1589 г. 204, 246, 336, 410.
Гесслер Германн, граф — наместник австрийского императора, по преданию, убитый Вильгельмом Теллем в начале XIV в. 463.
Гёте Иоганн Вольфганг (1749–1832). 7, 55, 124.
Гизо Франсуа-Пьер-Гийом (1787–1874) — историк и государственный деятель, министр иностранных дел и фактический глава кабинета в 1840–1848 гг., член Французской академии с 1836 г. 67, 106, 208, 215–218, 220, 223, 239, 339–341, 346, 381, 416, 447, 449–450, 463.
Гино Эжен (1812–1861) — журналист. 20.
Гиш Антуан-Аженор, герцог де (1789–1855) — первый шталмейстер герцога Ангулемского, основатель клуба «Союз». 174.
Гобелен Жан (XV в.), основатель Королевской мануфактуры тканей. 413.
Голицына (урожд. княжна Долгорукова) Мария Ильинична, княгиня — жена русского дипломата князя Михаила Александровича Голицына (1804–1860). 431.
Гомер. 124, 209.
Гортензия, королева — см. Богарне Гортензия де.
Готье Теофиль (1811–1872). 5, 8, 10, 13, 18, 23, 29, 34, 36, 65, 102, 149, 174, 192, 237, 281, 286, 351, 395, 442.
Гофман Эрнст Теодор Амадей (1776–1822). 214.
Гранье де Кассаньяк Адольф (1806–1880) — публицист, сотрудник «Прессы». 184–185.
Гренвил (урожд. Кавендиш) Гарриет Элизабет, графиня (ум. 1862) — жена английского посла в Париже лорда Гренвила. 229.
Грессе Жан-Батист-Луи (1709–1777) — поэт. 420.
Грёз Жан-Батист (1725–1805) — художник. 388.
Григорий Турский (ок. 538 — ок. 594) — епископ, франкский историк. 105.
Гризи Джулия (1812–1869) — итальянская оперная певица, сопрано. 431, 460.
Гримо де Ла Реньер Александр-Балтазар-Лоран (1758–1837) — литератор, гастроном. 366–367.
Гримо де Ла Реньер Лоран (1733–1793) — откупщик. 366.
Гримо де Ла Реньер (урожд. де Жарант) Сюзанна-Элизабет — жена Л. Гримо де Ла Реньера, мать А.-Б.-Л. Гримо де Ла Реньера. 366.
Грин Чарльз (1785–1870) — английский воздухоплаватель. 76–77.
Гэ Сигизмунд (1768–1822) — финансист, отец Дельфины де Жирарден. 7, 8.
Гэ (урожд. Нишо де Ла Валетт, по первому мужу Лиотье) Софи (1776–1852) — мать Дельфины де Жирарден, писательница. 7–9, 12, 19, 52, 55, 67, 188, 229, 297, 367, 415–416, 417.
Гюго (урожд. Фуше) Адель (1803–1868) — жена Виктора Гюго. 416.
Гюго Виктор (1802–1885). 8, 13, 43, 74–76, 112, 124, 130, 186, 188, 191, 237, 350, 369–370, 377–383, 416, 438.
Дабади (урожд. Леру) Луиза-Зюльме (1796–1877) — оперная певица, сопрано. 190.
Даву Луи-Никола, герцог Ауэрштедтский, князь Экмюльский (1770–1823) — наполеоновский маршал. 78.
Даву (урожд. Леклерк) Эме (1782–1868) — жена Луи-Никола Даву. 78.
Дагер Жак (1787–1851) — физик, изобретатель. 219.
Даль Владимир Иванович (1801–1872). 48.
Даморо (урожд. Монталан) Лора (1801–1863) — оперная певица, сопрано. 328, 460.
Дампьер Огюстен-Мари Пико, маркиз де (1756–1793) — военачальник. 77–78.
Данте Алигьери (1265–1321). 400.
Дарю Наполеон (1807–1890) — сын наполеоновского военного министра, пэр Франции с 1833 г. 361.
Деборд-Вальмор Марселина (1786–1859) — поэтесса, приятельницы Софи Гэ. 186.
Дежазе Полина-Виржини (1798–1875) — актриса. 190.
Делавинь Жермен (1790–1868) — драматург, автор оперных либретто, брат Казимира Делавиня. 94.
Делавинь Казимир (1793–1843) — поэт и драматург. 75, 184, 246.
Деланно, модистка. 432.
Делеклюз Этьенн (1781–1863) — литератор. 9.
Делор Таксиль (1815–1877) — литератор. 396.
Делорм Марьон (1611–1650) — куртизанка. 166.
Демадьер Фанни, художница. 105.
Демарси, мадемуазель, художница. 105.
Денуа Люси, художница. 105.
Дерьеж Филипп (1810–1872) — литератор. 268.
Десеме Эрмини, художница. 105.
Детуш Поль-Эмиль (1794–1874) — художник. 461.
Дефоконпре Шарль-Огюст (1797–1865) — литератор, директор парижского коллежа Роллена. 158.
Доза Адриен (1804–1868) — художник. 189.
Домье Оноре (1808–1879) — художник. 31, 53.
Дон (урожд. Матерон) Эвридика (1793–1869) — теща А. Тьера. 67, 208, 417–418.
Дора Клод-Жозеф (1734–1780) — поэт, автор мадригалов. 369.
Дорваль (наст. фам. Делоне) Мари (1798–1849) — актриса. 190, 191.
Дюбре, торговец куклами. 180.
Дюдеван Казимир, барон (1795–1871) — муж Авроры Дюпен (Жорж Санд). 44.
Дюма Александр (1802–1870). 13, 31, 53, 65, 187–193, 460.
Дюма-сын, Александр (1824–1895). 396.
Дюмон Жан-Жозеф-Луи (род. 1798) — издатель. 55.
Дюпати Эмманюэль (1775–1851) — драматург, член Французской академии с 1836 г. 27, 75- 378.
Дюпен Андре-Мари-Жан-Жак (1783–1865) — политический деятель, председатель палаты депутатов в 1832–1839 гг., член Французской академии с 1832 г. 26.
Дюпре Жильбер (1806–1896) — оперный певец, тенор. 144, 152, 181.
Дюрантон Готье (ум. 1838) — денди, возлюбленный Дельфины де Жирарден. 13.
Дюрас (урожд. Керсент) Клер, герцогиня де (1777–1828) — хозяйка салона, писательница. 9, 415, 417.
Дюфрен Альфред (1822–1863) — композитор и дирижер. 260.
Дюшанж Полина (1778–1858) — композитор, сочинительница романсов (в том числе и на слова самой Дельфины де Жирарден). 46.
Дюшенуа, мадемуазель (наст. имя и фам. Жозефина Рафен; 1780–1835) — трагическая актриса, соперница мадемуазель Жорж. 203.
Елена, принцесса — см. Орлеанская, герцогиня.
Елена Павловна, великая княгиня (урожд. Фредерика Шарлотта Мария, принцесса Вюртембергская, 1806–1873) — жена великого князя Михаила Павловича. 32.
Жан-Жак — см. Руссо.
Жанен Жюль (1804–1874) — писатель, критик. 18–19, 44–45, 62–64, 202, 289, 351.
Жаниссе Александр-Фредерик (ок. 1793–1836) — ювелир. 280.
Жанна д’Арк (ок. 1412–1431). 133.
Жени Жан-Антуан-Огюст (1796–1870) — государственный деятель. 447–448.
Жерар Сирюс, путешественник. 361.
Жирарден Александр, граф де (1776–1855) — отец Эмиля де Жирардена, наполеоновский генерал, в эпоху Реставрации первый обер-егермейстер. 11, 12, 417, 449.
Жирарден Александр (род. 1839) — побочный сын Эмиля де Жирардена. 13.
Жирарден (урожд. де Вентимиль) Жозефина, графиня де (1789–1864) — жена А. де Жирардена. 417.
Жирарден Рене, маркиз де (1735–1808) — дед Эмиля де Жирардена, покровитель Жан-Жака Руссо. 98.
Жирарден Эмиль де (1802–1881) — журналист, муж Дельфины де Жирарден. 10–17, 19, 31, 36, 55, 63, 66–67, 98, 130, 153, 166, 193, 202, 208, 215, 234, 242, 248, 298, 383, 449–455, 461.
Жиру, торговец. 70.
Жобер Ипполит-Франсуа, граф (1798–1874) — политический деятель, депутат, министр общественных работ в кабинете Тьера в 1840 г. 341.
Жорж, мадемуазель (наст. имя и фам. Маргарита-Жозефина Веймер; 1787–1867) — трагическая актриса. 190, 191.
Жуанвиль Жан де (1225–1317) — историк. 45.
Жуанвильский Франсуа-Фердинанд-Филипп Орлеанский, принц (1818–1900) — третий сын Луи-Филиппа. 344, 347, 429.
Жуи Виктор-Жозеф-Этьенн де (1764–1846) — писатель, член Французской академии с 1815 г. 19, 21, 378.
Жуслен де Ла Саль Арман-Франсуа (1794–1863) — драматург. 253.
Жюльен Луи-Антуан (1812–1860) — композитор и дирижер. 86, 87, 108.
Екатерина Медичи (1519–1589) — королева Франции с 1547 г., имевшая репутацию отравительницы. 141.
Елена, принцесса — см. Орлеанская, герцогиня.
Ибрагим-паша (1789–1848) — сын Мехмеда-Али, египетский военачальник. 265.
Изабелла II (1830–1904) — королева Испании в 1833–1868 гг. 41, 393.
Ист…, герцогиня — Истрийская (урожд. Лаперьер) Мари-Жанна, герцогиня (1781–1840) — жена Жана-Батиста Бессьера, герцога Истрийского (1768–1813), наполеоновского генерала. 431.
Италинский Андрей Яковлевич (1743–1827) — русский дипломат. 140.
Кабаррюс Эдуард (1801) — врач, брат Терезы Брюнетьер. 289.
Кавеньяк Эжен (1802–1857) — генерал и государственный деятель, глава кабинета министров в июне — декабре 1848 г. 31, 55, 455, 462, 465.
Калас Жан (1698–1762) — негоциант-кальвинист, несправедливо обвиненный в убийстве сына, желавшего перейти в католичество, и казненный за преступление, которого не совершал. 172.
Камилла, госпожа — модистка. 443–444.
Кампан (урожд. Жене) Жанна-Луиза-Анриетта (1752–1822) — начальница пансиона для девиц из родовитых семейств. 425.
Кампенон Венсан (1772–1843) — поэт. 438.
Канова Антонио (1757–1822) — итальянский скульптор. 386–387.
Карл Великий (742–814). 8.
Карл X (1757–1836) — король Франции. 10, 11, 46, 57–61,79, 108, 167, 194, 199, 336, 353, 366, 440.
Карл XIII (1748–1818) — король Швеции с 1809 г. 390.
Карл XIV — см. Бернадот.
Карлос дон (1788–1855) — брат Фердинанда VII, претендент на испанский престол. 41.
Кармуш Пьер-Фредерик-Адольф (1797–1868) — драматург. 253.
Каролина — см. Лойо Каролина.
Карр Альфонс (1808–1890) — писатель. 13, 20, 25, 111, 115, 298–299, 351, 450.
Кассий Лонгин Гай (ум. 42 до н. э.) — один из организаторов убийства Цезаря. 395.
Кастеллан Бонифас, граф де (1788–1862) — муж графини К. де Кастеллан. 416.
Кастеллан Жюль, граф де (1782–1861) — хозяин самодеятельного светского театра. 297, 328, 360, 416.
Кастеллан (урожд. Греффюль) Корделия, графиня де (1796–1847) — хозяйка салона, возлюбленная графа Моле. 416.
Кейт Джордж, лорд Эльфинстоун, виконт (1746–1823) — английский адмирал, отец графини де Флао. 67.
Кирсанова Раиса Мардуховна, историк костюма. 183.
Кларк Альфонс, граф де Фельтр (1806–1850) — композитор-любитель. 328.
Кларк Анри-Жак-Гийом, герцог де Фельтр (1765–1818) — военный министр в 1806–1814 гг., маршал Франции с 1816 г. 328.
Клеман, мадемуазель, хозяйка пансиона. 8.
Клеопатра (69–30 до н. э.) — царица Египта. 395.
Клоден Гюстав (1823–1896) — литератор. 245.
Козловский Петр Борисович, князь (1783–1840) — русский дипломат и литератор. 9.
Кок Поль де (1793–1871) — романист. 22, 62.
Колумб Христофор (1451–1506). 62.
Конде — см. Бурбон Луи-Жозеф де.
Копен Огюстина, хозяйка цветочного магазина. 141.
Корде Шарлотта (1768–1793) — убийца Ж.-П. Марата. 204.
Корнель Пьер (1606–1684). 63, 380.
Кос Соломон де (1576–1626) — инженер, работавший над изобретением парового двигателя. 166.
Кремьё Адольф (наст. имя Исаак Моисей; 1796–1880) — адвокат, политический деятель. 242, 336.
Кромвель Оливер (1599–1658). 271.
Курбон, госпожа, хозяйка салона. 417.
Кюстин Астольф, маркиз де (1790–1857) — писатель. 32, 65, 191, 242, 360, 388.
Кюстин (урожд. де Сабран) Дельфина, графиня де (1770–1826) — мать Астольфа де Кюстина, крестная мать Дельфины де Жирарден. 8.
Лаблаш Луиджи (1794–1858) — итальянский оперный певец, бас. 367–368.
Лавалет Шарль-Жан-Мари-Феликс, маркиз де (1806–1881) — дипломат. 361.
Лагаш-Корр Матильда (1814 — после 1874) — художница. 105.
Ла Гранж Арман-Шарль-Луи, граф де (1783-?) — брат Э. де Ла Гранжа, генерал, несостоявшийся жених Дельфины. 388.
Ла Гранж (урожд. Номпар де Комон-Лафорс) Констанция-Мадлена-Луиза — жена маркиза Эдуарда де Ла Гранжа. 388, 417.
Ла Гранж Эдуард Лельевр, маркиз де (1796–1859) — политический деятель. 388.
Лаженеве (наст. имя и фам. Анри Блаз де Бюри, барон; 1813–1888). 21, 32–33, 36.
Лакав-Лаплань Жан-Пьер-Жозеф (1795–1849) — государственный деятель. 161 («министр финансов»).
Ламартин Альфонс де (1790–1869) — поэт, политический деятель, член Французской академии с 1829 г. 10, 13, 33, 44, 76, 112 118, 124, 186, 215, 224, 228, 237, 335, 340, 342–343, 349–350–356, 357, 381, 383, 387, 402, 416, 444, 463.
Ламартин (урожд. Берч) Марианна-Элиза де (1790–1863) — жена А. де Ламартина, хозяйка салона. 416.
Ламенне Фелисите-Робер де (1782–1854) — писатель, публицист, религиозный деятель. 184.
Ланкре Никола (1690–1743) — художник, подражатель Ватто. 443.
Ла Реньер г-жа — см. Гримо де Ла Реньер Сюзанна-Элизабет.
Ла Рош… — Ларошфуко Франсуа, пятнадцатый герцог де (1818–1879) — путешественник. 361.
Ларусс Пьер (1817–1875) — лексикограф, педагог. 56.
Латуш Ясент-Жозеф Александр Табо (1785–1851) — писатель, более известный как Анри де Латуш. 45, 55, 214, 389.
Лафайет Мари-Жозеф-Поль-Ив-Жильбер Мотье, маркиз де (1757–1834) — военачальник и политический деятель. 417.
Лафон (1800–1838) — оперный певец, тенор. 181.
Лафонтен Жан де (1621–1695). 336, 408.
Леба Жан-Батист-Аполлинер (1797–1873) — инженер. 53–54.
Лебрен Пьер-Антуан (1785–1873) — поэт, член Французской академии с 1828 г. 378.
Левассор Пьер (1808–1870) — актер, исполнитель комических песенок. 391.
Леви Пьер-Мари-Гастон, герцог де (1764–1830) — писатель. 144.
Леви, учитель танцев. 90.
Легриель, владелец ресторана в Сен-Клу. 142.
Ледрю-Роллен Александр-Огюст (1807–1874) — адвокат и политический деятель. 453.
Леклерк Эдмон — государственный деятель. 447–448.
Лемерсье Непомюсен (1771–1840) — писатель. 188, 379, 381.
Лемерсье, г-жа, жена Непомюсена Лемерсье. 381.
Леметр Фредерик (наст. имя Антуан-Луи-Проспер; 1800–1876) — актер. 199.
Ле Мор Катрин-Николь (1704–1783) — оперная певица. 313.
Ленотр Андре (1613–1700) — французский архитектор, мастер садово-паркового искусства. 98.
Ленуар Александр (1761–1839) — археолог. 77–78.
Леопольд I Саксен-Кобургский (1790–1865) — король бельгийцев с 1831 г. 54.
Лепентр-младший Эмманюэль-Огюстен (1788–1847) — комический актер, выступавший в театрах «Варьете» и «Водевиль». 190.
Лепид Марк Эмилий (ум. 13 до н. э.) — римский полководец и политический деятель. 395.
Лепренс де Бомон (урожд. Вэмбу) Жанна-Мари (1711–1780) — писательница. 7.
Леру Полина (по мужу Лафон; 1812–1883) — танцовщица, жена певца Лафона. 190.
Лесаж Ален-Рене (1668–1747) — писатель. 63.
Лесаж, торговец. 70.
Лианкур (урожд. Шапт де Растиньяк) Зенаида, герцогиня де Ларошфуко, герцогиня де (1798–1875) — хозяйка салона. 417.
Ливен (урожд. Бенкендорф) Дарья Христофоровна, княгиня (1785–1857) — возлюбленная Гизо. 67–68, 208, 418, 450.
Ливен Христофор Андреевич, князь (1774–1838) — дипломат, муж Д. Х. Ливен. 67.
Лижье Пьер (1797–1872) — актер. 191.
Линь Шарль-Жозеф, принц де (1735–1814) — австрийский фельдмаршал, литератор. 77–78.
Лиотье Гаспар (род. 1756) — первый муж Софи Гэ, финансист. 7.
Липано, графиня — см. Мюрат Каролина.
Лист Ференц (1811–1886). 12.
Литтре Эмиль (1801–1881) — лексикограф. 268.
Лойо Каролина, наездница из цирка Франкони. 135.
Лорансен Жан-Эсперанс-Бландин, граф де (1733–1812) — литератор и воздухоплаватель. 77–78.
Лотреамон, граф де (наст. имя и фам. Исидор Дюкас; 1846–1870) — поэт. 184.
Лотреамон, шевалье де (ок. 1630–1674) — заговорщик, авантюрист. 184.
Лотур-Мезере Сен-Шарль (1801–1861) — журналист, денди. 11, 242.
Лувель Луи-Пьер (1783–1820) — шорник, убийца герцога Беррийского. 59.
Луи-Филипп (1773–1850) — король французов в 1830–1848 гг. 22, 41, 46, 47 («король»), 52, 54, 57, 59–60, 66, 69, 98, 101, 123 («король»), 130, 131, 133–134, 142, 158, 194, 220, 245–247, 252, 255, 264, 333, 336, 344, 346, 353, 365, 366, 387, 451, 462.
Луиза Французская (Mademoiselle; 1819–1870) — старшая сестра герцога Бордоского. 133.
Луккези-Палли Эктор, граф (1808–1864) — морганатический супруг герцогини Беррийской. 60.
Лукреция (ум. 509 до н. э.) — римская матрона. 451.
Людовик IX Святой (1214–1270) — король Франции с 1226 г. 44.
Людовик XIII (1601–1643) — король Франции с 1610 г. 389.
Людовик XIV (1638–1715) — король Франции с 1643 г. 7, 51, 57, 133, 184–185, 187, 207, 273, 336, 365, 388, 443.
Людовик XV (1710–1774) — король Франции с 1715 г. 52, 53, 227, 443.
Людовик XVI (1754–1793) — король Франции в 1774–1791 гг. 52, 54, 57, 60.
Людовик XVIII (1755–1824) — король Франции с 1814 г. 57, 158, 194, 246, 353, 440.
Люин Оноре-Теодорик-Поль-Жозеф д’Альбер, герцог де (1802–1867) — эрудит и археолог. 462.
Люрин Луи (1816–1860) — журналист. 20.
Лютер Мартин (1483–1546). 113.
Магомет (ок. 570–632). 380.
Мазаньелло (наст. имя и фам. Томмазо Аньелло; 1620–1647) — неаполатинский рыбак, вождь восстания. 94, 464.
Мазепа Иван Степанович (1644–1709) — гетман Левобережной Украины в 1687–1708 гг. 79.
Майе Жаклен-Арман-Шарль де Ла Тур Ландри, третий герцог де (1815–1874) — путешественник, сын герцогини де Майе. 360, 417.
Майе (урожд. Ле Баскль д’Аржантей) Бланш-Жозефина, герцогиня де (1787–1851) — хозяйка салона, мемуаристка. 360, 417.
Макиавелли Никколо (1469–1527). 398, 406.
Малибран (рожд. Гарсиа) Мария (1808–1836) — оперная певица, меццо-сопрано испанского происхождения, выступавшая во Франции. 116, 460.
Мальчик с пальчик — карлик-артист. 440.
Манчини Мария (1640 — между 1706 и 1715) — фаворитка Людовика XIV, именем которой названа прическа с двумя тугими локонами, спадающими на грудь. 204.
Мариво Пьер Карле де Шамблен де (1688–1763) — писатель. 445.
Марио Джузеппе, маркиз Кандия (1810–1883) — итальянский оперный певец, тенор. 460.
Мария II Брагансская (1819–1853) — королева Португалии в 1826–1828 и 1834–1853 гг. г. 41.
Мария Стюарт (1542–1587) — королева Шотландии с 1542 (фактически с 1561) по 1567 г. 204.
Мария-Амелия (урожд. Бурбон-Сицилийская; 1782–1866) — жена Луи-Филиппа, королева французов в 1830–1848 гг. 69 («королева»), 121 («королева»), 158, 161, 347 («королева»).
Мария-Антуанетта (1755–1793) — королева Франции в 1774–1792 гг. 60, 118, 134, 142, 425.
Мария-Кристина (1806–1878) — жена испанского короля Фердинанда VII, с 1833 г. регентша при своей дочери королеве Изабелле. 41.
Мария-Луиза (1751–1819) — королева Испании, жена короля Карла IV. 344.
Мармонтель Жан-Франсуа (1723–1799) — писатель. 209.
Марраст Арман (1801–1852) — журналист-республиканец, председатель Учредительного собрания с июля 1848 г. 462.
Марраст (урожд. Фиц-Кларенс), г-жа — жена А. Марраста. 462.
Марс, мадемуазель (наст. имя и фам. Анна Буте; 1779–1847) — актриса. 44, 49, 190, 304.
Марсийе, магнетизер. 292.
Мартен (из Северного департамента) Никола (1790–1847) — государственный деятель. 41, 106.
Мартен (из Страсбурга) Эдуард (1801–1858) — политический деятель. 233–237.
Мартен-Фюжье Анна, историк литературы. 21, 37.
Махмуд II (1785–1839) — турецкий султан с 1808 г. 265.
Мейербер Джакомо (1791–1864) — немецкий композитор. 80, 144, 155, 202.
Мельнот, сапожник. 183.
Меннеше Эдуард (1794–1845) — литератор и историк. 440.
Менье (род. 1814) — парижанин, покушавшийся на жизнь короля Луи-Филиппа. 69, 247.
Мерже Жорж-Никола, барон (род. 1772) — адъютант Бернадота. 390.
Мери Жозеф (1797–1866) — писатель, сотрудник «Прессы». 174, 187, 191, 442.
Мерикур Эжен де (наст. имя и фам. Шарль-Жан-Батист Жако; 1812–1880) — литератор. 17.
Мериме Проспер (1803–1870). 9, 17.
Мерлен (урожд. де лас Мерседес де Харуко) Мария, графиня (1789–1852) — хозяйка салона, музыкантша. 367, 388–389, 417.
Мёрфи Эдвард, капитан ВВС США. 26.
Месмер Фридрих Антон (1734–1815) — немецкий врач, создатель теории «животного магнетизма». 292.
Местр Жозеф де (1753–1821) — философ, писатель, дипломат. 21.
Меттерних Клеменс, князь фон (1773–1859). 112, 343.
Мехмед-Али (1769–1849) — вице-король Египта с 1805 г. 52, 167, 265.
Мигел I Брагансский (1802–1866) — король Португалии в 1828–1834 гг. 41.
Мильвуа Шарль (1782–1816) — поэт. 111.
Минье Франсуа-Огюст (1796–1884) — историк. 74–75, 90.
Миньяр Пьер (1612–1695) — художник. 62, 443.
Мирабо Андре-Бонифас Рикети, виконт де (1754–1792) — политический деятель. 242.
Мирабо Оноре-Габриэль Рикети, граф де (1749–1791) — литератор, политический деятель. 242.
Моле Луи-Матье, граф (1781–1855) — государственный деятель, глава кабинета в 1836–1839 гг., член Французской академии с 1840 г. 41, 106, 121, 208, 215, 220, 224, 340, 370, 378, 381, 416.
Молитор Габриэль-Жан-Жозеф, граф (1770–1849) — наполеоновский генерал, маршал Франции с 1823 г. 346.
Мольер (наст. имя и фам. Жан-Батист Поклен; 1622–1673). 29, 46, 51, 63, 190 («Мещанин во дворянстве»), 207, 224–225, 320, 323, 335, 362 (Селимена), 380, 398, 439, 440, 443 (Селимена), 444.
Мольер (урожд. Бежар) Арманда (1642–1700) — актриса, жена Мольера. 439.
Монгольфье Жозеф де (1740–1810) — изобретатель и воздухоплаватель. 77–78.
Монгольфье Этьенн де (1745–1799) — изобретатель и воздухоплаватель, брат Ж. де Монгольфье. 78.
Монжираль, учитель фехтования. 298.
Монкальм (урожд. Ришелье) Армандина, маркиза де (1777–1832) — хозяйка салона, мемуаристка. 415, 423.
Монпансье Антуан-Мари-Филипп-Луи, герцог де (1824–1890) — пятый сын Луи-Филиппа. 158, 344.
Монсиньи Пьер-Александр (1729–1817) — композитор. 408.
Монталиве Март-Камиль Башассон, граф де (1801–1880) — министр иностранных дел в кабинетах Тьера (1836) и Моле (1837–1839). 121, 211, 224.
Монталиве (урожд. Пайяр-Дюклере) Клементина, жена графа де Монталиве. 224.
Монфор Александр (1803–1856) — композитор. 171.
Морен Франсуа-Гюстав (1809–1886) — художник. 461.
Моцарт Вольфганг Амадей (1756–1791). 28, 79, 183.
Мюзар Наполеон (наст. имя Филипп; 1792–1859) — композитор и дирижер. 79–80, 87, 92, 96, 108, 151, 198, 254, 259, 260.
Мюрат Иоахим (1771–1815) — неаполитанский король в 1808–1814 гг. 53.
Мюрат (урожд. Бонапарт) Каролина (1782–1839) — сестра Наполеона I и жена Иоахима Мюрата, в 1808–1814 гг. неаполитанская королева. 53.
Мюссе Альфред де (1810–1857). 45, 110, 383.
Нансути (урожд. Гравье де Верженн) Жанна-Франсуаза-Аделаида, графиня де (1781–1850) — хозяйка салона, тетка Ш. де Ремюза. 417.
Наполеон I (1769–1821) 7, 53, 55, 56, 57, 109, 168, 173, 245, 262, 263, 265, 281, 324, 328, 333, 343–344–348, 350, 357, 372, 380, 381, 390, 417.
Наполеон III (1808–1873) — французский император в 1852–1870 гг. 35, 55–56, 94, 370, 463.
Нарбонн-Пеле (урожд. де Серан) Эмилия, герцогиня де (1770–1856) — жена пэра Франции дипломата герцога де Нарбонна-Пеле. 229.
Немурская (урожд. Саксен-Кобург-Гота) Виктория Августа Антуанетта, герцогиня (1822–1857) — жена герцога Немурского. 378.
Немурский Луи-Шарль-Филипп Орлеанский, герцог (1814–1896) — второй сын Луи-Филиппа. 372.
Неттман Альфред (1805–1869) — литератор. 31.
Низар Дезире (1806–1888) — литературный критик. 6.
Ноай Альфред, виконт де (1766–1812) — муж Леонтины де Ноай. 417.
Ноай (урожд. де Ноай-Муши) Леонтина, виконтесса де (1791–1851) — хозяйка салона. 417.
Ноай (урожд. де Талейран-Перигор) Мелани, графиня де (1785–1862) — жена графа Жюста де Ноайя, статс-дама герцогини Беррийской. 293.
Нобле, мадемуазель — актриса «Комеди Франсез» в 1829–1855 гг. 191–192.
Обер Даниэль-Франсуа-Эспри (1782–1871) — композитор. 94, 181, 202, 408, 464.
Обрескова (урожд. Шереметева) Наталья Васильевна (ум. 1862) — жена Д. М. Обрескова, в 1830–1832 гг. гражданского губернатора в Вильно. 363.
Октавиан Август (63 до н. э. — 14 н. э.) — римский полководец, с 27 г. до н. э. император. 395.
Омальский Анри, герцог (1822–1897) — четвертый сын Луи-Филиппа. 98, 158, 372.
Ор Антуан-Анри-Филипп-Леон Картье, граф д’ — берейтор. 210.
Орлеанская Аделаида (1777–1847) — сестра Луи-Филиппа. 158.
Орлеанская (урожд. принцесса Мекленбург-Шверинская) Елена, герцогиня (1814–1858). 115, 120–124, 130–131, 189, 294, 378.
Орлеанская Клементина, принцесса (1817–1907) — третья дочь Луи-Филиппа, в замужестве герцогиня Саксон-Кобургская. 189, 378.
Орлеанская Луиза, принцесса (1812–1850) — старшая дочь Луи-Филиппа, с 1832 г. королева бельгийцев. 54.
Орлеанская Мария, принцесса (1813–1839) — вторая дочь Луи-Филиппа, с 1837 г. жена герцога Вюртембергского. 60–61, 133.
Орлеанский Луи-Филипп-Жозеф, герцог (1747–1793) — отец Луи-Филиппа. 142.
Орлеанский Фердинанд-Филипп, герцог (1810–1842) — наследный принц, старший сын Луи-Филиппа. 54, 57, 101, 115, 121, 123 («наследный принц»), 126, 130, 133, 158, 189, 294–372, 378, 451.
Орлеанский Филипп II, герцог (1674–1723) — регент при малолетнем короле Людовике XV в 1715–1723 гг. 443.
Орсе Альфред, граф д’ (1801–1852) — денди, законодатель мод, создатель духов «Букет графа д’Орсе». 264.
Осмон (урожд. Детийер), маркиза д’ — хозяйка салона, жена брата графини де Буань Рэнюльфа д’Осмона (1787–1862). 417.
Осс…, графиня — Оссонвиль (урожд. де Брой) Луиза, графиня де (1818–1882) — дочь Альбертины де Брой и внучка госпожи де Сталь. 431.
Оссиан — легендарный кельтский бард, которому приписал свои стихи Д. Макферсон. 9, 408.
Пакье Этьенн-Дени, барон, с 1844 г. герцог (1767–1862) — государственный деятель, при Июльской монархии председатель палаты пэров и канцлер. 161 («канцлер»), 416.
Парадоль Анна-Катрин-Люсинда (1798–1843) — актриса. 191–192.
Парижский Луи-Филипп, герцог Орлеанский, граф (1838–1894) — внук Луи-Филиппа. 130, 451.
Паркинсон Сирилл Норткотт (1909–1993) — английский литератор. 26.
Пасси Ипполит (1893–1880) — государственный деятель. 285.
Перикл (ок. 495–429) — афинский государственный деятель. 172.
Перро Мишель, французская исследовательница, автор работ о частной жизни. 392.
Перро Шарль (1628–1703). 251.
Персиани (наст. имя и фам. Таккинарди) Фанни (1812–1867) — итальянская оперная певица, сопрано. 182.
Пирон Алексис (1689–1773) — поэт. 439.
Плесси Жанна-Сильвания (1819–1897) — актриса. 388.
Подена (урожд. Надайяк) Аделаида, маркиза де (1785–1858) — хозяйка салона. 417.
Поль Антуан (1798–1871) — танцовщик парижской Оперы по прозвищу Воздушный. 151–152.
Поншар Шарль-Мари-Огюст (1824–1866) — оперный певец, тенор. 328.
Поццо ди Борго Шарль-Андре (Карл Осипович), граф (1764–1842) — посол России во Франции в 1814–1834 гг. 417.
Прево д’Экзиль Антуан-Франсуа, аббат (1697–1763) — писатель. 63–64.
Прива, перчаточник. 104.
Прудон Пьер-Жозеф (1809–1865) — публицист, экономист, социолог. 457.
Пруст Марсель (1871–1922). 67.
Путре де Мошан Мари-Мадлена, писательница-феминистка. 105–106.
Пушкин Александр Сергеевич (1799–1837). 7, 51.
Пюже Лоиза (1810–1889) — сочинительница романсов. 46.
Равайяк Франсуа (1578–1610) — убийца Генриха IV. 246.
Равессон Жан-Гаспар-Феликс (1813–1890) — философ, государственный деятель. 447–448.
Рамбуйе (урожд. де Вивон) Катрин, маркиза де (1588–1655) — хозяйка салона. 440.
Расин Жан (1639–1699). 58, 63–64, 124, 307.
Рафаэль Санти (1483–1520). 443, 461.
Рашель (наст. имя и фам. Элизабет-Рашель Феликс; 1821–1858) — трагическая актриса. 8, 12, 16, 202–203,-211, 303–304, 395.
Регул (ум. ок. 250 до н. э.) — римский полководец, который, попав в плен к карфагенянам, был отпущен под честное слово в Рим, но убедил римлян отвергнуть предложения врагов и, вернувшись назад в плен, был казнен. 172.
Рейнгард Карл Фридрих, граф (1761–1837) — дипломат немецкого происхождения. 201.
Рейхштадтский Франсуа-Шарль-Жозеф-Наполеон, герцог (1811–1832) — сын Наполеона I. 56.
Рекамье (урожд. Бернар) Жюльетта (1777–1849) — хозяйка салона. 8, 9, 42, 416, 423.
Ремюза (урожд. де Ластери) Полина, графиня де (1807–1882) — жена Ш. де Ремюза. 417.
Ремюза Шарль, граф де (1797–1875) — литератор, политический деятель, министр внутренних дел в кабинете Тьера 1840 г. 220, 340, 415, 417, 418.
Ренодо Теофраст (1586–1653) — журналист. 15.
Ричард III (1452–1485) — король Англии с 1483 г. 246.
Ричардсон Сэмюэл (1689–1761) — английский писатель. 117.
Ришелье Арман-Жан дю Плесс, кардинал де (1585–1642). 166.
Ришелье Луи-Франсуа-Арман де Виньеро дю Плесси, герцог де (1696–1788) — маршал Франции, полководец, известный не только военными подвигами, но и галантными похождениями. 134, 172.
Роган-Шабо (урожд. де Гонто-Бирон) Жозефина, княгиня де Леон, герцогиня де (1796–1844) — жена Фернана де Рогана-Шабо, девятого герцога де Рогана. 293.
Розамель Клод-Шарль-Мари Дюкамп де (1774–1848) — вице-адмирал, государственный деятель. 106.
Розан (урожд. де Дюрас) Клара, графиня де Шастеллюкс, герцогиня де (1799–1863) — хозяйка салона, дочь герцогини де Дюрас. 417.
Рокплан Нестор (1804–1870) — литератор. 377, 396.
Рокур, мадемуазель (наст. имя и фам. Франсуаза-Мари-Антуанетта Сосерот; 1756–1815) — трагическая актриса. 203.
Ролан, оперный певец. 416.
Ролан де Ла Платьер (урожд. Флипон) Жанна-Мари, или Манон (1754–1793) — жирондистка, жена министра внутренних дел в марте 1792 — январе 1793 г. Жана-Мари Ролана де Ла Платьера. 444.
Ромье Огюст (1800–1855) — чиновник и денди. 240.
Россини Джоаккино (1792–1868). 43–44, 152, 327, 363 («Вильгельм Телль»), 387.
Ротшильд Бетти, баронесса (1805–1886) — дочь Соломона и жена Джейма Ротшильда. 229.
Ротшильд Джеймс, барон (1792–1868) — банкир, дипломат. 229, 242.
Ротшильд (урожд. Штерн) Каролина, баронесса (1782–1854) — жена Соломона Мейера Ротшильда. 229, 438.
Ротшильд Соломон Мейер, барон (1774–1855) — банкир. 229, 242.
Руайе-Коллар Пьер-Поль (1763–1845) — философ и политический деятель, член Французской академии с 1827 г. 381.
Рубини Джованни Батиста (1794–1854) — итальянский оперный певец, тенор. 181, 363, 460.
Руджьери Мишель, владелец развлекательного сада Тиволи. 134.
Руджьери Пьер, брат Мишеля Руджьери, совладелец развлекательного сада Тиволи. 134.
Руссен Альбен (1781–1854) — адмирал. 346.
Руссо Жан-Жак (1712–1778). 33–34, 63–64, 98, 112.
Рэнуар Франсуа (1761–1836) — драматург и филолог. 74.
Сабран Эльзеар, граф де (1774–1846) — дядя Астольфа де Кюстина, литератор-дилетант. 65.
Сальванди Нарсис-Ашиль, граф де (1795–1856) — литератор и государственный деятель, член Французской академии с 1835 г. 75, 161 («министр просвещения»), 370, 378, 381–382, 447.
Самойлова (урожд. фон Пален) Юлия Павловна, графиня (1803–1875) — русская светская дама. 388.
Санд Жорж (наст. имя и фам. Аврора Дюпен, в замужестве Дюдеван; 1804–1876) 10, 17, 44–45, 112–114, 184–185, 392, 405, 431.
Сандо Жюль (1811–1883) — писатель. 174, 442.
Свербеева (урожд. княжна Щербатова) Екатерина Александровна (1808–1892) — корреспондентка А. И. Тургенева. 12, 20, 298, 350, 362, 363.
Свечина (урожд. Соймонова) Софья Петровна (1782–1857) — русская католичка, хозяйка салона. 418.
Севинье (урожд. де Рабютен-Шанталь) Мари, маркиза де (1626–1696) — писательница. 7, 32.
Сегон Альберик (1817–1887) — журналист. 20.
Сегюр (урожд. де Вентимиль), графиня де — жена графа Филиппа-Поля де Сегюра, хозяйка салона. 417.
Сегюр Филипп-Поль, граф де (1780–1873) — историк, политический деятель. 417.
Седен Мишель-Жан(1719–1797) — драматург. 408.
Сеймур Генри, лорд (1805–1859) — пропагандист конного спорта. 372.
Сен-Лё, герцогиня — см. Богарне Гортензия де.
Сен-Мар Анри Куаффье де Рюзе д’Эффья, маркиз де (1620–1642) — фаворит Людовика XIII, заговорщик. 166.
Сен-Марк Жирарден (наст. имя и фам. Франсуа-Огюст-Марк Жирарден; 1801–1873) — публицист, литературный критик. 438.
Сен-Симон Клод-Анри де Рувруа, граф (1760–1825) — философ-утопист. 188.
Сент-Аман (наст. имя и фам. Жан-Арман Лакост; 1797–1885) — драматург. 199.
Сент-Бёв Шарль-Огюстен (1804–1869) — поэт, прозаик, литературный критик. 17, 33–34, 309.
Сентин Ксавье-Бонифас (1798–1865) — драматург. 232.
Сервантес Сааведра Мигель де (1547–1616). 150.
Серсе Ипполит-Мари-Рене, граф де — дипломат. 360.
Симон Франсуа-Луи-Сильвен, танцовщик Оперы. 144.
Симон, шляпник. 109.
Сисери Пьер-Люк-Шарль (1782–1868) — декоратор Оперы. 388.
Скотт Вальтер (1771–1832). 63.
Скриб Эжен (1791–1861) — драматург. 62, 75, 94, 232.
Сократ (470–399 до н. э.). 172.
Сталь (урожд. Неккер) Жермена, баронесса де (1766–1817) — писательница. 8, 33, 79, 112, 184, 239, 415–416.
Стил Ричард (1672–1729) — английский писатель. 19.
Сульт Никола-Жан де Дьё, герцог Далматский (1769–1851) — маршал, председатель кабинета министров с мая 1839 по март 1840 г. и с октября 1840 по сентябрь 1847 г. 245, 285, 293, 304, 339, 340.
Суме Александр (1788–1845) — писатель, член Французской академии с 1824 г. 8, 381, 395.
Сципион Африканский Старший (ок. 235 — ок. 183 до н. э.) — римский полководец, разгромивший войска Ганнибала в сражении при Заме (202 до н. э.). 47.
Сю Эжен (1804–1857) — писатель. 11, 15, 184–185, 237, 397.
Сюз (правильно Сюсс) Аарон-Луи-Фредерик Реньо, барон де ла (1788–1860) — вице-адмирал. 390.
Сюсс Мишель-Виктор (ок. 1782–1853) — торговец картинами и писчебумажными товарами. 70.
Талейран-Перигор Шарль-Морис де (1754–1838). 67, 198, 201–202, 417.
Талльен (урожд. Кабаррюс) Тереза (1773–1835) — светская красавица, одна из вдохновительниц термидорианского переворота 1794 г. 13.
Тальма Франсуа-Жозеф (1763–1826) — трагический актер. 56, 203.
Тальони Мария (1804–1884) — танцовщица. 54, 144, 151, 410.
Тамбурини Антонио (1800–1876) — итальянский оперный певец, баритон. 363.
Тарквиний Гордый — последний царь Древнего Рима (534–509 до н. э.), изгнанный римлянами после того, как его сын Секст покусился на честь Лукреции. 451.
Тассо Торквато (1544–1595) — итальянский поэт. 183, 184, 194.
Татю (урожд. Войяр) Амабль (1798–1885) — поэтесса. 186.
Ташеро Жюль-Антуан (1801–1874) — журналист и политический деятель, левый депутат в 1836–1842 гг. 227.
Телль Вильгельм — легендарный народный герой Швейцарии. 463.
Тенирс Давид (Тенирс-младший; 1610–1690) — фламандский художник. 62, 227.
Тенирс Давид (Тенирс-старший; 1582–1649) — фламандский художник, отец Тенирса-младшего. 62, 227.
Токвиль Алексис, виконт де (1805–1859) — историк. 416.
Тольбек Жан-Батист-Жозеф (1797–1869) — композитор, автор кадрилей, вальсов и прочей танцевальной музыки. 292.
Топпен, предсказатель из сада Тиволи. 159.
Торн (1776–1859) — богатый американец, в 1835–1848 гг. живший в Париже. 293–295, 297, 462.
Тортони, владелец кафе на бульваре Итальянцев. 145, 263.
Трипе, садовод. 115.
Тургенев Александр Иванович (1784–1845) — русский литератор. 9, 12, 13, 20, 298, 350, 362, 363, 416.
Тьер Адольф (1797–1877) — политический деятель, глава кабинета министров в 1836 и в 1840 гг., член Французской академии с 1833 г. 34, 41, 66–67, 69, 193, 208, 220, 223, 242, 247, 248, 250, 293, 311–312, 333–336, 339–344, 349–351, 357, 381, 418, 457.
Тьер Луи (1760–1843) — отец А. Тьера. 334.
Тьер (урожд. Дон) Элиза (1818–1880) — жена А. Тьера. 67, 344, 389.
Тюфякин Петр Иванович, князь (1769–1845) — директор российских Императорских театров в 1819–1821 гг., в 1820–1840-е гг. активный участник парижской светской жизни. 271, 362.
Убиган Жан-Франсуа (ок. 1752–1807) — парфюмер, основатель торгового дома. 313.
Удино Никола-Шарль, герцог Реджио, граф (1767–1847) — наполеоновский маршал. 346.
Уссе Арсен (1815–1894) — журналист, литератор. 13.
Фаге Эмиль (1847–1916) — историк литературы. 37.
Фалькон Мари-Корнелия (1814–1897) — оперная певица, сопрано. 190.
Фелиси, мадемуазель — модистка. 442–443.
Фемистокл (ок. 525 — ок. 460 до н. э.) — афинский полководец. 47.
Фенелон Франсуа де Салиньяк де Ла Мот (1651–1715) — архиепископ в Камбре, писатель. 63, 135.
Фердинанд VII (1784–1833) — король Испании в 1808, а затем в 1814–1833 гг. 41, 393.
Ферье Ида (наст. имя и фам. Маргарита-Жозефина Ферран; 1811–1859) — актриса, жена А. Дюма. 191–192.
Фиески Джузеппе (1790–1836) — заговорщик-республиканец. 47.
Фирмен (наст. имя и фам. Жан-Франсуа Беккерель; 1787–1859) — актер. 191.
Флао (урожд. Мерсер Эльфинстоун, баронесса Кейт) Маргарет, графиня де (1788–1867) — хозяйка салона, жена графа де Флао. 67–68, 229.
Флао Огюст-Шарль, граф де (1785–1870) — генерал и дипломат, внебрачный сын Талейрана. 67, 201.
Флориан Жан-Пьер Клари де (1755–1794) — писатель, автор пасторалей. 369.
Флотов Фридрих Фердинанд Адольф фон (1812–1883) — немецкий композитор. 297.
Фоконпре — см. Дефоконпре.
Фонтанж Мари-Анжелика де Скорай, герцогиня де (1661–1681) — фаворитка Людовика XIV. 185, 187, 204.
Фонтен, воздухоплаватель. 77–78.
Фоссен Жан-Батист (род. 1786), ювелир. 183.
Фоше Леон (1803–1854) — журналист, политический деятель. 342.
Франкони Адольф (1801–1855) — директор Олимпийского цирка и Цирка на Елисейских полях. 145.
Франкони-старший — Франкони Антонио (1738–1836), наездник, основатель цирковой династии. 135, 145.
Франциск I (1777–1830) — король Обеих Сицилий с 1825 г., отец герцогини Беррийской. 59.
Фуа Максимильен-Себастьен (1775–1825) — генерал, либеральный политик. 9.
Фултон Роберт (1765–1815) — американский механик, создатель первого парохода. 166.
Фурье Шарль (1772–1837) — философ-утопист. 333.
Фуше Поль-Анри (1810–1875) — драматург. 62.
Фэ Леонтина — см. Вольнис Леонтина.
Халил-паша — военный министр султана Махмуда II. 265.
Хафиз-паша — командующий турецкой армией в Сирии в 1839 г. 265.
Хозрев-паша — великий визирь султана Махмуда II. 265.
Хоуп Уильям (1802–1855) — банкир голландского происхождения. 242, 293.
Цезарь Гай Юлий (102 или 100–44 до н. э.). 232, 394–395.
Чарторижская (урожд. Сапега) Анна, княгиня (1796–1864) — жена князя А. Чарторижского. 387.
Чарторижский Адам Адамович, князь (1770–1861) — русский государственный деятель, после 1831 г. глава аристократического крыла польской эмиграции во Франции. 387.
Чимароза Доменико (1749–1801) — итальянский композитор. 183.
Шарден Жан-Батист (1699–1779) — художник. 443.
Шарпантье Жерве (1805–1871) — издатель. 5.
Шаст… — см. Шастене Анриетта.
Шастене (вариант произношения: Шатене; урожд. де Лагиш) Анриетта, графиня де (1779–1863) — хозяйка салона. 363, 417.
Шатобриан Франсуа-Рене де (1768–1848) — писатель и политический деятель. 9, 42–43, 55, 60, 63–64, 76, 112, 124, 350, 381, 416.
Шевалье Мишель (1806–1879) — инженер и публицист. 350.
Шеве Шарль-Франсуа, Жан-Батист и Жозеф-Шарль — сыновья Жермена-Шарля Шеве (ум. 1832), владельца продуктовой лавки в Пале-Руаяле. 183.
Шеврёль, убийца. 437.
Шекспир Уильям (1564–1616). 63, 395.
Шенье Андре де (1762–1794) — поэт. 45, 186.
Шопен Фредерик (1810–1849). 363.
Штольц Розина (наст. имя и фам. Роза Нива или Виктуар Ноэль; 1813 или 1815–1903) — оперная певица, меццо-сопрано. 181.
Эльслер Фанни (1810–1884) — австрийская танцовщица. 54, 151, 171, 173, 190, 259.
Энгиенский Луи-Антуан-Анри де Бурбон, герцог (1772–1804) — последний представитель рода Конде. 372.
Эрар Себастьен (1752–1831) — фортепианный мастер. 163, 331.
Эспартеро Бальдомеро (1793–1879) — испанский генерал, с 1840 г. министр-президент, с мая 1841 г. регент при королеве Изабелле, избранный кортесами. 365.
Эстурмель Жозеф, граф д’ (1783–1853) — чиновник, литератор. 465.
Юрсенар Маргерит (1903–1987) — писательница. 392.
Юстиниан I (482 или 483–565) — византийский император с 527 г. 209.
Список условных сокращений
Agoult — Agoult M. d’. Mémoires, souvenirs et journaux. P., 1990. T. 1.
Apponyi — Apponyi R. Journal. P., 1913.
Balabine— Balabine V. Journal. P., 1914.
Barbey — Barbey d’Aurevilly J. Les Bas-bleus. P., 1878.
Benjamin — Benjamin W. Paris, capitale du XIXе siècle. Le Livre des Passages. P., 1993.
Boigne— Boigne A. de. Mémoires. P., 1986. T. 1–2.
Claudin — Claudin G. Mes souvenirs. P., 1884.
Délécluze — Délécluze E.-J. Journal, 1824–1828. P., 1948.
Dino — Dino, duchesse de. Chronique de 1831 à 1862. P., 1909–1910. T. 2, 3.
Faguet — Faguet E. Le vicomte de Launay // Revue des Deux Mondes. 15 septembre 1912.
Fumaroli — Fumaroli M. Trois institutions littéraires. P., 1994.
Gaehtgens. — Gaehtgens T. W. Le musée historique de Versaille // Les Lieux de mémoire. P., 1997. T. 2.
Gautier — Gautier T. Introduction // Girardin D. de. Lettres parisiennes. P., 1857. T. 1.
Gay — Gay S. Salons célèbres. P., 1837.
Giacchetti— Giacchetti C. Delphine de Girardin la muse de Juillet. P., 2004.
Guiral— Guiral P. Adolphe Thiers. P., 1986.
Imbert — de Saint-Amand. Madame de Girardin. Avec des lettres inédites de Lamartine, Chateaubriand, mademoiselle Rachel. P., 1888.
Janin— Janin J. Portraits et caractères contemporains. Bruxelles, [1859].
Lagenevais — Lagenevais F. de. <Blaze de Bury> Le feuilleton. Lettres parisiennes // Revue des Deux Mondes. 1843. T. 4, octobre.
Lamartine — Lamartine A. de. Portraits et salons romantiques. P., 1927.
L’An I — Thérenty M.-E., Vaillant A. L’An I de l’ère médiatique. Analyse littéraire et historique de La Presse de Girardin. P., 2001.
Lassère — Lassère M. Delphine de Girardin journaliste et femme de lettres au temps du romantisme. P., 2003.
Malo-1. — Malo H. Une muse et sa mère. Delphine Gay de Girardin. P., 1924.
Malo-2. — Malo H. La gloire du vicomte de Launay. P., 1925.
Mosaïquås — Thérenty M.-E. Mosaïques. Etre écrivain entre presse et roman (1829–1836). P., 2003.
Rémusat — Rémusat Ch. De. Mémoires de ma vie. P., 1960. T. 3.
Sainte-Beuve — Sainte-Beuve Ch.-A. Causeries du lundi. P., 1852. T. 3.
Thérenty — Thérenty M.-E. La case ironique: Delphine de Girardin et Théophile Gautier feuilletonistes (1836–1848) // Ironies entre dualité et duplicité. Aix-en-Provence, 2007.
Viennet — Viennet J.-P.-G. Journal. P., 1995.
Анненков — Анненков П. В. Парижские письма. М., 1983.
Вайнштейн — Вайнштейн О. Б. Денди: мода, литература, стиль жизни. М., 2005.
Гейне — Гейне Г. Собр. соч.: в 10 т. М., 1958.
Кирсанова — Кирсанова P. M. Костюм в русской художественной культуре 18 — первой половины 20 вв. М., 1995.
Кюстин — Кюстин А. де. Россия в 1839 году. СПб., 2008.
Мартен-Фюжье — Мартен-Фюжье А. Элегантная жизнь, или Как возник «весь Париж». М., 1998.
Набоков — Набоков В. В. Комментарий к роману А. С. Пушкина «Евгений Онегин». СПб., 1998.
Тургенев — Тургенев А. И. Хроника русского. Дневники (1825–1826). М.; Л., 1964.
В книге использованы иллюстрации из изданий:
Bacler d’Albe L.-A. Promenades pittoresques et lithographiques dans Paris et ses environs. P., 1829.
Marlet J.-H. Nouveaux tableaux de Paris. P., s.d.
Monnier H. Six quartiers de Paris. P., 1828.
Pugin A. Paris and its environs. London, 1831.
На развороте со шмуцтитулом воспроизведен портрет Дельфины де Жирарден работы Луи Эрсана (1824).
Примечания
1
Определение, данное очеркам Дельфины де Жирарден А. И. Тургеневым в письме к Е. А. Свербеевой от 6 февраля 1841 г. (РО ИРЛИ. Ф. 309. № 2550. Л. 28).
(обратно)2
Gautier. P. IX.
(обратно)3
Мысль, что фельетонистами (в первоначальном смысле — теми, кто заполняет газетные «подвалы» своими рецензиями) становятся по преимуществу неудачливые поэты, была общим местом эпохи; см. Mosaïques, 192–193. Считалось, что эта карьера опошляет литературный талант, увлекает его на стезю «легкой литературы» (термин критика Дезире Низара, заклеймившего эту самую легкую литературу в декабрьском номере «Ревю де Пари» за 1833 г.).
(обратно)4
Здесь и далее в тех случаях, когда я цитирую в статье фрагменты «Парижских писем», не вошедшие в настоящее издание, следом за цитатой в скобках дана отсылка к изд.: Girardin D. de. Lettres parisiennes du vicomte de Launay. P., 1986, с указанием тома и страницы.
(обратно)5
Дельфина де Жирарден была автором стихотворных сборников «Поэтические опыты» (1824) и «Полное собрание стихотворений» (1842; сюда вошли многочисленные стихи, напечатанные отдельными изданиями, в составе коллективных сборников или в периодике), поэмы «Наполина» (1834), стихотворных трагедий «Юдифь» (1843) и «Клеопатра» (1847), стихотворных комедий «Урок журналистам» (1839) и «Во всем виноват супруг» (1851), прозаических комедий «Леди Тартюф» (1853), «Радость устрашает» и «Шляпа часовщика» (обе 1854), прозаического сборника «Сказки старой девы, сочиненные для племянников» (1831), романов «Лорнет» (1832), «Маркиз де Понтанж» (1835), «Трость г-на де Бальзака» (1836), «Не играйте с горем» (1853).
(обратно)6
Girardin D. Nouvelles. Genève, 1979.
(обратно)7
Это сравнение (в устах француза XIX в. почти такой же комплимент фельетонисту, как в устах русского уподобление какого-нибудь поэта Пушкину) стало применительно к Дельфине де Жирарден почти обязательным (см., например: Barbey. Р. 36; Véron L.-D. Mémoires d’un bourgeois de Paris. P., 1945. T. 1. P. 183; Faguet. P. 370).
(обратно)8
Barbey. P. 36–37.
(обратно)9
Известно, что ее роман «Анатоль» в июне 1815 г., уже после поражения при Ватерлоо и второго отречения, читал в Мальмезоне Наполеон и что его высоко оценил Гете, который, кстати, в 1827 г. одобрительно отозвался и о стихах юной Дельфины (Malo-1. Р. 172–173; Эккерман И.-П. Разговоры с Гёте. М., 1981. С. 210).
(обратно)10
Тринадцать лет спустя Софи Гэ предоставила тяжело больной госпоже де Сталь свой парижский дом с садом; в этом доме знаменитая писательница и скончалась, причем, если верить легенде, перед смертью завещала юной дочери своей приятельницы не лиру, но собственное гусиное перо. Здесь и далее именуя автора «Парижских писем» по имени, а не по фамилии, я следую французской традиции, восходящей к XIX в. и продолженной в наши дни; именно так называют писательницу ее современные биографы (см.: Giacchetti, Lassère).
(обратно)11
Agoult. P. 239.
(обратно)12
Готье вспоминает, что когда она сочиняла, то распускала кудри по плечам, чтобы ничто не стесняло не только вдохновения, но и волос (Gautier. P. XI).
(обратно)13
Gautier. P. III.
(обратно)14
Délécluze. P. 333.
(обратно)15
По воспоминаниям уже цитированной Мари д’Агу, Софи, прослушав вместе с Дельфиной ее игру на рояле (юная Мари слыла виртуозкой), «театральным голосом» сказала молодой музыкантше: «Дельфина вас поняла», сама же Дельфина ограничилась тем, что тихонько пожала пианистке руку (Agoult. Р. 241). Портрет, нарисованный Мари д’Агу, — далеко не самая злая характеристика Софи; в свете ходили на ее счет слухи гораздо более неприятные — например, критик Этьенн Делеклюз в дневнике за 1825 г. сравнивает ее с героиней пьесы П. Мериме «Испанцы в Дании» (из сборника «Театр Клары Гасуль») — шпионкой, торгующей своей дочерью (см.: Délécluze. Р. 262–263).
(обратно)16
Дельфина, в частности, сочинила элегию «Урика» (по мотивам одноименного романа герцогини де Дюрас) и стихотворение «Исповедь Амели» (по мотивам повести Шатобриана «Рене»), «Оссианическую песнь на смерть Наполеона» и стихотворение на смерть генерала Фуа, строки из которого были высечены на могильном памятнике либерального генерала; стихотворения «Сбор пожертвований» — в помощь восставшим грекам и «На взятие Алжира». Дельфина отвечала стихами на все сколько-нибудь значительные события политической жизни 1820-х гг., так что один ехидный журналист, обыграв сказку о Коте в сапогах, назвал ее «маркизом де Карабасом парижского общества» (Malo-1. Р. 284).
(обратно)17
Тургенев. С. 378; гораздо выше оценил талант юной Дельфины другой русский слушатель, князь П. Б. Козловский, восхитившийся «ее великолепной фигурой, ее белым и свежим лицом» и ее декламацией: «Мало того что она пишет прекрасные стихи, — она еще более прекрасно их читает; ничего подобного мне никогда не доводилось слышать» (Козловский П. Б. Социальная диорама Парижа, сочинение чужестранца, проведшего в этом городе зиму 1823 и часть 1824 года. М., 1997. С. 104).
(обратно)18
Gautier. P. VI.
(обратно)19
Такое определение дал характеру юной Дельфины Ламартин (см.: Sainte-Beuve. Р. 299; Gautier. P. VI).
(обратно)20
Gautier. P. V. Злые языки, впрочем, отзывались о внешности Дельфины в ином регистре и называли ее «дочерью Венеры и Полишинеля» (Malo-1. Р. 201).
(обратно)21
Мы упоминаем лишь самые значительные из многочисленных издательских предприятий, затеянных Жирарденом до 1836 г.; более полный их перечень см.: L’An I. Р. 34–37.
(обратно)22
Giacchetti. Р. 67.
(обратно)23
Год с лишним после свадьбы, до тех пор, пока Эмиль не приобрел и не обставил особняк на улице Сен-Жорж, молодые продолжали жить вместе с матерью Дельфины. Когда же они наконец разъехались, для Софи это стало тяжким ударом (она слишком много вложила в дочь). Что касается Дельфины, то она подвела черту под своей жизнью при матери, изобразив себя и ее в ироническом (хотя и довольно добродушном) тоне в романе «Трость г-на де Бальзака» (1836), где юная поэтесса-провинциалка декламирует свои стихи в столичном салоне, а любящая матушка дает слушателям «реальный комментарий», переводя стихотворные строки на язык провинциальной прозы.
(обратно)24
Определение, данное А. И. Тургеневым в письме к Е. А. Свербеевой от 7/19 января 1841 г. (РО ИРЛИ. Ф. 309. № 2550. Л. 8).
(обратно)25
Между прочим, Дельфина сама предсказала свой поступок в фельетоне от 28 сентября 1839 г. — истории женщины, которая привела к себе в дом сына умершей любовницы своего мужа (1, 540–542). Реальность отличалась от литературы лишь тем, что любовница Эмиля госпожа Брюнетьер, урожденная Тереза Кабаррюс (дочь знаменитейшей красавицы времен Директории госпожи Талльен) не умерла, а бежала в Англию из-за долгов.
(обратно)26
Дневник А. И. Тургенева, запись от 28 мая 1838 г. (цит. по копии: РГАЛИ. Ф. 1303. Оп. 1. № 423. Л. 199); Дюрантон якобы пустил себе пулю в лоб, предварительно сунув голову в петлю, сооруженную из сорочки с меткой DG, то есть Delphine de Girardin… — так, во всяком случае, утверждали парижские сплетники и сплетницы (см.: Tamvaco J.-L. Les Cancans de l’Opéra. Chroniques de l’Académie Royale de musique et du théâtre à Paris sous les deux Restaurations. P., 2000. Т. 1. P. 402–403).
(обратно)27
По воспоминаниям приятеля Жирарденов Арсена Уссе, Эмиль, застав жену у трупа Дюрантона, «вскричал: „Значит, вы его любите?“ Она поднялась и гордо, с поразительным достоинством отвечала: „Да, сударь, я люблю этого человека, но я полюбила его лишь с той минуты, когда он испустил дух“» (Houssaye A. Les Confessions. P., 1885. Т. 2. P. 25–26).
(обратно)28
Стены в этом «гроте нереиды» были обиты тканью цвета морской волны, убийственного для брюнеток, но прекрасно подходившего белокурой хозяйке дома (Gautier. P. V.).
(обратно)29
/В файле — год 1844 фельетон от 23 июня — прим. верст./
(обратно)30
См.: L’An I.
(обратно)31
См.: Mosaïques. P. 321–378.
(обратно)32
Точно так же обстояло дело и с рекламой: в принципе она появилась на газетных страницах задолго до Жирардена; знаменитый Теофраст Ренодо, создавший в 1631 г. первую французскую газету, выпускал и другое издание — «Листок адресного бюро», где печатал рекламу (L’An I. Р. 200). Но Жирарден, искавший способов удешевить газету, уделил рекламе особое внимание. «Пресса» печатала рекламы не больше, чем газеты конкурентов, но (благодаря тиражной и ценовой политике) больше на ней зарабатывала: до половины дохода Жирардену приносила именно реклама (L’An I. Р. 202–203).
(обратно)33
Впоследствии в той же рубрике стали печататься романы с продолжением (получившие — по месту расположения на газетной полосе — название «романы-фельетоны»). Первым романом, напечатанным в периодике с продолжением, считается «Старая дева» Бальзака, опубликованная осенью 1836 г. (23 октября — 4 ноября) в 12 номерах «Прессы» (кстати, не в рубрике «Фельетон», а в рубрике «Смесь»), Вообще этот текст Бальзака был «романом-фельетоном» лишь по форме публикации, но не по форме рассказа; в нем еще не присутствуют те фирменные знаки романа-фельетона (дробление на небольшие главы, умение оборвать главу на самом интересном месте ради нагнетания любопытства), которые впоследствии стали приметами творчества короля романа-фельетона — Эжена Сю. См.: (Quéffélec L. Le roman-feuilleton français au XIXe siècle. P., 1989; La querelle du roman-feuilleton. Littérature, presse et politique, un débat précurseur (1836–1848). Grenoble, 1999; Guise R. Balzac et le roman feuilleton // L’Année balzacienne. 1964. P., 1964. P. 283–338.
(обратно)34
Лучшие страницы в «Лорнете» — вставной номер, не имеющий никакого отношения к сюжету, описание многоэтажного дома в Сен-Жерменском предместье, который «служит эмблемой общества, с той лишь разницей, что презрение в нем распространяется не сверху вниз, как в свете, а снизу вверх, а уж потом с верхнего этажа спускается в подвал»: дело в том, что обитатель первого этажа не желает породниться с теми, кто живет на втором, эти презирают тех, кто живет на третьем (ибо чем выше этаж, тем менее знатны и богаты жители), и так до самого последнего этажа, где обитает журналист, презирающий всех и вся. В романах Дельфине отлично удавались нравоописательные вставки; напротив, в бессюжетных фельетонах она порой набрасывала прекрасные завязки для возможных романов. 28 сентября 1839 г. в очерке о «неведомых романах буржуазной жизни» упоминается новый способ «поэтизации вещей самых коммерческих», например газетных объявлений: «Но какая связь между любовью и газетными объявлениями? Что может значиться в таком объявлении? Я вас люблю без памяти? — Нет, я буду вас ожидать на такой-то улице около такого-то дома с такого-то по такой-то час. — И как же это сообщить? — Очень просто; поместить объявление, кончающееся словами: „За разъяснениями просим обращаться к г-ну Лефевру или г-ну Бернару, на такой-то улице…“ — О! ну если газетные объявления превращаются в любовные послания, значит, нынче в самом деле весь мир сделался романическим…» (1, 545).
(обратно)35
Lassère. Р. 171.
(обратно)36
А вовсе не 28-го, как утверждают многие авторы, даже те, кто пишут специально о Дельфине; 28 сентября — дата сочинения этого фельетона, опубликован же он был на следующий день.
(обратно)37
Фельетон, не вошедший в книжные издания.
(обратно)38
Вторую половину 1841 г. и весь 1842 год виконт де Лоне молчал: Дельфина занималась сочинением трагедии «Юдифь», а затем вообще уехала из Парижа в свое имение Бурганёф. Вернувшись в Париж в декабре 1842 г., она сочинила всего два очерка: один был опубликован 12 декабря 1842 г., другой — 1 января 1843 г.; пропустила она и 1843 год, когда снова была занята другим: 24 апреля ее «Юдифь» с Рашель в главной роли была поставлена во Французском театре, но успеха не имела и выдержала всего 8 представлений. Неоднозначную оценку критиков вызвало и появившееся в том же 1843 г. первое книжное издание фельетонов под названием «Парижские письма». Дельфина переживала все это довольно болезненно; тем не менее в 1844 году в ответ на просьбы читателей и настояния редакции «Прессы» она вновь вернулась к сочинению фельетонов виконта де Лоне.
(обратно)39
Mirecourt E. de. Mme de Girardin (Delphine Gay). P., 1855. P.61–62.
(обратно)40
/В файле — год 1840 фельетон от 29 марта — прим. верст./
(обратно)41
См.: Lagenevais. P. 137; L’An I. P. 266.
(обратно)42
О многочисленных функциях псевдонимов в журналистике и литературе 1830-х гг. см.: Mosanques. Р. 152–182. Любопытно, что, хотя Дельфина прятала свое имя под псевдонимом, она при этом печаталась в рубрике, которая сама по себе была очень важным шагом на пути утверждения авторской индивидуальности в газете: дело в том, что традиционно в политических газетах все материалы, располагавшиеся на полосе выше фельетона, над разделявшей верх и низ линейкой, печатались без подписи; подписанными выходили только материалы «фельетонов» (Thérenty. Р. 82–83).
(обратно)43
Единственное отступление от этого правила она позволила себе в очерке, датированном 30 июня 1848 г., который не был напечатан в «Прессе» и вошел в собрание «Парижских писем» лишь в 1857 г. Трагический рассказ о том, как Дельфина пыталась пройти по Парижу, охваченному народным восстанием, чтобы добраться до редакции газеты, и как переписывалась с мужем, попавшим в тюрьму Консьержери, написан от первого лица единственного числа (2, 507–513).
(обратно)44
/В файле — год 1837 фельетон от 25 ноября — прим. верст./
(обратно)45
Одна из исследовательниц предположила, что, говоря «мы», Дельфина объединяет в этом местоимении множественного числа самое себя и вымышленного виконта де Лоне, — предположение остроумное, но, на мой взгляд, немного натянутое (см.: Nesci С. Le flâneur et les flâneuses. Les femmes et la ville à l’époque romantique. Grenoble, 2007. P. 207).
(обратно)46
Janin. P. 52.
(обратно)47
К этому своему прототипу Дельфина открыто отсылает в фельетоне от 21 сентября 1839 г., который весь посвящен сопоставлению «утра хорошенькой женщины в 1812 году», каким оно описано «Отшельником», и «утра хорошенькой женщины в 1839 году», каким оно видится виконту де Лоне (1, 530–537).
(обратно)48
В реальности очерки Дельфины и Бальзака роднит только название; Бальзак в этом цикле еще не тот нравоописатель, к которому привыкли читатели «Человеческой комедии», а политический публицист, которого, по признанию его новейших комментаторов, сегодня трудно понимать без пояснения едва ли не каждого слова; см.: Balzac Н. de. Œuvres diverses. P., 1996. Т. 2. P. 1651–1652. (Bibliothèque de la Pléiade).
(обратно)49
Mosaïques. P. 275 et suiv.
(обратно)50
Ср. свидетельство такого осведомленного читателя, как А. И. Тургенев. 1/13 марта 1841 г. он писал своей московской корреспондентке Е. А. Свербеевой: «Сегодня в Французском курьере вторая статья о парижских комеражах (bruits de Paris) большого света; но M Lurine, кажется, мало в него заглядывает и дает отчет понаслышке, да и сотрудники его: les Guêpes [Осы], les Nouvelles à la main [Скандальная хроника], Кошиншинцы, и пр., и пр., истощили, по-видимому, весь запас сплетней и анекдотов; с великим постом и фельетоны становятся тощи: только La Presse отличается изобилием в любопытных подробностях парижской животрепещущей жизни» (РО ИРЛИ. Ф. 309. № 2550. Л. 68–68 об.); ту же мысль Тургенев развивает и 28 марта / 9 апреля 1841 г. в письме к П. А. Вяземскому: «Журналы тощи. Les Guêpes, les Nouvelles à la main, les Lettres cochinchinoises, le Feuilleton mensuel [Ежемесячный фельетон], и пр., и пр., перебивают у них лавочку комеражей и дрязгов салонных: одна Мте Эмиль Жирарден привлекает прелестями рассказа и добросовестным описанием мелких событий в парижском обществе читателей ее фельетона» (Там же. Л. 81 об.; «Кошиншинскими», то есть якобы написанными жителями Южного Вьетнама, назывался сборник сатирических нравоописательных зарисовок Альберика Сегона).
(обратно)51
См.: Thérenty М.-Е. La littérature au quotidien. Poétiques journalistiques au XIXe siècle. P., 2007. P. 244.
(обратно)52
Martin-Fugier A. La Vie élégante, ou la Formation du Tout-Paris, 1815–1848. P., 1990 (рус. пер.: Мартен-Фюжье).
(обратно)53
О Жуи и его «отшельнике» как представителе «парижской литературы» см.: Monod S. Aux sources de l’enquête: autour de l’Hermite de la Chaussée d’Antin // Séminaire «Signe, déchiffrement et interprétation», URL: . О предшественниках Дельфины в жанре городской хроники см. также: Redouane N. La création d’un espace mythique dans les Lettres parisiennes // Itinéraires du XIXe siècle. Toronto, 1996. P. 87–88.
(обратно)54
Lagenevais. P. 147–148.
(обратно)55
См.: Fumaroli. P. 176.
(обратно)56
См.: L’Art de la conversation / Textes établis par J. Hellegouarc’h. P., 1997 (Classiques Garnier).
(обратно)57
Барбе д’Оревийи сформулировал это следующим образом: «Госпожа де Жирарден пишет свои „Парижские письма“ так же, как рассказывала бы их; это беседа, которая обращается к вашим глазам, а не к вашим ушам, но при этом не перестает быть беседой» (Barbey. Р. 41).
(обратно)58
/В файле — год 1844 фельетон от 23 июня — прим. верст./
(обратно)59
/В файле — год 1840 фельетон от 18 апреля — прим. верст./
(обратно)60
/В файле — год 1836 фельетон от 29 сентября — прим. верст./
(обратно)61
/В файле — год 1837 фельетон от 25 ноября — прим. верст./
(обратно)62
О различиях в рекламной стратегии Дельфины и современных ей модных журналов см.: Хан Х. Как писали о моде во Франции эпохи Июльской монархии (1830–1848): журналы мод и «Парижские письма» г-жи де Жирарден // Теория моды. 2006–2007. № 2. С. 193–218. Кстати, по словам такого информированного очевидца, как Готье, порой Дельфина вставляла в фельетоны короткие рассказы о модных новинках по требованию верстальщиков — чтобы заполнить место на полосе (Lassère. Р. 171).
(обратно)63
Mosaïques. P. 186.
(обратно)64
Термин В. Беньямина; о французской «панорамической литературе» см.: Romantisme. 2007. № 136 (L’Œuvre-monde au XIXe stècle).
(обратно)65
О физиологиях см., в частности: Sieburth R. Une idéologie du lisible: le phénomène des «Physiologies» // Romantisme. 1985. № 45. P. 39–60; Preiss N. Les «Physiologies» en France au XIXе siècle. Étude historique, littéraire et stylistique. Mont-de-Marsan, 1999.
(обратно)66
Benjamin. P. 26.
(обратно)67
Пробки уже затрудняли жизнь парижан, хотя слово это еще не было изобретено. Парижане говорили о «цепи» (file) экипажей; 1 февраля 1840 г. Дельфина описывает бесконечную и бессмысленную перебранку, которую супружеская пара ведет в карете, ожидая своей очереди в такой «цепи», и замечает: «В конце концов дама задается вопросом, не лучше ли было бы провести вечер дома у камелька; ведь это поистине унизительно — нарядиться самым блестящим образом ради того, чтобы провести большую часть вечера в экипаже наедине с собственным мужем» (1, 603).
(обратно)68
Как ни странно, порой актуально звучит даже ирония Дельфины по поводу ужасного современного языка; иные слова-паразиты вполне узнаваемы. Вот один из примеров нелепых фраз, произносимых элегантными парижанками: «Благодарю вас, матушка поправилась; она еще немного слаба, но в целом чувствует себя хорошо» (2, 354, 8 декабря 1844 г.). Это, как мне кажется, оправдывает редкие анахронизмы, который я позволила себе в переводе.
(обратно)69
/В файле — год 1840 фельетон от 23 мая — прим. верст./
(обратно)70
Ведь понимание парижской жизни — особая наука, доступная далеко не каждому. Дельфина не раз подчеркивала, что ее наблюдения — не общефранцузские, а сугубо парижские. 11 декабря 1842 г., вернувшись в Париж после долгого отсутствия, она убеждается, что многого не понимает: «Все дело в том, что парижская жизнь — такой предмет, который надобно исследовать в течение многих лет; все дело в том, что вести это существование, совершенно искусственное и совершенно особенное, способен лишь тот, кто умеет лицемерить без труда, болтать глупости без усилия, предаваться радостям тщеславия без остановки, а все эти свойства возможно приобрести только ценой постоянного пребывания в свете, ибо вдали от света они очень скоро утрачиваются; все дело в том, что понять элегантное наречие салонов способен лишь тот, кто говорил на нем и накануне; все дело в том, что уловить и оценить все эти оттенки претенциозности, все эти разновидности комичности способен лишь тот, кто наблюдал за их изменением и развитием…» (2, 157–158). Пассаж, разумеется, сатирический, но передающий и реальное состояние дел.
(обратно)71
25 февраля 1845 г., приступая к рассказу об очередном карнавале, Дельфина замечает со вздохом: «Нам предстоит в восьмой раз рассказать о парижском карнавале. Дело нелегкое. Трудность заключается в том, что у народов непостоянных развлечения всегда одни и те же, так что историку, который пожелал бы описывать во всех подробностях эти однообразные, периодически повторяющиеся безумства, пришлось бы вечно твердить одно и то же» (2, 377) — по этой причине в более поздние годы подробные описания ежегодных праздников сменяются «точечными» указаниями на то, что прибавилось нового в данном году. Впрочем, над рутиной парижской жизни Дельфина иронизировала с самого начала своей журналистской деятельности: 9 ноября 1836 г. она описывает прием в Академию водевилиста Дюпати, хотя это торжественное событие состоялось лишь на следующий день; процедура-то вполне предсказуемая… (1, 25–26).
(обратно)72
Barbey. Р. 36.
(обратно)73
Thérenty. P. 83–84.
(обратно)74
/В файле — год 1837 фельетон от 30 марта — прим. верст./
(обратно)75
/В файле — год 1841 фельетон от 13 июня — прим. верст./
(обратно)76
/В файле — год 1839 фельетон от 1 июня — прим. верст./
(обратно)77
Gautier. P. VIII.
(обратно)78
/В файле — год 1837 фельетон от 2 декабря — прим. верст./
(обратно)79
/В файле — год 1839 фельетон от 1 июня — прим. верст./
(обратно)80
/В файле — год 1844 фельетон от 12 ноября — прим. верст./
(обратно)81
/В файле — год 1840 фельетон от 29 марта — прим. верст./
(обратно)82
О том, насколько взвешенно Дельфина смотрела на соотношение аристократии и демократии в современной ей Франции, свидетельствует фельетон от 27 октября 1844 г. Пока во Франции аристократы боролись с демократами, говорит Дельфина, совершенствовались и те и другие, аристократы становились сильнее, а демократы — цивилизованнее; полная же победа одной из сторон пошла бы нации во вред: при полной победе аристократии нация слабеет и тупеет, делается томной и вялой, а при полной победе демократического принципа она становится грубой и вульгарной. В ожидании победы каждая из сторон учится у противника не лучшему, а худшему; так, аристократы усвоили равенство не в чувствах, а в одежде; они утратили величие, но сохранили спесь; равенство для них означает лишь одно — право одеваться так же скверно, как их привратник, и отправляться в танцевальную залу плясать в обществе собственных ливрейных лакеев (2, 331–332).
(обратно)83
См.: Мартен-Фюжье. С. 406–410.
(обратно)84
На противоборствующие политические лагери Дельфина также накладывала свою «таксономическую» сетку и писала о соперничестве «старых и молодых пустомель», «партии себялюбивых собственников» и «партии завистливых пролетариев» (наст. изд., с. 351 /В файле — год 1841 фельетон от 24 января — прим. верст./), наконец, о противостоянии тех, которые начертали на своих знаменах слово «расстрелять!» и тех, которые избрали своим лозунгом слово «гильотинировать!» (наст. изд., с. 455 /В файле — год 1848 фельетон от 3 сентября — прим. верст./).
(обратно)85
/В файле — год 1839 фельетон от 31 августа — прим. верст./
(обратно)86
/В файле — год 1841 фельетон от 13 июня — прим. верст./
(обратно)87
Хотя по частным поводам виконт де Лоне в самом деле спорил с газетой, в которой печатал свои фельетоны; так, 21 февраля 1847 г. Дельфина встает на защиту Александра Дюма, который в это самое время судился с газетой «Пресса», поскольку задолжал Жирардену обещанные по договору тексты (2, 437–442).
(обратно)88
NettementA. Etudes critiques surle feuilleton-roman. P., 1845. T. 1. P. 2–3.
(обратно)89
См.: L’An I. P. 127–141.
(обратно)90
/В файле — год 1847 фельетон от 11 апреля — прим. верст./
(обратно)91
См.: Malo-2. P. 106; Дельфине видеть это было, вероятно, тем более обидно, что она ненавидела чернильные пятна и всегда старалась держать руки в чистоте.
(обратно)92
Реплика великой княгини Елены Павловны в разговоре с маркизом де Кюстином в Петербурге летом 1839 г. (Кюстин. С. 175).
(обратно)93
Lagenevais. Р. 142.
(обратно)94
Цит. по: Giacchetti. Р. 170.
(обратно)95
Lagenevais. Р. 136.
(обратно)96
См.: Lyon-Caen J. La Lecture et la Vie. Les usages du roman au temps de Balzac. P., 2006. P. 56–88. Сто лет спустя сходные обвинения предъявлял «фельетонной» культуре Г. Гессе в «Игре в бисер».
(обратно)97
Sainte-Beuve. Р. 302, 315.
(обратно)98
Lamartine. Р. 161. Великий поэт, надо сказать, хотя и был Дельфине другом, проявлял поразительную слепоту в оценках; 25 июля 1841 г. он советовал ей оставить забавную веселость, которая есть не что иное, как «прелестная гримаса», и написать «великую книгу человеческой или светской философии, подобную „О Германии“ госпожи де Сталь» (Imbert. Р. 83) — т. е. он рекомендовал Дельфине перестать делать то, что умела делать она одна, и начать делать то, что умели и другие…
(обратно)99
/В файле — год 1837 фельетон от 16 марта — прим. верст./
(обратно)100
Sainte-Beuve. P. 313.
(обратно)101
He меньший восторг вызывали у нее каламбурные глупости, сочиненные нарочно; это пристрастие роднило ее с Бальзаком и Готье, которые, по слухам, помогали ей придумывать «ляпсусы» для специально изобретенного персонажа — дамы, которая английское слово steeple-chaise [стипль-чез, скачки] толковала как французское sept petites chaises — семь маленьких стульчиков. Я опустила в настоящем издании реплики «дамы с семью стульчиками», потому что они слишком укоренены в стихии французского языка; но один ее «перл» можно переложить на русский довольно точно; вместо «бродить как неприкаянный» эта дама говорила «бродить как неприкованный» (2, 77).
(обратно)102
/В файле — год 1840 фельетон от 1 августа — прим. верст./
(обратно)103
Сходным образом и обсуждая статус женщины, Дельфина требует не политического и не социального равенства, а только морального (см. в наст. изд. фельетон от 12 ноября 1844 г. /В файле — год 1844 фельетон от 12 ноября — прим. верст./). Характерно, что представительницы «ангажированной» женской прессы вызывали у нее нещадные насмешки, а после революции 1848 г., скорбя о том, что революция эта ничего не сделала для улучшения статуса женщины, она, однако, ничуть не солидаризировалась с тогдашним феминизмом.
(обратно)104
/В файле — год 1848 фельетон от 13 мая — прим. верст./
(обратно)105
См.: Giacchetti. P. 207.
(обратно)106
Gautier. P. IX.
(обратно)107
Morgàn Ch. A. Les chiffons de M(éd)use: Delphine de Girardin, joumaliste // Romantisme. 1994. № 85. P. 65.
(обратно)108
Назову, в частности, сборник новелл «Бабушкины сказки» (в оригинале «Contes d’une vielle fille à ses neveux»; пер. П. Никольского, 1834); романы «Лорнет» (1834; пер. А. Зражевской), «Маркиз де Понтанж» (1836); «Трость Бальзака» (1837); комедия «Леди Тартюф» (1854; в журнале «Пантеон»; отд. изд. под назв. «Сплетня» — 1889). Замечу, что в каталоге РГБ сочинения Эмиля де Жирардена в русских переводах, включая брошюру о женском вопросе 1872 г. и брошюру о турецких делах 1876 г., приписаны Дельфине (наглядное воплощение пословицы «муж и жена — одна сатана»).
(обратно)109
Пользуюсь случаем выразить искреннюю признательность Дине Годер, которая первой оценила фельетоны виконта де Лоне и «приютила» их на своем сайте stengazeta.net, где в рубрике «Париж Дельфины де Жирарден» доступны некоторые тексты, вошедшие в настоящий сборник.
(обратно)110
Faguel. P. 392.
(обратно)111
В Португалии с 1828 г. шла борьба за власть между королевой Марией II Брагансской и ее дядей Мигелем Брагансским, узурпировавшим у нее корону; в 1834 г. Мария возвратилась на престол, а 10 сентября 1836 г. свершилась «сентябрьская революция»: под давлением народа, поддерживаемого армией, королева согласилась вновь ввести в действие либеральную конституцию, впервые принятую в 1822 г. Гражданская война шла и в Испании; здесь сторонники вдовы Фердинанда VII Марии-Кристины, регентши при малолетней королеве Изабелле, сражались с теми, кто поддерживал брата покойного короля, дона Карлоса (карлистами). В августе 1836 г. в Испании произошла так называемая «революция в Ла-Гранье», участники которой вынудили королеву-регентшу вновь провозгласить либеральную конституцию 1812 г. Народные волнения в сентябре 1836 г. достигли такой силы, что заставляли опасаться свержения в Испании королевской власти и установления республики; ситуация эта подробно освещалась в парижских ежедневных газетах, в том числе и в «Прессе». Во Франции 6 сентября был назначен кабинет под руководством графа Моле, пришедший на смену кабинету Тьера, находившемуся у власти с 22 февраля 1836 г.; 19 сентября этот кабинет был дополнен двумя министрами: военным (генерал Бернар) и торговли (Мартен из Северного департамента). Одной из причин падения левоцентристского кабинета Тьера было желание его главы оказать вооруженную поддержку испанским революционерам — желание, которое встретило решительное сопротивление короля Луи-Филиппа, известного своим миролюбием.
(обратно)112
Капотами называли как свободные женские платья для улицы, так и головные уборы. Дельфина, по всей вероятности, имеет в виду капот-шляпку — головной убор жесткой устойчивой конструкции, у которой на затылке не было полей вовсе, а по бокам они были очень широки и стянуты лентами (см.: Кирсанова. С. 117–118); ср. в фельетоне от 15 декабря 1836 г.: «Очень хорошенькие женщины ввели в моду стеганые капоты, подбитые ватой, — и совершенно напрасно. Тотчас все прочие дамы пожелали им уподобиться и водрузили на голову те материи, какими прежде прикрывали ноги. Некоторые оказались особенно изобретательными: они вытащили из комода старую ватную душегрею дедушки академика, музыканта или аптекаря, эллиниста, ботаника или экономиста — и соорудили себе из этих остатков учености модные капоты. Это еще не все: сверху они воткнули два пера; между тем капоты эти (завезенные к нам из Германии) хороши только в качестве неглиже: они очень удобны для путешествующих и выздоравливающих, но надевать их для красоты — признак очень дурного вкуса. К счастью, две известные нам толстые дамы последовали этой моде. Значит, она продержится недолго: перед этими дамами устоять невозможно» (1, 44–45). Атлас — разновидность плотного шелка, поэтому Дельфина считала капоты, сделанные из него, зимними и не соответствующими парижскому сентябрю; ср. ее обращение к парижским дамам в фельетоне 4 апреля 1840 г.: «Всю зиму вы носите атлас, смените же его летом на ткани более легкие» (1, 647).
(обратно)113
В 1833 г. в Париже было основано «Общество соревнователей улучшения конских пород во Франции», в которое входили посетители скачек, коннозаводчики и любители верховой езды; стараниями его членов в 1834 г. в Шантийи был открыт ипподром, где в присутствии многотысячной толпы зрителей проходили скачки. В том же 1834 г. создатели «Общества соревнователей» основали в Париже другой модный кружок, также имевший непосредственное отношение к скачкам, — Жокей-клуб.
(обратно)114
Дельфина обыгрывает название мемуарного сочинения Ф.-Р. де Шатобриана «Замогильные записки»: по завещанию автора оно должно было увидеть свет лишь после его смерти, однако вся читающая Европа знала о существовании этого текста и с нетерпением ждала его публикации. Дельфина входила в тот узкий круг избранных, которые получали возможность присутствовать на чтениях отдельных глав из книги, происходивших время от времени в салоне госпожи Рекамье в Аббеи-о-Буа. Дельфина с юности восхищалась талантом Шатобриана, а он еще в 1823 г. сделал ей в письме изысканный комплимент: «Теперь я знаю, почему вы так хорошо декламируете стихи: этот язык вам родной» (письма Шатобриана к Дельфине см. в: Imbert. Р. 149–169).
(обратно)115
Премьера «Эсмеральды» — оперы, музыку которой сочинила Луиза-Анжелика Бертен, дочь главного редактора официозной газеты «Журналь де Деба», состоялась в парижской Опере 14 ноября 1836 г. Виктор Гюго положил в основу либретто свой роман «Собор Парижской Богоматери». Пресса у спектакля была сочувственная, но недоброжелатели объясняли это многочисленными знакомствами Бертена (см.: Viennet. Р. 191); спектакль выдержал всего восемь представлений, причем последние были освистаны.
(обратно)116
Другое название театра, более известного в России как «Комеди Франсез».
(обратно)117
Объект иронии Дельфины — возраст знаменитой драматической актрисы мадемуазель Марс, которой в 1836 г. исполнилось 57 лет, что, однако, не мешало ей, как и в прежние годы, играть юных героинь естественно и блистательно. Любопытно, что Барбе д’Оревийи в своем очерке о Дельфине сравнивает ее мастерство рассказчицы с актерским мастерством мадемуазель Марс, находя у обеих одинаковую легкость и одинаковое изящество (Barbey. Р. 41).
(обратно)118
Жорж Санд разводилась с мужем, Казимиром Дюдеваном, который развода давать не хотел и опротестовывал решения суда, благоприятные для Жорж Санд. Поэтому процедура оказалась мучительной и длилась с февраля по июль 1836 г.
(обратно)119
Ламартин при Июльской монархии активно занимался политической деятельностью: в 1833 г. он был избран депутатом от Берга (Северный департамент) и одновременно стал членом Генерального совета бургундского департамента Сона-и-Луара, а в 1836 г. его возглавил (Ламартин был уроженцем Макона — главного города этого департамента). Дельфина познакомилась с Ламартином в 1826 г. в Италии, у водопада в городе Терни, и с этих пор двух писателей связывали отношения, которые Ламартин позднее назвал «дружбой с первого взгляда». Еще точнее было бы, вероятно, назвать их любовной дружбой; так никогда и не став любовной связью в физическом смысле слова, отношения эти были все-таки чем-то большим, чем простое товарищество; Дельфина боготворила Ламартина, а он в мемуарном очерке уточнял: «Я любил ее до самой смерти, ни разу не увидав в ней женщину: я любил ту богиню, какая впервые явилась передо мною в Терни» (Lamartine A. de. Portraits et salons romantiques. P., 1927. P. 174, 161–162).
(обратно)120
Жюль Жанен каждый понедельник печатал в газете «Журналь де Деба» рецензии на новые спектакли парижских театров; злые языки упрекали его в том, что спектакли он смотрит невнимательно и путает в своих рецензиях имена актеров и их роли (см.: Mirecourt E. Jules Janin. P., 1854. P. 81–83), а сам он признавался, что, поскольку не может присутствовать одновременно на двух спектаклях в двух разных театрах, отправляет на второе представление помощника, «юного белокурого критика». Ироническое сравнение Жанена с Людовиком Святым основывается на эпизоде, описанном первым биографом короля Жаном де Жуанвилем: Людовик усаживался под дубом в Венсеннском лесу и там самолично, не прибегая к помощи судей, разрешал конфликты подданных. Отношения Жанена с Дельфиной знали самые разные периоды — от полного разрыва после того, как в 1839 г. Жанен резко отрицательно оценил ее комедию «Урок журналистам» (в которой усмотрел — и не без оснований — безжалостный приговор всему журналистскому цеху), до примирения в конце жизни Дельфины: в 1854 г. Жанен восторженно оценил комедию госпожи де Жирарден «Радость устрашает», а после смерти писательницы именно он произнес над ее могилой проникновенную речь, от лица всего своего поколения назвав умершую «наше дитя, наша сестра, наш товарищ, наша любимая и улыбчивая Дельфина» (цит. по: Lassère. Р. 302). Впрочем, на первое книжное издание «Парижских писем» (1843) Жанен отозвался «кисло-сладкой» рецензией, где оценил пассаж, касающийся его самого, как неуместный, а Дельфину сравнил с ветошником, подбирающим на улице всякий хлам, хотя и признал, что этот хлам она преобразует в нечто очаровательное (см.: Janin. Р. 54, 49–50).
(обратно)121
Анри де Латуш более всего известен как публикатор первого издания стихотворений Андре Шенье (1819), однако он оставил немало собственных сочинений, достойных внимания, в частности исторический роман об андрогине «Фраголетта» (1829). Дельфина знала Латуша с юности: он был другом ее матери и очень сочувственно оценил первый поэтический сборник самой Дельфины (Malo-1. Р. 195–196), которая, в свою очередь, была высокого мнения о его таланте (см. похвалы его поэтическому сборнику «Прощания» в наст. изд., с. 389 /В файле — год 1844 фельетон от 3 марта — прим. верст./). С 1832 г. Латуш постоянно жил в Ольне, деревушке в нескольких лье к юго-западу от Парижа, где выстроил себе «швейцарское шале», которое Дельфина восторженно описала в очерке от 6 июля 1837 г. (1, 179–181).
(обратно)122
Реминисценция из мольеровского «Тартюфа» (д. 1, сц. 4), где Оргон в ответ на рассказ служанки Дорины о том, что Тартюф «еще стал здоровей, румяней и дородней» и «в постели пуховой храпел до бела дня», восклицает: «Бедняга!»
(обратно)123
Король Карл X, свергнутый с престола и изгнанный из Франции в результате Июльской революции 1830 г., с 1832 г. жил на территории Австрийской империи, в Праге, со своей семьей, в том числе с внуком, герцогом Бордоским, которому он в июле 1830 г. безуспешно пытался передать корону. Посещение изгнанного короля было знаком фронды по отношению к Июльской монархии и свидетельствовало о принадлежности посетителя к легитимистам, то есть сторонникам старшей ветви Бурбонов, которые считали короля Луи-Филиппа, представителя младшей ветви, узурпатором и отказывались служить новой власти.
(обратно)124
Коммерческие карточные игры.
(обратно)125
Парижские балы, как правило, начинались поздно — около десяти вечера, а порой и в полночь — и продолжались до четырех, а то и до шести часов утра.
(обратно)126
На улице Мира в центре фешенебельного правобережного Парижа располагались роскошные гостиницы, в которых любили останавливаться богатые иностранцы: англичане и русские.
(обратно)127
Сад Тюильри примыкал к одноименному королевскому дворцу и являлся собственностью короля, однако монарх бесплатно предоставлял доступ туда всем желающим; впрочем, при Июльской монархии по приказу короля часть сада была отгорожена и отведена исключительно для прогулок королевской семьи. В число достопримечательностей сада помимо статуй входила померанцевая аллея.
(обратно)128
Фаэтуза — одна из Гелиад, дочерей Солнца и сестер Фаэтона, которые оплакивали его гибель и превратились в Тополя (см.: Овидий. Метаморфозы. 3, 340–366).
(обратно)129
Трехцветное знамя пришло на смену флагу с бурбоновскими лилиями после Июльской революции 1830 г. В последней фразе очерка содержится намек на нестабильность июльского режима. В первой половине 1830-х гг. в Париже более или менее регулярно вспыхивали народные волнения, а в 1835 г. в годовщину революции король едва не погиб от взрыва «адской машины» республиканца Фиески.
(обратно)130
Эти два квартала, располагающиеся на правом берегу Сены довольно далеко друг от друга, имели совершенно различную репутацию: Маре, застроенный в начале XVII в., к 1830-м гг. превратился в своего рода глухую провинцию внутри Парижа, и модники его игнорировали; квартал Шоссе-д’Антен, напротив, начал активно застраиваться только в 1820-е годы и был символом модности и динамичности. Подробнее см. в наст. изд. в фельетонах от 1 июня 1839 г. и 18 января 1840 г. /В файле — год 1839 фельетон от 1 июня, год 1840 фельетон от 18 января — прим. верст./.
(обратно)131
См. описание деятельности этих комиссионеров, или, по Далю, «исполнителей поручений», в книге русского путешественника: «Если вам нужно послать какую-нибудь посылку, к вам присылают комиссионера, который за 20 су готов идти на край Парижа. Комиссионеры стоят на углу и ждут приказаний» (Строев В. М. Париж в 1838 и 1839 году. СПб., 1842. Ч. 1. С. 96).
(обратно)132
«Мария, или Три эпохи» — трехактная комедия в прозе Виржини Ансело, поставленная на сцене «Комеди Франсез» в 1836 г. О мадемуазель Марс см. выше примеч. 6 (В файле — примечание № 116 — прим. верст.).
(обратно)133
Пятиактная драма М.-Н. Балиссона де Ружмона, поставленная в 1836 г. на сцене театра «У ворот Сен-Мартен».
(обратно)134
Мария, героиня пьесы госпожи д’Ансело, влюблена в д’Арбеля, но жертвует своей любовью ради обедневшего отца и выходит замуж за богача Форестье. Она хранит верность нелюбимому мужу, однако, став вдовой, собирается наконец соединить свою судьбу с д’Арбелем, который в течение 17 лет посещал ее дом и, кажется, оставался по-прежнему в нее влюблен. Но тут выясняется, что в д’Арбеля влюблена Сесиль, дочь Марии, — и заглавная героиня пьесы вновь приносит себя в жертву, на сей раз не отцу, а дочери. К пьесе «Мария» Дельфина возвратилась в не вошедшем в книжные издания фельетоне от 3 ноября 1836 г. Здесь она недоумевает, в частности, относительно того, что д’Арбель в третьем акте внезапно появляется с орденом Почетного легиона на груди; до сих пор, пишет Дельфина, не было случаев, чтобы этим орденом награждали за любовное постоянство.
(обратно)135
Применение — название одной из риторических фигур; то, что содержит в себе намек на кого-либо или может быть понято как такой намек; ср. у Пушкина: «сия ценсура будет […] находить везде тайные применения, allusions и затруднительности — а обвинения в применениях и подразумениях не имеют ни границ, ни оправданий» (черновик письма к А. Х. Бенкендорфу от 18–24 февраля 1832 г.).
(обратно)136
Речь идет о мужчинах во вторых рядах лож. В партер женщин стали допускать очень поздно — только во второй половине XIX в. До этого времени на билетах в партер ставили специальную помету — «не для дам»; позже стали писать — «для дам, но без шляп» (поскольку пышные дамские шляпы заслоняли сцену). Но когда дамы сидели в ложах, они головных уборов не снимали.
(обратно)137
Капельдинерши (ouvreuses; дословно «открывательницы лож») не только провожали тех зрителей, которые абонировали ложу на целый год, на их места, но еще и сдавали внаем скамеечки, на которые дамы могли поставить ноги во время спектакля; цена скамеечки зависела от того, в каком ярусе находилась ложа.
(обратно)138
Литератор и королевский библиотекарь Жан Вату был одним из приближенных Луи-Филиппа (молва даже объявляла его побочным сыном короля); молодой человек, отзывавшийся о нем отрицательно, принадлежал, очевидно, к оппозиционному, скорее всего легитимистскому, лагерю. В 1820-е гг. Вату бывал в салоне Софи Гэ, и Дельфина ожесточенно спорила с ним о литературе, но была очень высокого мнения о его остроумии (Malo-1. Р. 165).
(обратно)139
Луксорский обелиск XIII в. до н. э., подаренный Луи-Филиппу вице-королем Египта Мехмедом-Али, был привезен в Париж 23 декабря 1833 г. и воздвигнут 25 октября 1836 г. в центре площади Согласия, на том месте, где до 1792 г. стояла статуя Людовика XV. Поскольку на этой же площади в январе 1793 г. казнили Людовика XVI, в эпоху Реставрации здесь был заложен первый камень памятника этому королю, однако дальше пьедестала дело не пошло. Воздвижение египетского обелиска было призвано навсегда похоронить этот замысел, дорогой сердцу роялистов.
(обратно)140
Анаграмма слова Napoli; речь идет о вдове неаполитанского короля Иоахима Мюрата, Каролине; после смерти мужа она жила под этим псевдонимом в Австрии и Италии. О гибели Мюрата, который во время Ста дней перешел на сторону Наполеона и 13 октября 1815 г., после возвращения на неаполитанский престол законного короля из рода Бурбонов, был расстрелян в Калабрии по приговору военного трибунала, читателям «Прессы» десятью днями раньше публикации этого фельетона, 16 октября 1836 г., рассказал Александр Дюма в очерке из цикла «Исторические сцены».
(обратно)141
С помощью кабестана — вертикального ворота, используемого для передвижения больших грузов, — происходил подъем глыбы весом в 220 тонн; руководил этой процедурой инженер Ж.-Б.-А. Леба.
(обратно)142
«Пуритане» — музыкальная новинка, опера В. Беллини, премьера которой состоялась в Париже в январе 1835 г.
(обратно)143
Имя Людовика XV площадь Согласия носила до 1792 г. и с 1814 по 1826 г.; с 1826 по 1830 г. она именовалась площадью Людовика XVI, а затем снова, как в 1795–1814 гг., стала называться площадью Согласия.
(обратно)144
Бельгийский король Леопольд I в 1832 г. женился на дочери Луи-Филиппа принцессе Луизе.
(обратно)145
Отставной унтер-офицер анархист Алибо попытался убить Луи-Филиппа 25 июня 1836 г.; выстрел не попал в цель, Алибо был арестован и 11 июля расстрелян.
(обратно)146
Дельфина именует старинным названием не только площадь Согласия, но и одноименный мост через Сену, который носил имя Людовика XVI до 1830 г.
(обратно)147
С 1865 г. улица Буасси д’Англа.
(обратно)148
Роман Латуша «Эмар» вышел из печати в начале 1838 г.; в цитируемом отрывке автор сравнивает своего героя с персонажами Гете и Шатобриана. Латуш был крайне заинтересован в положительном отклике Дельфины на его новую книгу; после выхода «Эмара» он умолял своего издателя Дюмона, который издавал также и романы Дельфины, чтобы тот употребил всю свою «дипломатию книгопродавца» ради получения одобрительной рецензии (Malo-2. Р. 52–53).
(обратно)149
Луи-Наполеон Бонапарт, племянник Наполеона I, сын его брата Луи, в 1806–1810 гг. короля Голландии, и приемной дочери императора Гортензии де Богарне, после 1815 г. жил с матерью вне Франции, в Италии или в швейцарском замке Арененберг. Королева Гортензия, с 1814 г. носившая титул герцогини де Сен-Лё, была старой знакомой Софи Гэ. Она сочиняла романсы на стихи юной Дельфины (Маlo-1. Р. 171); зимой 1826–1827 гг. в Риме Софи и Дельфина часто общались с ней и с ее сыном, а в 1827 г. навестили их в Арененберге. 30 октября 1836 г. принц Луи-Наполеон, тайно покинувший Швейцарию, прибыл в Страсбург, где попытался — впрочем, без всякого успеха — поднять вооруженное восстание, но был арестован и незамедлительно выслан из Франции в Америку. Дельфина защищала принца Луи-Наполеона и позже. После того как он, вернувшись в Старый свет, высадился в Булони и пытался поднять там мятеж, но был арестован и судим, она оправдывала его действия тем, что он принял на веру утверждения «наших патриотических газет». Два года подряд, писала она, «газетчики твердили изгнаннику: „Франция страждет в оковах; она разорена, унижена, обесчещена, предана, продана, погублена!..“ А теперь они дерзают обвинять его в том, что он поспешил ей на помощь!» (28 сентября 1840 г., 1, 730). Впоследствии отношение четы Жирарденов к Луи-Наполеону много раз менялось: во время предвыборной кампании осенью 1848 г. Жирарден поддерживал кандидатуру Луи-Наполеона в противовес ненавистному генералу Кавеньяку, но в период президентства Бонапарта довольно скоро перешел в оппозицию, а после того как 2 декабря 1851 г. президент совершил государственный переворот, был даже изгнан из Франции. Впрочем, после провозглашения империи (1852) Жирарден со своим обычным прагматизмом перешел на сторону власти. Дельфина разделяла взгляды мужа и его лояльность новому императору, который, со своей стороны, был к ней вполне благосклонен и даже побывал вместе с молодой женой 10 февраля 1853 г. на премьере комедии Дельфины «Леди Тартюф». Однако сближаться с императором она не желала, а в частных беседах называла покорность новому абсолютизму «подлостью» (см.: Giacchetti. Р. 213).
(обратно)150
Старший брат Наполеона I Жозеф Бонапарт после падения Империи жил то в Америке, то в Англии (в конце 1836 г. он находился именно там) и не имел никаких претензий на возвращение во власть.
(обратно)151
Тесные и неудобные экипажи, перевозившие парижан в ближайшие пригороды.
(обратно)152
Названия различных компаний, конкурентов компании «Омнибусы»; этот новый вид общественного транспорта бурно развивался в Париже начиная с 1828 г.; «Парижанки», «Горожанки» и проч. перевозили пассажиров (до 20 человек в экипаже) по определенным маршрутам и останавливались либо «по требованию», либо на остановках.
(обратно)153
Богато иллюстрированные сборники стихов и прозаических отрывков; кипсеки обычно выпускались к новогодним праздникам; мода на них пришла во Францию в конце 1820-х гг. из Англии.
(обратно)154
Версаль, служивший королевской резиденцией начиная с царствования Людовика XIV, в 1789 г. был оставлен королем Людовиком XVI и пришел в упадок; Наполеон I намеревался реставрировать его и сделать своей резиденцией, но не успел. В отличие от императора и от Людовика XVIII, который тоже планировал обосноваться в Версале, но не довел этого дела до конца, Луи-Филипп желал отстроить Версаль не для себя, а для Франции. По инициативе короля и под его непосредственным наблюдением (см. ниже в очерке от 1 декабря 1836 г.) Версаль был не только реконструирован, но и превращен в музей французской славы. Здесь была устроена галерея Сражений, для которой Луи-Филипп заказал 33 полотна, изображающие самые прославленные битвы французской истории, от сражения при Толбиаке (496) до Ваграмской битвы (1809). Кроме того, в Версальском музее были открыты зал 1792 г. (с изображениями битв при Жеммапе и Вальми, в которых нынешний король некогда принимал участие в составе республиканской армии) и зал 1830 г., посвященный революции, возведшей короля на престол (см.: Gaehtgens. Р. 1781–1801). Открытие Версальского музея состоялось не 1 января, а 10 июня 1837 г.; оно было приурочено к бракосочетанию наследного принца герцога Орлеанского.
(обратно)155
Король-изгнанник скончался от холеры 6 ноября 1836 г. в замке Граффенберг в Гориции. Первое извещение о его смерти появилось в «Прессе» 15 ноября.
(обратно)156
Расин. Ифигения, д. I, сц. 1; у Расина эти слова произносит не Агамемнон, а его слуга Аркас.
(обратно)157
Главная ошибка Карла X заключалась в том, что он осуждал относительную либерализацию политического режима во Франции, превращенной в 1814 г. в конституционную монархию, и считал необходимым вернуться к монархии абсолютной; именно с этой целью он подписал те антиконституционные ордонансы, которые и привели к Июльской революции.
(обратно)158
Мария-Каролина, дочь неаполитанского короля Франциска I, в 1816 г. стала женой младшего сына Карла X герцога Беррийского, зарезанного шорником Лувелем в ночь с 13 на 14 февраля 1820 г. В сентябре того же года герцогиня Беррийская родила сына, «посмертного младенца», получившего титул герцога Бордоского. После того как в июле 1830 г. Карл X отрекся от престола в его пользу, юный герцог считался в легитимистских кругах законным наследником французской короны, узурпированной у него Луи-Филиппом. В 1832 г. герцогиня Беррийская, тайно вернувшись во Францию из-за границы, куда она после революции уехала вместе с сыном и свекром, попыталась поднять в Вандее роялистское восстание, но была арестована и заключена в замок Блай. Там она, к изумлению всей Европы и в особенности ее сторонников-легитимистов, родила дочь, после чего вынуждена была официально объявить о том, что еще в 1831 г. тайно вступила в морганатический брак с итальянским аристократом графом Эктором Луккези-Палли. После этого герцогиню освободили и выслали в Италию, однако от воспитания наследника престола и вообще от политической деятельности ей пришлось отказаться.
(обратно)159
Бездетная герцогиня Ангулемская была не только женой дофина, старшего сына Карла X, но и дочерью казненной во время Революции королевской четы: Людовика XVI и Марии-Антуанетты. Тринадцатилетней девочкой она вместе с ними была заключена в тюрьму Тампль (отсюда ее позднейшее прозвище «тампльская сирота») и служила олицетворением страдания, суровой добродетели и пламенного роялизма. Воспитанием герцога Бордоского руководила именно она. Выразительные картины жизни королевского семейства в изгнании оставил Шатобриан (см.: Шатобриан Ф.-Р. Замогильные записки. М., 1995. С. 498–512, 515–523).
(обратно)160
К проблеме траура и приличий Дельфина вернулась еще раз в очерке от 16 февраля 1839 г., написанном после смерти от чахотки 26-летней дочери Луи-Филиппа принцессы Марии, к этому времени уже ставшей герцогиней Вюртембергской (см. о ней примеч. 143 /В файле — примечание № 253 — прим. верст./). Двор в Гориции (то есть герцог и герцогиня Ангулемская, сын и невестка свергнутого короля Карла X), пишет Дельфина, тотчас надел траур, меж тем некоторые французские легитимисты этого не сделали. «Какой урок нам всем: и тем, кто не пожелал носить траур по Карлу X, и тем, кто вчера, когда вся Франция проливала слезы по герцогине Вюртембергской, надел розовое платье. Потомки не поверят, что в стране, которую именуют великодушною, две партии, ожесточившиеся под влиянием жалкой политики, дерзнули отказать в скорби двум равно священным теням: старому королю, умершему в изгнании, и юной принцессе, одаренной талантом!» (1, 418).
(обратно)161
Со 2 декабря 1833 г. по 10 декабря 1847 г. король побывал в Версале 398 раз; сначала он наблюдал за работами, потом любовался их плодами, но ни разу не оставался в этой резиденции на ночь.
(обратно)162
Имена, образованные с помощью удвоения слогов (Зизина вместо Зефирина, Фифина вместо Жозефина, Лолотта вместо Шарлотта), указывали на заурядное происхождение героинь, то есть на принадлежность именно к той «мещанской» среде, которую описывал Поль де Кок в своих чрезвычайно популярных романах. Эту же простонародную среду изображали на своих полотнах фламандские художники, отец и сын Тенирсы; в отличие от них Пьер Миньяр рисовал портреты аристократов.
(обратно)163
Парижский театр, открытый 23 декабря 1820 г.; в репертуаре его были по преимуществу водевили, самые знаменитые из которых принадлежали перу Эжена Скриба. Хотя в середине 1820-х гг. герцогиня Беррийская взяла этот театр под свое покровительство и даже позволила ему именоваться Театром Ее Высочества, благодаря чему он вошел в моду, изысканная аристократическая публика нередко относилась к нему свысока. См. ниже о «Драматической гимназии» как любимом театре «приторных мещанок» в фельетоне от 11 апреля 1847 г. (с. 448). Впрочем, когда в конце жизни Дельфина стала сочинять комедии, последнее ее произведение в этом роде, «Шляпа часовщика», было сыграно (16 декабря 1854 г.) именно на сцене «Гимназии».
(обратно)164
Рецензия Жанена на водевиль Поля Фуше и Жака Ансело «Соперница», из которой Дельфина приводит ниже обширную цитату, опубликована в «Журналь де Деба» 28 ноября 1836 г. Жанен осуждает авторов водевиля за то, что они положили в основу пьесы соперничество шестнадцатилетней дочери с матерью (ситуация, которая совсем незадолго до того была использована в пьесе Виржини Ансело «Мария», — см. примеч. 24 /В файле — примечание № 134 — прим. верст./).
(обратно)165
Бальзаковской героине, на которую намекает Жанен, было не 40, а 30 лет. В 1831–1834 гг. Бальзак опубликовал несколько рассказов о судьбе молодой женщины. Один из них, датированный 1832 г., носил название «Тридцатилетняя женщина», которое в 1842 г. было присвоено всему циклу. Бальзак сурово карает свою героиню, несчастливую в браке с мужем-солдафоном и в тридцать лет вступающую в любовную связь с другим мужчиной: судьба всех ее детей, как законных, так и незаконных, складывается трагично. Тем не менее это произведение считается — и не без оснований — похвальным словом любви тридцатилетних женщин (именно отсюда пошло выражение «женщина бальзаковского возраста», хотя сегодня под ним подразумевают особ более преклонных лет). Отношения Бальзака с четой Жирарденов не были безоблачными. Бальзак, в конце 1820-х гг. активно сотрудничавший с Эмилем в его первых журналах «Вор» и «Мода», присутствовавший на свадьбе Дельфины и Эмиля и часто бывавший у них в доме, в 1834 г. рассорился с Жирарденом (яблоком раздора стало право собственности на тексты Бальзака, опубликованные в этих журналах), и Дельфине стоило огромного труда примирить писателя с издателем. 16 марта 1836 г., приглашая автора «Тридцатилетней женщины» на чтение своего нового романа «Трость господина де Бальзака», она умоляла и приказывала: «Будет стыдно, если Вас не окажется у меня в этот вечер. […] Приходите, приходите, приходите, приходите!» (Balzac Н. de. Correspondence. P., 1964. Т. 3. P. 43). Отношения с Эмилем наладились лишь отчасти, а в 1847 г. произошел полный разрыв из-за пренебрежительной оценки Жирарденом романа «Крестьяне». Но к Дельфине Бальзак всегда относился дружески и в 1842 г. посвятил ей свой роман «Альбер Саварюс» «в знак искреннего восхищения» (впрочем, после разрыва с Жирарденом из своего экземпляра книги он это посвящение вычеркнул).
(обратно)166
Перечислены юные героини трагедий Расина («Британик»), Шекспира («Отелло») и Вольтера («Заира»), комедии Мольера «Урок женам», романа Прево «Манон Леско» и повести Бернардена де Сен-Пьера «Поль и Виргиния», эпопеи Шатобриана «Мученики» (мученица-христианка Цимодоцея) и его же повести «Атала», дидактического романа Фенелона «Приключения Телемака» (нимфа Эвхарис) и трагедии Корнеля «Сид» (Химена).
(обратно)167
Речь идет о персонажах вышедшего в 1761 г. романа Ж.-Ж. Руссо «Юлия, или Новая Элоиза».
(обратно)168
Господин де Лабурдонне — персонаж «Поля и Виргинии», губернатор острова Маврикий, где происходит действие повести.
(обратно)169
В четверг 8 декабря 1836 г. Кюстин по просьбе Дельфины заменил «виконта де Лоне» на посту хроникера. Вторым «сменщиком» Дельфины был Теофиль Готье, опубликовавший очерк в ее рубрике 13 октября.
(обратно)170
Замечу, что одна опечатка, допущенная в первом книжном издании 1843 г., осталась неисправленной во всех последующих переизданиях; в фельетоне, посвященном трагедии Дюма «Калигула», герой был назван не Aquila (что превосходно рифмуется с именем героини — Stella), a Aquita — да так и остался Аквитой (впрочем, в самой первой публикации — в номере «Прессы» от 30 декабря 1837 г. — опечатки не было).
(обратно)171
Легитимисты, игнорировавшие правительство Луи-Филиппа и его двор, жили по преимуществу в Сен-Жерменском предместье на левом берегу Сены; на другом, то есть правом, берегу располагались кварталы Сент-Оноре и Шоссе д’Антен, где жили представители новой элиты — финансистов и богатой буржуазии. Именно в квартале Шоссе д’Антен, на площади Сен-Жорж находился особняк Тьера. Его левоцентристский кабинет в сентябре 1836 г. был отправлен в отставку, поэтому Дельфина полагает, что те из обитавших на правом берегу умеренных центристов (их не без иронии называли представителями «золотой середины»), кто продолжали ездить на поклон к Тьеру, проявляли определенную смелость. Прагматик Эмиль де Жирарден расходился с левоцентристом Тьером по некоторым внутренне- и внешнеполитическим вопросам. В 1836 г. Жирарден не одобрял намерения Тьера оказать вооруженную поддержку испанским радикалам, в 1840 г. и он, и Дельфина резко осуждали заветную идею Тьера — намерение окружить Париж новыми укреплениями. Дельфина, кроме того, не одобряла тон и манеры, принятые в салоне Тьера. Его молодая жена отличалась угрюмым нравом и полным отсутствием светской учтивости; тон задавала теща, жена биржевого маклера Дона, которую современный биограф Тьера сравнивает с прустовской госпожой Вердюрен (см.: Guiral. Р.112). Прежде чем выдать свою дочь за Тьера, Эвридика Дон, по слухам, была его любовницей (в 1839 г. Дельфина — разумеется, не называя имен, — обыграла эту ситуацию в своей пьесе «Урок журналистам», которая вызвала большой скандал и окончательно поссорила Жирарденов с Тьером и его окружением). Хотя позже Дельфина из вежливости упомянула салон госпожи Дон среди лучших салонов Парижа, она и там не удержалась от колкости (см. наст. изд., с. 417 /В файле — год 1844 фельетон от 23 июня — прим. верст./). Что же касается госпожи Дон, то Дельфину она в своих воспоминаниях не упомянула вообще, а Эмиля де Жирардена охарактеризовала очень неприязненно (см.: Malo Н. Mémoires de Mme Dosne, égérie de Thiers. P., 1928).
(обратно)172
Если особняк Тьера располагался в квартале Шоссе д’Антен, то графиня де Флао, дочь английского адмирала Кейта и жена пэра Франции графа де Флао, внебрачного сына Талейрана и любовника королевы Гортензии (см. выше примеч. 39 /В файле — примечание № 149 — прим. верст./), с 1830 г. жила в предместье Сент-Оноре, в особняке Масса на углу Елисейских Полей и нынешней улицы Ла Боэси. О характере госпожи де Флао можно судить по тому, что, когда один из пэров в шутку составил список «женского» кабинета министров, графине де Флао он отдал военное министерство (см.: Dino. Т. 2. Р. 16).
(обратно)173
Княгиня Дарья Христофоровна Ливен, сестра шефа жандармов графа А. Х. Бенкендорфа и жена российского посла в Англии (1812–1834) князя Х. А. Ливена, разъехавшись с мужем, обосновалась в Париже: с 1835 г. жила на улице Риволи напротив сада Тюильри, а в 1838 г., после смерти Талейрана, наняла квартиру в его бывшем особня ке на углу улицы Сен-Флорантена и площади Согласия. К этому времени княгиня Ливен уже стала возлюбленной и «политической нимфой» (Balabine. Р. 147) доктринера Гизо, чем и определялась политическая атмосфера ее салона. Однако на первых порах княгиня охотно принимала представителей самых разных политических партий: и легитимистов, и доктринеров, и либералов; именно этим объясняется положительная оценка, которую дает ее салону Дельфина (об этом салоне см. подробнее: Мартен-Фюжье. С. 214–220). Описывая прославленные салоны, Дельфина шла по стопам своей матери, которая во второй половине 1836 г. опубликовала в «Прессе» цикл очерков о знаменитых салонах эпохи Реставрации и Старого порядка (в 1837 г. она выпустила их отдельным изданием; см.: Gay S. Les Salons célèbres. P., 1837. T. 1/2). Подробную классификацию современных салонов см. ниже в фельетоне от 23 июня 1844 г.
(обратно)174
Весьма популярная при Июльской монархии фраза, определяющая статус конституционного монарха, каким его хотел видеть Адольф Тьер, предъявлявший это требование к королю еще до Июльской революции, в начале 1830 г.
(обратно)175
27 декабря 1836 г. состоялось очередное покушение на короля Луи-Филиппа: некий Менье стрелял по королевскому экипажу, но промахнулся; король пощадил Менье за молодость, и его, в отличие от других покушавшихся на жизнь Луи-Филиппа, не казнили, а всего лишь выслали в Америку.
(обратно)176
Магазин Жиру находился на улице Петуха Сент-Оноре (ныне улица Маренго) неподалеку от Лувра; выразительное описание товаров, которыми торговал этот трехэтажный магазин, «энциклопедия мелочной и детской роскоши», см. в кн.: Тургенев. С. 382–383. Сюсс торговал в пассаже Панорам безделушками, рисунками и картинами; описание его ассортимента, равно как и товаров, продаваемых у Жиру, см. в кн.: Анненков. С. 91–92. Лесаж, торговец мебелью, часами, зеркалами и проч., владел магазином на улице Гранж-Бательер неподалеку от бульвара Итальянцев.
(обратно)177
Под страсбургским и проч. пирогами (pâtés) подразумеваются паштеты, запеченные в тесте.
(обратно)178
Дюнкерочками назывались этажерки для безделушек. В приморском городе Дюнкерке целый квартал был занят лавками, где торговали вещицами из слоновой кости и прочими безделушками, поэтому соответствующие магазины в Париже носили название «Малый Дюнкерк». Один из них располагался в Париже на правом берегу Сены, на улице Ришелье, другой — на левом берегу, на набережной Конти.
(обратно)179
Имеется в виду покушение на короля (см. выше примеч. 65 /В файле — примечание № 175 — прим. верст./).
(обратно)180
Члены Французской академии подавали голоса за претендентов на освободившееся место драматурга и филолога Ф. Рэнуара. Поскольку большинство в Академии составляли приверженцы классической, а не романтической литературы, кандидатуру Гюго они отвергли. Гюго был наконец избран в Академию только в конце 1840 г. (см. ниже очерки от 17 мая и 6 июня 1841 г.). Минье к 1836 г. был известен как автор книги «История французской революции» (1824) и как член Академии моральных и политических наук, а также как мужчина выдающейся красоты, отчего злые языки предполагали, что дамы приходят на академические заседания не слушать Минье, а на него смотреть (см.: Гейне. Т. 8. С. 142).
(обратно)181
Название «Погребок» носили в течение XVIII — первой половины XIX века несколько литературных сообществ, члены которых собирались ежемесячно в парижских кафе или ресторанах и декламировали свои стихи за трапезой. Первый «Погребок» был создан в 1737 г.; последний, носивший название «Дети погребка», — в 1834-м.
(обратно)182
С 1816 г. академики собирались на свои заседания каждую неделю по четвергам; за посещение им выдавали жетон, в обмен на который они могли — вдобавок к постоянному жалованью — получить денежное вознаграждение (этот обычай ввели еще в 1673 г., с тем чтобы улучшить хромающую дисциплину и повысить посещаемость академических заседаний).
(обратно)183
Этим русским словом мы переводим французское merveilleuse. Первоначально так называли щеголих эпохи Директории, но это слово осталось в языке и позже для обозначения экстравагантных модниц; поскольку merveilleuse в первом значении — «чудесная», слово «причудница» оказывается довольно точным его переводом (см. обоснование этой точки зрения в кн.: Набоков. С. 151).
(обратно)184
В лесу Бонди, расположенном к востоку от Парижа, приземлился воздушный шар английского аэронавта Грина, взлетевший из казармы на улице Рыбного предместья.
(обратно)185
С 1826 по 1838 г. австрийский посол граф Антон Аппоньи нанимал у вдовы маршала Даву особняк на улице Святого Доминика, в центре Сен-Жерменского предместья, а затем посольство переехало на улицу Гренель Сен-Жермен (ныне Гренельская) в том же квартале.
(обратно)186
8 мая 1841 г., описывая новую моду развлекаться без церемоний после того, как матери увозят с бала юных дочерей, Дельфина замечает: «Женщины, которые знают, что у них красивые руки, снимают перчатки и танцуют без них, что нам представляется немного слишком смелым. Однажды одной молодой женщине язвительного ума предложили последовать этой новой моде. „Охотно, — сказала она не без лукавства, — я сниму перчатки, но при одном условии“. — „Каком же?“ — „При условии, что все эти дамы вынут из волос гребни“. Требование безжалостное: ведь руки у женщин почти всегда свои собственные, а вот косы — далеко не всегда, особенно у очень красивых женщин, которых природа редко награждает красивыми волосами» (2, 79).
(обратно)187
Взрыв из-за утечки газа произошел на улице Предместья Сент-Оноре 6 января 1837 г.
(обратно)188
В этом парижском пригороде располагалась лечебница для умалишенных.
(обратно)189
Этот легендарный эпизод из молодости будущего гетмана (ревнивый муж пускает вскачь коня с привязанным к его спине обнаженным Мазепой) с легкой руки Байрона, положившего его в основу своей поэмы «Мазепа» (1819), стал чрезвычайно популярен во французской живописи 1820-х — начала 1830-х гг.
(обратно)190
Ленора — заглавная героиня баллады немецкого поэта Г.-А. Бюргера, которая стала известной французским читателям благодаря пересказу Жермены де Сталь в книге «О Германии» (1810; изд. 1813; ч. 2, гл. 13).
(обратно)191
О дирижере Мюзаре современники говорили, что он и «Реквием» Моцарта мог бы сыграть в темпе галопа. В фельетоне от 15 декабря 1836 г. Дельфина называет его игру «настоящей эмблемой нынешних развлечений: пленительная гармония, заглушающая грубые речи; золоченые салоны, полные грязи» (1,44). На улице Сент-Оноре оркестр под руководством Мюзара выступал в зимний период в здании, прежде принадлежавшем цирку Франкони; в 1838 г. Мюзар перебрался оттуда в заведение на Вивьеновой улице, а на улице Сент-Оноре его сменил другой дирижер, Валентино. Летом Мюзар выступал в зале на Енисейских Полях. Впрочем, где бы ни происходил бал под аккомпанемент Мюзарова оркестра, это мероприятие неизменно именовалось «балом Мюзара». Больше того, по признанию самой Дельфины (в очерке от 16 февраля 1839 г.), «у всех соперников Мюзара вошло в обычай присваивать своим праздникам его имя» (1,417), так что балы, в которых Мюзар вовсе не принимал участия, в рекламных целях порой также анонсировались в качестве «балов Мюзара».
(обратно)192
Траур по королю Карлу X, который, как уже было сказано выше, соблюдали только легитимисты.
(обратно)193
Опера Дж. Мейербера, впервые представленная на сцене парижской Оперы 29 февраля 1836 г.
(обратно)194
Этот мост, построенный в 1802–1804 гг., всегда был только пешеходным.
(обратно)195
Экю — старинная монета, название которой в описываемую эпоху использовали для обозначения суммы в 5 франков. Если учесть, что в это время на тысячу франков парижанин мог, не роскошествуя, прожить целый год, цена шали в самом деле была огромной.
(обратно)196
С 1821 г. парижская Опера, или Королевская академия музыки, располагалась на улице Ле Пелетье. Маскарады в Опере начинались в полночь. Они происходили каждую субботу, начиная с конца декабря; на последней неделе карнавала давались три дополнительных бала, наконец, еще один, прощальный, устраивался после трехнедельного перерыва на время поста. Благодаря деревянному настилу, который укладывался поверх кресел вровень со сценой, зрительный зал превращался в огромную бальную залу. В центре располагался оркестр. В ложах сидели те, кто сами не танцевали, а только наблюдали за танцующими. Аристократы, посещавшие балы в Опере в 1815–1833 гг., обычно приезжали просто во фраках. Единственным маскарадным костюмом, до которого снисходили знатные посетители, было черное домино и маска, да и их надевали преимущественно дамы. В ту пору бальная толпа в основном прогуливалась и соблюдала благопристойность. Обстановка изменилась после 1833 г.; теперь посетители являлись в Оперу в пестрых маскарадных костюмах и танцевали галоп и даже канкан. Блюстители нравственности сочли подобные вольности скандальными, и управляющему Оперой Верону пришлось возвратиться к «приличным» балам. Ситуация вновь изменилась лишь после того, как дирижировать оркестром Оперы пригласили Мюзара (см. о нем примеч. 81 /В файле — примечание № 191 — прим. верст./); первый бал с его участием состоялся 7 февраля 1837 г., о чем Дельфина и упоминает в конце комментируемого фельетона. О балах в Опере см.: Мартен-Фюжье. С. 138–140. Оркестр под руководством Л.-А. Жюльена играл в саду Турецкого кафе на бульваре Тампля в квартале Маре.
(обратно)197
Перечислены «шаги», принятые во французских контрдансах. Если в данном фельетоне Дельфина восхваляет «ученый» французский танец, то в фельетоне от 20 июля 1837 г., напротив, осыпает издевками «унылую» и «педантическую» французскую манеру танцевать и противопоставляет ее танцам других народов.
(обратно)198
Ежемесячный журнал «Британское обозрение, или Избранные статьи из лучших периодических изданий Англии», основанный в 1825 г., публиковал в переводе на французский серьезные научно-популярные статьи по философии, статистике, археологии и проч.
(обратно)199
Бытие, 18, 1–22: «И сказал Господь Бог: не хорошо быть человеку одному. […] И создал Господь Бог из ребра, взятого у человека, жену».
(обратно)200
Живший в Париже итальянский князь Эмилио Бельджойозо был певцом-любителем.
(обратно)201
Популярность сигар в парижском свете сильно возросла после холерной эпидемии 1832 г.: табаку приписывали способность предупреждать болезнь. О ненависти Дельфины к сигарному дыму см. ниже очерки от 27 июля и 3 августа 1839 г. и от 13 октября 1844 г. и примеч. 308 /В файле — примечание № 418 — прим. верст./.
(обратно)202
Дельфина пропустила два четверга: 23 февраля и 2 марта 1837 г.
(обратно)203
7 марта 1847 г. Жирарден рассказывает о еще более изощренных светских способах поститься на балах: «Есть причудницы, которые замечательно научились совмещать запрещенные удовольствия с предписанными лишениями; одни, например, отправляются на бал и танцуют, но постятся: если дело происходит в субботу, они до полуночи в рот не берут ни пирожных, ни мороженого; после полуночи же дело другое: после полуночи наступает воскресенье; другие, еще более изобретательные, позволяют себе отведать фруктового мороженого, потому что оно может считаться напитком; зато к сливочному мороженому они близко не подойдут! Ведь сливки — это еда. Эти дамы танцуют… но отнюдь не все танцы; они отличают скоромные танцы от постных… Это напоминает нам остроумное словцо герцогини де М… Говорили о бале артистов, который состоится в театре „Варьете“. „В зале? — спросил кто-то. — Нет, не в зале, — отвечал другой, — из-за поста танцы будут только в фойе. — Ах вот как, — воскликнула герцогиня, — значит, фойе у них постное?“» (2, 446).
(обратно)204
Сама Дельфина — во всяком случае, на вечерах для друзей — гастрономических оргий не устраивала. Подавали у нее в основном прохладительные напитки и мороженое (его она обожала).
(обратно)205
Суд присяжных оправдал офицеров, которые вместе с Луи-Наполеоном Бонапартом пытались захватить власть в Страсбурге (см. примеч. 39 /В файле — примечание № 149 — прим. верст./). После этого кабинет министров представил в палату депутатов проект закона о раздельном судебном разбирательстве преступлений военных и гражданских лиц: предполагалось, что первых будет судить военный трибунал, а вторых — обычный суд; однако 7 марта 1837 г. палата после ожесточенных дискуссий этот закон отклонила.
(обратно)206
«Немая из Портичи» (1828) — опера Обера на слова Скриба и Ж. Делавиня, посвященная восстанию неаполитанцев против испанского владычества в XVII в.; вождя восставших рыбака Мазаньелло Дельфина упоминает в своем последнем фельетоне 1848 г. (см. наст. изд., с. 464 /В файле — год 1848 фельетон от 3 сентября — прим. верст./).
(обратно)207
Дельфина описывает парадоксальную ситуацию, осознававшуюся многими современниками: в эпоху Реставрации католическая Церковь тесно сотрудничала с властями, устраивала религиозные процессии, отправляла в провинцию миссионеров для укрепления католической веры (которая, согласно Конституционной хартии 1814 г., считалась государственной религией французов), однако в просвещенной части общества были очень сильны антиклерикальные настроения. Напротив, при Июльской монархии, когда связь королевской власти с Церковью ослабла, а новая редакция Хартии объявила католицизм всего лишь «религией, исповедуемой большинством французов», вера, став личным делом каждого, получила в обществе гораздо большее распространение. Теперь многие молодые интеллектуалы обращались к религии совершенно добровольно.
(обратно)208
См. примеч. 5 /В файле — примечание № 115 — прим. верст./.
(обратно)209
Мраморный стол в парке Шантийи, до 1830 г. принадлежавшем, как и одноименный замок, роду Конде, стоял в центре спроектированной архитектором Ленотром круглой площади, и принц де Конде встречал возле этого стола своих гостей. С 1830 г., после смерти последнего Конде, Шантийи принадлежало четвертому сыну Луи-Филиппа герцогу Омальскому. Парк и лес Шантийи традиционно были местом псовой охоты, и эта традиция сохранялась в XIX в.
(обратно)210
Жан-Жак Руссо, страдавший манией преследования, умер в поместье своего покровителя маркиза Рене де Жирардена (между прочим, дедушки Эмиля де Жирардена) Эрменонвиль и был похоронен там в парке, на Тополином острове посреди пруда; поклонники Руссо почитали это место даже после того, как в 1794 г. останки Жан-Жака перенесли в Пантеон.
(обратно)211
Это требование шло вразрез с правилами псовой охоты, в которой охотники участвуют безоружными (они лишь подбадривают собак криками и звуками рога), а зверя травят собаки.
(обратно)212
Константина — город в Алжире, осада которого французскими войсками в 1836 г. окончилась неудачно; город был взят только в октябре 1837 г. Старший сын Луи-Филиппа, наследник престола герцог Фердинанд-Филипп Орлеанский отважно воевал в Алжире в 1835–1836 гг., а затем возвратился туда в 1839 г. и принимал участие в завоевании внутренних частей страны.
(обратно)213
Салоном назывались художественные выставки, которые проходили в Квадратном салоне Лувра. Они устраивались осенью и длились около месяца, а иногда и дольше. Традиция их проведения восходит к середине XVII в.: первый Салон состоялся в 1667 г. Подробному разбору картин, выставленных в Салоне 1837 г., посвящена целая серия статей в рубрике «Смесь», которую опубликовал в «Прессе» в марте этого года художественный обозреватель газеты Теофиль Готье. Дельфина смотрит на Салон — как и на все прочее — со своей собственной точки зрения иронического моралиста и вовсе не стремится подражать художественным критикам. Вход в Лувр был бесплатным, так что любителями привилегий, о которых ниже пишет Дельфина, двигало не желание сэкономить, а одно лишь тщеславие.
(обратно)214
Переиначенная цитата из начала третьей песни «Поэтического искусства» Буало; в оригинальном тексте вместо лавочника и свинопаса фигурируют змей и отвратительное чудище.
(обратно)215
Желтые перчатки считались атрибутом человека, одетого прилично и в соответствии с модой; таких людей даже метонимически именовали «желтыми перчатками». Перчатки — и мужские, и женские — нередко служат Дельфине социальным или психологическим «маркером». 6 марта 1841 г. она пишет: «Мы уже много раз говорили, что весь характер женщины выражается в ее перчатках. Однажды нас пожелали представить женщине, чьи перчатки были украшены розочками; мы ответили: „Не стоит; мы все равно не сойдемся“. — „Отчего же?“ — „Взгляните на ее перчатки“» (2, 52). Такой подход к перчаткам был характерен не для одной Дельфины; так, в 1843 г. коллекция «Физиологий» пополнилась «Физиологией перчатки», изобилующей замечаниями сходного рода — впрочем, более многословными и менее остроумными.
(обратно)216
Модные перчаточники; лавка Буавена-старшего располагалась на улице Мира, а Буавена-младшего — на улице Кастильоне (обе — в самом центре фешенебельного Парижа).
(обратно)217
Дельфина всегда очень нервно реагировала на подобные бессмыслицы, особенно на нелогичный порядок слов; в фельетоне от 27 июля 1837 г. она язвительно обращалась к корифею ультраромантизма виконту д’Арленкуру, назвавшему свою поэму не «Любовь и смерть», что было бы нормально, а «Смерть и любовь»: «Что у вас за инверсии, о боги! Каждая из ваших фраз, кажется, только что пережила землетрясение; ни одно слово в ней не находится на своем месте» (1, 205).
(обратно)218
Мари-Мадлена Путре де Мошан, выпускавшая эту газету с 1836 г., была активным борцом за «политические и гражданские права француженок». Дельфина тоже не раз сетовала на женское бесправие (см. ниже фельетон от 24 марта 1844 г.), однако она слишком остро ощущала фальшь и безвкусицу, чтобы поддерживать представительниц феминистской прессы. С феминистками Дельфина отказывалась сближаться и после 1848 г., когда в женских клубах и газетах началась активная борьба за гражданскую и политическую эмансипацию женщин.
(обратно)219
Министерский кризис разразился после того, как палата депутатов отвергла проект закона о раздельном судебном разбирательстве (см. примеч. 95 /В файле — примечание № 205 — прим. верст./); формирование нового кабинета длилось до 15 апреля и окончилось возникновением второго министерства под председательством графа Моле. Другой причиной кризиса были претензии Гизо (занимавшего в первом министерстве Моле пост министра просвещения) на руководство кабинетом; в закулисных интригах победил Моле, а Гизо в новое министерство не вошел вовсе. Из первого кабинета Моле в новом сохранились только трое: военный министр Бернар, морской министр Розамель и министр общественных работ Мартен (из Северного департамента).
(обратно)220
Текст начиная со следующего абзаца и до конца этого фельетона первоначально был опубликован в «Прессе» 16 февраля 1837 г., когда в Париже свирепствовала эпидемия гриппа; в фельетон от 30 марта он был перенесен в книжном издании «Парижских писем» (1843).
(обратно)221
Имеются в виду события 1831 г., когда 14 февраля, в одиннадцатую годовщину убийства герцога Беррийского, сына свергнутого короля Карла X, роялисты пришли в церковь Сен-Жермен л’Оксерруа на поминальную мессу. Разбушевавшаяся толпа разгромила и церковь, и архиепископский дворец.
(обратно)222
Эта модистка пользовалась в парижском свете такой популярностью, что, по свидетельству знатной современницы, целая толпа дам терпеливо ожидала, пока она уделит им внимание, а она тем временем принимала посыльных из королевского дворца: «можно было подумать, что дело происходит не в модной лавке, а у вождя доктринеров» (Dino. Т. 2. Р. 124).
(обратно)223
Кади — мусульманский судья. На Востоке тюрбан в самом деле носят мужчины, однако в Европе, где он вошел в моду после Египетского похода Наполеона (1798–1801), он сразу сделался исключительно женским головным убором (см.: Кирсанова. С. 284–285).
(обратно)224
Формула, почти дословно перешедшая в монолог Маркизы из пьесы Альфреда де Мюссе «Надо, чтобы дверь была либо открыта, либо закрыта» (1845): «Сегодня в самом деле мой день, хотя зачем он мне, я толком не знаю. Впрочем, в этой моде есть смысл. Матери наши оставляли двери своих гостиных открытыми всю неделю, в ту пору хорошее общество было немногочисленно, и у каждой из дам собирался узкий круг завсегдатаев, среди которых было полно людей невыносимо скучных. Теперь же, когда дама принимает, к ней является весь Париж, а по нашим временам весь Париж — это действительно весь город, от центра до окраин. У себя дома чувствуешь себя точь-в-точь как на площади. Вот и пришлось каждой даме завести свой день для приемов. Это единственный способ видеться друг с другом как можно реже, так что, когда хозяйка дома говорит: я принимаю по вторникам, всем ясно, что на самом деле это значит: а в остальные дни недели оставьте меня в покое» (Мюссе А. де. Исповедь сына века: Роман, новеллы, пьесы, стихотворения. М., 2007. С. 697–698).
(обратно)225
В древнегреческом мифе боги, чтобы избавить Филомелу от преследований Тирея, превратили ее в ласточку (соловьем они сделали ее сестру Прокну); однако в новоевропейской поэзии под Филомелой обычно понимают соловья.
(обратно)226
Мильвуа. Падение листьев (1815, вторая редакция); пер. Е. А. Баратынского (1827).
(обратно)227
Аристократ Рэмон де Рамьер — герой романа Жорж Санд «Индиана» (1832), бесчестный соблазнитель заглавной героини. Аврора Дюпен, по мужу баронесса Дюдеван, взявшая себе псевдоним Жорж Санд, в самом деле получила хорошее дворянское воспитание и по собственной воле предпочла жизни в высшем свете жизнь богемную.
(обратно)228
В книге «Жорж Санд» (1837) набожный католик граф Теобальд Вальш разделяет творчество писательницы на два этапа: развращающий и возвышающий; первый он осуждает, а второй, начатый в 1837 г. публикацией сочинений «Письма путешественника» и «Неведомый бог», одобряет и, обращаясь к самой Жорж Санд, заклинает «падшего ангела» продолжать двигаться по этому пути, чтобы вновь обрести силу и надежду.
(обратно)229
Это «похвальное слово» Жорж Санд — своего рода извинение за весьма ехидное описание «творческого процесса» знаменитой романистки в фельетоне, который Дельфина опубликовала двумя месяцами раньше. В фельетоне от 9 марта 1837 г. она утверждала, — к великому неудовольствию Жорж Санд, — что следует радоваться всякому новому знакомству (читай: любовной связи) этой писательницы, поскольку новый друг немедленно становится героем ее нового гениального романа, так что про эту писательницу можно с полным основанием воскликнуть вслед за Бюффоном: «Стиль — это человек», а точнее: «Стиль — это мужчина» (1, 94–96). Тесные дружеские отношения с Жорж Санд установились у Дельфины позже, в начале 1850-х гг.
(обратно)230
Лионские ткачи страдали от безработицы, а также от суровой зимы и эпидемии гриппа.
(обратно)231
Принцесса Елена Мекленбург-Шверинская 30 мая 1837 г. в Фонтенбло сочеталась браком с наследником престола герцогом Орлеанским.
(обратно)232
Имеется в виду железнодорожная линия, связавшая Париж с городом Сен-Жермен-ан-Лэ. О ее открытии см. ниже фельетон от 26 августа 1837 г.
(обратно)233
Сатирическая газета, основанная в 1826 г.; в мае 1836 г. ее главным редактором стал неоднократно цитируемый виконтом де Лоне Альфонс Карр.
(обратно)234
Прославленная певица Мария Малибран скончалась 23 сентября 1836 г. от последствий неудачного падения с лошади. Малибран не только пела, но и сочиняла музыку.
(обратно)235
Дельфина пишет о «Жераре Штольберге» — первом из трех романов, которые Орас де Вьель-Кастель выпустил под общим названием «Сен-Жерменское предместье»; следующие части трилогии: «Госпожа герцогиня» и «Мадемуазель де Верден» — вышли в 1838 г.
(обратно)236
Сен-Жерменское предместье располагалось на левом берегу Сены.
(обратно)237
Коварный соблазнитель, герой романа С. Ричардсона «Кларисса Гарлоу» (1748).
(обратно)238
Дельфина, при всей личной симпатии ко многим представителям Сен-Жерменского предместья и при несомненном уважении к старинным традициям, которые в нем воплощались, относилась скептически к политическим взглядам легитимистов (см. примеч. 13 /В файле — примечание № 123 — прим. верст./) и критиковала их идеи за нежизнеспособность. 7 апреля 1847 г., размышляя о книге Ламартина «Жирондисты» и реакциях на нее парижского общества, она разражается гневной тирадой по поводу легитимистов, которые не заметили, что Мария-Антуанетта — любимая героиня Ламартина, и набросились на него: «Эта партия отстаивает прекраснейшую, благороднейшую идею, и тем не менее она являет собою зрелище самое жалкое; каждый из легитимистов по отдельности — человек храбрый и честный, но лишь только они соберутся вместе, как начинают плести заговоры и конспирировать» (2, 459). Более подробную критику легитимистского образа жизни см. ниже в очерке от 3 марта 1838 г.; в нем Дельфина даже предлагает особый термин для описания этого образа жизни — «внутренняя эмиграция». О раскладе сил среди французского дворянства, в котором сосуществовали «ультрароялистская, а затем легитимистская элита, орлеанистская контрэлита и бонапартистская аристократия», см.: Fiette S. La noblesse française des Lumières à la Belle Epoque. P., 1997. P. 258 et suiv.); о политической истории легитимизма см.: Changy Н. de. Le Mouvement légitimiste sous la Monarchie de Juillet (1833–1848). Rennes, 2004.
(обратно)239
О квартале Шоссе д’Антен см. примеч. 20 и 61 /В файле — примечания № 130, 171 — прим. верст./, предместье Сен-Жак имело репутацию студенческого квартала, предместье Сен-Дени — квартала лавочников, предместья Сен-Марсо и Сен-Антуанское — кварталов рабочих и ремесленников. Роднит все названные кварталы тот факт, что их жители, в отличие от легитимистов, признавали июльскую власть.
(обратно)240
Более подробную критику парижского высшего света за повиновение всем причудам безродного, но богатого иностранца см. в фельетоне от 29 февраля 1840 г. (наст. изд., с. 293–294 /В файле — год 1840 фельетон от 29 февраля — прим. верст./).
(обратно)241
4 июня 1837 г.
(обратно)242
Граф де Монталиве получил во втором министерстве Моле должность министра внутренних дел.
(обратно)243
Модные парижские аттракционы первой трети XIX в. В панораме зрители располагались в центре круглого зала, на стенах которого помещалась картина, не имеющая ни начала, ни конца. Панорамы появились в Париже в 1800 г. и не утратили популярности до 1840-х гг. В диораме (усовершенствованной панораме) зрителям демонстрировали картины-декорации, написанные на обеих сторонах прозрачной ткани красками разной плотности и освещаемые искусственным светом то спереди, то сзади; круглая зрительная зала диорамы с помощью специального механизма медленно вращалась вокруг своей оси, что создавало дополнительные эффекты. Первая диорама появилась в Париже в 1822 г. Наконец, круглая «Неорама», открытая в 1827 г. на улице Святого Фиакра, изображала внутренность собора Святого Петра в Риме. О степени популярности панорам и диорам можно судить по эпизоду из романа Бальзака «Отец Горио» (1835), действие которого происходит в 1819 г. Допуская небольшой анахронизм (диорамы тогда еще не существовало), Бальзак заставляет своих персонажей в шутку прибавлять ко всем словам окончание «рама» — именно из почтения к «недавно изобретенной диораме, которая достигла большей оптической иллюзии, чем панорама».
(обратно)244
Речь идет о миллионе, который палата после бурных дебатов постановила выделить наследному принцу по случаю его женитьбы.
(обратно)245
26 августа 1837 г. Дельфина начинает очередной фельетон с горестного признания в том, что, стоит ей опубликовать какое-либо утверждение, как оно тотчас из справедливого превращается в ложное, — например, стоило ей объявить, что простонародная толпа учтивее светской, как немедленно (вечером того же 14 августа, когда был написан этот фельетон) во время народного праздника на Марсовом поле случилась трагедия: по окончании фейерверка, когда толпа повалила к чересчур узким воротам, началась давка, в результате которой погибли более 40 человек.
(обратно)246
14 августа, когда был устроен праздник в честь бракосочетания герцога Орлеанского (см. предыдущее примеч.), приходилось на среду.
(обратно)247
Старое название площади Согласия (см. примеч. 33 /В файле — примечание № 143 — прим. верст./).
(обратно)248
Роскошный банкет для пяти тысяч приглашенных был устроен Луи-Филиппом в Зеркальной галерее Версаля 10 июня 1837 г., в день открытия Версальского музея.
(обратно)249
Гюго остался верным другом герцогини Орлеанской: сразу после февральской революции 1848 г. он вместе с Эмилем де Жирарденом безуспешно пытался провозгласить ее регентшей при малолетнем сыне, графе Парижском.
(обратно)250
Имеется в виду герцогиня Ангулемская (см. примеч. 49 /В файле — примечание № 159 — прим. верст./); великодушие ее заключалось в том, что она дружески напутствовала будущую невестку короля Луи-Филиппа, которого считала узурпатором. В первый раз герцогиня Ангулемская покинула Францию в 1795 г. и оставалась в эмиграции до 1814 г., затем была вынуждена эмигрировать в Англию в 1815 г., во время Стадией, и, наконец, в последний раз отправилась в изгнание после Июльской революции 1830 г.
(обратно)251
В стихотворении «Собачий пир» (август 1830), вошедшем в сборник «Ямбы» (1831).
(обратно)252
Имеются в виду два символа французской революции 1789–1794 гг.: майские деревья, или деревья свободы, которые во Франции в массовом порядке сажали в революционные годы, а в эпоху Реставрации так же старательно выкорчевывали, и красный колпак (напоминание о фригийском колпаке античных рабов), которым нередко увенчивали деревья свободы.
(обратно)253
Вторая дочь Луи-Филиппа, принцесса Мария Орлеанская, была талантливой художницей и скульпторшей. Особенный интерес вызывали у нее нравы и костюмы Средневековья; статуя Жанны д’Арк для нового Версальского музея, над которой принцесса по просьбе отца работала в 1837 г., была не первым ее скульптурным произведением на эту тему; скульптурная группа, изображающая Жанну в ее первом сражении, стояла в покоях герцога Орлеанского уже в 1834 г. (см.: Boigne. Т. 2. Р. 381). Что же касается статуи, изваянной принцессой Марией для Версальского музея, ее впоследствии неоднократно копировали в мраморе и бронзе, и эти копии разного размера можно было встретить в самых разных уголках Франции (см.: Gaehtgens. Р. 1790).
(обратно)254
Этот титул носила принцесса Луиза Французская, старшая сестра герцога Бордоского, законного (с точки зрения сторонников старшей ветви Бурбонов) наследника французского престола. Виконт де Лоне демонстрирует свою независимость, превознося двух принцесс из соперничающих родов: дочь того, кто восседает на французском престоле, и сестру того, кто, по мнению легитимистов, этого престола незаконно лишен.
(обратно)255
Луи-Филипп реконструировал Версаль на деньги из цивильного листа (сумма в 12 миллионов, ежегодно выделяемая королю по решению парламента). Решение заняться Версалем он принял в 1833 г. после того, как палата депутатов отказалась выделить ему 18 миллионов для соединения дворца Тюильри с Лувром; король надеялся, что реконструкция Версаля обойдется дешевле, но ошибся: на этот проект он потратил двадцать три с половиной миллиона франков (см.: Martin-Fugier A. La vie quotidienne de Louis-Philippe et de sa famille, 1830–1848. P., 1992. P. 131–132).
(обратно)256
Тиволи принадлежал к числу весьма популярных в Париже так называемых «развлекательных садов». Располагались они, как правило, на окраине города, на месте роскошных усадеб, которые до Революции принадлежали богатым откупщикам (усадьбы эти, на которые откупщики не жалели денег, именовались «прихотями»). Первый развлекательный сад под названием Тиволи (в честь итальянского города, где сохранился один из прекраснейших ренессансных парков) был открыт братьями Руджьери на улице Сен-Лазар, на территории бывшей «прихоти» откупщика Бутена; он действовал с 1796 по 1811 г. Затем братья Руджьери создали на улице Клиши, на территории бывшей усадьбы маршала де Ришелье, второй сад Тиволи, действовавший до 1826 г. Наконец, третий сад Тиволи (Новый Тиволи) открылся в 1826 г. в бывших владениях откупщика Гайяра де Ла Буэксьера (ныне это площадь Адольфа Макса).
(обратно)257
Конная военная игра, устраиваемая в подражание рыцарским турнирам.
(обратно)258
На первой из этих улиц жили преимущественно мелкие лавочники, «люди провинциального вида, совсем не элегантные, плохо обутые, похожие на торгашей» (Бальзак. История и физиология парижских бульваров, 1845); на второй находились роскошные особняки богатых финансистов.
(обратно)259
«Не знаю что», «нечто» (je ne sais quoi) — одно из центральных понятий эстетики и теологии XVII в. У Фенелона в «Приключениях Телемака» (изд. 1699) в наставнике заглавного героя Менторе окружающие угадывают «нечто», возвышающее его над смертными, — и небезосновательно, потому что в облике Ментора предстает богиня мудрости Афина, а в уста Ментору-Афине Фенелон вкладывает христианскую проповедь. Однако ничего специфически фенелоновского в этом выражении нет; не менее важную роль играло оно в творчестве современника Фенелона Жака-Бениня Боссюэ (см.: Le Brun J. La spiritualité de Bossuet. P., 1972. P. 435–436).
(обратно)260
К следующему фельетону (29 июня 1837 г.) Жирарден сделала примечание: «В предыдущий наш фельетон вкралось несколько грубейших ошибок, одна из которых особенно несносна; вместо: тщетно пытающегося описать словами то, что пленяет глаз и ум, — наборщик поставил: что пленяет глаз и руку. Интересные мысли посещают ум этого наборщика и направляют его руку!»
(обратно)261
Церковь Лоретской Богоматери в квартале Шоссе д’Антен (та самая, в честь которой девицы легкого поведения, проживавшие по соседству, получили название «лоретки») была торжественно открыта в 1836 г. Роскошью декора эта церковь могла поспорить с богатой гостиной; месса здесь проходила с участием светского оркестра и оперных певцов, а иногда под сводами этого храма устраивались концерты светской музыки. На многих набожных людей это производило тягостное впечатление. Русский мемуарист замечал, что в доме Божьем, который «так весел и так щеголевато убран, невозможно, кажется, никакое глубокое и важное размышление» (Всеволожский Н. С. Путешествие чрез Южную Россию, Крым и Одессу в Константинополь, Малую Азию, Северную Африку, Мальту, Сицилию, Италию, Южную Африку и Париж в 1836 и 1837 годах. М., 1837. Т. 2. С. 408).
(обратно)262
Западный пригород Парижа.
(обратно)263
С Андреем Яковлевичем Италинским, в 1817–1827 гг. российским послом в Риме, Дельфина познакомилась во время своего путешествия по Италии (1826–1827). В Неаполе Италинский жил с 1781 по 1801 г., сначала в качестве секретаря российского посольства, а с 1795 г. в качестве посла; извержение Везувия, о котором он рассказывал Дельфине, произошло в 1794 г.
(обратно)264
Национальная гвардия, организованная в Париже в июле 1789 г., на следующий день после взятия Бастилии, представляла собой своеобразное ополчение жителей города, призванное поддерживать порядок на улицах. Парижская национальная гвардия комплектовалась по месту жительства; служить в ней были обязаны все мужчины от 20 до 60 лет, платившие прямой налог (личный и на движимое имущество); однако реально на дежурство выходила примерно половина граждан данной категории. Охотно несли службу только мелкие лавочники, а более состоятельные и более образованные горожане, жители богатых кварталов, уклонялись от дежурств под любыми предлогами. В 1830 г., во время революции и сразу после нее, национальные гвардейцы выглядели в глазах парижан глашатаями и защитниками новой Франции. Но во время республиканских восстаний начала 1830-х гг. национальная гвардия неизменно вставала на сторону властей, и это компрометировало ее в глазах той части общества, которую сейчас бы назвали либеральной интеллигенцией (литераторов, журналистов, художников); свысока смотрели на национальных гвардейцев и аристократы. К концу 1830-х гг. гвардейцы-лавочники сделались воплощением всего пошлого, косного и мещанского.
(обратно)265
Сен-Клу — дворец и город к западу от Парижа; до 1785 г., когда отец Луи-Филиппа продал его Марии-Антуанетте, дворец принадлежал семейству Орлеанских, поэтому после Июльской революции новый король сделал Сен-Клу одной из своих резиденций; на обратном пути из Версаля он нередко оставался здесь на ночь.
(обратно)266
Команда клакёров, или «хлопальщиков», готовых по приказу того, кто их нанял, встретить шиканьем или аплодисментами любой спектакль, имелась в распоряжении каждого директора театра; порой клакёров нанимали авторы или актеры.
(обратно)267
Ситуация была еще более тягостной для зрителей, которые нанимали половину или четверть ложи; это означало, что они имеют право посещать каждое второе или каждое четвертое представление, причем в определенный день недели. Дирекция Оперы не всегда учитывала интересы таких зрителей и ставила на некий день недели, например на понедельник, один и тот же спектакль, отчего выходило, что «понедельничные» зрители видят всякий раз одно и то же (репертуар в больших театрах — таких, как Опера или «Комеди Франсез», обновлялся гораздо медленнее, чем в маленьких театрах на бульварах, где в некоторые сезоны можно было увидеть до 40 премьер в год). См. также фельетон от 25 ноября 1837 г. (наст. изд., с. 181–182 /В файле — год 1837 фельетон от 25 ноября — прим. верст./).
(обратно)268
Балет-пантомима на музыку А. Адана, премьера которого состоялась в июле 1837 г.; зрители освистали спектакль из жизни североамериканских индейцев, потому что либретто показалось им слишком темным и непонятным.
(обратно)269
Опера Мейербера (см. примеч. 83 /В файле — примечание № 193 — прим. верст./).
(обратно)270
Премьер парижской Оперы танцовщик Симон был офицером национальной гвардии; именно за эти заслуги его сделали кавалером ордена Почетного легиона.
(обратно)271
Эта максима, вошедшая в сборник «Максимы и размышления о различных предметах морали и политики» (1807), — одно из самых знаменитых высказываний герцога де Леви (при Старом порядке — военного, во время Революции — эмигранта, при Империи — литератора, сознательно уклоняющегося от государственной службы, а в эпоху Реставрации — пэра Франции).
(обратно)272
В отличие от Олимпийского цирка на бульваре Тампля, дававшего представления круглый год, Цирк на Елисейских Полях, открытый в 1835 г., функционировал только в летний период. Оба цирка были основаны членами семейства Франкони — выходцами из Италии. Основатель династии Антонио Франкони обосновался в Париже еще в 1783 г. В описываемый период директором обоих цирков был его внук Адольф Франкони.
(обратно)273
Фешенебельное кафе на бульваре Итальянцев, основанное в 1798 г. неаполитанским мороженщиком Веллони. В 1804 г. кафе перешло в руки одного из его слуг по фамилии Тортони и прославилось под этим именем. Днем у Тортони подавали плотные завтраки; вечером — кофе, прохладительные напитки и мороженое.
(обратно)274
См. примеч. 42 /В файле — примечание № 152 — прим. верст./; экипажи компании «Белые дамы» были выкрашены в белый цвет, а кучер носил белую шляпу.
(обратно)275
То есть проделать путь по шести недлинным участкам бульварного кольца (бульварам Мадлен, Капуцинок, Итальянцев, Монмартрскому, Рыбному и Благой вести).
(обратно)276
Следующие два абзаца в первой, газетной публикации содержались не в этом фельетоне, а в следующем, датированном 19 июля 1837 г.; предварялись они следующим замечанием: «Наш предыдущий фельетон навлек на нас множество упреков […] каждый из читателей напоминает нам о неприятности, которая приключилась на улице с ним лично и о которой мы не сказали ни слова. Как жаль, что этих пеней не слышит господин префект полиции». К теме препятствий на пути парижского прохожего Жирарден возвращается не раз; так, в фельетоне от 30 ноября 1839 г. люди, которые ходят по улицам, разделены на два разряда: с одной стороны, «почтенные», такие, как «достойный старец, прогуливающий слугу в рединготе, дабы показать, что у него есть друзья» или «пожилая дама, прогуливающая капризную левретку, одетую по последней моде: в спенсер из зеленого бархата и ошейник из вишневого сафьяна»; с другой стороны, «опасные», а именно разнообразные ремесленники, переносящие свой громоздкий и не отличающийся чистотой товар: «Вот прачка с огромной остроугольной корзиной. Горе вам, кружевные накидки! Вот отличный угольщик с отличным мешком угля. Горе вам, белые атласные шляпы! […] Вот стекольщик-маляр, за плечами у него стекла невообразимой величины, а в каждой руке по ведру с краской; он может забрызгать вас красной, а может — зеленой; выбор за вами» (1, 555–556). Ср. также в фельетоне от 4 января 1840 г. сравнение парижских прохожих с лондонскими (не в пользу первых): «В Лондоне людям, идущим по улице, хватает здравого смысла для того, чтобы разделиться на два потока: один движется в одном направлении, другой — в противоположном. Мы — дело другое; мы так торопимся, так боимся опоздать, что и думать не хотим об этом — да и ни о чем другом. Кроме того, в Лондоне людям с объемистой поклажей вход на тротуар запрещен; у нас же по тротуару движутся все кому не лень, включая фиакры и кабриолеты» (1, 582) — отсюда толчея в пассажах, где полно зевак.
(обратно)277
В этих сетованиях на невозможность спокойно пройти по улице много личного; по воспоминаниям Готье, «госпожа де Жирарден, несмотря на весь свой мужской ум, была женщина и в высшей степени женщина; она, не побледнев, взошла бы на эшафот, но умирала от страха в экипаже и не осмеливалась пересечь бульвар» (Gautier. P. XII).
(обратно)278
В фельетоне 9 ноября 1836 г. Дельфина дала постоянству моды эффектное определение: «у Моды, как и у Фортуны, есть собственное колесо, которое постоянно вертится и постоянно возвращает нам одни и те же вещи. Что было когда-то, то прибудет опять. Проверьте хоть на перьях марабу, хоть на кабинете министров» (1, 28).
(обратно)279
О манере тенора Жильбера Дюпре, прославившегося в 1837 г. исполнением заглавной роли в опере Россини «Вильгельм Телль», дает представление отзыв П. В. Анненкова: «услышать вместо свистящей фистулы, как мы привыкли, настоящий человеческий голос и вместо судорожного крика благородную ноту — не последнее наслаждение» (Анненков. С. 50). Сама Дельфина отзывалась о безупречном произношении Дюпре не без иронии; 25 мая 1837 г. она писала, что четкая артикуляция еще не гарантирует сильного чувства, зато обнажает все нелепости оперного либретто (1, 133).
(обратно)280
Парижане отмечали седьмую годовщину Июльской революции 1830 г.
(обратно)281
Описание обращено к провинциалам, не имеющим возможности увидеть праздник своими глазами. Между тем три года спустя, 1 августа 1840 г., описывая празднование очередной годовщины, Дельфина отмечает, что среди зрителей этих торжеств становится все больше приезжих из провинции. «Тех, кто сам не слишком пострадал от событий 1830 г., этот национальный праздник ослепляет и восхищает»; напротив, представители элегантного общества разъезжаются по своим загородным поместьям, чтобы не слушать залпов июльских пушек (1, 725).
(обратно)282
В это время чета Жирарденов жила на правом берегу, в особняке на улице Сен-Жорж; по Королевской улице Дельфина намеревалась проехать на площадь Согласия, а оттуда — на мост Согласия, ведущий на левый берег Сены, в Сен-Жерменское предместье. О муниципальных гвардейцах см. примеч. 347 /В файле — примечание № 457 — прим. верст./.
(обратно)283
Третье действие этой оперы Мейербера происходит на берегу Сены в Париже.
(обратно)284
15 августа.
(обратно)285
Герцог Омальский, которому в 1837 г. шел 15-й год, был четвертым сыном Луи-Филиппа, а упоминаемый ниже тринадцатилетний герцог де Монпансье — его пятым сыном. Все сыновья Луи-Филиппа посещали на общих основаниях коллеж Генриха IV; в 1837 г. это уже никого не удивляло, но когда в 1819 г. Луи-Филипп (в ту пору еще герцог Орлеанский) отправил в коллеж своего старшего сына, он скандализировал этим все высшее общество, в том числе и своего кузена Людовика XVIII. Луи-Филипп и его супруга Мария-Амелия регулярно присутствовали при раздаче наград в коллеже Генриха IV начиная с 1820 г.
(обратно)286
Загородная резиденция на берегу Сены, любимая всем семейством короля Луи-Филиппа.
(обратно)287
Аделаида Орлеанская, незамужняя сестра Луи-Филиппа.
(обратно)288
Открытие железнодорожного сообщения между Парижем и городком Сен-Жермен-ан-Лэ состоялось в пятницу 25 августа; фельетон сочинен вечером этого дня, а напечатан в «Прессе» на следующий день. Виконт де Лоне касается здесь в свойственном ему ироническом тоне темы, которую газета «Пресса» активно развивала в своих серьезных статьях. Журналисты «Прессы» настаивали на важности железнодорожного сообщения для промышленного развития страны; между тем важность эта на первых порах была очевидна отнюдь не для всех, и находились ученые люди, которые утверждали, например, что быстрота передвижения по железной дороге противна человеческому организму и может вызвать умственные расстройства и белую горячку не только у тех, кто едет в вагонах, но даже у тех, кто наблюдает за их движением (мнение Баварского медицинского института; см.: 1836, L’an I. Р. 113).
(обратно)289
На Лондонской улице в новом квартале, который именовался Европейским (все улицы здесь носили названия европейских городов), располагался первый железнодорожный вокзал.
(обратно)290
Первые газовые фонари появились в Париже в конце 1810-х гг. в одном из кафе пассажа Панорам; более или менее широко газовое освещение распространилось в Париже лишь к концу 1820-х гг.; газовые фонари осветили Вандомскую площадь, улицу Мира, а в 1830-е гг. очередь дошла и до самых фешенебельных бульваров: Мадлен, Капуцинок, Итальянцев и Монмартрского.
(обратно)291
Возвышенность в окрестностях Парижа, вдоль которой проходила первая железная дорога.
(обратно)292
Журналист Самюэль-Анри Берту (с 1836 г. сотрудничавший в «Прессе») в ноябре 1834 г. опубликовал в журнале «Семейный музей», который выпускал вместе с Э. де Жирарденом, письмо, якобы написанное знаменитой куртизанкой Марьон Делорм графу де Сен-Мару. В письме, датированном 3 февраля 1641 г., рассказывалось о том, как Марьон посетила больницу для умалишенных Бисетр и услышала там от некоего Соломона де Коса, жертвы кардинала Ришелье, рассказ об удивительном изобретении — способе приводить экипажи в действие с помощью кипящей воды. Берту сочинил эту мистификацию исключительно ради того, чтобы сопроводить текстом рисунок Гаварни, который изображал безумца и который редактор не успел включить в предыдущий номер. Однако стилизация оказалась столь правдоподобной, что даже после того, как в 1847 г. Берту сам признавался в авторстве, одна из парижских газет продолжала настаивать на подлинности этого текста (журналист газеты «Мирная демократия» утверждал даже, что держал в руках оригинал письма). См.: Figuier L. Les merveilles de la science. P., 1867. T. 1. P. 19–22.
(обратно)293
Через неделю, 9 сентября, Жирарден рассказала о том, как железнодорожные служащие отреагировали на критику: «Предсказания наши порой не сбываются, зато упреки, напротив, оказываются услышаны, и мы этим очень гордимся. Приятно, когда к вам прислушиваются, пусть даже вы ни на что подобное не претендовали и всего лишь шутили. После того как мы рассказали об оплошностях железнодорожных служащих, те сделались точны, как часы. У нас для того, чтобы человек хорошо работал, нужно дать ему понять, что за ним наблюдают: если он вознамерится выполнять свою работу хорошо, то будет работать превосходно; главное — чтобы он возымел такое намерение. После этого вы можете быть совершенно спокойны: все пойдет как по маслу. Прежде отъезд запаздывал на три четверти часа, сейчас, если отправление назначено на полдень, ровно в полдень оно и происходит; восемь сотен пассажиров одновременно занимают места в вагонах, что нельзя не счесть чудом; почему же это происходит? Потому что теперь служащие понимают важность своей миссии, потому что они сказали себе, как депутаты, поднявшиеся на трибуны: „Господа, вся Франция смотрит на нас!“ — и это чистая правда, поскольку сегодня железная дорога привлекает к себе все взоры. Она занимает все умы, возбуждает всеобщее любопытство. Вчера некто сказал, что со времен появления в Париже жирафы ни одно событие не производило здесь такого большого шума. Бедная жирафа! сколько людей предсказывали ей скорую смерть! Говорили, что она никогда не приживется в нашем климате, — точно так же сейчас утверждают, что у нас никогда не приживутся железные дороги; ведь мы, хоть и слывем легкомысленными, встречаем все новое в штыки; мы любопытны, но недоверчивы. Когда на площади Согласия устанавливали обелиск, находились люди, которые предсказывали, что он упадет и разобьется вдребезги, между тем обелиск до сих пор стоит на своем месте, жирафа здравствует в Ботаническом саду, а железные дороги, что бы ни говорили маловеры, скоро покроют всю страну» (1, 240–241). Жирафа, подаренная вице-королем Египта Мехмедом-Али Карлу X, появилась в Париже в 1827 г.
(обратно)294
Об истории «расиалистских» доктрин во Франции в XVIII–XIX вв. см.: Тодоров Цв. Раса и расизм // Новое лит. обозрение. 1998. № 34. С. 5–36; Риньоль Л. Френология и дешифровка рас // Там же. 2008. № 93. С. 11–25. Среди многочисленных классификаций рас, предложенных учеными в первой половине XIX в., существовала и такая, где в отдельный разряд была выделена «египетская раса», включавшая в себя не только древних египтян, но и негров. Впрочем, Дельфина вряд ли входила в такие тонкости; в данном случае речь вообще идет не столько о расах, сколько о социальных репутациях и стереотипах восприятия тех или иных национальностей.
(обратно)295
«Кошка, превращенная в женщину» — балет-пантомима на музыку А. Монфора, который в октябре 1837 г. был поставлен в парижской Опере. Если верить фельетону Дельфины от 7 октября 1837 г., Фанни Эльслер, исполнявшая главную роль в этом балете, во время репетиций нарочно завела себе белую кошечку, хотя вообще кошек терпеть не могла.
(обратно)296
Жители Нормандии слыли хитрецами и лицемерами, мастерами увиливать от прямого ответа; жители Бретани, которых Дельфина упоминает чуть ниже, имели репутацию упорных и страстных защитников старины, католической веры и королевской власти.
(обратно)297
«Союз» — клуб, основанный в 1828 г. известным англоманом герцогом де Гишем; в число его членов входили по преимуществу дипломаты и аристократы-легитимисты, недовольные новой властью.
(обратно)298
Круа-де-Берни — равнина к югу от Парижа, между Версалем и Шуази-ле-Руа, где устраивались скачки и охота; этот топоним стал названием «романа-стипль-чеза», который летом 1845 г. публиковали в «Прессе» Т. Готье, Ж. Мери, Ж. Сандо и Дельфина де Жирарден (см. подробнее примеч. 519 /В файле — примечание № 629 — прим. верст./).
(обратно)299
В конце предыдущего фельетона (от 28 октября 1837 г.) Дельфина описала самку шимпанзе по кличке Жаклина, которая содержится в Ботаническом саду, но которую мало кому показывают, и вот почему: «Злые языки утверждают, что наши ученые стали жертвой мистификации и что Жаклина — просто-напросто провинциальная старая дева, которой наскучила уединенная жизнь и которая, поверив красивым сказкам о том, как хорошо живется в Париже обезьянам, решила обеспечить себе бесплатный кров в Ботаническом саду. Эта версия приобретает все больше сторонников» (1, 266).
(обратно)300
Дельфина обыгрывает переносное значение слова «лев» — которое подробно разбирает в фельетоне от 31 августа 1839 г. (см. наст. изд., с. 268–272 /В файле — год 1839 фельетон от 31 августа — прим. верст./).
(обратно)301
Издевательство над неудачливыми всадниками и охотниками было любимым занятием виконта де Лоне. Очерк 31 августа 1839 г. содержит рассказ о господине, который всякий раз возвращался с охоты домой с гордым видом и набитой охотничьей сумкой, но когда один нескромный шутник заглянул в сумку, выяснилось, что там находится весьма необычная дичь: «новоявленный Нимврод» убил не зайцев и не фазанов, а «одно пальто и две пары чулок» (1, 522). 25 апреля 1840 г. Дельфина не без жестокого удовольствия цитирует реплику некоего господина де С… по поводу пяти участников стипль-чеза, которые рванулись вперед на великолепных скакунах — и тотчас провалились в ров с водой: «Ну что ж, они оказались не такими замечательными наездниками, как мы думали, но зато выяснилось, что они великолепные пловцы: знаете ли вы, что они оставались под водой целых десять минут?» (1, 662).
(обратно)302
К этому парадоксу (похвалами можно нажить больше врагов, чем критикой) Дельфина возвращается не раз; см., например, в очерке от 6 января 1838 г.: «Опасность нам грозит не столько от язвительных очерков, сколько от тех, где мы кого-нибудь хвалим. Эпиграмма способна разозлить лишь того, в кого она метит; друзей этого человека, знающих лучше, чем кто бы то ни было, его недостатки и смешные черты, она лишь развлекает, а его врагов — радует. Похвала, напротив, имеет куда меньше шансов на успех: порой она сердит даже того, кому мы желали польстить, она обижает его завистливых друзей и раздражает врагов. Похвала талантливая и обоснованная — поступок, которого не прощают. Мы всегда припоминаем по этому поводу мудрость старого царедворца. „Мне семьдесят восемь лет, — говорил он, — и я ухитрился за все годы не нажить ни одного врага. — Вы, значит, никогда не пользовались успехом? — Я пользовался большим успехом. — Вас, значит, никто не любил? — Меня любили, и очень страстно. — В чем же тогда ваш секрет? — Я никогда никого не хвалил“» (1, 323–324).
(обратно)303
См. примеч. 102 /В файле — примечание № 212 — прим. верст./; город был взят 13 октября 1837 г.
(обратно)304
Франсис Вей печатал романы с продолжением в газетах, в том числе на страницах «Прессы».
(обратно)305
В не вошедшем в книжную публикацию фрагменте фельетона от 18 ноября 1837 г. Жирарден рассказала об игрушечной лавке Дюбре (а не Дебре, как она пишет в комментируемом очерке), который для привлечения внимания публики выставил в витрине куклу Робера Макера (плута, героя двух нашумевших комедий 1823 и 1834 гг., чье имя стало нарицательным для обозначения жулика и негодяя), а также предлагал покупателям набор кукол «голых и одетых, с полным приданым».
(обратно)306
Оперы Обера и Беллини; первая из них шла в Париже с 1828 г., вторая — с 1831 г.
(обратно)307
Итальянский оперный театр выступал главным соперником Оперы, или Королевской академии музыки. Впрочем, чтобы не ставить любителей музыки перед мучительным выбором, эти два театра с 1817 г. поделили между собой дни недели: «итальянцы» давали представления по вторникам, четвергам и субботам — в те дни, когда «французы» отдыхали. Кроме того, сезон в Итальянском театре длился только с 1 октября по 31 марта, тогда как Королевская академия музыки была открыта до июня включительно. Ставили в Итальянском театре преимущественно итальянские оперы; он имел репутацию театра более изысканного, и публика, которая его посещала, была более аристократической.
(обратно)308
В описываемую эпоху в цирках, наряду с выступлениями акробатов и канатоходцев, можно было увидеть пышные спектакли-феерии, преимущественно на злободневные исторические темы, с участием множества дрессированных лошадей и выразительными спецэффектами.
(обратно)309
Аргумент, адресованный «к человеку» (лат.) и призванный повлиять на его чувства.
(обратно)310
Муарового бархата не существует; это такая же нелепость, как и прочие детали, приводимые провинциальным романистом, над которым смеется Дельфина; пользуюсь случаем принести сердечную благодарность P. M. Кирсановой за это и многие другие уточнения, касающиеся костюмов.
(обратно)311
Автором оперы «Тайный брак» (1792) был, естественно, не Моцарт, а Д. Чимароза.
(обратно)312
Один из видов наемных экипажей, использовавшихся парижанами для поездок за город.
(обратно)313
О венецианских гондольерах, распевающих октавы из поэмы Т. Тассо «Освобожденный Иерусалим», неоднократно упоминали прозаики и поэты: Ж. де Сталь («О Германии», ч. 2, гл. 11), Байрон («Чайльд Гарольд», IV, III), К. Делавинь и др. (см. сводку источников: Набоков. С. 195–197).
(обратно)314
Новое сочинение аббата де Ламенне, который в 1820-е гг. был защитником традиционной католической религии, а после 1830 г. перешел на позиции христианского социализма и за это подвергся осуждению папского престола, было объявлено в «Библиографи де ла Франс» 16 декабря 1837 г. Поскольку Ламенне в своих книгах 1830-х гг. выступал не только против официальной Церкви, но и против июльского правительства, выход его сочинения, разумеется, принадлежал к числу событий не светских, но политических. «Пресса» отозвалась о «Книге народа» 29 декабря 1837 г. рецензией А. Гранье де Кассаньяка (того самого, чье сочинение Дельфина сочувственно описывает в следующем очерке), который резюмировал мысли Ламенне следующим образом: нынешние бедняки бедны, потому что богатые их ограбили; чтобы избавиться от бедности, бедняки должны отобрать награбленное у богачей. Рецензент «Прессы» с этими тезисами категорически не соглашается.
(обратно)315
«Лотреамон» — вышедший в 1837 г. роман Эжена Сю, к названию которого, по всей вероятности, восходит псевдоним «граф де Лотреамон», под которым в 1869 г. опубликовал сборник «Песни Мальдорора» Исидор Дюкас. Действие романа происходит в царствование Людовика XIV, которого Сю изобразил дамским угодником и мелким завистником, безжалостно преследующим дворян-соперников. На первых читателей это произвело такое сильное впечатление, что в свете все спрашивали друг у друга: «Чем Людовик XIV не угодил Эжену Сю?», и какой-то остроумец ответил на этот вопрос: «Они оба добивались милостей мадемуазель де Фонтанж, но она предпочла короля» (см: Sue Е. Laulréamont. Р., 1979. Р. 4; о мадемуазель де Фонтанж см. примеч. 211 /В файле — примечание № 321 — прим. верст./).
(обратно)316
Прежде чем выпустить «Историю трудящихся классов» отдельной книгой (в 1838 г.) Гранье де Кассаньяк, вообще активный сотрудник «Прессы» в 1836–1837 гг., печатал свои очерки о жизни рабочих на страницах этой газеты.
(обратно)317
В кабинетах для чтения, получивших огромное распространение в Париже в 1820-е гг., клиенты получали возможность за сравнительно небольшую плату знакомиться с новыми книгами и газетами; за плату чуть более значительную книги и газеты можно было брать на дом. В любом случае покупка романа или газеты обошлась бы существенно дороже; так, абонемент, позволявший в течение месяца знакомиться с любыми сочинениями в кабинете для чтения, стоил 4 франка, а возможность брать книги разных жанров домой — 5 франков; между тем в книжной лавке один роман, если он был в одном томе, стоил в среднем 7,5 франков, а двухтомник обходился покупателю в 15 франков. См. подробнее: Мильчина В. А. Газета как книга: чтение газет во Франции в эпоху Реставрации и Июльской монархии // Теория и мифология книги. Французская книга во Франции и России. М., 2007. С. 45–68.
(обратно)318
Роман Жорж Санд «Мопра» появился в продаже в августе 1837 г.
(обратно)319
Если хозяин гордится мундиром национальной гвардии, значит, это буржуа; таким образом проясняется социальный адрес данного пассажа.
(обратно)320
Через неделю, 23 декабря 1837 г., Дельфина приводит в очередном фельетоне возражения читательницы, обиженной упреками в равнодушии к книгам; зато, говорит эта дама, у нее дома есть цветы, и их аромат ей куда милее, чем запах книг. Описав во всех подробностях пылкую любовь парижских дам к самым редким и дорогим цветам, Дельфина подводит итог: «Дама готова отказаться от ужина, но от целой рощи камелий — никогда. Следует отдать нам должное: за последние годы многие француженки приобрели вкус к садоводству; говорят, это признак цивилизации. Возможно: нам, однако, кажется, что мы еще не заслужили права так сильно любить цветы» (1, 308).
(обратно)321
Фонтанж — высокая дамская прическа, где волосы скрепляются лентой с бантом на лбу, и одноименный чепец, состоящий из ряда накрахмаленных кружев. Прическа и убор обязаны названием фаворитке Людовика XIV мадемуазель де Фонтанж.
(обратно)322
В этот период Александр Дюма рецензировал на страницах «Прессы» новые спектакли; его театральные хроники печатались по воскресеньям.
(обратно)323
Рецензия Жозефа Мери — всецело хвалебная и по отношению к пьесе, и по отношению к актерам — появилась в «Прессе» на следующий день, 31 декабря 1837 г.
(обратно)324
Пьеса Дюма открывается пространным прологом, действие которого происходит на улице, ведущей на римский форум; пролог этот не связан напрямую с сюжетом пьесы, но позволяет автору представить публике всех основных персонажей.
(обратно)325
Автором комедии в прозе «Маркиз де Поменар» (1819) была мать Дельфины Софи Гэ; автором второй упомянутой комедии (которая называлась не «Продолжение бала-маскарада», а «Последствия бала-маскарада», 1813) — баронесса Бауер, между прочим, женщина интересной судьбы: если во втором браке она была замужем за русским бароном Бауером, под чьей фамилией и приобрела литературную известность, то первым ее мужем был философ Сен-Симон. Первой из этих дам в 1837 г. исполнился 61 год, а вторая была на три года старше, так что обе могли похвастать большим светским и театральным опытом.
(обратно)326
Первая из этих пьес была впервые сыграна в 1797 г., вторая — в 1835 г.
(обратно)327
Наследный принц, либерал не только в политике, но и в литературе, благоволил не к одному Дюма (с которым его «сближало» еще и то, что в прошлом, в конце 1820-х гг., они пользовались благосклонностью одной и той же хорошенькой актрисы театра «Драматическая гимназия» Леонтины Фэ), но вообще к представителям новой, романтической словесности.
(обратно)328
«Мнимый больной» заканчивается шуточной церемонией присвоения Аргану докторского звания; в «Комеди Франсез» ежегодное исполнение этой сцены с участием всех актеров и актрис театра стало обрядом, который подробно описал русский мемуарист (см.: Тургенев. С. 390). В «Мещанине во дворянстве» такую же возможность давала сцена с мнимыми турками в конце четвертого акта. Соль шутки насчет отсутствующих — в том, что они были известными комиками.
(обратно)329
Имеются в виду роли, сыгранные Мари Дорваль в драме А. де Виньи (1835, «Комеди Франсез») и в трагедии А. де Кюстина (1833, театр «У ворот Сен-Мартен»). Амплуа Дорваль позволяло ей сыграть Стеллу (роль, которую играла Ида Ферье), а амплуа мадемуазель Жорж — сыграть Мессалину, которую играла мадемуазель Нобле.
(обратно)330
Эта актриса с годами так располнела, что ехидный Гейне в 1837 г. назвал ее «огромным, лучезарно-мясистым солнцем на театральном небе бульваров» (Гейне. Т. 7. С. 280).
(обратно)331
Упомянуты роли мадемуазель Жорж в двух трагедиях Вольтера (1748 и 1718), драме В. Гюго (1833) и драме А. Дюма и Ф. Гайярде (1832).
(обратно)332
В отличие от насмешницы Дельфины, официальный рецензент «Прессы» Жозеф Мери счел дебют Иды Ферье (с 1833 г. любовницы, а с 1840 г. жены Дюма) на сцене «Комеди Франсез» весьма удачным и оценил ее игру очень высоко. Зато недоброжелатели Дюма оценивали игру «мадемуазель Иды» еще резче, чем Дельфина; например, ненавистник романтиков Вьенне (правда, не в печатном тексте, а в дневнике) говорит о «жирном шаре, именуемом Идой» (Viennet. Р. 217).
(обратно)333
Эта актриса играла Юнию, кормилицу Калигулы и мать Стеллы, невинной жертвы императора. Чтобы отомстить за дочь, Юния вместе с женихом Стеллы Аквилой (его играл Бовале) замышляет убийство Калигулы (его роль исполнял Лижье).
(обратно)334
«Анжела» — драма А. Дюма, представленная впервые в декабре 1833 г. на сцене театра «У ворот Сен-Мартен».
(обратно)335
Иначе оценил появление на сцене лошадей в постановке «Калигулы» (равно как и саму пьесу) Теофиль Готье, 8 января 1838 г. опубликовавший в «Прессе» очерк о прошедшем театральном сезоне. По мнению Готье, Дюма имел все основания требовать участия в постановке живых лошадей, потому что новая трагедия, в отличие от старой, не может ограничить декорации несколькими колоннами и одним креслом; она нуждается в разнообразных аксессуарах и пышных костюмах. О том, что Дюма пригрозил забрать свою пьесу в том случае, если на сцену «Комеди Франсез» не допустят лошадей, Дельфина сообщала еще до премьеры, в фельетоне от 16 декабря 1837 г. (1, 303). О купаниях на дому см. примеч. 351 /В файле — примечание № 461 — прим. верст./.
(обратно)336
Эпохой наибольшей популярности «Конститюсьонель», основанной в 1815 г., были 1820-е годы, когда эта газета служила главным выразителем либеральных взглядов. При Июльской монархии «Конститюсьонель» стала органом левого центра, то есть прежде всего Тьера; собратья-журналисты нередко высмеивали ее за классические литературные пристрастия и старомодный стиль.
(обратно)337
Хотя многие критики оценили «Калигулу» благосклонно, эта пьеса довольно быстро сошла со сцены, а шумная самореклама ее автора обогатила язык актеров глаголом «калигулировать» (в смысле «надоедать, действовать на нервы»). Что же касается дружеских отношений Дельфины с Дюма, то этот фельетон их не испортил, хотя с Эмилем де Жирарденом писателю пришлось (десятью годами позже) даже сражаться в суде (куда редактор «Прессы» вызвал своего сотрудника за систематическое нарушение контрактов и задержку текстов). 21 февраля 1847 г., сразу после этого судебного процесса (который Дюма проиграл), Дельфина произносит настоящее похвальное слово автору «Калигулы» и, споря с критиками, упрекающими его в том, что он пишет слишком быстро, прибегает к сравнению с железнодорожным транспортом: «Вы шутя проделываете 60 лье за три часа, но чему вы обязаны этой скоростью? Годам тяжкого труда, щедро истраченным миллионам, тысячам рук, работавшим в течение тысячи дней. Вы летите, как стрела, но ради того, чтобы вы могли однажды промелькнуть столь стремительно, огромное множество людей не ели и не спали, рыли и копали! Так вот, именно так же обстоит дело и с талантом Александра Дюма: за каждым выпущенным томом стоят годы тяжких трудов» (2, 441). Талант Дюма вообще вдохновлял Дельфину на эффектные метафоры; 6 апреля 1845 г., возмущаясь теми, кто не желает принимать во Французскую академию ни Дюма, ни Бальзака под тем предлогом, что они пишут по полутора десятка томов в год, она восклицала: «Слишком большой багаж не приветствуется; в Академии правила такие же, как в саду Тюильри: с громоздкой ручной кладью сюда вход воспрещен» (2, 408–409).
(обратно)338
Сторонники свергнутой в 1830 г. старшей ветви Бурбонов начиная с 1834 г. ежегодно устраивали благотворительный бал в пользу бывших королевских пенсионеров — людей благородного происхождения, которые в эпоху Реставрации получали пенсию от Людовика XVIII и Карла X, а после прихода к власти Луи-Филиппа остались без средств к существованию. Поначалу балы имели и коммерческий, и символический успех: легитимисты одновременно и утверждали себя в качестве дееспособной социальной силы, и выручали (за счет продажи билетов) более или менее существенные суммы, но затем (к началу 1840-х гг.) ситуация изменилась, и легитимистский бал превратился в обычное светское мероприятие, посещаемое людьми самых разных убеждений.
(обратно)339
2 декабря 1837 г. Дельфина называет невралгию (наряду с кружевами) одной из самых модных вещей в светском обществе и непременной темой всех светских разговоров, однако выражает надежду, что мода на невралгию не проживет более месяца, кружевам же отмерен более долгий срок (1, 286–287).
(обратно)340
Будущий член Французской академии выпустил этот двухтомный стихотворный перевод в 1796 г.
(обратно)341
То есть сторонников правительства (см. примеч. 51 /В файле — примечание № 161 — прим. верст./).
(обратно)342
Об этих «женщинах без имени» см. примеч. 468 /В файле — примечание № 578 — прим. верст./.
(обратно)343
Внук Карла X герцог Бордоский, который, по убеждению легитимистов, должен был в 1830 г. занять французский престол; юный герцог жил в Австрии.
(обратно)344
Верхним Куртием назывался квартал в парижском пригороде Бельвиль, располагавшийся на высоком холме и изобиловавший кабачками и танцевальными залами. В течение трех последних дней карнавала (в воскресенье, понедельник и вторник накануне Великого поста) в кабачки Верхнего Куртия поднималась толпа светских людей в масках и карнавальных костюмах. Они веселились и пьянствовали там вместе с обитателями предместий, а утром «пепельной среды» (первого дня Великого поста) усаживались в кабриолеты, фиакры, шарабаны и по главной улице Бельвиля спускались из Верхнего Куртия в Нижний, выкрикивая непристойности. «Ямщик из Лонжюмо» (1836) — комическая опера на музыку А. Адана; о Робере Макере, персонаже одноименной драмы 1834 г. и драмы 1823 г. «Постоялый двор в Адре» (авторы Б. Антье и Сент-Аман, исполнитель — Фредерик Леметр), см. примеч. 195 /В файле — примечание № 305 — прим. верст./. Превосходную характеристику Робера Макера, для которого «нищенство и богатство стали такими же мало обязывающими понятиями, как совесть или честь», см. в: Анненков. С. 231–233.
(обратно)345
Дипломат Рейнгард, многолетний сотрудник Талейрана, посол Франции в европейских странах при Империи, Реставрации и Июльской монархии, с 1832 г. пэр Франции и член Академии моральных и политических наук, скончался в Париже 25 декабря 1837 г. Речь восьмидесятичетырехлетнего Талейрана, произнесенная 3 марта 1838 г., стала фактически его завещанием (он умер два месяца спустя, 17 мая). Парижане предчувствовали, что, возможно, видят легендарного дипломата в последний раз, поэтому на заседание Академии собрался весь цвет французского общества. Рисуя портрет идеального дипломата, Талейран говорил не столько о своем покойном друге, сколько о себе самом. Однако, по мнению новейшего биографа, портрет оказался чересчур благостным и вовсе не отражал острого и цинического ума Талейрана, который двумя годами раньше писал своему внебрачному сыну графу де Флао: «Во время всех смут политики желают одного, а народу говорят совсем другое» (Waresquiel Е. de. Talleyrand, le prince immobile. P., 2003. P. 607–608).
(обратно)346
Афоризм, приписываемый Талейрану. Изумление Дельфины объясняется тем, что Талейран был по преимуществу не публичным политиком и оратором, но мастером светской беседы и закулисных интриг.
(обратно)347
С марта по ноябрь 1838 г. Дельфина жила в поместье «Фруктовый сад» неподалеку от города Бурганёф в департаменте Крёз, которое Жирарден приобрел, чтобы получить право быть избранным в палату депутатов (от депутатов требовалось обладание недвижимостью); в те полгода, когда Дельфины не было в Париже, «Пресса» выходила без «Парижского вестника».
(обратно)348
Две женщины познакомились 26 ноября 1838 г., когда Рашель приехала к Дельфине, чтобы поблагодарить ее за хвалебную статью. Рашель дебютировала на сцене «Комеди Франсез» летом 1838 г. и никому не была известна до тех пор, пока в сентябре Жюль Жанен не превознес ее игру на страницах «Журналь де Деба». До конца жизни Дельфины ее и Рашель связывали дружеские отношения, которые не омрачил даже кратковременный «роман» актрисы с Эмилем де Жирарденом (в 1845–1846 гг.). Рашель играла заглавные роли в сочиненных Дельфиной специально для нее стихотворных трагедиях «Юдифь» (1843) и «Клеопатра» (1847) и прозаической комедии «Леди Тартюф» (1853) — впрочем, без большого успеха. Письма Рашели к Дельфине см. в: Imbert. Р. 173–271.
(обратно)349
Опера Галеви (1835). 6 марта 1841 г. Дельфина описала обед знаменитостей у бывшего директора Оперы Верона (пояснив в скобках: «стол ломился от знаменитостей, но ели не их») с участием композиторов Обера и Галеви; Обера попросили сыграть что-нибудь новое, и он сыграл прекрасный марш. «Через некоторое время о том же попросили господина Галеви, он сел за рояль и, выказав чудеса памятливости, повторил прекрасный марш господина Обера, который впервые услышал час назад. „Это изумительно! — вскричали все присутствующие. — Он повторил мелодию в точности, ничего не изменив. — Нет, — возразил господин Обер, — он внес несколько очень удачных изменений, которыми я непременно воспользуюсь“. Две женщины не выказали бы столько кокетства, особенно меж собой» (2, 50).
(обратно)350
Обруч или цепочка с драгоценным камнем, спускающимся на лоб (см.: Кирсанова. С. 292).
(обратно)351
Этот эдикт, подписанный в 1660 г., запрещал иностранные (прежде всего венецианские) кружева, которые разоряли французских подданных и обогащали иностранную казну.
(обратно)352
Мольер. Урок мужьям (д. 2, сц. 6; пер. В. Гиппиуса).
(обратно)353
О запрете азартных игр см. примеч. 477 /В файле — примечание № 587 — прим. верст./. Закон, запрещавший уличным глашатаям и разносчикам газет осуществлять эту деятельность без разрешения властей, был принят 16 февраля 1834 г.; 10 апреля того же года был принят закон, запрещавший создание ассоциаций числом более 20 человек без разрешения властей (ужесточенная версия соответствующей статьи Уголовного кодекса 1810 г.). Под «законом против газет» подразумеваются так называемые сентябрьские законы 1835 г., которые ужесточали ответственность журналистов за материалы, печатаемые в газетах, и вводили предварительную цензуру на рисунки и гравюры.
(обратно)354
Коалицией назывался сложившийся летом 1838 г. союз депутатов, находившихся в оппозиции к министерству Моле (см. примеч. 1 и 109 /В файле — примечания № 111, 219 — прим. верст./). Коалиция объединяла людей, которые в прошлом были непримиримыми врагами и которых сближала только нелюбовь к действующему кабинету: левоцентриста Тьера, «доктринера» Гизо, вождя «династической левой» (то есть левых, в принципе поддерживавших июльский режим, но требовавших радикальных реформ) Одилона Барро и даже легитимиста Берье. Среди прочего члены коалиции упрекали Моле в том, что он позволяет королю слишком активно участвовать в политике, тогда как монарху следует «царствовать, но не править» (см. примеч. 64 /В файле — примечание № 174 — прим. верст./). «Пресса» не поддерживала коалицию, во-первых, потому что прагматик Жирарден, хотя и не стремился сделать свою газету официозной, не желал и прямых конфликтов с июльской властью, а во-вторых, потому что некоторые члены коалиции поддерживали газеты, конкурировавшие с «Прессой» (так, органом «династической левой» была газета «Век» [Siècle], начавшая выходить одновременно с газетой Жирардена и основывавшаяся на тех же принципах: дешевая цена, обильная реклама, публикация романов с продолжением). Газеты, перечисленные Дельфиной, были органами «коалиции», что же касается женского влияния, то ирония Дельфины может относиться и к Гизо, который к этому времени был уже полностью пленен княгиней Ливен и, по слухам, совершенно подчинился ее воле (см. примеч. 63 /В файле — примечание № 173 — прим. верст./), и к Тьеру, который прислушивался к мнению своей тещи и, опять-таки по слухам, бывшей любовницы Эвридики Дон (см. примеч. 61 /В файле — примечание № 171 — прим. верст./).
(обратно)355
Дельфина описывает начало очередной сессии палаты депутатов, которые в 1838 г. приступили к работе 17 декабря.
(обратно)356
В дидактическом романе Ж.-Ф. Мармонтеля «Велизарий» (1767) заглавному герою, великому полководцу, впавшему в немилость и ослепленному по приказу Юстиниана, хранит верность лишь один из придворных императора, юноша по имени Тиберий.
(обратно)357
Этот манеж был открыт в 1834 г. на улице Дюфо графом д’Ором, бывшим главным берейтором кавалерийской школы в Сомюре, автором многочисленных сочинений о лошадях и верховой езде.
(обратно)358
В описываемую эпоху это слово, заимствованное из английского, означало во французском языке любителей верховой езды; современное значение оно приобрело лишь в конце XIX в. О спортсменах как разновидности денди см.: Вайнштейн. С. 138–144.
(обратно)359
Дельфина почти в точности перечисляет те ремарки, которые содержатся в настоящем отчете о заседании 20 декабря, напечатанном в «Прессе» 21 декабря 1838 г. На этом заседании депутаты выбирали четырех заместителей председателя, причем четвертого им выбрать так и не удалось, поскольку никто не набрал большинства голосов, а шум стоял такой, что министр внутренних дел Монталиве под тем предлогом, что в этом собрании все равно никто никого не слушает, даже отказался поначалу отвечать на заданные ему вопросы.
(обратно)360
Вязальщицами называли женщин из народа, которые во время Революции присутствовали на заседаниях Конвента с вязанием в руках. Они восторженно приветствовали кровавые приговоры и с большой радостью присутствовали при казнях аристократов и «контрреволюционеров».
(обратно)361
То есть благотворительной распродаже, выручка от которой шла в пользу поляков, бежавших во Францию после подавления Россией польского восстания 1830–1831 гг.
(обратно)362
I Коринф. 13, 4.
(обратно)363
Персонаж новеллы Гофмана «Мадемуазель де Скюдери» (1819) и ее французского переложения — новеллы А. де Латуша «Оливье Бриссон» (1823).
(обратно)364
На заседании обсуждался адрес депутатов королю в ответ на его речь при открытии парламентской сессии; адрес включал оценку деятельности министерства. В понедельник 7 января Гизо подверг резкой критике кабинет Моле, который, по его мнению, ввергнул Францию в анархию и проводит беспринципную политику, губительную для страны. Он подробно остановился на собственных прошлых заслугах и на всем том полезном, что сделали после Июльской революции он, Гизо, и его единомышленники-доктринеры; деликатность позиции Гизо заключалась в том, что до определенного момента нынешний премьер-министр Моле также входил в число этих единомышленников, а нынешние союзники Гизо (те самые «политические друзья», о которых Дельфина рассуждает ниже) еще недавно были его противниками. Комплименты Дельфины Ламартину объясняются не только их давней дружбой, но и тем, что в палате депутатов Ламартин (так же как и Эмиль де Жирарден) выступал в поддержку правительства и против «коалиции» (см. примеч. 244 /В файле — примечание № 354 — прим. верст./).
(обратно)365
Гизо был не только практикующим политиком, но и видным историком; еще в 1820-е гг. он прославился своими лекциями в Сорбонне и историческими трудами, в частности «Историей цивилизации в Европе» (1828) и «Историей цивилизации во Франции» (1830).
(обратно)366
Язвительные тирады относительно стакана воды с сахаром присутствуют и во вполне серьезных передовицах «Прессы»; так, 1 декабря 1840 г. анонимный журналист замечает, что искусные ораторы продумывают заранее все, вплоть до тех моментов, когда они протянут руку к стакану с водой: приступ жажды они ощущают ровно в те минуты, когда хотят заставить публику с нетерпением дожидаться продолжения речи. Квесторами назывались люди, ведающие административно-хозяйственными делами парламента.
(обратно)367
7 января 1839 г. знаменитый физик Франсуа Араго сделал в Академии наук доклад об изобретении «дагерротипии» — способа фотографирования, основанного на разложении йодистого серебра под действием света. До этого Дагер был известен парижанам как изобретатель диорамы (см. примеч. 133 /В файле — примечание № 243 — прим. верст./).
(обратно)368
От того, в какой редакции — министерской или «коалиционной» — палата примет адрес королю, зависела судьба кабинета Моле (одним из требований коалиции была его отставка). В конце концов 19 января (то есть на следующий день после того, как Дельфина сочинила комментируемый фельетон) победу одержали депутаты, лояльные министерству, однако кабинет это не спасло: большинство было ничтожным (221 против 208), поэтому король решил распустить палату и назначить новые выборы на 2 марта. Результат этих выборов оказался вовсе не тем, на какой рассчитывали Луи-Филипп и Моле; оппозиция получила большинство голосов, и 8 марта на гамлетовский вопрос был дан ответ «не быть»: Моле и его кабинету пришлось уйти в отставку.
(обратно)369
Новоназначенные министры переезжали в казенные особняки и получали 10 000 франков «на обзаведение» вдобавок к 80 000 франкам жалованья, причем все их траты ограничивались «столом, экипажем и содержанием трех-четырех слуг», так что, констатирует Шарль де Ремюза (занимавший в 1840 г. в кабинете Тьера пост министра внутренних дел), на эти деньги можно было, отнюдь не разоряясь, жить достаточно роскошно (Rémusat. Р. 337).
(обратно)370
Тьер, как и Гизо, прославился еще до 1830 г. своими историческими трудами: в 1823–1827 гг. он выпустил имевшую огромный успех «Историю французской революции».
(обратно)371
Жена министра внутренних дел в правительстве Моле графа де Монталиве.
(обратно)372
Этот только что открывшийся клуб на углу улицы Ришелье и бульвара Итальянцев бесплатно предоставил свое помещение для бала в честь бывших королевских пенсионеров, назначенного на 28 января 1839 г.
(обратно)373
Стоимость этой золотой монеты равнялась 20 франкам.
(обратно)374
В романе Дельфины «Трость господина де Бальзака» (1836) герой, благодаря магической трости сделавшийся невидимкой, присутствует, не сняв шляпы, на литературном вечере в светском салоне; на секунду выпустив из рук трость, он становится видимым, и тот факт, что этот красивый молодой человек не снял шляпы, донельзя изумляет героиню романа. Ср. также возмущенную зарисовку в фельетоне 8 мая 1841 г.: депутат Ташеро в день перенесения праха императора в собор Инвалидов сидел в церкви на депутатской трибуне, напротив трибуны, предназначавшейся женщинам, «небрежно растянувшись на двух скамейках и храня на голове независимую шляпу». «Явился король: господин депутат не снял шляпу; началась служба: господин депутат не снял шляпу; в храм внесли тело императора, старые солдаты преклонили колени, старые маршалы склонили головы и прослезились, женщин охватил трепет: господин депутат не снял шляпу; и все возмущались его поведением, и все восклицали, уходя из церкви: „Если этот человек не снимает шляпы ни перед женщинами, ни перед королем, ни перед императором, ни перед Господом Богом, перед кем же он ее снимает?“ — Что за вопрос! — перед своими избирателями» (2, 84).
(обратно)375
То есть простонародных героев в пышной раме.
(обратно)376
Слово confort во французском языке XVII–XVIII вв. имело значение «помощь, поддержка». Англичане, заимствовав его у французов и изменив написание на «comfort», придали ему значение «удобство», и именно этот смысл после 1815 г. оно приобрело во французском языке. Виконт де Лоне воспринимает комфорт как англицизм и сохраняет английскую графику (comfort).
(обратно)377
Подача на русский лад заключалась в том, что кушанье приносили из кухни горячим на больших блюдах, а затем на отдельном столике раскладывали по тарелкам; при подаче на английский лад лакеи сразу подавали гостям тарелки с кушаньем. Оба эти способа отличались от французской манеры, при которой все кушанья определенной перемены блюд выставлялись на стол и гости сами накладывали себе то, что их привлекало. Русская манера вошла в моду во Франции с середины 1810-х гг., английская — несколько позже и в 1830-е гг. воспринималась как модная новинка.
(обратно)378
Герцогиня де Н… — возможно, герцогиня де Нарбонн-Пеле, давняя приятельница Софи Гэ. В английском посольстве в эти годы гостей принимала жена посла леди Гренвил. Госпожа де Фл… — графиня де Флао (см. примеч. 62 /В файле — примечание № 172 — прим. верст./); госпожа Рот… — баронесса Ротшильд. Дельфина охотно посещала славившиеся в парижском свете балы, которые устраивали банкиры Ротшильды, братья Соломон и Джеймс (второй из них был не только финансистом, но и дипломатом, австрийским консулом в Париже). 30 мая 1841 г. она восторженно описывает праздник, устроенный Соломоном Ротшильдом и его женой в их «летнем дворце» в Сюрене (одном из парижских пригородов) и замечает в финале: «Завистник скажет: тут все дело в деньгах; мы ответим ему: нет, ибо ты тоже богат, но ничего подобного выдумать не способен. В чем же тут дело? Возможно, в случае; да, в случае, волею которого одна и та же особа принадлежит одновременно нескольким странам с наиболее усовершенствованной цивилизацией: с Германией эту особу связывает рождение, с Англией — воспитание, с Францией — привычка; особа эта, наделенная редкой чувствительностью ко всему элегантному, обучилась поэзии праздников в Вене, умной любви к цветам в Лондоне и науке хорошего вкуса в Париже» (2, 102). Не менее роскошные и элегантные балы устраивала дочь Соломона Ротшильда и жена Джеймса, Бетти Ротшильд (какая именно госпожа Ротшильд имеется в виду в комментируемом письме, неясно). Дельфина не скрывала симпатии к богачам-Ротшильдам, хотя и сознавала, что это придется по вкусу не всем ее читателям; в очерке от 6 января 1838 г., похвалив банкирский дом Ротшильдов за удачное ведение дел, она восклицает: «Право, мы можем собою гордиться: мы только что совершили мужественный поступок. По нынешним временам для того, чтобы хвалить миллионеров, потребна отвага. Бедняги богачи на очень плохом счету у завистников» (1, 321).
(обратно)379
Древнегреческий бог Аполлон в поздней античности отождествлялся с богом солнца Гелиосом; в данном случае подразумевается легенда о том, как Гелиос низверг на землю солнечную колесницу, которой взялся управлять его дерзкий сын Фаэтон. Судя по упоминанию золотистых локонов, Дельфина, чьи белокурые пышные волосы вызывали восторг всех, кто ее знал, пишет о собственном детстве.
(обратно)380
«Медведь и паша» — водевиль Э. Скриба и Кс.-Б. Сентина (1820); в нем два владельца передвижного зверинца, чьи звери сдохли, изображают во дворце турецкого паши двух медведей, белого и бурого, причем «белый медведь» узнает в султанше Роксолане свою собственную жену, похищенную много лет назад.
(обратно)381
Бал, о котором идет речь, происходил, по всей вероятности, в Сен-Жерменском предместье, в доме, где не были приняты ни обитатели квартала Шоссе-д’Антен (см. примеч. 20 /В файле — примечание № 130 — прим. верст./), ни «осведомленный» сплетник; Королевская улица, строго говоря, не входила в состав Сен-Жерменского предместья (она располагается напротив него, на другом берегу Сены), но здесь также проживали представители старинной знати.
(обратно)382
Фельетон написан в период, когда после роспуска палаты депутатов (см. примеч. 258 /В файле — примечание № 368 — прим. верст./) шла подготовка к новым выборам, назначенным на 2 марта 1839 г.; Жирарден, входивший в прежнюю палату как депутат от Бурганёфа (см. примеч. 237 /В файле — примечание № 347 — прим. верст./), вновь выставил свою кандидатуру и, подобно прочим кандидатам, обратился к своим избирателям с «электоральным» письмом, в котором противопоставил партию «коалиции», способную привести Францию лишь к анархии, партии «парламентской», или консервативной, в которую входит он сам. О том, как Жирарден завоевывал голоса избирателей, можно судить по ироническому, но, по-видимому, достаточно близкому к истине описанию мемуариста: в Бурганёфе было 129 избирателей; помощник Жирардена партиями привозил их в Париж, где их кормили обедами и водили в театр; в результате в день выборов в 129 бюллетенях стояло имя Жирардена (см.: Claudin. Р. 33). Депутат Мартен из Страсбурга, о котором пишет Дельфина ниже, был главным соперником Жирардена и до поры до времени очень успешно портил его политическую карьеру (так, в декабре 1837 г. он обвинил Жирардена в отсутствии французского гражданства, а значит, и права быть депутатом; то же обвинение он вновь выдвинул в феврале 1839 г.; в результате, хотя Жирарден был избран, палата отказалась утвердить его избрание, и он смог вновь стать депутатом только в 1842 г.).
(обратно)383
Хотя Дельфина ниже настаивает на том, что курьеру-двоеженцу грозило повешение, согласно 340-й статье Уголовного кодекса 1810 г. двоеженство каралось каторжными работами.
(обратно)384
В устах Дельфины упоминание «прославленных друзей» было не хвастовством, а правдивой констатацией. «Звезды» тогдашней литературы (Ламартин и Гюго, Бальзак и Эжен Сю и многие другие) в самом деле были завсегдатаями ее салона; она гордилась ими и «полагала, что празднество, освещенное десятью тысячами свечей, украшенное целым лесом камелий и сверкающее самыми драгоценными алмазами, не стоит трех или четырех кресел в ее гостиной, занятых такими посетителями» (Gautier. P. V). А когда на кого-нибудь из друзей Дельфины нападали критики, она, по свидетельству того же Готье, приходила в ярость и осыпала наглецов сарказмами.
(обратно)385
Мятеж, предчувствие которого носилось в воздухе, разразился в Париже 12 мая 1839 г. Организованный республиканским тайным «Обществом времен года» под руководством О. Бланки и А. Барбеса, он был подавлен муниципальной гвардией.
(обратно)386
Очень пышный бант, прикрывающий застежку глубоко декольтированного корсажа.
(обратно)387
Первая во Франции железная дорога длиной в 20 км была проложена в 1827 г. между Сент-Этьенном и соседним городом Андрезьё; вторая в 1832 г. связала Сент-Этьенн с Лионом.
(обратно)388
Представление о том, что в древности женщины оставались рабынями внутри семьи и получили свободу лишь благодаря христианской религии, сделавшей брак священным таинством, распространилось во Франции в XIX в. благодаря трактату Ж. де Сталь «О литературе» (1800; ч. 1, гл. 8). Крепостная зависимость, которую во Франции окончательно упразднил декрет Национального собрания от 15 марта 1790 г., сменяла рабство постепенно начиная с V в.; упоминание именно XII в., по-видимому, восходит к лекциям Гизо об истории цивилизации во Франции, где много говорится об этом столетии как времени, когда сложился класс, сделавшийся впоследствии третьим сословием. См.: Гизо Ф.-П.-Г. История цивилизации во Франции. М., 2006. Т. 3. С. 125–140; Т. 4. С. 7–36.
(обратно)389
Шелкопряды, из яичек которых появляются на свет шелковичные черви, относятся к отряду бабочек, т. е. к классу насекомых, но Дельфина исходит не из научной классификации, а из формы червя.
(обратно)390
В отличие от полезного шелковичного червя, майский жук наносил большой вред сельскому хозяйству, и власти вели с ним борьбу; супрефект бретонского города Кемперле литератор Огюст Ромьё даже прославился тем, что первый назначил денежную премию за сбор этих вредителей (он посулил 50 франков всякому, кто представит ему одно буасо, т. е. 13 литров жуков).
(обратно)391
Большое передвижное зеркало.
(обратно)392
У этой иронической тирады имеется вполне серьезный смысл: Дельфина вслед за своим мужем была убеждена в важнейшей роли промышленного и ремесленного труда как умиротворяющей силы, которая позволяет избежать революционных катаклизмов, цементирует общество и способствует не только экономическому, но и социальному прогрессу (см. подробнее: 1836, Van I. Р. 154–161). Что же касается роскоши, то ее Дельфина считала (разделяя мнение Вольтера и многих других просветителей) двигателем цивилизации; поэтому следующая ниже в этом фельетоне апология законов против роскоши носит иронический характер.
(обратно)393
Саркастическое опровержение проповеди равенства и утверждение исконного природного неравенства умных и глупых, красивых и уродливых и проч. — одна из постоянных тем «Парижского вестника». В фельетоне от 25 марта 1841 г. Дельфина дает еще одно, не менее броское определение равенства — «утопия недостойных» (2, 63), а 11 июля 1847 г., полемизируя с высокомерными депутатами, которые поощряют «авторов гривуазных песенок», но не желают замечать талантливых поэтов из народа, пишет: «Нас трудно обвинить в заискивании перед народом; мы никогда не убаюкивали его россказнями о мечте завистников, что равенством зовется; мы всегда заявляли, даже рискуя его прогневить, что равенство есть не что иное, как несправедливость, что лентяй никогда не будет равен трудящемуся, что уравнение всех и вся, о котором толковали философы, есть не что иное, как обман; но если мы не считаем, что ради равенства все, кто стоит наверху, обязаны спуститься вниз, мы считаем, что многие из тех, кто стоит внизу, должны подняться наверх; если мы не верим в равенство, вскормленное завистью, мы верим в равенство, выросшее из воспитания. Мы не хотим, чтобы сильные говорили слабым: „Погодите! скоро мы станем немощны, как вы“; мы не хотим, чтобы люди умные и образованные говорили тупым невеждам: „Не тревожьтесь, мы постараемся забыть все, что мы знаем, и обещаем как можно скорее сделаться такими же невежественными и тупыми, как вы…“ Мы хотим иного; хотим, чтобы слабые говорили сильным: „Набирайтесь сил, и мы будем с вами заодно“; хотим, чтобы люди умные и образованные говорили невеждам: „Просветите ваш ум учением, возвысьте вашу душу мыслью, переломайте, переиначьте свою природу посредством образования, как это сделали мы, и тогда мы не только не станем отталкивать вас с презрением, мы первыми призовем вас к себе“» (2, 484). Объектом полемики во всех этих случаях выступает коммунистическая пресса того времени с ее требованием «абсолютного равенства»; см.: Ревякин А. В. Социализм и либерализм во Франции в середине XIX века. М., 1999. С. 216–224.
(обратно)394
Под Хоббсом, по-видимому, подразумевается голландский банкир английского происхождения банкир Уильям Хоуп, «самый богатый человек в Париже после Ротшильда» (Balabine. Р. 118), поражавший воображение французов своим состоянием (см.: Мартен-Фюжье. С. 119–121); богатство адвоката Адольфа Кремьё было в тот момент куда более скромным.
(обратно)395
Камелии, завезенные в Европу из Японии в первой половине XVIII в., с начала 1830-х гг. сделались в парижском свете модными цветами. Ими украшали себя не только женщины, но и мужчины-денди, например приятель Эмиля де Жирардена и его соратник по издательским начинаниям Лотур-Мезере, прозванный «кавалером с камелиями».
(обратно)396
Астольф де Кюстин, наградивший этим прозвищем Адольфа Тьера, переиначил прозвище Мирабо-бочка, которое было присвоено Андре Бонифасу Рикети, виконту де Мирабо, младшему брату знаменитого оратора Оноре Габриэля Рикети, графа де Мирабо. Старший Мирабо был известен своим красноречием, а младший — чрезвычайной полнотой и любовью к выпивке. Что же касается Тьера, то он также блистал красноречием, но был мал ростом, что и обыграл Кюстин.
(обратно)397
В предыдущем фельетоне от 23 марта 1839 г. Дельфина привела разговор двух солдат: «Более простодушный спрашивает товарища: „Повсюду толкуют про правительство и оппозицию, оппозицию и правительство; что это все значит? — Постой, я тебе сейчас все объясню. Возьмем маршала Сульта; знаешь маршала Сульта? — Да. — Ну вот: коли он в оппозиции, значит, он выиграл сражение при Тулузе, а коли в правительстве, значит, проиграл; вот тебе и вся премудрость“» (1, 444). Сражение при Тулузе между французами под командованием Сульта и англо-испанско-португальскими войсками под командованием Веллингтона состоялось 10 апреля 1814 г., уже после отречения Наполеона от престола; в результате боя Веллингтон со своим войском все-таки вошел в Тулузу, однако потери его армии были столь велики, что французы считали и считают эту битву своей победой. Тем не менее когда оппозиционеры подозревали Сульта (вообще известного своей способностью стремительно менять политические убеждения и пристрастия) в поддержке Луи-Филиппа, они упрекали его в том, что битву при Тулузе он все-таки проиграл. Именно так они и поступали весной 1839 г., когда Сульт все больше сближался с королем (что и закончилось его назначением 12 мая на должность главы правительства). Литератор Гюстав Клоден, бывавший в салоне Жирарденов, в своих мемуарах приводит этот «всем памятный» пассаж о маршале Сульте как пример замечательного остроумия Дельфины (Claudin. Р. 32).
(обратно)398
Префект и Генеральный совет осуществляли управление департаментом; префекты назначались центральной властью, Генеральные советы были выборными и участвовали в принятии бюджета.
(обратно)399
Казимир Делавинь, до 1830 г. служивший библиотекарем будущего Луи-Филиппа, а сразу после Июльской революции сочинивший «Парижскую песнь» — аналог «Марсельезы», был весьма лоялен по отношению к июльской власти. Тем не менее его трагедия «Дети Эдуарда» (1833), в которой выведен король Ричард III, узурпатор и убийца, была поначалу запрещена к постановке министром внутренних дел и разрешена только по личному указанию Луи-Филиппа, не пожелавшего видеть в ней намек на свою персону.
(обратно)400
Этот король погиб 14 мая 1610 г. от кинжала убийцы, Франсуа Равайяка.
(обратно)401
Конституционную Хартию «даровал» французам Людовик XVIII 4 июня 1814 г.; новая ее редакция была провозглашена Луи-Филиппом 14 августа 1830 г. В редакции 1830 г. право короля объявлять войну содержалось в 13-й статье.
(обратно)402
См. примеч. 35 /В файле — примечание № 145 — прим. верст./. По настоянию Луи-Филиппа был помилован другой француз, пытавшийся его убить, — Менье (см. примеч. 65 /В файле — примечание № 175 — прим. верст./).
(обратно)403
Гнев Дельфины был вызван той кампанией в прессе, которая была развязана против Жирардена и окончилась отказом утвердить его депутатом под тем предлогом, что он не имеет французского гражданства (см. примеч. 272 /В файле — примечание № 382 — прим. верст./). 20 апреля 1839 г. Дельфина опубликовала в «Прессе» стихотворение в защиту мужа «Голосование 13 апреля», в котором, как и в давнем стихотворении 1825 г., именует себя «Музой родины», а об Эмиле говорит: «Не будь французом он, его б я не любила». Тему губительной безответственности журналистов Дельфина подробнее развила в пьесе «Урок журналистам», над которой работала летом 1839 г. (см. примеч. 61 /В файле — примечание № 171 — прим. верст./). О пагубном всевластии журналистов часто рассуждал и сам Жирарден в своих неподписанных передовицах этого времени. Осуждение журналистов устами людей, регулярно печатающихся в газете, может показаться парадоксальным, однако под журналистами Жирардены подразумевали прежде всего сотрудников тех газет, которые были куплены Тьером и которые изо дня в день уверяли читателей в том, что король и министры предают Францию (см. примеч. 244 /В файле — примечание № 354 — прим. верст./).
(обратно)404
В фельетоне от 3 ноября 1836 г. (не вошедшем в книжные издания) Дельфина определяла «алебастровые часы, подпертые с обеих сторон алебастровыми вазами» как «классическое украшение буржуазного камина, которое вы найдете у всех семейств среднего достатка в столице, в провинции и даже на Мартинике». Она иронизировала: если бедная швея и скромный ремесленник сочетаются браком, их первое желание состоит не в том, чтобы завести ребенка или помочь старым родителям, а в том, чтобы раздобыть алебастровые часы. Алебастровые часы как символ мещанского убожества подробно описаны в последнем фельетоне виконта де Лоне, опубликованном 3 сентября 1848 г. (см. наст. изд., с. 458 /В файле — год 1848 фельетон от 3 сентября — прим. верст./).
(обратно)405
Пироги (паштеты, запеченные в тесте) традиционно были круглой формы, а потому не могли заполнить целиком квадратное блюдо.
(обратно)406
Газета «Конститюсьонель», рупор идей Тьера, утверждала, что Франция должна проводить более агрессивную международную политику, а не идти на поводу у иностранных дипломатов.
(обратно)407
См. примеч. 275 /В файле — примечание № 385 — прим. верст./. В фельетоне от 20 июля 1839 г. (не вошедшем в книжное издание) Дельфина пересказывает реплики возмущенных читателей, недовольных тем, что в фельетоне от 18 мая она была чересчур серьезна. «Что с вами стряслось? У вас какой-то похоронный тон!» — «Мне было грустно; это признак слабости, но мне не по душе, когда на улицах Парижа люди убивают друг друга!» — «Да ведь это политика, — возражали нам простодушные читатели, — а вас ведь политика не касается». Конечно, соглашается Дельфина, «мы только эхо, но мы эхо, которое выбирает, что ему повторять». Поэтому 13 июля, после того как был вынесен приговор участникам мятежа (см. примеч. 309 /В файле — примечание № 419 — прим. верст./), Дельфина просто пропустила свой день и не напечатала хроники: «Мы не могли сделать вид, будто в обществе говорили о чем-то другом, потому что говорили в обществе только об этом; меж тем, хотя мы вовсе не испытываем симпатии к республиканцам (ибо они компрометируют свободу, а этого мы им простить не можем), смертный приговор — вовсе не подходящая тема для светской болтовни, и ничего приятного на сей счет мы сообщить не могли».
(обратно)408
Имеются в виду легитимисты, устранившиеся от участия в политической жизни страны после воцарения Луи-Филиппа (ненавистного им «супруга» Франции).
(обратно)409
Имеются в виду республиканцы, которые в 1830 г. были против сохранения во Франции монархии в какой бы то ни было форме. Называя их «жестокими братьями», Дельфина, по-видимому, обыгрывает название мелодрамы Жуслена де Ла Саля, Кармуша и Балиссона де Ружмона, впервые представленной 21 сентября 1819 г. в театре «Варьете». Ниже Дельфина описывает республиканскую прессу, которая настраивает Францию против короля, якобы идущего на поводу у Англии («старая любовница-чужестранка»), и вдохновляет покушения на его жизнь.
(обратно)410
Речь идет о бале в австрийском посольстве. Его секретарь граф Рудольф Аппоньи описал этот день в своем дневнике. Мы, пишет он, оказались в затруднительном положении: мы не могли предупредить две тысячи приглашенных об отмене нашего дневного бала, с другой стороны, мы опасались, что никто не приедет. Бал был назначен на два часа дня, однако уже в половине второго, несмотря на то что в городе вовсю шла стрельба, все улицы вокруг посольства были запружены элегантнейшими парижскими экипажами. Лишь самые пугливые дамы приехали к четырем, когда бунт был полностью подавлен (см.: Apponyi. Т. 3. Р. 373).
(обратно)411
В фельетоне, опубликованном 1 июня 1839 г., Жирарден «реабилитировала» знатных парижанок, которых сгоряча обвинила в отсутствии любви к родине: «Мы обязаны принести извинения знатным дамам, которых упрекнули в том, что они танцевали на балу как раз тогда, когда на улицах Парижа шли бои. Иные из них в самом деле отправились в тот день на бал, но таковых было меньшинство. Представительницы самых славных родов от танцев воздержались, и мы благодарны собственному патриотическому возмущению за то, что оно подарило нам столь сладкие упреки и столь достойные возражения. Француженки, в чьем сердце осталось место для национальной гордости, тем более заслуживают похвалы, что чувство это никто в них не воспитывает. В Англии любовь к отечеству есть род религии, основы которой преподают с самого детства и мужчинам, и женщинам; она составляет неотъемлемую часть образования. В Париже отцы и братья лишают юных девушек бальных удовольствий под влиянием собственных политических пристрастий — если королева в печали или если госпожа герцогиня Беррийская в плену; сочувствие чужим горестям естественно и прилично, однако нам кажется, что родина в опасности заслуживает сострадания ничуть не в меньшей степени, нежели скорбящая королева или пленная принцесса; королевская династия велика лишь тогда, когда ее интересы неразрывно связаны с интересами страны, и отделять одно от другого значит оказывать династии сомнительную услугу. Заметим в скобках и еще вот что: у всех наций, правивших миром, любовь к отечеству вдохновлялась и проповедовалась женщинами; поэтому-то мы и советуем вам опасаться посланниц коварного Альбиона» (1, 474).
(обратно)412
Объект гнева Дельфины — те либеральные политики, которые в июле 1830 г. способствовали установлению в стране конституционной монархии с Луи-Филиппом («женихом») на троне, а затем предпочли собственные интересы и борьбу за министерские портфели интересам Франции («невесты»).
(обратно)413
Имеются в виду национальные гвардейцы, принимавшие участие в подавлении мятежа 12 мая (впрочем, по некоторым свидетельствам, они выступали против мятежников не очень охотно, и быстрым подавлением восстания правительство было обязано не им, а муниципальной гвардии).
(обратно)414
Улица Монблана в 1816 г. получила название улица Шоссе-д’Антен, иначе говоря, располагалась в родном квартале описываемой «причудницы».
(обратно)415
Испанский танец, который Фанни Эльслер в 1836 г. исполнила в балете-пантомиме «Хромой бес». Танец этот имел бешеный успех, и его охотно исполняли посетители публичных балов (например, балов Мюзара), однако в светских салонах, а тем более в салонах чопорного Сен-Жерменского предместья, он был под запретом, так как считался непристойным и чересчур эротичным. Именно благодаря качуче, которую танцовщицы исполняли в юбках со множеством воланов, эта деталь туалета вошла в моду.
(обратно)416
Барбе д’Оревийи ставил «восхитительное письмо о платье с восемью воланами» выше «самых ученых и самых цитируемых страниц французской литературы» (Barbey. Р. 43).
(обратно)417
Имеется в виду Наполеон.
(обратно)418
20 июля 1839 г. Дельфина писала, что отведала у Тортони (см. примеч. 163 /В файле — примечание № 273 — прим. верст./) мороженое сортов «малина с табаком и ваниль с табаком», и «рекомендовала оба сорта истинным ценителям». Дельфина вообще была убежденной противницей курения и табачного дыма; в фельетоне от 15 июня 1839 г. (также не вошедшем в книжное издание) она описывала времяпровождение в фешенебельном кафе Тортони следующим образом: «Шесть сотен человек набиваются в тесные комнатки, где с трудом могут поместиться шесть десятков; в этот райский уголок, благоухающий табаком всех видов и сортов, ведут узкие ступеньки, пышно именуемые лестницей; здесь, в пекле, отапливаемом газом и дымом, посетители заказывают прохладительные напитки и сладости, благоухающие табаком самых разных сортов…», а в финале фельетона от 21 сентября 1839 г. признавалась, что предпочитает современности эпоху Империи, несмотря на ее «милитаристский» характер, потому что в ту пору не было принято курить, а «невещественный дым славы» куда лучше, чем «чересчур реальный запах табака» (1, 537).
(обратно)419
Палата пэров продлила заседания оттого, что ей надлежало судить зачинщиков мятежа 12 мая (согласно Хартии, суду этой палаты подлежали дела о государственной измене и о покушении на государственную безопасность). Впрочем, ко времени написания этого фельетона приговор был уже вынесен: Барбеса приговорили к смертной казни (которую Луи-Филипп заменил на пожизненную каторгу), а его сообщников — к тюремному заключению или высылке. О реакции Дельфины на этот вердикт см. примеч. 297 /В файле — примечание № 407 — прим. верст./.
(обратно)420
Парижане следили за противостоянием турецкого султана Махмуда и его вассала египетского паши Мехмеда-Али, сын которого Ибрагим-паша 24 июня разбил турецкую армию в Сирии, после чего начальник турецкого флота дезертировал вместе со всем флотом, так что египетский паша мог теперь претендовать на независимость от Турции и наследственную власть над Египтом и завоеванными территориями. Решение этого вопроса, однако, зависело не только от непосредственных участниц конфликта, но и от крупнейших европейских держав, каждая из которых имела на Востоке свои зоны влияния; Франция отстаивала интересы Египта, Австрия, Англия и Россия — Турции. См. подробнее: Дебидур А. Дипломатическая история Европы. Ростов-на-Дону, 1995. Т. 1. С. 341–345.
(обратно)421
Проблема заключалась в том, что с колониальным тростниковым сахаром соперничал местный свекловичный, который во Франции начали изготовлять при Наполеоне, во время континентальной блокады. Законодатели пытались с помощью налогообложения уравнять цены на эти два вида сахара, чтобы не позволить изначально более дешевому свекловичному сахару полностью захватить рынок.
(обратно)422
Большие и малые фонтаны (аналоги современных водоразборных колонок), куда вода поступала по подземным трубам, служили для парижан источником водоснабжения.
(обратно)423
К трем воланам Дельфина возвращается в фельетоне от 25 апреля 1840 г.: «Все платья нынче шьются с тремя воланами: так велит мода; поэтому всякая элегантная женщина с ужасом отказывается от трех воланов, ибо элегантная женщина бежит не за модой, а от нее» (1, 663).
(обратно)424
Дельфина возражает против очень распространенной трактовки понятия «лев», при которой стираются различия между львами, денди, модниками, щеголями и проч., и настаивает на том, что «львом» следует называть лишь особу, вызывающую всеобщее любопытство (по версии толкового словаря Э. Литтре, своим названием светские «львы» были обязаны тем живым львам, которые до конца 1820-х гг. содержались в зверинце лондонского Тауэра). Впрочем, усилия Дельфины не увенчались успехом, и расширительное толкование понятий «лев» и «львица» восторжествовало и в быту, и в нравоописательной литературе (где оно было «узаконено» появившейся в 1842 г. «Физиологией льва» Феликса Дерьежа).
(обратно)425
26 апреля 1841 г. Жирарден продолжает «львиную» тему, на сей раз описывая новейшую «картину нравов», которую она именует «охотой на льва»: «Наши молодые женщины преследуют человека, вошедшего в моду, так же неотступно, как охотники преследуют оленя в лесу, они гонят его из салона в салон, подстерегают у дверей, ловят его взор, повторяют вслух его имя, желая обратить на себя внимание, а если он их не замечает, вместе с приятельницами-сообщницами пускаются в более чем сентиментальное путешествие по его стопам, вместо того чтобы скромно и достойно дождаться, пока он сам подойдет к ним» (2, 75). Вообще Дельфина охотно обыгрывала «звериные» метафоры применительно к светским людям; в фельетоне от 3 марта 1844 г. она упоминает повес, которые удалились от света и наслаждаются спокойной и комфортабельной жизнью, но раз в год, во время карнавала, по случаю бала у князя Тюфякина возвращаются к прежнему времяпрепровождению; так вот, этих людей она называет «бывшими львами, которых цивилизация вновь превратила в медведей» (2, 185).
(обратно)426
В фельетоне, датированном 20 декабря 1839 г., Жирарден называет «львом фешенебельного и разумного мира» знаменитую альпинистку мадемуазель д’Анжевиль, осенью 1838 г. совершившую восхождение на Монблан.
(обратно)427
В нашумевшем представлении «Дочь эмира», которое давалось в 1839 г. в театре «У ворот Сен-Мартен», американский дрессировщик Ван Амбург изображал араба, отданного на растерзание диким зверям; американец выходил на сцену в обществе самых настоящих тигров и львов, но оставался целым и невредимым; больше того, целым оставался и ягненок, которого Ван Амбург запускал в клетку с хищниками.
(обратно)428
Парижане устремлялись именно в Версаль и потому, что туда была недавно проложена железнодорожная ветка (ее открыли в начале августа 1839 г.), и потому, что желали побывать в открытом двумя годами раньше музее (см. примеч. 44 /В файле — примечание № 154 — прим. верст./).
(обратно)429
Отсчет ведется от 1789 г., когда Революция разрушила Старый порядок и традиционную социальную иерархию.
(обратно)430
Бобовым королем нарекали в этот день того, кому достался боб, запеченный в пирог.
(обратно)431
О черепахе как атрибуте парижских денди, которые, демонстрируя свою неторопливость, выгуливали эту «спутницу жизни» в Люксембургском саду, см.: Benjamin. Р. 441; Вайнштейн. С. 309.
(обратно)432
Автором комедии «Уроки света» (а не «Уроки большого света», как у Дельфины), премьера которой состоялась на сцене «Комеди Франсез» 8 января 1840 г., был побочный сын Наполеона I граф Александр Валевский. Пьеса была поставлена анонимно, но имя автора не было ни для кого секретом. Теофиль Готье в рецензии, опубликованной в «Прессе» 14 января, подверг комедию полному разгрому за неестественные характеры и неправдоподобное изображение света, который, казалось бы, должен быть хорошо знаком фешенебельному автору.
(обратно)433
При Июльской монархии право избирать и быть избранным было ограничено имущественным цензом и возрастом: депутат должен был иметь не меньше 30 лет от роду и платить не меньше 500 франков прямого налога; избирателям полагалось быть не моложе 25 лет и платить минимум 200 франков прямого налога. Сторонники избирательной реформы считали нужным расширить число потенциальных избирателей, в частности позволить голосовать всем национальным гвардейцам; однако Ипполит Пасси, министр финансов в недавно назначенном кабинете под руководством Сульта, объявил такую реформу несвоевременной.
(обратно)434
Намек на одну из героинь «Большого света» Валевского, клеветницу и интриганку. Готье писал, что с ее аристократических уст слетают сплетни, уместные только в привратницкой, а одета она с сомнительной элегантностью женщин легкого поведения.
(обратно)435
Первый раз народ (а точнее, третье сословие) отнял власть и ею злоупотребил в ходе революции 1789–1794 гг., дворянство вернуло себе власть и ею злоупотребило в эпоху Реставрации (1814–1830), окончившейся Июльской революцией, которая предоставила народу сравнительно большие права.
(обратно)436
Имеется в виду петиция в защиту избирательной реформы (см. примеч. 323 /В файле — примечание № 433 — прим. верст./), поданная национальными гвардейцами 12 января 1840 г.
(обратно)437
Имеется в виду так называемая «неистовая литература», вошедшая в моду во Франции начиная с 1820-х гг., — страшные романы о привидениях и вампирах, бурные мелодрамы с убийствами и казнями. В критике к началу 1830-х гг. стало хорошим тоном осуждать неистовую литературу (см.: Mosaïques. Р. 402–403); уже в 1829 г. Жюль Жанен выпустил роман «Мертвый осел и гильотинированная женщина», задуманный как пародия на «неистовые» ужасы, однако спрос на подобную литератору не уменьшился.
(обратно)438
Французский врач Франсуа Бруссе считал источником всех болезней чрезмерное возбуждение различных органов, а универсальным лекарством — расслабляющие средства, в том числе кровопускание. Гомеопатия, с легкой руки немецкого врача Самуила Ганемана, вошла в моду в Париже в середине 1830-х гг.; сама Дельфина очень верила в нее и охотно пользовалась услугами большого сторонника этого метода, доктора Кабаррюса (друга детства Эмиля). В очерке, опубликованном 9 декабря 1837 г., она произнесла настоящее похвальное слово «белому порошку», благодаря которому те, кто еще вчера лежали в постели, мучаясь ужасной головной болью, назавтра являются в свет в полном здравии (1, 295–296).
(обратно)439
Теория «животного магнетизма», которую еще в конце XVIII в. проповедовал в парижском обществе Антон Месмер, исходила из того, что сомнамбула (человек, погруженный магнетизером в экстатический сон) освобождается от власти времени и пространства и обретает сверхъестественные свойства, которых не имеет в обычной жизни. В 1830–1840-е гг. магнетизм оставался модной забавой во многих салонах. 10 марта 1844 г. Дельфина рассказывает о популярном в парижском свете магнетизере Марсийе, который, усыпив юношу-сомнамбулу, отправлял его в Америку или Китай, после чего усыпленный во всех подробностях описывал эти страны. Поскольку Марсийе был не только магнетизером, но и специалистом по гужевым перевозкам («он то усыпляет, то упаковывает»), Дельфина советует ему магнетизировать грузы и таким образом отправлять их в дальние страны, не платя ни возчикам, ни таможенникам (2, 201–202).
(обратно)440
На заставах — воротах в крепостной стене Откупщиков, опоясывавшей Париж, — взимался налог на товары, ввозимые в Париж. Поэтому сразу за заставами еда и питье были дешевле, и парижские простолюдины предпочитали в выходные дни веселиться в тамошних заведениях, которые совмещали функции кабаков и танцевальных залов (русские путешественники того времени именовали их «сельскими балами»). Танцы здесь происходили на свежем воздухе под аккомпанемент небольшого оркестра, состоявшего из трех-четырех инструментов: скрипки, кларнета или флажолета, малого и большого барабанов.
(обратно)441
Этот богатый американец в 1835 г. приехал в Париж и поселился в Матиньонском особняке на Вареннской улице (том самом, где сейчас располагается резиденция премьер-министра Франции). Обосновавшись в самом центре Сен-Жерменского предместья, он быстро нашел себе здесь покровительниц в лице нескольких знатных дам: списки гостей для его балов составляли герцогиня де Роган и княгиня де Бетюн, точно так же как для другого богача-иностранца, Хоупа, — графиня Жюст де Ноай. Приглашения к Торну считались очень престижными, и Торн это сознавал; по язвительному замечанию Дельфины в фельетоне от 31 декабря 1840 г., перед очередным великолепным балом он «составлял список тех особ, которых он не пригласит» (1, 761).
(обратно)442
Кабинет Сульта в феврале 1840 г. был отправлен в отставку; на следующий день после выхода этого фельетона король назначил новое министерство под председательством Тьера.
(обратно)443
См. примеч. 234 /В файле — примечание № 344 — прим. верст./.
(обратно)444
Ср. в фельетоне от 23 марта 1839 г. рассуждения о крайней небрежности элегантной мужской моды (в отличие от женской): «Отравляясь вечером в свет, молодые люди больше не считают обязательной деталью туалета бальные туфли и чулки; однако поскольку являться туда в сапогах они пока не осмеливаются, то, впавши в детство и уподобившись школьникам, выбирают полусапожки — род „золотой середины“ между туфлями и сапогами. Отличная идея: мы ведь живем в эпоху „золотой середины“» (1, 440).
(обратно)445
См. примеч. 211 /В файле — примечание № 321 — прим. верст./.
(обратно)446
К дурным музыкантам и их покровителям Дельфина была безжалостна. 31 марта 1844 г. она призывает не беспокоиться некую баронессу ***: «ни за что в жизни не станем мы хвалить ее слепых музыкантов, чья игра способна пленить только глухих слушателей, ее старых пианистов, привезенных контрабандой неведомо откуда, во всяком случае даже не из Германии, и ее подзаборных виртуозов, чьи ужасающие кошачьи концерты будят в душе зрителей самые жестокие чувства и заставляют с мрачным удовлетворением взирать на госпожу де З… и ее меха» (2, 220–221).
(обратно)447
Вальс в два па танцуется не тремя, а двумя шагами на такт. Дельфина, по-видимому, имеет в виду тот самый вальс, который именовали «венским», — «состоящий из двух шагов, которые заключаются в том, чтобы ступать на правой, да на левой ноге, и притом так скоро, как шалёной» (Правила для благородных общественных танцев [1825], цит. по: Лотман Ю. М. Пушкин. СПб., 1995. С. 526). Старинная манера танцевать вальс была гораздо более медленной.
(обратно)448
Граф Жюль де Кастеллан в 1835 г. открыл в своем доме на улице Предместья Сент-Оноре театр, где играли любительские труппы, одну из которых возглавляла мать Дельфины Софи Гэ; см. подробнее: Мартен-Фюжье. С. 311–320. Под оперой для поляков подразумевается другой любительский спектакль — постановка оперы немецкого композитора Флотова «Герцогиня де Гиз» на сцене театра «Ренессанс»; сбор от спектакля должен был пойти в пользу польских эмигрантов.
(обратно)449
То есть по Булонскому лесу; в фешенебельном кругу было принято называть его просто «лесом».
(обратно)450
Один из первых биографов Дельфины сходным образом описывает судьбу номеров газеты с ее собственными фельетонами: «их передавали из рук в руки, каждый хотел завладеть ими прежде других» (Heylli G. d’. Madame Е. de Girardin. P., 1869. P. 51). Журналист и писатель Альфонс Карр, сотрудничавший в «Прессе» и поддерживавший дружеские отношения с четой Жирарденов, с 1839 г. сочинял и выпускал ежемесячный журнал «Осы» — сатирическую хронику, схожую в жанровом отношении с «Парижским вестником» виконта де Лоне. Современники ощущали эту схожесть. А. И. Тургенев 3 февраля 1841 г. сообщал Е. А. Свербеевой о том, что на балу в Опере «встречал во всех концах театра Mme Emile Girardin об руку с Alphonse Karr. Она и он опишут нас в Фельетоне и в Guêpes» (РО ИРЛИ. Ф. 309. № 2550. Л. 27). Впрочем, Карр шутил совсем не так, как виконт де Лоне; вот пример его неполитического юмора — диалог двух друзей из выпуска «Ос» за сентябрь 1842 г.: «Ты влюблен, о Теофиль? — Да, о Жерар! — А откуда ты это знаешь, о Теофиль? — Узнать нетрудно, о Жерар! Я имею неопровержимые доказательства, я замечаю красноречивые симптомы. — Что же это за симптомы, о Теофиль? — О Жерар, я ощущаю острую потребность купить новую шляпу» (цит. по: Karr A. Les Guêpes. P., 1859. 4e série. P. 90).
(обратно)451
В фельетоне от 28 апреля 1844 г. Дельфина описывает элегантные уборы, вошедшие в моду в этом сезоне: гирлянда из розовых бутонов, которую носят, сдвинув почти на затылок, и такой же букет на поясе — все из живых цветов. Вид прелестный, признает Дельфина, однако обыкновение украшать живыми цветами бальные туалеты она все-таки не одобряет: «К концу бала цветы вянут, розы чернеют, камелии желтеют, фиалки белеют, листья уныло клонятся долу; при входе на бал прическу вашу украшает гирлянда, а при отъезде с бала — салат; вы именуете это живыми цветами, а на самом деле цветы эти — то ли засахаренные, то ли маринованные, и мы предпочитаем им цветы искусственные; лучше рукотворная красота, чем натуральное уродство». Вдобавок, добавляет Дельфина, у живых цветов есть еще один существенный недостаток: они мокрые, и из-за этого локоны очень быстро теряют форму! (2, 247). 13 июня 1840 г. в описании утреннего бала Дельфина также касается манеры украшать себя цветами: «Если перед танцем дама снимет шляпу, голову ее должна венчать гирлянда из цветов, причем цветов живых; явиться утром в венце из искусственных цветов было бы непростительной ошибкой; впрочем, никто об этом и не помышляет. Гирлянду надо надеть так, чтобы она имела прелестный вид и под шляпой, и без шляпы. Ухищрения поистине адские» (1, 671).
(обратно)452
См. примеч. 64 /В файле — примечание № 174 — прим. верст./.
(обратно)453
То есть кабинета под руководством Сульта, сформированного 12 мая 1839 г. и ушедшего в отставку в феврале 1840 г.
(обратно)454
В самом деле, подобное отношение к актрисам в описываемую эпоху отнюдь не было нормой; актрис начали принимать в свете на равных лишь в конце XIX в., и эта «интеграция» совершалась не всегда легко. Рашель охотно принимали в аристократических салонах, но сама она приглашала на свои «четверги» только мужчин, чтобы не натолкнуться на унизительные отказы со стороны светских дам, как это чуть раньше произошло с мадемуазель Марс (см.: Martin-Fugier А. Comédienne. De Mademoiselle Mars à Sara Bernhardt. P., 2001. P. 265–277).
(обратно)455
Сантимент (от sentiment — чувство) — название браслета, сплетенного из волос.
(обратно)456
Энона — кормилица и наперсница Федры в трагедии Расина.
(обратно)457
Полицейские солдаты, набранные из числа отставных военных, помогали полицейским комиссарам обеспечивать порядок в городе. Муниципальная гвардия заменила парижскую королевскую жандармерию, распущенную в августе 1830 г. Муниципальных гвардейцев набирал военный министр, но подчинялись они префекту полиции.
(обратно)458
Брандебуры — шнуровые выкладки в виде петель и завитков на некоторых видах одежды, преимущественно на гусарских мундирах; ток — жесткая шляпка с маленькими полями или вовсе без полей.
(обратно)459
Сент-Бёв назвал эту классификацию женщин шедевром в полусерьезном роде (см.: Sainte-Beuve. Р. 313).
(обратно)460
«Оперой буффонов» во Франции называли итальянскую оперу; под буффонами в историческом смысле подразумеваются шуты.
(обратно)461
Имеют в виду ванны для купания на дому, которые Дельфина упоминает в фельетоне от 30 декабря 1837 г. Складные кожаные ванны перевозились на длинных телегах, где были установлены вместительные бочки с водой; телеги эти были оборудованы топками, с помощью которых вода нагревалась до температуры 30–50 градусов. Возле дома заказчика два возчика-водоноса сгружали с телеги железный каркас на колесиках, кожаную ванну и горячую воду в двух кожаных бурдюках; все это они доставляли в нужную квартиру, где устанавливали ванну и наполняли ее водой. Клиент принимал ванну, а затем в назначенное время водоносы возвращались, сливали воду, складывали ванну и уносили все оборудование.
(обратно)462
11 апреля 1847 г. Дельфина описывает нравы новейших богомолок: «В церкви все женщины имеют злобный вид; в глазах у них застыла ярость… им столько раз наступают на ноги, их столько раз толкают локтями, они испытывают такие мучения, что беспрестанно пребывают во власти раздражения и гнева. Кажется, что все они молятся против кого-то. Кстати, это приводит нам на память остроумное словцо герцогини де Л…. Однажды она пришла в церковь, когда та была уже набита битком; пройти невозможно, но герцогиня все-таки протискивается вперед и, потеснив соседок, находит себе местечко; одна из дам, стоящих рядом, бросает на нее гневный взгляд и вперемешку с молитвами начинает шепотом бранить женщин, которые являются в церковь с опозданием, расталкивают соседей локтями, а сами-то вон какие толстые и проч. „В таком случае, сударыня, — произнесла герцогиня елейным тоном, — попросите у Господа, чтобы я похудела“» (2, 474).
(обратно)463
О «религиозном возрождении» при Июльской монархии см. примеч. 97 /В файле — примечание № 207 — прим. верст./. Теснота в храмах была связана не только с растущей популярностью религии, но и со стремительным ростом парижского населения. Окраинным районам были нужны новые храмы — не роскошные произведения искусства вроде собора Лоретской Богоматери, а простые приходские церкви. Архиепископ монсеньор Аффр не раз подавал по этому поводу прошения министру вероисповеданий, однако правительство не соглашалось ни строить церкви в окраинных районах, ни создавать там новые приходы. В результате возникла огромная неравномерность распределения церквей: в старинном аристократическом округе к услугам 6000 прихожан были две церкви, а в районе рабочем одна церковь приходилась на 64 500 человек (см.: Vigier Ph. Nouvelle histoire de Paris. Paris pendant la monarchie de Juillet (1830–1848). P., 1991. P. 462–466).
(обратно)464
См. фельетон от 14 марта 1840 г. (наст. изд., с. 299 /В файле — год 1840 фельетон от 14 марта — прим. верст./).
(обратно)465
Этого парфюмера уже не было в живых, но основанный им торговый дом продолжал действовать; он располагался по адресу улица Предместья Сент-Оноре, 19, и пользовался большой популярностью среди парижских денди. Барбе д’Оревийи называет пассаж о кабане наиболее ярким образцом «восхитительно смешной» манеры Жирарден-рассказчицы (Barbey. Р. 41).
(обратно)466
Привычка светских парижан и парижанок ездить в среду, четверг или пятницу на Страстной неделе в бывшее Лоншанское аббатство (располагавшееся к западу от Булонского леса) восходила к первой половине XVIII в., когда удалившаяся в этот монастырь прославленная певица мадемуазель Ле Мор пела в тамошнем хоре. Паломничество быстро утратило религиозный характер и превратилось в своеобразный конкурс элегантности; как резюмировал в 1838 г. А. И. Тургенев, «здесь давно забыли, что в Страстную должно молиться, а не кататься. […] Начало или повод к гулянью была набожность; ходили на богомолье в монастырь, привычка осталась» (Остафьевский архив князей Вяземских. СПб., 1899. Т. 4. С. 39). Прервавшись в революционные годы, «лоншанское гулянье» возобновилось в 1797 г. (хотя сам монастырь двумя годами раньше был разрушен) и продолжалось до середины XIX в., постепенно выходя из моды и «опрощаясь» (этот процесс как раз и запечатлен в фельетоне Дельфины). Дорога из Парижа в Лоншан пролегала по Елисейским Полям, и те парижане, у которых не было собственных экипажей, любовались чужими. Одни зрители стояли, другие (преимущественно дамы) сидели на стульях, причем сидячие места были платными. Лоншанское гулянье приходилось на весну, что позволяло дамам облачаться в легкие туалеты, однако в некоторые годы, когда Пасха случалась рано, а погода стояла холодная, в церемонии происходили досадные сбои. Таков, например, был Лоншан 1837 г., описанный Дельфиной в фельетоне от 23 марта: «Лоншан замерз, и если никто не направился туда в санях, то исключительно ради того, чтобы не нарушать традиций. Новые платья, возможно, были великолепны, но никто их не видел под накидками; дамы, возможно, были розовы и свежи, но никто этого не видел под вуалями; лошади, возможно, были великолепны, но они шли шагом, а мы, напротив, почти бежали, чтобы согреться, и потому ничего не разглядели. Горе тому, кто показался бы на Елисейских Полях в летнем наряде; его бы отправили вместо Лоншана в Шарантон» (1, 105).
(обратно)467
«Милорд» — четырехколесный кабриолет с откидывающимся верхом. Дельфина была убеждена, что в «милордах» на Лоншанское гулянье выезжают только женщины сомнительного вкуса и происхождения; 25 апреля 1840 г. она с недоумением цитирует описание туалета одной такой дамы, приведенное в некоем модном журнале. Журналист этим нарядом явно восхищается, Дельфина же называет «годным для качучи», а потом прибавляет: «К несчастью, журналист забыл уточнить, что эта кокетливо одетая дама ехала в милорде с открытым верхом и весьма оживленно беседовала с кучером, который, кажется, был с нею не согласен» (1, 663). «Милорды» были так же неуместны на дороге в Лоншан, как фиакры и прочие наемные экипажи.
(обратно)468
Семь лет спустя, 4 апреля 1847 г., Дельфина возвратилась к теме Лоншанского гулянья, и на сей раз картина, нарисованная ею, оказалась еще более печальной: «Ездить в Лоншан теперь немодно. — Более того, модно туда не ездить». Теперь на дороге в Лоншан, пишет она, можно увидеть только семейные коляски и наемные экипажи, заполненные иностранцами не слишком знатного происхождения: испанцами, немцами, англичанами (последние, в частности, представляют из себя «зрелище совсем не аппетитное: растрепанные шевелюры, помятые соломенные шляпы, облысевшие меха»). Одним словом, Лоншанское гулянье 1847 г. — это полное отрицание того, чем был Лоншан прежде: «все хотят посмотреть на других, никто не хочет показать себя» (2, 454–455).
(обратно)469
Столько депутатов поддержали кабинет министров во время голосования 19 января 1839 г. (см. примеч. 258 /В файле — примечание № 368 — прим. верст./).
(обратно)470
Героиня комедии Мольера «Мизантроп» (1666), тщеславная кокетка, принимающая ухаживания самых разных поклонников.
(обратно)471
Доктриной «умных штыков» именуется старинная правовая доктрина, санкционирующая невыполнение нижестоящими чинами преступных приказов вышестоящих; доктрина эта обрела особую популярность во время революции 1830 г., когда многие военные приняли сторону восставших. Говоря о военных-заговорщиках, Дельфина, по-видимому, имеет в виду тех офицеров наполеоновской армии, которые в начале эпохи Реставрации были уволены в отставку с половинным жалованьем; именно в их рядах зрели бонапартистские заговоры.
(обратно)472
Дельфина имеет в виду тот типаж, самым прославленным воплощением которого стал герой двух комедий Бомарше, «севильский цирюльник» Фигаро.
(обратно)473
Пожар в Вавилоне (ит.).
(обратно)474
Говорите (ит.).
(обратно)475
Вы одно мне и то же твердитто (искаж. ит.).
(обратно)476
Я совсеммо, совсем растрепатта (искаж. ит.).
(обратно)477
Объявления в «Прессе» не последовало, однако некоторые сведения о «Пожаре в Вавилоне» можно почерпнуть из работы новейшего историка парижской Оперы: представление состоялось в особняке графа Жюля де Кастеллана, автором музыки был Альфонс Кларк граф де Фельтр (сын наполеоновского военного министра герцога де Фельтра, сам бывший военный), партии Клоринды и Орландо исполняли профессиональные певцы: знаменитая сопрано г-жа Даморо и юный тенор Поншар, а в роли Жесточино выступил певец-любитель князь Бельджойозо (см.: Tamvaco J.-L. Les cancans de l’Opéra. Chroniques de l’Académie Royale de musique et du théâtre, à Paris sous les deux Restaurations. P., 2000. T. 1. P. 401).
(обратно)478
Словари XIX в., в том числе словарь Французской академии, в самом деле фиксируют такое значение для французского слова paquet.
(обратно)479
В зависимости от вкусов и претензий хозяйки дома, вторую гостиную именовали также «разговорной» (parloir), кабинетом или «мастерской» (atelier). В этом «святилище» богатые и модные дамы принимали визитеров утром и днем. Располагалась вторая гостиная между главной гостиной и прихожей, которая в богатых домах была «убрана богаче, чем главная зала провинциальной префектуры» (1, 439; 23 марта 1839 г.).
(обратно)480
Шарлю Фурье, сведения о котором Дельфина почерпнула из книги Зои Гатти де Гамон «Фурье и его система» (1838), посвящен финал фельетона от 11 июля 1840 г. Дельфина сочувственно цитирует диагноз философа: конкуренция заставляет военного желать «полезной войны», которая убьет половину его сослуживцев и позволит ему продвинуться по служебной лестнице. Однако она осуждает мыслителя за слепую покорность собственной системе, которую он довел до степени «мечтаний и бессмыслицы»; ведь всякая система, пишет Дельфина, есть не что иное, как «узкий круг, в который пытаются затолкать весь мир» (1, 715, 717).
(обратно)481
Летом 1840 г. международное положение Франции ухудшилось донельзя — не в последнюю очередь по вине Тьера, который 1 марта 1840 г. получил вожделенное назначение на пост министра иностранных дел и главы кабинета. Из-за дипломатической негибкости Тьера европейские державы отстранили Францию от участия в решении важных международных вопросов. 15 июля 1840 г. Англия, Австрия, Пруссия и Россия (без участия Франции) подписали в Лондоне конвенцию по Восточному вопросу — о судьбе проливов Босфор и Дарданеллы, которые переходили под коллективную охрану договаривающихся сторон, и о судьбе территорий, отвоеванных Египтом у Турции летом 1839 г. (см. примеч. 310 /В файле — примечание № 420 — прим. верст./), — их следовало возвратить Турции. Стремясь отомстить европейским державам за собственное дипломатическое поражение, Тьер желал вернуть утраченный престиж страны военными средствами. Если в конце концов до войны не дошло, то только благодаря миролюбию короля Луи-Филиппа, который из-за своего нежелания воевать получил прозвище «Наполеон мира». О коалиции см. примеч. 244 /В файле — примечание № 354 — прим. верст./.
(обратно)482
При Июльской монархии Тьер трижды (в октябре — декабре 1832 г., в апреле — ноябре 1834 г. и с ноября 1834 по февраль 1836 г.) был министром внутренних дел, один раз (с января 1833 по апрель 1834 г.) был министром торговли и общественных работ и дважды (февраль-сентябрь 1836 и март-октябрь 1840 г.) занимал пост министра иностранных дел и главы кабинета.
(обратно)483
Дед Тьера был адвокатом, а отец — авантюристом, который бросил жену сразу после рождения сына и вспомнил о нем, только когда тот прославился, и только для того, чтобы попытаться его шантажировать. Тьер был мал ростом и не блистал красотой; наконец, он был провинциалом и учился сначала в родном Марселе, а затем в Эксе; впрочем, упрекая его в дурном воспитании, Дельфина имеет в виду не недостаток знаний, а неумение вести себя прилично и пристойно. Тьер в этом отношении в самом деле был отнюдь не безупречен: будучи уже министром, академиком и женатым человеком, он принял участие в пирушке в замке Гранво, где в ответ на «кошачий концерт», устроенный под его балконом, продемонстрировал собутыльникам голую задницу; журналисты не преминули рассказать об этой выходке со всеми подробностями (см.: Guiral. Р. 118–119).
(обратно)484
10 августа 1840 г., прочтя комментируемый фельетон, Ламартин благодарил Дельфину: «Спасибо за то, что сказано обо мне. Слова очень любезные. Но они навлекут на меня ненависть всех французских горбунов и уродов. Это неполитично. Здесь, как и во всем прочем, надобно уважать демократию!» (цит. по: Imbert. Р. 56).
(обратно)485
Граф Дорант и маркиза Доримена — персонажи комедии Мольера «Мещанин во дворянстве».
(обратно)486
После революции 1848 г. те же упреки Дельфина с еще большими основаниями предъявляла республиканским министрам, которые, свергнув королевскую власть, переняли «королевский» образ жизни, «например, приказывают стрелять из пушки всякий раз, когда трогаются с места. Пушки — игрушки королей, народному республиканскому правлению они не пристали. Мы еще можем понять, что пушка стреляла, когда в парламент направлялись Карл X или Луи-Филипп; эти монархи были потомками Людовика XIV и Генриха IV; у них эти помпезные обычаи входили в семейную традицию; но ознаменовывать выстрелом из пушки всякий выезд господина Кремьё… Право, это просто смешно» (2, 492; 13 мая 1848 г.; адвокат Кремьё занимал во Временном правительстве пост министра юстиции).
(обратно)487
В басне Лафонтена «Ворона и лисица» этот «урок» дает лисица вороне после того, как «сыр выпал».
(обратно)488
К этому времени кабинет Тьера был уже отправлен в отставку (поскольку Тьер хотел войны, а король ее не хотел), и 29 октября 1840 г. был объявлен состав очередного кабинета, главой которого номинально являлся Сульт, а фактически — Гизо, получивший пост министра иностранных дел. Дискуссия в палате была, как и всегда в начале сессии, посвящена обсуждению адреса депутатов королю, а значит, обсуждению событий прошедшего года и политики отставленного кабинета. Ниже Дельфина резюмирует, доводя до абсурда, речи главных участников этой дискуссии. Современники, имевшие возможность сравнить пародию с оригиналом, оценивали фельетон Дельфины очень высоко; так, секретарь австрийского посольства Рудольф Аппоньи целиком переписал этот «бесконечно остроумный» текст в свой дневник (см.: Apponyi. Т. 3. Р. 441–444).
(обратно)489
Гизо с февраля по октябрь 1840 г. был французским послом в Англии.
(обратно)490
См. примеч. 404 /В файле — примечание № 514 — прим. верст./.
(обратно)491
Дельфина вкладывает в уста Барро шутку, призванную порадовать его левых единомышленников: депутат коверкает фамилию русского посла в Англии, принимавшего активное участие в заключении конвенции 15 июля 1840 г.
(обратно)492
Намек на поведение Барро в самом начале эпохи Реставрации, когда он, впоследствии пламенный оппозиционер, поддержал возвратившихся во Францию Бурбонов и, вступив в роту национальной гвардии, вместе с другими волонтерами-роялистами охранял королевский дворец. Барро сам вспомнил об этом эпизоде в своей пространной речи 28 ноября, однако тем, кто упрекал его в симпатиях к роялизму, ответил, что не входил в число этих волонтеров, хотя и не считает предосудительным пребывание в их рядах.
(обратно)493
Роялист Берье, известный своим красноречием, выступал 1 декабря; говорил он очень темпераментно, патриотично и так страстно прославлял Францию, что от усталости пошатнулся и был вынужден опереться о трибуну; однако что именно следует предпринять французскому правительству для восстановления своего международного престижа, Берье так и не объяснил.
(обратно)494
Речь идет о маршале Сульте, сменившем юриста Тьера на посту главы кабинета.
(обратно)495
Дельфина обыгрывает реплику Ремюза, министра внутренних дел в кабинете Тьера; выступая в палате 2 декабря 1840 г., Ремюза сказал, что несет ответственность за деяния кабинета 1 марта «молча».
(обратно)496
Гарнье-Пажес был еще левее, чем Одиллон Барро, и возглавлял республиканскую оппозицию. 2 декабря он в самом деле припомнил Гизо, что тот некогда входил в коалицию с Тьером и критиковал кабинет Моле, и воскликнул: «То, что господин Гизо думал о тогдашнем министерстве, я думаю обо всех без исключения!»
(обратно)497
Гизо возмущался намеками на то, что министры из кабинета Тьера были не вольны в своих действиях и что основная ответственность за неудачи Франции лежит на короле.
(обратно)498
Жобер (выступавший 3 декабря) был в кабинете Тьера 1840 г. министром общественных работ. Он в самом деле активно способствовал строительству во Франции железных дорог, что же касается обвинений в коррупции, то их, по-видимому, следует объяснить лишь неприязнью «Прессы» ко всем сторонникам Тьера (которому Жобер, кстати, очень скоро изменил, приняв сторону Гизо).
(обратно)499
Ламартин выступал в палате 1 декабря. Журналисты левых взглядов были недовольны его выступлением, так как он возложил вину за неудачи Франции на международной арене на правительство Тьера.
(обратно)500
Редактор газеты «Французский курьер» Леон Фоше происходил из бедной семьи и в юности действительно зарабатывал на жизнь уроками.
(обратно)501
Лесоторговцем был в молодые годы один из редакторов газеты «Насьональ» Жюль Бастид, который, впрочем, давно покончил с этой деятельностью и прославился на совсем ином поприще: за участие в парижском восстании в июне 1832 г. он был приговорен к смерти, бежал из тюрьмы, два года скрывался в Лондоне, в 1834 г. был помилован и продолжал отстаивать республиканские идеи.
(обратно)502
Намек на давнюю историю начала эпохи Реставрации: за печатание оппозиционных материалов «Конститюсьонель», основанную в 1815 г., через два года закрыли, а для открытия новой газеты требовалось разрешение правительства; легче было продолжать печатать материалы прежней направленности в другой, уже существующей газете; поэтому члены редакции купили у братьев Байёлей их «Торговую газету», номинальным редактором которой сделали трикотажника Буане, давнего знакомого Байёлей. Вскоре обстоятельства изменились, и в 1819 г. «Конститюсьонель» смогла обрести прежнее название (см.: Véron, docteur. Mémoires d’un bourgeois de Paris. P., 1945. T. 2. P. 160; Histoire générate de la presse. P., 1969. T. 2. P. 59).
(обратно)503
Церемонию перенесения останков Наполеона с острова Святой Елены в собор Инвалидов, которая была замыслена и подготовлена Тьером, но состоялась 15 декабря 1840 г., когда он уже не был министром, Дельфина описала в очерке от 20 декабря 1840 г. (см. наст. изд., с. 344–348 /В файле — год 1840 фельетон от 20 декабря — прим. верст./). Гробницу Наполеона было решено устроить в соборе Дома Инвалидов — богадельни для ветеранов войны, которая была выстроена еще во второй половине XVII в., но именно при Наполеоне и по его воле превратилась в памятное место имперской славы, приют для живых ветеранов и павших героев.
(обратно)504
Речь идет о церемонии открытия на площади Бастилии колонны в память об участниках Июльской революции. Под основанием колонны был устроен склеп, куда 28 июля 1840 г. торжественно перенесли останки 504 жертв, отдавших жизнь за революцию.
(обратно)505
Валевский (см. примеч. 322 /В файле — примечание № 432 — прим. верст./) не имел дипломатического опыта, но мысль послать побочного сына Наполеона в Египет, где покойный император некогда воевал, была в самом деле эффектной.
(обратно)506
Все познается в сравнении: после революции 1848 г., в очерке от 13 мая Дельфина упрекает республиканцев в том, что они без стеснения распечатывают все письма. «Но ведь они же бурно протестовали против черного кабинета? — Разумеется; и потому из черного они превратили этот кабинет в белый; жаловаться не на что: теперь чиновники узнают все наши секреты при свете дня. Тайны из этого никто не делает: адъютант герцога де Монпансье недавно получил от него распечатанное письмо, где все интересные пассажи были подчеркнуты красным. Один из министров распечатывает письма, читает, а потом запечатывает министерской печатью» (2, 495).
(обратно)507
Третий сын Луи-Филиппа, на которого была возложена доставка тела Наполеона во Францию; фрегат «Бель-Пуль» отправился на Святую Елену 7 июля и возвратился в Шербур 30 ноября. Торжественное захоронение останков императора в соборе Инвалидов состоялось 15 декабря 1840 г.
(обратно)508
Имеются в виду призывы левых политиков к войне против европейских держав, которые оскорбили честь Франции тем, что решили Восточный вопрос без ее участия.
(обратно)509
В Париже в этот день было очень холодно — около 10 градусов ниже нуля по Цельсию. Люди стояли вдоль всего пути следования погребальной колесницы; из порта Курбевуа кортеж добрался до Триумфальной арки на площади Звезды, оттуда процессия проследовала по Елисейским Полям до площади Согласия, пересекла Сену по мосту Согласия и направилась к Дому Инвалидов. О церемонии см.: Tulard J. Le retour des Cendres // Les Lieuxde mémoire. P., 1997. T. 2. P. 1729–1753.
(обратно)510
Люди кричали: «Долой аристократов!», а также: «Долой предателей! Долой Гизо!»; имелось в виду нежелание короля Луи-Филиппа и его министра втягивать Францию в европейскую войну и тем самым взять реванш за поражение Наполеона (см.: Joinville, prince de. Vieux souvenirs, 1818–1848. P., 1986. P. 156–157; Dino. T. 2. P. 436–437; Apponyi. T. 3. P. 447). Нарушить порядок и прорвать оцепление попыталась на площади Согласия группа рабочих с красным флагом.
(обратно)511
Никола-Шарль Удино, наполеоновский маршал, в 1810 г. получивший от императора титул герцога Реджио, при Июльской монархии не принимал участия в политической жизни; в 1840 г. он был великим канцлером Почетного легиона. Вместе с маршалом Молитором, генералом Бертраном и адмиралом Руссеном он шел за гробом, неся кисти от погребального покрова.
(обратно)512
Ультрапатриотическая антианглийская риторика, к которой летом-осенью 1840 г. охотно прибегали журналисты, верные Тьеру, оживила в народе память о поражениях двадцатипятилетней давности; парижские простолюдины вспомнили о Ватерлоо и стали вымещать обиду на англичанах, находившихся в Париже, от слуг до дипломатов. Перед церемонией 15 декабря ходили слухи, что толпа намерена разгромить здание английского посольства (см.: Dino. Т. 2. Р. 434); известен случай, когда на улице Предместья Сент-Оноре толпа встретила экипаж английского посла во Франции криками «Долой англичан!» (см.: Mancel Ph. Paris, capitale de l’Europe, 1814–1852. P., 2003. P. 402).
(обратно)513
Маленький речной пароход, на котором останки Наполеона проделали последний этап водного пути — по Сене от Руана до парижского пригорода Курбевуа, где 14 декабря останки выгрузили на берег. Нос этого «погребального корабля» был украшен трехцветным знаменем и католическим крестом.
(обратно)514
Ламартин выступал в палате 21 января 1841 г.; он полемизировал с Тьером, который 13 января выступил перед депутатами с докладом о постройке укреплений вокруг Парижа. Намерение построить эти укрепления возникло еще в начале 1830-х гг., причем поначалу речь шла о том, чтобы окружить Париж не сплошной стеной, а лишь отдельными фортами. В тот момент правительственная идея не была реализована. В 1840 г. Тьер, став председателем кабинета и планируя начать войну с европейскими державами, счел необходимым вернуться к отвергнутому плану. 10 сентября 1840 г., заручившись поддержкой короля, он принял решение о немедленном начале работ, даже не дождавшись согласия парламента. На строительство выделили 13 миллионов франков. Новая стена была призвана защитить Париж от военных атак, поэтому, когда стало ясно, что воевать Франция не будет, судьба новых укреплений опять оказалась под вопросом, тем более что, как выяснилось, денег на них требовалось не 13 миллионов, а в десять раз больше. В январе 1841 г. к рассмотрению этого проекта наконец приступила палата депутатов. Ламартин назвал проект ложным с точки зрения политики, тактики и гуманности; он полагал, что инициаторами постройки укреплений движет не желание защититься от внешнего врага, а недоверие к собственному народу.
(обратно)515
Этот пассаж «заставил улыбнуться» А. И. Тургенева; в письме к Е. А. Свербеевой от 29 января 1841 г. он, ссылаясь на то, о чем «так живо, дельно и бегло умничает милая умница» госпожа де Жирарден, признается: «Одна фраза Фельетона ее заставила меня улыбнуться. […] Париж — мыслитель! Париж — философ! […] Да где же он и над чем призадумался? Где же его философы? Уж, конечно, не в Академии и не на кафедрах! […] Она обмолвилась, но статья останется прелестною, как ее автор» (РО ИРЛИ. Ф. 309. № 2550. Л. 23 об.).
(обратно)516
Мишель Шевалье, инженер по образованию и сенсимонист по убеждениям, автор трудов по политической экономии Франции, читавший лекции на эту тему в Коллеж де Франс, выступил с письмом против проекта укреплений в лиможской газете «Порядок». Шевалье не только был лично знаком с Дельфиной, но и пытался в начале 1830-х гг. привлечь ее в ряды сенсимонистов (см. его письма к ней в кн.: Séché L. Le Cénacle de la Muse française, 1823–1827. P., 1909. P. 260–273).
(обратно)517
21 января 1841 г. «Пресса» опубликовала подборку высказываний видных военных теоретиков и практиков прошлого и настоящего о нежелательных последствиях, какими чревато возведение укреплений вокруг большого города вообще и Парижа в частности.
(обратно)518
Дельфина называет страх братьев Бертен: Луи-Франсуа Бертена-старшего и Луи-Франсуа Бертена де Во — забавным потому, что в выпускаемой ими официозной газете «Журналь де Деба» Бертены публиковали материалы, это намерение одобряющие, а о том, что, по их мнению, «укрепления станут склепом для парижской цивилизации», рассказывали лишь в неофициальной обстановке (см.: Dino. Т. 3. Р. 16, 45).
(обратно)519
Парадоксальность ситуации заключалась в том, что проект постройки укреплений поддерживали одновременно и считавшийся в ту пору весьма левым Тьер, который уже не состоял в правительстве и находился в оппозиции к нему, и само это правительство, гораздо более консервативное и враждебное по отношению к Тьеру.
(обратно)520
Жители Беотии считались в Древней Греции безграмотными тугодумами.
(обратно)521
Неологизм Дельфины.
(обратно)522
В понедельник 1 февраля депутаты приняли проект постройки укреплений вокруг Парижа с бюджетом в 140 миллионов.
(обратно)523
В другом фельетоне (23 марта 1839 г.) Дельфина рассуждает о беспечности светских людей: «Во Франции тщеславие так сильно, что порождает равнодушие. Самонадеянность здесь нередко заменяет отвагу. Французы верят в опасность, но не допускают, что она может грозить им лично; каждый в глубине души убежден, что погибнуть могут „они“ — но ни в коем случае не он сам. Ибо когда дело доходит до политических гонений, превратностей судьбы, пожаров и даже болезней, каждый почитает себя исключением» (1, 442).
(обратно)524
Пэров Франции, в отличие от депутатов, не выбирали; их назначал король.
(обратно)525
Пэры проголосовали за принятие закона об укреплениях 1 апреля 1841 г. К 1846 г. укрепления были построены; по назначению они были использованы всего один раз, во время осады Парижа пруссаками в 1870 г.; в 1919–1929 гг. так называемая «крепостная стена Тьера» была разрушена; в 1970-е гг. по территории, на которой она стояла, была проложена опоясывающая Париж кольцевая автомобильная дорога.
(обратно)526
То есть бале, устроенном богатым американцем.
(обратно)527
Имеется в виду герцог Жаклен-Арман-Шарль де Ла Тур Ландри де Майе, с которым летом 1839 г. встретился в России маркиз де Кюстин, давший молодому знакомцу чрезвычайно лестную аттестацию (см.: Кюстин. С. 180–181, 570–571).
(обратно)528
О балласте см. выше фельетон от 13 июня 1840 г. (наст. изд., с. 329–330 /В файле — год 1840 фельетон от 13 июня — прим. верст./).
(обратно)529
Имеется в виду князь Петр Иванович Тюфякин, в прошлом директор российских Императорских театров, «доживающий бесплодный век свой в праздности парижской» (Тургенев. С. 379) и заслуживший прозвище «наш дон Жуан с Монмартрского бульвара» (Balabine. Р. 176).
(обратно)530
Внешность дам, присутствовавших на балах у князя Тюфякина, высоко оценивали самые разные очевидцы. А. И. Тургенев 9 февраля 1841 г. писал Е. Л. Свербеевой: «Вчера с Английского бала приехал на русский. Кн<язь> Тюфякин превзошел себя в выборе — и в числе красавиц! Из всех салонов собрал он прелестнейших» (РО ИРЛИ. Ф. 309. № 2550. Л. 30 об.).; Тургенев, кстати, сообщает адресатке своего письма, что повстречал на балу у Тюфякина госпожу де Жирарден, так что, по всей вероятности, он восхищается тем же самым балом, что и Дельфина. Дело, однако, осложняется тем, что, по другим свидетельствам, князь нередко приглашал на свои балы дам не слишком аристократического происхождения, которые, впрочем, были «очень хороши собой, очень любезны, очень хорошо одеты и восхитительно подражали манерам и хорошему тону самых утонченных, самых высокородных дам из благородного Предместья» (Apponyi. Т. 2. Р. 409). Это мнение знатока — секретаря австрийского посольства в Париже графа Рудольфа Аппоньи — заставляет предположить, что, говоря о «праве красоты», Дельфина подразумевала отсутствие у хорошеньких гостий Тюфякина других прав на пребывание в большом свете.
(обратно)531
Имеется в виду Наталья Васильевна Обрескова (урожд. Шереметева); о том, как проходили ее парижские приемы в начале 1841 г., дает представление подробный отчет А. И. Тургенева (в письме от 25 января 1841 г. к Е. А. Свербеевой); «Обрескова убрала свои комнатки шелковыми занавесами: в одной стоял чай с прохладительными напитками. К 10-му часу почти все гости съехались […] все в щегольских нарядах; блестящий парижский свет выслал первоклассных своих представительниц. […] Послы и мелкотравчатые дипломаты и едва ли не полное собрание парижских музыкантов, артистов, сверх тех, кои означены в афишке, напр. Chopin и пр.; всем достало места, и все восхищались пением Рубини, Тамбурини […] и нашим русским музыкальным семейством, в коем четырнадцатилетний мальчик отличается игрою на фортепиано. Выбор музыки также удачный. Никто не зевнул, никто не спешил уехать; почти все дослушали с живым наслаждением прелестный Trio из Вильгельма Теля» (РО ИРЛИ. Ф. 309. № 2550. Л. 19–19об.); тот факт, что речь идет именно об этой представительнице рода Обресковых, удостоверяется свидетельством самого Тургенева (Там же. № 127. Л. 18об.).
(обратно)532
Самые знаменитые детские балы в Париже устраивались в доме графини де Шастене на площади Согласия (см.: Мартен-Фюжье. С. 130–131).
(обратно)533
Имеются в виду президенты парламентов — судебных органов во Франции при Старом порядке.
(обратно)534
Имеется в виду золотуха, от которой, согласно распространенным во Франции в Средние века и Новое время представлениям, могло излечить прикосновение рук короля; последним французским королем, который (один-единственный раз!) возложил руки на чирьи золотушных больных, был Карл X, однако в 1825 г. этот обряд выглядел уже полным анахронизмом (см.: Блок М. Короли-чудотворцы. М., 1998. С. 539–550); что же касается «короля французов» Луи-Филиппа, то, поскольку он был не помазанником Божьим, а конституционным монархом, которого посадили на престол депутаты, от него исцеления никто ждать не мог.
(обратно)535
Сюзанна-Элизабет де Жарант, происходившая из бедного, но знатного рода, воспринимала свой брак с генеральным откупщиком Лораном Гримо де Ла Реньером как досадный мезальянс; сын, которого она произвела на свет в 1758 г., Александр-Балтазар-Лоран Гримо де Ла Реньер, родился с физическим изъяном — перепонками между пальцами, что, впрочем, не помешало ему прославиться в качестве гастронома и литератора, сочинителя многотомного «Альманаха гурманов» (см. о нем: Мильчина В. А. Россия и Франция. Дипломаты. Литераторы. Шпионы. СПб., 2004. С. 390–414). Между прочим, А.-Б.-Л. Гримоде Ла Реньер был в 1820-е гг. соседом Дельфины и Софи Гэ: их загородный дом и его замок находились в одном и том же северном парижском пригороде Вильесюр-Орж.
(обратно)536
О салоне меценатки и музыкантши графини Мерлен, в котором итальянский бас Луиджи Лаблаш был одним из постоянных гостей, см.: Мартен-Фюжье. С. 327–328, а также в очерке от 3 марта 1844 г. (наст. изд., с. 388–389 /В файле — год 1844 фельетон от 3 марта — прим. верст./).
(обратно)537
На этот день была назначена церемония приема во Французскую академию Виктора Гюго, избрание которого состоялось 7 января 1841 г. Консервативно настроенные академики долгое время не желали принять романтика Гюго в свои ряды, и это возмущало Дельфину (см. выше фельетон от 5 января 1837 г.). Когда Гюго наконец был избран, она 9 января 1841 г. посвятила этому событию восторженный очерк, начинающийся словами: «Свершилось! Виктор Гюго во Французской академии!» (2, 9). Знакомство Дельфины с Гюго восходит к началу 1820-х гг., ко временам их молодости и литературных дебютов. Оба были причастны к выпуску романтического журнала «Французская муза» (1823–1824); Дельфина входила в число тех, кто 25 февраля 1830 г. на премьере «Эрнани» поддерживал автора. Отношения Гюго и Дельфины, неизменно дружеские, стали особенно интенсивными после 1851 г… Когда Гюго за свою оппозицию пришедшему к власти Луи-Наполеону Бонапарту был выслан из Франции, Дельфина не только поддерживала с ним постоянную переписку, но, несмотря на собственную болезнь, в сентябре 1853 г. навестила поэта и его семью в изгнании, на острове Джерси.
(обратно)538
Согласно правилам Французской академии принимаемый академик должен был произнести речь о своем покойном предшественнике, на чье место он был избран, а затем один из академиков ему отвечал. Принимать Гюго было поручено графу де Сальванди, литератору и депутату, члену Академии с 1835 г., занимавшему в кабинете Моле (апрель 1837 — март 1839) пост министра народного просвещения.
(обратно)539
Неологизм Дельфины. Французский институт был основан в 1795 г. вместо академий, распущенных Конвентом; в начале эпохи Реставрации академии вновь были восстановлены, но теперь они, включая и Французскую академию, считались составными частями Института.
(обратно)540
Легитимисты, не признававшие Июльскую монархию законной, предпочитали наследному принцу герцогу Орлеанскому аристократа лорда Сеймура, одного из главных пропагандистов конного спорта во Франции, председателя аристократического Общества соревнователей улучшения конских пород (см. примеч. 3 /В файле — примечание № 113 — прим. верст./). Противопоставление это было абсурдным не только потому, что нелепо смешивать скачки с политикой, но и потому, что герцог Орлеанский и его брат герцог Немурский входили в число учредителей Общества соревнователей вместе с Генри Сеймуром. Трехдневное празднество в Шантийи, где, помимо скачек, были устроены также охота, балы, фейерверк и театральные представления, организовал в мае 1841 г. именно герцог Орлеанский.
(обратно)541
Герцог де Бурбон был последним владельцем Шантийи из рода Конде; его единственный сын, герцог Энгиенский, в 1804 г. был расстрелян по приказу Наполеона якобы за участие в подготовке роялистского заговора. Герцог де Бурбон умер 30 августа 1830 г.; незадолго до смерти он завещал Шантийи герцогу Омальскому (см. примеч. 99 /В файле — примечание № 209 — прим. верст./).
(обратно)542
О том, насколько выгодны скачки и охота для жителей Шантийи, Дельфина уже писала в фельетоне от 11 мая 1839 г.: «Скачки в Шантийи будут в этом году прекрасны, как никогда. Вот уже целый месяц, как в этом очаровательном городе царит необычайное оживление. Дважды в день пять или шесть десятков лошадей пробуют свои силы на бескрайней лужайке или на восхитительных лесных аллеях; грумы, жокеи и их наставники образовали здесь подлинный Жокей-клуб. Нынче Шантийи имеет английский вид, заставляющий учащенно биться сердца всех наших спортсменов. Некоторые из них обосновались здесь заранее и постоянно наблюдают за подготовительными упражнениями; они задают жокеям наводящие вопросы и пытаются отгадать, на кого поставить. Высший шик заключается в том, чтобы нанять дом в Шантийи на период скачек, отправить туда своих поваров и лакеев, серебро, ковры и комфортабельную мебель и в несколько часов устроиться здесь не хуже, чем в Париже. Цены на дома подскочили чудовищно, так что, сдав свой дом внаем на пять-шесть дней, обитатели Шантийи могут заработать больше, чем за два года в обычное время, не говоря уже о том, что зрелище фантастического богатства, которое предстает их глазам во время королевских праздников, дает им темы для разговоров на весь остаток года и избавляет от необходимости ездить в Париж. На что им бывать в столице, если сама столица в парадном уборе является к ним с визитом?» (1, 452–453).
(обратно)543
В начале 1840-х гг. в Париже действовал целый ряд группировок, каждая из которых претендовала на право пропагандировать коммунистическую доктрину (см. подробнее: Иоаннисян А. Р. Революционно-коммунистическое движение во Франции в 1840–1841 гг. М., 1983), поэтому определить, кого конкретно пародирует Дельфина в комментируемом фрагменте, затруднительно.
(обратно)544
12 мая 1841 г. в фурьеристской газете «Фаланга» был напечатан фельетон, автор которого защищает женщин, занимающихся литературой, от упреков виконта де Лоне. Журналист «Фаланги» интересуется, как поступил бы благородный виконт, если бы какой-нибудь «буржуазный» муж, вооружившись Гражданским кодексом, наложил запрет на его дерзкие фельетоны? Выражение «синие чулки», возникшее в Англии в середине XVIII в. и заимствованное французами в начале XIX в., еще в 1830 г. ощущалось как неологизм (см.: Olivier J. Journal. P., 1951. P. 137, 179); его употребляли для обозначения ученых женщин, отличающихся смешным педантизмом. Дельфина в 1845 г. придумала для него свой собственный синоним — «литературные женщины» (см. примеч. 525 /В файле — примечание № 635 — прим. верст./).
(обратно)545
С жалобами на нежелание писать соседствовали у Дельфины признания иного рода: «Мы не хотим писать; мы, напротив того, хотим не писать. Мы ведь уже говорили, что принадлежим к числу чернилофобов; эта ужасная черная жидкость, эта скверная литературная черносмородинная настойка нам глубоко омерзительна; но, с другой стороны, мы не можем не признаться, что она пьянит нас не хуже самого восхитительного вина. Для пьяницы истина в вине; для нас истина в чернилах» (7 марта 1847 г.; 2, 444).
(обратно)546
Нестор Рокплан, практически единолично сочинявший журнал «Скандальная хроника» (Nouvelles à la main, 1840–1844), в жанровом отношении близкий к фельетонам Дельфины, был мастером острого слова; в частности, он обогатил французский язык словом «лоретка» (см. примеч. 468 /В файле — примечание № 578 — прим. верст./).
(обратно)547
Заседания Французской академии происходили с 1806 г. (и происходят по сей день) на набережной Конти в здании коллегиума Четырех наций.
(обратно)548
Чиновник в присутственном месте, на котором лежат полицейские и хозяйственные обязанности.
(обратно)549
А не в академической «униформе» — в зеленом мундире, расшитом пальмовыми ветвями, в треуголке и при шпаге.
(обратно)550
Внешний вид депутатов неизменно производил на Дельфину самое мрачное впечатление. 8 февраля 1840 г. она пишет о бале в королевском дворце Тюильри, где большинство гостей составляли именно «народные представители»: «Может ли бал, куда король пригласил три сотни самых уродливых людей во Франции, пригласил по обязанности и исключительно под тем предлогом, что они представляют страну, не быть чудовищным! Мало того что эти господа уродливы от природы, они еще и одеты самым безвкусным образом; они неопрятны и не причесаны; таков их мундир, и другого они не знают. Что до манер, то они у наших депутатов бесконечно либеральные: один пихается, другой лягается, третий пускает в ход кулаки. Это возмутительно: они ведут себя, как на заседаниях палаты» (1, 609). Тот факт, что депутаты в большинстве своем пренебрегали правилами светского приличия, был легко объясним; как замечал осведомленный современник, «членами палаты депутатов могли сделаться люди самого разного происхождения; придя к власти, они приносили с собой привычки своего круга, своей провинции, своей профессии, и порой нравы и манеры их вовсе не отвечали занимаемому ими положению» (Rémusat. Р. 338–339). Имущественный ценз не позволял претендовать на депутатство людям без состояния, но светского воспитания от кандидатов не требовалось.
(обратно)551
На самом деле Гюго отвергали четыре раза. Пикантность ситуации заключалась в том, что одним из ярых противников приема Гюго в Академию был тот самый Непомюсен Лемерсье (академик с 1810 г.), место которого поэт в результате занял.
(обратно)552
Персонаж комедии Мольера «Ученые женщины» (1672), глупец и педант.
(обратно)553
Перевод речи Гюго см.: Гюго В. Собр. соч.: в 15 т. М., 1956. Т. 15. С. 9–33.
(обратно)554
Речь Гюго отличалась от общепринятых академических норм. Поэт говорил исключительно о политике: о Терроре и Империи, о Наполеоне (так что, как саркастически заметил один из критиков, возникало впечатление, что именно император был предшественником Гюго в Академии), о независимом нраве Лемерсье, отдалившегося от друга своей юности Бонапарта, после того как тот стал императором. При этом Гюго почти ничего не сказал о литературных достоинствах своего предшественника, поскольку ничего хорошего, не погрешив против совести, сказать не мог: дело в том, что Лемерсье был ревностным защитником классических норм, а когда пытался на свой лад обновлять литературу, делал это неровно и далеко не всегда удачно. Со своей стороны, Сальванди тоже нарушил нормы и даже, можно сказать, литературные приличия: в Академии бывали случаи, когда принимающий академик позволял себе критические замечания на счет новоизбранного коллеги, но речь Сальванди представляла собой систематическое, по пунктам, опровержение всего, что сказал Гюго, и это неприятно поразило публику.
(обратно)555
Рукоплесканий удостоился, в частности, тот пассаж, где Сальванди оспаривал утверждение Гюго, будто Лемерсье, в 1793 г. регулярно посещавший заседания Конвента, был им «зачарован». Сальванди утверждал, что такой «решительный ум», как Лемерсье, никак не мог быть зачарован собранием, где «законы были поставлены вне закона», и упрекал Гюго в слишком снисходительной оценке деятельности Конвента.
(обратно)556
Дельфине, по-видимому, особенно понравился финал речи Гюго, где поэт утверждал, что Франция сильна идеями, литературой, языком и потому для сохранения своего международного влияния ей не обязательно прибегать к оружию. Пространный пассаж Гюго посвятил и общественной роли поэта, который призван цивилизовать людей и насаждать в их душах гуманные чувства.
(обратно)557
В фельетоне от 6 июня Дельфина описывала не только прием Гюго в академию, но и стихотворную «дуэль» относительно судьбы Рейна: на сочиненную немцем Николаусом Беккером воинственную «Песнь о Рейне» («Немецкий вольный Рейн // Французы не получат…») француз Альфонс де Ламартин, настроенный миролюбиво и веривший в то, что нации могут жить в мире, отозвался «Марсельезой мира» (опубликована 1 июня 1841 г.), а другой француз, Альфред де Мюссе, двумя неделями позже ответил куда более воинственной парафразой немецкого стихотворения («Ваш вольный Рейн не раз // Бывал уже французским…»); стихи эти были сочинены им в салоне Жирарденов (см.: 2, 112–116). Дельфина, пламенная патриотка, разумеется, была в этой литературной борьбе на стороне Мюссе.
(обратно)558
Супруга генуэзского банкира герцога Гальера была известна своей любовью к изящным искусствам; в конце жизни герцогиня Гальера подарила парижскому муниципалитету построенный по ее заказу дворец, который до сих пор носит ее имя и в котором сейчас размещается Музей моды. В описываемый период чета Гальера жила в Париже в доме 16 по улице Асторга (см.: Histoire du due et de la duchesse de Galliera. Clamart, 1998, p. 20).
(обратно)559
24 января 1847 г. Дельфина описала еще один бал во дворце Гальера, во время которого вспыхнул пожар — впрочем, довольно скоро потушенный и не унесший ни одной жизни; в ту ночь и хозяев и гостей очень тревожила судьба скульптуры Кановы «Кающаяся Магдалина»: «в толпе говорили, что вечные слезы не предохраняют от огня и что гибель во время светского празднества была бы весьма странным концом для этой прославленной кающейся грешницы» (2, 430). Дельфина в 1820-е гг. работала над поэмой «Магдалина», которая так и осталась неоконченной и в которой редакторы журнала «Французской музы» провидели соперницу итальянской статуи; в письме, приложенном к официальному завещанию, Дельфина просила Ламартина после ее смерти закончить эту поэму, но он обещания не выполнил.
(обратно)560
Князь Адам Чарторижский, глава консервативного крыла польской эмиграции во Франции, в мае 1843 г. приобрел на имя своей жены особняк Ламбера на острове Сен-Луи, который стал культурным и политическим центром польской эмигрантской диаспоры.
(обратно)561
Правительство Луи-Филиппа выплачивало политическим эмигрантам пенсию, впрочем, весьма скромную; суммы зависели не только от социального происхождения, но и от национальности беженцев: «социально далеким» испанцам-карлистам при Июльской монархии платили меньше, чем «религиозно близким» полякам-католикам; подробнее см.: Mondonico-Torri С. Les réfugiés en France sous la Monarchie de Juillet: l’impossible statut // Revue d’histoire moderne et contemporaine. 2000. № 47/4. P. 741–755.
(обратно)562
П.-Л.-Ш. Сисери начинал свою карьеру как певец-тенор, но в результате несчастного случая потерял голос и стал художником парижской Оперы; ему принадлежали декорации всех самых прославленных постановок, таких, как «Немая из Портичи», «Роберт-Дьявол» и др.
(обратно)563
Настоящие, а не нарисованные изящной кистью Жана-Батиста Грёза рыбные торговки считались образцом грубости и неотесанности.
(обратно)564
Основанная в 1835 г. «газета мод, наук, литературы и изящных искусств».
(обратно)565
По-видимому, маркиза де Ла Гранж, жена дипломата маркиза Эдуарда де Ла Гранжа, друга юности А. де Кюстина. Маркиз де Ла Гранж был старшим братом графа Армана-Шарля-Луи де Ла Гранжа, одного из несостоявшихся женихов Дельфины.
(обратно)566
«Прощания» вышли из печати в 1844 г., об Ольне см. примеч. 11 /В файле — примечание № 121 — прим. верст./.
(обратно)567
Речь идет о Жане-Батисте Бернадоте, республиканском генерале, а затем наполеоновском маршале; в 1810 г. шведские Генеральные штаты избрали Бернадота наследным принцем Швеции (так как шведский король Карл XIII был бездетным), а в 1818 г., после смерти Карла XIV, Бернадот стал королем Швеции и Норвегии под именем Карла XIV.
(обратно)568
В следующем фельетоне, 10 марта 1844 г., Жирарден приводит опровержение, полученное ею от бывшего адъютанта Бернадота барона Мерже: «Кровавые слова свобода, равенство или смерть вошли в употребление лишь в эпоху Террора. К этому времени Бернадот уже сделался генералом; так вот, я призываю в свидетели всех, кто служил в старой и новой армии: пусть скажут, случалось ли, чтобы полковники и генералы покрывали свое тело татуировками?!» «Замечание это, — продолжает Жирарден, — кажется нам весьма справедливым, и мы спешим довести его до сведения публики. Адъютант Бернадота — особа, чье свидетельство заслуживает веры; однако особа, которая рассказала нам о татуировке, также заслуживает доверия и, по нашему убеждению, принадлежит к числу людей прекрасно осведомленных. Что остается нам?., сообщить нашим читателям обе эти истины, дабы они сами выбрали ту, которая им более по вкусу. Предоставляем им это право» (2, 203).
(обратно)569
7 марта 1847 г. Жирарден продолжает эту тему: если раньше комика Левассора слушали во время карнавала, то теперь набожные дамы из Сен-Жерменского предместья не чураются его песенок и во время поста; они приглашают Левассора на благотворительные концерты: «прежде он был скоромным, а теперь сделался постным» (2, 447).
(обратно)570
Объект иронии Дельфины — те женщины (предшественницы современных феминисток), которые борются за свои гражданские права, но при этом забывают о собственной женственности (ср. примеч. 108 /В файле — примечание № 218 — прим. верст./). Свою точку зрения на «женский вопрос» Дельфина высказывает в очерке от 24 марта 1844 г. (наст. изд., с. 392–401 /В файле — год 1844 фельетон от 24 марта — прим. верст./).
(обратно)571
Первой женщиной, избранной во Французскую академию, стала Маргерит Юрсенар; произошло это в 1980 г.
(обратно)572
Салический закон, восходящий к «Салической правде» — собранию законов салических франков VI в., запрещал не только передачу престола наследникам по женской линии, но и вообще наследование имущества (а равно и дворянских титулов) дочерьми. Принятый во Франции в 1804 г. Гражданский кодекс продолжал эту традицию и предоставлял женщине очень мало прав: замужняя женщина, наряду с несовершеннолетними и умалишенными, объявлялась недееспособной в гражданских и имущественных делах; имущество супругов было общим, однако правом распоряжаться им обладал только муж; для сделок и управления своей долей имущества жене надлежало получить письменное согласие мужа; дискриминационным было законодательство о признании внебрачных детей, об опеке над детьми; развод, допускавшийся кодексом 1804 г., в 1816 г. был вообще отменен (см. подробнее: Любарт М. К. Семья во французском обществе. XVIII — начало XX века. М., 2005. С. 85–89). Впрочем, это юридическое бесправие компенсировалось (в полном соответствии с тем, что пишет Дельфина ниже) реальной властью, которую сообразительные и энергичные женщины забирали себе в супружеском доме и в свете (не случайно исследовательница положения женщин в XIX в. Мишель Перро называет одну из глав «Истории частной жизни» этого периода «Супружеская жизнь: женский реванш?»). Иностранных путешественников, попавших в Париж, поражало обилие женщин, занимавшихся неженскими ремеслами (вплоть до работы на бойне) и командовавших в лавках, трактирах, кабинетах для чтения и пр.
(обратно)573
Это право контролировать переписку жены предоставлялось мужу французским законом (см.: Histoire de la vie privée. P., 1987. T. 4. P. 125–126).
(обратно)574
Разительный пример отказа от салического закона продемонстрировала в XIX в. Испания: король Фердинанд VII передал престол своей дочери Изабелле (см. примеч. 1 /В файле — примечание № 111 — прим. верст./).
(обратно)575
В следующем фельетоне (31 марта 1844 г.) Дельфина сообщала о «множестве невольных и простодушных признаний», которые были ей сделаны читателями данного фельетона и немало ее позабавили. Один собеседник оспорил мнение, что испанцы умнее испанок, на том основании, что в Испании имел дело с несколькими исключительно умными женщинами; другой возразил, что итальянки ничуть не глупее итальянцев, потому что он лично знает одну чрезвычайно умную итальянку… «Что ж, господа, — заканчивает Дельфина этот пассаж, — мы готовы уступить и признать, что женщины во всех странах мира умнее мужчин. Нам эта уступка решительно ничего не стоит» (2, 222–223).
(обратно)576
Сочинительницей трагедий была прежде всего сама Дельфина, к этому времени уже написавшая трагедию «Юдифь» (см. примеч. 238 /В файле — примечание № 348 — прим. верст./), возобновленную Французским театром 4 марта 1844 г.
(обратно)577
При Филиппах (42 г. до н. э.) Антоний вместе с двумя другими триумвирами (Октавианом и Лепидом) разбил армию республиканцев Брута и Кассия, с которыми боролся за власть после совершенного ими убийства Цезаря; в сражении при греческом мысе Акциум (31 г. до н. э.) Антоний, союзницей которого выступала его любовница, египетская царица Клеопатра, проиграл Октавиану и на суше, и на море, и бежал в Александрию, где в следующем году покончил с собой. Эти два эпизода из жизни Антония легли в основу двух трагедий Шекспира: «Юлий Цезарь» (ок. 1599) и «Антоний и Клеопатра» (ок. 1606). Во Франции трагедии о Клеопатре сочиняли по преимуществу мужчины (последним по времени был Александр Суме, некогда обучавший юную Дельфину стихосложению; его «Клеопатра» датируется 1824 г.), но тремя годами позже этой героине и ее отношениям с «беглецом» Антонием посвятила трагедию сама Дельфина; премьера в «Комеди Франсез» (с Рашель в заглавной роли) состоялась 13 ноября 1847 г. Верный друг Готье в своем очерке о Дельфине назвал ее «Клеопатру» «наилучшей сценической поэмой из всех, какие сочинены женщинами» (Gautier. P. X).
(обратно)578
До 1855 г., когда с легкой руки Александра Дюма-сына, автора комедии «Полусвет», женщин легкого поведения стали называть «дамами полусвета», их именование составляло особую проблему. Посвященный им очерк Таксиля Делора (в сборнике «Французы, нарисованные ими самими», 1842) называется «Женщина без имени» («наилучший способ познакомить вас с этой женщиной, — пишет Делор, — не называть ее по имени, ибо разговор о ней вызывает слишком большое отвращение»), О таких женщинах говорили также: «она замужем в тринадцатом округе» (то есть вовсе не замужем, поскольку до 1860 г. округов в Париже было всего двенадцать); а в 1841 году журналист Нестор Рокплан (см. примеч. 436 /В файле — примечание № 546 — прим. верст./) ввел в обиход слово «лоретка» — по названию церкви Лоретской Богоматери (см. примеч. 151 /В файле — примечание № 261 — прим. верст./) в новом квартале финансистов и художников Шоссе д’Антен, возле которой охотно селились женщины легкого поведения. Эпитет «фантастический», который употребляла по отношению к этим дамам Дельфина (см. также наст. изд., с. 408 /В файле — год 1844 фельетон от 19 мая — прим. верст./), в языке не прижился.
(обратно)579
Персонажи романа Эжена Сю «Парижские тайны», всезнающая привратница и ее любящий супруг. «Парижские тайны» с 19 июня 1842 г. по 15 октября 1843 г. печатались с продолжением на страницах газеты «Журналь де Деба» и имели такой успех, что имена многих героев романа очень скоро стали нарицательными. 7 мая 1844 г. Дельфина отвечала на вопрос, что больше всего поразило ее в нынешнем году во время народного гулянья на Елисейских Полях: «Бесконечные метаморфозы „Парижских тайн“. Они присутствуют повсюду, от пантомим до пряников» (2, 253). О восприятии этого романа Э. Сю его первыми читателями см.: Lyon-Caen J. La Lecture et la Vie. Les usages du roman au temps de Balzac. P., 2006. P. 170–192, 256–262.
(обратно)580
Шаламель — персонаж «Парижских тайн» Э. Сю, зануда-письмоводитель в конторе нотариуса Феррана, к месту и не к месту употребляющий пословицы и поговорки.
(обратно)581
Полька вошла в моду в Париже, причем одновременно и в светском обществе, и среди простонародья, зимой 1843/44 г. (см.: Мартен-Фюжье. С. 136–137). В фельетоне от 28 апреля 1844 г. Дельфина произносит настоящее похвальное слово новому танцу: «Сколько бы гадостей ни говорили про польку, бесспорно, что это танец добрый и честный; полька простодушна и даже глуповата, но никому не приносит вреда. Впрочем, есть польки и польки: полька постная и полька скоромная, полька роскошная и полька оздоровительная, полька натуральная и полька неистовая, полька реальная и полька умышленная — та, которую танцуют люди, все время мысленно считающие: раз, два, три, четыре; раз, два, три, четыре; раз, два, три, четыре… По глазам и по губам видно, что они не прекращают этих подсчетов ни на минуту; вдохновенным их вид не назовешь. Но какой бы ни была полька, она всегда превосходна; она обнажает прелесть одних и нелепость других, она забавляет и танцоров, и зрителей, а главное, она возвращает французам вкус к танцам — ту невинную страсть, которая должна послужить противоядием от ужасающей буквомании и от необузданного педантства» (2, 246).
(обратно)582
Дельфина продолжала возмущаться женским бесправием и после революции 1848 г., которая в этом отношении ничего не изменила. 13 мая 1848 г. она констатирует, что безграмотным слугам дали право голосовать, а женщинам — нет: «…скоро в любом семействе ничтожнейший из слуг будет значить больше, чем хозяйка дома; вскоре честолюбивые сыновья будут относиться с большим почтением к своему привратнику — избирателю, чей голос способен помочь им сделаться представителем народа и министром, — чем к старой матушке, которая, в отличие от слуги, лишена права голосовать. О французы, некогда придумавшие салический закон, за двадцать веков вы ничуть не изменились: вы делаете вид, будто обожаете своих жен, на самом же деле им завидуете и потому их тираните… Подлейший кретин значит в ваших глазах больше, чем благороднейшая и умнейшая женщина: ведь он имеет честь принадлежать к мужскому полу…» Впрочем, само по себе избирательное право волнует Дельфину в последнюю очередь: «женщины требуют не права голосовать, они требуют права оставаться порядочными, зарабатывать на жизнь достойно и не продавая себя ни открыто, ни тайно — ибо тайная проституция ничуть не лучше явной; […] права работать для того, чтобы жить, более того, работать для того, чтобы кормить своих мужей, если мужья работать не хотят; они требуют, чтобы во Франции было открыто столько же мастерских, фабрик, контор, в которых деятельные женщины могли бы тихо трудиться, сколько в ней уже есть клубов и кабаре, в которых ленивые мужчины могут буйно развлекаться. Но кто же подумал о женщинах?.. Никто, за исключением того простодушного рабочего, который в день всеобщей манифестации, когда войска выкрикивали потешный лозунг: „Да здравствует временное правительство!“ — увидел двух красивых женщин и закричал в свой черед: „Да здравствуют временные женщины!“ То было единственное пожелание, касающееся грядущей участи женщин, — и оно, как видите, тоже было не слишком лестным» (2, 497–498).
(обратно)583
Если в очерке о «льве» (31 августа 1839 г., наст. изд., с. 268–272 /В файле — год 1839 фельетон от 31 августа — прим. верст./) Дельфина отстаивает собственное понимание термина, расходящееся с общепринятым, то в портрете денди она сохраняет верность распространенной моралистической трактовке денди как человека, который слепо и даже утрированно следует моде и, как писал Бальзак в «Трактате об элегантной жизни» (1830), не может быть назван «мыслящим существом». О других, гораздо более философских и оригинальных интерпретациях фигуры денди как стоика (Бодлер) и сверхчеловека (Барбе д’Оревийи) см.: Вайнштейн. С. 375–395.
(обратно)584
Строка из элегии Ламартина «Умирающий поэт» (сборник «Новые поэтические размышления», 1823).
(обратно)585
В романе Жорж Санд «Лелия» (1-я ред. 1833; ч. 1, гл. 8) заглавная героиня рассказывает предысторию Тренмора, который в прошлом был игроком; сознавая губительные последствия игры, Лелия тем не менее произносит ей настоящее похвальное слово и подчеркивает, что, хотя цели у игры пошлые, игрок демонстрирует «возвышенную дерзость, слепую и безграничную самоотверженность».
(обратно)586
В некоторых карточных играх — например, в экарте — за столом играли только двое, однако неограниченное число «болельщиков» могли ставить деньги на того или иного игрока.
(обратно)587
Публичные игорные дома были закрыты 31 декабря 1836 г. Власти надеялись таким образом защитить игроков от разорения, однако после закрытия официальных игорных домов размножились тайные; русский очевидец свидетельствует в феврале 1838 г.: «около двухсот домов, под разными наименованиями, открыто для игроков всякого рода и племени; к числу таких домов принадлежат пенсионы, tables d’hôtes [табльдоты], в какую цену угодно — для простолюдинов, для молодежи среднего класса и для сидельцев. Для знатных же посетителей, кои некогда собирались в Салоне иностранцев, бывшие содержатели дают роскошные обеды и приглашают к себе печатными билетами» (Тургенев. С. 152).
(обратно)588
Дилетант — «человек, занимающийся музыкой […] не по промыслу, а по склонности, по охоте, для забавы» (В. И. Даль).
(обратно)589
О кади см. примеч. 113 /В файле — примечание № 223 — прим. верст./.
(обратно)590
«Калиостро» на музыку Адана и «Сирена» на музыку Обера впервые были представлены в парижской Комической опере соответственно 10 февраля и 26 марта 1844 г.; «Дезертир» — комическая опера Монсиньи по прозаической драме М.-Ж. Седена, впервые поставленная в Итальянском театре еще в 1769 г. Герой пьесы, солдат Алексис, обманутый ложным слухом о том, что его невеста выходит за другого, решает дезертировать, его ловят и приговаривают к смерти; спасает его только помилование короля, которое вымолила невеста. Дельфина уподобляет зрительниц героине басни Лафонтена «Молочница и горшок молока» (Басни, VII, 9).
(обратно)591
Театр «Варьете» с 1807 г. располагался (и располагается до сих пор) в доме 7 по Монмартрскому бульвару; там шли комедии на злободневные темы и пародии на нашумевшие серьезные представления других театров.
(обратно)592
Театр «Драматическая гимназия» располагался в конце бульвара Благой вести, который отделяется от Монмартрского бульвара лишь коротким Рыбным бульваром. В бульварном полукольце на правом берегу Сены продолжением Монмартрского бульвара служит бульвар Итальянцев, на пересечении которого с улицей Лаффита с 1840 г. располагался роскошный ресторан «Золотой дом» (заметный издали благодаря массивным позолоченным балконам). Что же касается Монмартрского холма, то его отделяет от Монмартрского бульвара очень значительное расстояние.
(обратно)593
«Парижское кафе» располагалось на углу бульвара Итальянцев и улицы Тэбу; Комическая опера находилась (и находится до сих пор) совсем рядом, на площади Боельдьё; чтобы попасть туда от угла улицы Тэбу, достаточно перейти по другую сторону бульвара Итальянцев.
(обратно)594
Уроженец Беарна король Генрих IV в битве при Иври (1590), где его сторонники сражались со сторонниками ультракатолической Лиги, прикрепил к своему шлему султан из белых перьев, чтобы его солдатам было легче узнать его на поле боя, и велел им повсюду следовать за этим султаном, который «поведет их по дороге чести и славы».
(обратно)595
Фабрика Гобеленов, или Королевская мануфактура тканей, основанная еще в середине XV в. Жаном Гобеленом, входила в перечень тех достопримечательностей, которые считали своим долгом осмотреть все любознательные путешественники.
(обратно)596
Все перечисленные дамы к 1844 г. уже скончались. Писательница Жермена де Сталь (о которой, по свидетельству Софи Гэ, одна из современниц сказала: «Будь я королевой, я приказала бы госпоже де Сталь говорить со мной не переставая» — Gay. Р. 39) умерла в 1817 г., а ее дочь герцогиня де Брой (по выражению Ш. де Ремюза, «муза, ангел и волшебница» либеральных салонов 1820-х гг.) — в 1838 г. Герцогиня де Дюрас, чей салон был «своего рода нейтральной территорией, где признавали всего одну партию — партию людей острого ума» (Barante P. de. Mélanges historiques et littéraires. P., 1835, t. 3, p. 358), скончалась в 1828 г., а маркиза де Монкальм, любившая «мирить политических мужей» (Marcellus, comte de. Chateaubriand et son temps. P., 1859. P. 250), — в 1832 г. Одной из тех, кто утверждал, что «век салонов» кончился, была мать Дельфины Софи Гэ, которая начала с этого тезиса свою книгу «Прославленные салоны» (1837). Впрочем, Софи на этом не остановилась, но заодно перечислила условия, необходимые для существования настоящего салона, — условия, которые, судя по всему, были так же важны и для Дельфины. Первое из них: наличие в качестве хозяйки дамы не старой, но и не такой молоденькой, чтобы окружающие мужчины интересовались ее внешностью больше, чем ее умом; второе — существование при этой даме хозяина дома «учтивого, незаметного или отсутствующего»; третье — способность хозяйки привечать всех людей замечательных и выставлять за дверь людей докучных и, наконец, ее готовность всегда быть дома и принимать гостей (Gay. Р. 3–7).
(обратно)597
Если главным занятием посетителей светского салона считалась беседа, то одним из главных свойств «правильной» светской беседы ее теоретики называли учтивость, умение выслушивать чужие мнения, не навязывая своего. Считалось, что такая беседа стала невозможна после революции 1789 г., когда в салоны ворвалась политика и светскую толерантность убил так называемый «дух партий», то есть политический фанатизм. С этой точкой зрения, канонизированной уже в первой половине XIX в. (см.: Deschanel Е. Histoire de la conversation. P., 1857. P. 158–159), соглашаются и современные исследователи, ограничивающие «золотой век беседы» 1789 годом (см.: Craven В. L’Age de la conversation. P., 2002. P. 10). Дельфина в данном случае исходит из другой предпосылки: она утверждает, что настоящие салоны ее времени хранят верность традициям, а местом, где господствует эгоизм, убивающий истинную беседу, сделались клубы (сатирическому изображению которых посвящена вторая часть фельетона). Именно за умение создавать в своем салоне такую атмосферу, в которой «разница мнений уступает потребности общаться друг с другом и друг другу нравиться», превозносит госпожу де Сталь Софи Гэ (Gay. Р. 21–22). Упоминаемая ниже Дельфиной госпожа де Буань, по ее собственному признанию, училась у госпожи де Сталь умению «принимать людей всех взглядов и, споря с ними, не погрешать против учтивости, дабы не оставить за пределами своего салона ни одного из этих мастеров словесного фехтования» (Boigne. Т.1. Р. 271; ср.: Fumaroli. Р. 198–201). Разумеется, в подобном видении беседы есть оттенок утопизма — впрочем, характерный для французских представлений о беседе еще в дореволюционное время; беседа уже тогда представала идеальной сферой бесконфликтности, где противоречия реальной жизни «снимаются» благодаря учтивости беседующих (см.: Craven В. Op. cit. Р. 11–12).
(обратно)598
Жюльетта Рекамье нанимала квартиру в женском монастыре Аббеи-о-Буа в Сен-Жерменском предместье (№ 16 по Севрской улице); в ее салоне устраивались блестящие благотворительные концерты, велись интеллектуальные беседы, в которых принимали участие незаурядные завсегдатаи: Шатобриан, философ Балланш, историк Токвиль и многие другие; юная Дельфина декламировала здесь свои стихи. Одним из верных поклонников госпожи Рекамье и постоянных посетителей ее салона был А. И. Тургенев, чьи парижские корреспонденции пестрят описаниями вечеров в Аббеи-о-Буа (см.: Тургенев. По указ.). Отличительной чертой госпожи Рекамье все современники считали ее умение соединять в своем салоне людей разных взглядов и разной политической ориентации (см.: Мартен-Фюжье. С. 193), поэтому Дельфина не случайно называет ее имя первым. Ламартин жил в том же Сен-Жерменском предместье в доме 82 по Университетской улице, а Гюго — в квартале Маре в доме 6 на Вогезской площади (сейчас в этой квартире находится его музей; описание гостиной Гюго со «следами страсти к зодчеству древних времен» см.: Боткин В. П. Письма об Испании. Л., 1976. С. 201). Чета Ламартинов принимала по субботам, причем благодаря самому Ламартину в его салоне теснились политики, а благодаря его жене, «милой, умной, начитанной и с редким талантом в живописи» (Тургенев. С. 131), тот же салон превращался в «святилище искусств» (Balabine. Р. 109). В фельетоне 6 марта 1841 г. Дельфина описала «вечер знаменитостей» в салоне госпожи де Ламартин и привела длинный список собравшихся там выдающихся особ, сопроводив каждое имя эпитетом «великий» (см.: 2, 48–49). «Ведение» салона считалось женским делом, поэтому Дельфина обозначает все салоны именами их хозяек, хотя и Ламартин, и Гюго, разумеется, играли в своих салонах роль ничуть не меньшую, чем их жены.
(обратно)599
Графиню де Буань любовные узы связывали с канцлером Пакье, а Корделию де Кастеллан, жену графа Бонифаса де Кастеллана (не путать с организатором любительского театра Жюлем де Кастелланом!), — с председателем правительства в 1836–1839 гг. графом Моле; поэтому их салоны могли считаться политическими. В 1843 г. графиня де Кастеллан была «женщиной лет пятидесяти, которая блистала богатым воображением и с величайшей естественностью направляла ход беседы»; она с равным успехом обсуждала с разными собеседниками разные темы: с Гизо и Моле «труднейшие исторические и политические вопросы», со светскими людьми — предметы самые легкомысленные (Balabine. Р. 105–106). Другие собеседники графини отказывали ей в политических познаниях, но не отрицали, что в ее салоне царит «редкий по нынешним временам дух светскости» (Rémusat. Р. 167). Что же касается графини де Буань, то о ее знакомствах и познаниях можно судить по ее мемуарам — одному из ценнейших источников по истории Франции эпохи Реставрации и Июльской монархии (см.: Boigne).
(обратно)600
Госпожа де Курбон, разведенная жена оперного певца Ролана, сохранившая девичью фамилию, унаследовала завсегдатаев своего салона на Королевской улице от аристократки княгини де Водемон, большой приятельницы Талейрана (та умерла в 1832 г.). В скромной квартире госпожи де Курбон не было «ни бархата, ни шелка, ни позолоты», но каждый приглашенный «чувствовал себя как нельзя более непринужденно» благодаря любезности хозяйки (Balabine. Р. 232–233).
(обратно)601
Герцогиня де Майе, мать путешественника герцога де Майе (см. примеч. 417 /В файле — примечание № 527 — прим. верст./), автор ценных мемуаров о парижской светской жизни (Maillé, duchesse de. Souvenirs de deux Restaurations. P., 1984), устроительница любительских спектаклей (см.: Мартен-Фюжье. С. 305–307), жила в Сен-Жерменском предместье на улице Святого Доминика, напротив дома С. П. Свечиной.
(обратно)602
Графиня де Шастене славилась также своими детскими балами (см. примеч. 422 /В файле — примечание № 532 — прим. верст./); по словам Балабина, она, «будучи женщиной умной, принимала все режимы, от Империи до нынешней власти, так что, благодаря общению со знаменитостями всех эпох, ум ее сверкал блеском не столько природным, сколько заемным» (Balabine. Р. 110). Дельфина еще до замужества декламировала в салоне госпожи де Шастене свои стихи.
(обратно)603
В салоне герцогини де Розан, младшей дочери герцогини де Дюрас, русский очевидец находил «милую хозяйку, литераторов, ученых, депутатов, легитимистов, нынешних роялистов; смесь аристократии старой с новой; и наших петербургских дам» (Тургенев. С. 255). В 1820-х гг. юная Дельфина декламировала свои стихи и у герцогини де Розан, и у ее матери.
(обратно)604
Леонтина де Ноай, вдова погибшего в 1812 г. при переходе через Березину виконта Альфреда де Ноая, принимала гостей в особняке на площади Бово в предместье Сент-Оноре; ее красота и ум пленили русского посла в Париже графа Поццо ди Борго, который в 1825 г. сватался к ней, но был отвергнут (см.: Мартен-Фюжье. С. 145).
(обратно)605
Салон графини де Жирарден (урожд. де Вентимиль), жены графа Александра де Жирардена, отца Эмиля, Балабин называет «элегантным легитимистским салоном» (Balabine. Р. 110). Сестра графини де Жирарден была замужем за графом Филиппом-Полем де Сегюром, наполеоновским генералом, членом Французской академии и пэром Франции, автором книг «История Наполеона и Великой армии в 1812 году» (1824) и «История России и Петра Великого» (1829).
(обратно)606
Внучка маркиза де Лафайета, в 1828 г. вышедшая за Шарля де Ремюза (см. примеч. 385 /В файле — примечание № 495 — прим. верст./).
(обратно)607
См. примеч. 426 /В файле — примечание № 536 — прим. верст./. Салон графини Мерлен был одним из тех немногих, который Софи Гэ удостоила восторженного очерка в своих «Прославленных салонах» и о котором написала, что он делает честь как изящным искусствам, так и хорошему обществу (Gay. Р. 226).
(обратно)608
Госпожа Дон, теща Тьера, принимала гостей зятя (см. примеч. 61 /В файле — примечание № 171 — прим. верст./). Поскольку Тьер после отставки своего кабинета в 1840 г. находился в оппозиции, его салон, естественно, притягивал к себе всех других разочарованных политиков. Чтобы соблюсти объективность, Дельфина намеренно упоминает не только жительниц легитимистского Сен-Жерменского предместья, но и салон Тьера, где, по оценке его друга и соратника Шарля де Ремюза, царил «буржуазный дух со всеми его притязаниями, эгоизмом и подозрительностью», дух «выскочек, не полностью лишенных вкуса», причем сам хозяин прекрасно это сознавал (см.: Rémusat. Р. 57). Впрочем, преимущество Дельфина явно отдает салонам аристократическим, а некоторые салоны, игравшие довольно важную роль в парижской светской и литературной жизни, например салон госпожи Ансело и ее мужа, тоже писателя, не упоминает вовсе. Правда, и госпожа Ансело в книге «Парижские салоны: угасшие очаги» (1858) о салоне Дельфины не рассказывает. Между тем госпожа Ансело также отстаивала способность салонов своего времени соперничать с салонами прошлого (см.: Marschall S. Les salons de la Restauration: un mythe, indice des mutations de la sociabilité au XIXe siècle. L’exemple de Virginie Ancelot // Repenser la Restauration. P., 2005. P. 321–346).
(обратно)609
О княгине Ливен см. примеч. 63 /В файле — примечание № 173 — прим. верст./; княгиня Бельджойозо, итальянка, высланная из Милана за антиавстрийские выступления и с 1830 г. жившая в Париже, была известной меценаткой и устраивала в своем салоне в доме 23 по Анжуйской улице (в предместье Сент-Оноре) музыкальные вечера. Салон русской католички Софьи Петровны Свечиной, жившей в доме 71 (ныне 5) на улице Святого Доминика в Сен-Жерменском предместье, сыграл немалую роль во французском «религиозном возрождении» 1830-х гг.
(обратно)610
Клубы, или «кружки» — сугубо мужские формы проведения досуга в местах, куда женщины доступа не имели. Для вступления в клуб, как правило, нужно было заручиться рекомендациями тех, кто в нем уже состоял, пройти процедуру голосования, заплатить вступительный взнос, а также платить некую сумму ежегодно. Член клуба мог за небольшую сумму получить там превосходный обед, к его услугам были ежедневные газеты, бильярд и карты (даже после закрытия официальных игорных домов), а в некоторых клубах читались лекции о самых разнообразных предметах. См. выше о парижском Жокей-клубе (примеч. 3 /В файле — примечание № 113 — прим. верст./) и о клубе «Союз» (примеч. 187 /В файле — примечание № 297 — прим. верст./).
(обратно)611
Попугай из одноименной ироикомической поэмы Ж.-Б.-Л. Грессе (1734), ужаснувший целомудренных монахинь своей бранью.
(обратно)612
Дельфина описывает старинную традицию расставлять стулья и кресла вокруг хозяйки дома; при этом в салоне господствовал жесткий порядок: хозяйка указывала гостям место, и, заняв его, они уже не имели права перемещаться по гостиной и самостоятельно выбирать себе собеседников. Эта традиция XVIII в. имела множество продолжательниц в эпоху Реставрации; именно так, например, принимала гостей упоминаемая выше госпожа де Монкальм. Напротив, у госпожи Рекамье мебель, была расставлена несколькими кружками; это были места для дам, а мужчины имели возможность прогуливаться по всей гостиной; в один большой круг кресла и стулья расставлялись только в дни литературных чтений или концертов.
(обратно)613
Госпожа Кампан, камеристка Марии-Антуанетты, после Революции открыла в Сен-Жермене пансионат для знатных девиц.
(обратно)614
Герцогиня де Сен-Лё (см. примеч. 39 /В файле — примечание № 149 — прим. верст./), воспитывавшаяся в пансионе госпожи Кампан, умерла 5 октября 1837 г. в Арененберге. 9 дней спустя Дельфина посвятила ей короткий очерк, в котором воспела достоинства этой блестящей женщины, «получившей от Небес прекраснейшие дары», и оплакала ее несчастливую судьбу: «Увы! корона все погубила! Умереть вдали от Франции после двадцатилетнего изгнания — жестокая участь» (1, 251–252).
(обратно)615
Каникулы начинались в середине августа и продолжались до начала октября.
(обратно)616
Любопытно, что автор этого юридического сочинения, кажется, внял антитабачным инвективам Дельфины; двадцать пять лет спустя, в 1869 г., под грифом «Французской ассоциации борьбы против злоупотребления никотином» он выпустил «Собрание законов и ордонансов, касающихся курильщиков на железной дороге».
(обратно)617
В фельетоне от 27 октября 1844 г. Дельфина рассуждает о методах образования и приходит к выводу, что хорошая мать, оставаясь нежной и любящей, не должна тем не менее избавлять сына от тягот жизни; ее обязанность — внушать мальчику, что учение — не забава, а тяжелый труд.
(обратно)618
То есть произведенного в Испании, в районе города Херес-де-ла-Фронтера, которому он и обязан своим названием.
(обратно)619
В начале второй части романа «Крестьяне» (1844; изд. 1855) Бальзак намекает именно на этот фельетон Дельфины, когда, описав некую госпожу Судри, с виду весьма уродливую, он замечает: «Вам будет трудно понять, почему высшее суланжское общество […] считало красивой эту провинциальную королеву; разве только вам придет на память небольшой трактат, недавно написанный ex professo одной из умнейших женщин нашего времени, трактат об искусстве красоты, доступном парижанкам, имеющим под рукой все нужные средства» (Бальзак О. де. Собр. соч.: в 15 т. М., 1954. Т. 12. С. 447).
(обратно)620
В фельетоне от 22 декабря 1844 г. описаны нападения уличных грабителей, державших в страхе парижан осенью этого года.
(обратно)621
К смоляной маске как средству убийства осенью 1844 г. в Париже прибегали дважды; некий Шеврёль в самом деле удушил таким образом свою любовницу и был приговорен к смерти; другой преступник 12 декабря 1844 г. попытался последовать его примеру, но не сумел довести свое намерение до конца.
(обратно)622
16 января 1845 г. Гюго выпало принимать в Академию публициста и литературного критика Сен-Марка Жирардена, который занял кресло Кампенона, автора поэмы «Послание к женщинам» (1800). В связи с этим Гюго призвал преемника Кампенона также воспевать «благородную спутницу мужчины», причем имел неосторожность сказать, что в сфере мысли женщина «почти равна мужчине».
(обратно)623
См. фельетон от 24 марта 1844 г. (наст. изд., с. 392–401 /В файле — год 1844 фельетон от 24 марта — прим. верст./).
(обратно)624
Пирон. Метромания (1738; д. 2, сц. 11).
(обратно)625
На самом деле жена Мольера Арманда (дочь актрисы, воспитанная в мире кулис) не принадлежала к числу «хорошо воспитанных» светских дам.
(обратно)626
Литератор Эдуард Меннеше, чтец королей Людовика XVIII и Карла X, в 1841 г. начал устраивать «литературные утренники», во время которых читал лекции по истории литературы для светского круга. С салоном маркизы де Рамбуйе связано то явление французской литературы второй половины XVII в., которое вошло в историю под названием «прециозность» и было доведено до абсурда в комедии Мольера «Смешные жеманницы» (дословно «Смешные прециозницы»; 1659); Дельфина, в соответствии с оценками своего времени, осуждает пуристическую установку на перифрастический и эвфемистический стиль, принятую в этом кругу. Современную интерпретацию этой среды и ее литературных установок см. в кн.: Неклюдова М. С. Искусство частной жизни. Век Людовика XIV. М., 2008.
(обратно)627
О «неистовой литературе» см. примеч. 327 /В файле — примечание № 437 — прим. верст./.
(обратно)628
Два аттракциона, занимавшие парижан в начале 1845 г.: юные танцовщицы из Венской оперы и карлик по прозвищу Мальчик с пальчик, который за очень высокую плату участвовал в спектаклях, разыгрываемых в частных домах.
(обратно)629
В 1846 г. Дельфина вовсе не печатала фельетонов, и читатели были недовольны; во всяком случае, 3 января 1847 г. редакция «Прессы» сообщала о том, что многие читатели требуют от нее возвращения очерков виконта. Поэтому редакция решила продолжить в чуть измененной форме опыт, предпринятый летом 1845 г., когда с 4 июля по 10 августа 1845 г. «Пресса» печатала с продолжением эпистолярный «роман-стипль-чез» «Круа де Берни», сочиненный четырьмя авторами: Дельфиной, Теофилем Готье, Жозефом Мери и Жюлем Сандо (каждый писал письма за «своего» героя). Печатание парижских хроник возобновилось 10 января 1847 г. под рубрикой «Круа де Берни» (а не «Парижский вестник», как раньше); первым стал фельетон виконта де Лоне, но уже в следующую субботу эстафету перенял Сандо, за ним последовал Мери, а потом, после еще одного очерка Дельфины, субботний фельетон сочинил Готье. Четыре автора вели рубрику по очереди до июля 1847 г.
(обратно)630
См. примеч. 360 /В файле — примечание № 470 — прим. верст./.
(обратно)631
Полотно Пьера Миньяра (1640-е гг.).
(обратно)632
Период после смерти Людовика XIV (1715–1723), когда регентом при малолетнем короле Людовике XV был герцог Филипп II Орлеанский, считается одной из самых развратных эпох в истории Франции.
(обратно)633
Мольер. Тартюф. Д. 4, сц. 5. Кондитер Бертелемо, о котором идет речь ниже, владел лавкой на Новой Вивьеновой улице, где продавал конфеты вперемешку со статуэтками, альбомами и современными стихами — продукцией сугубо мирской.
(обратно)634
Употребление этого русского слова для перевода французского bourgeoise может показаться анахронистичным: в русском языке пейоративное значение появилось у слова «мещанка» ближе к концу XIX в.; однако уже в 1830-е гг. название комедии Мольера «Bourgeois gentilhomme» переводили как «Мещанин во дворянстве», кроме того, в данном случае именно русское слово «мещанка» наиболее точно передает авторскую оценку, и по этой причине я в данном фельетоне остановилась на нем, хотя в других случаях сохранила для слова bourgeois традиционный перевод «буржуа».
(обратно)635
Весьма нелестное описание этой разновидности женщин дано в предыдущем фельетоне от 4 апреля 1847 г., где, излагая свои впечатления от книги Ламартина «История жирондистов», Дельфина произносит очень жестокий приговор «эгерии» жирондистской партии госпоже Ролан, «принадлежавшей к той породе оголтелых педанток, которых мы бы назвали женщинами литературными, иначе говоря, женщинами, составленными из книг; эти женщины, которых следовало бы не столько одевать, сколько переплетать, действуют не так, как подсказывает природа, а так, как велит последняя прочитанная книга»; таких «литературных женщин» Дельфина называет бедствием любой эпохи (2, 460–461).
(обратно)636
Комедия Мариво (1730), в которой Сильвия (госпожа) меняется одеждой с Лизеттой (служанкой), чтобы испытать чувства своего жениха Доранта (который, со своей стороны, поступает сходным образом и меняется одеждой со своим слугой Арлекином).
(обратно)637
Названные лица были высокопоставленными чиновниками: Жан-Антуан-Огюст Жени руководил аппаратом министра иностранных дел Гизо, Жан-Гаспар-Феликс Равессон — аппаратом министра народного просвещения Сальванди, а Эдмон Леклерк — аппаратом министра внутренних дел Дюшателя.
(обратно)638
См. примеч. 53 /В файле — примечание № 163 — прим. верст./.
(обратно)639
18 июня 1847 г. глава кабинета и министр иностранных дел Гизо прочел с трибуны палаты депутатов два письма Эмиля де Жирардена: из одного, датированного 25 июля 1838 г. и адресованного неназванному сотруднику «Прессы», вытекало, что Жирарден связывал свою лояльность по отношению к правительству с перспективой присвоения его отцу звания пэра; в другом, от 26 января 1846 г., отец Эмиля, граф Александр де Жирарден, объяснял, что отказывается от звания пэра, ибо понял, что Гизо полагает, будто в благодарность Жирарден-старший будет влиять на политику газеты Жирардена-младшего. Предыстория этого конфликта заключалась в том, что месяцем раньше, 12 мая 1847 г., Жирарден на страницах своей газеты обвинил кабинет Гизо в «торговле» наградами и званием пэра. В дальнейшем события развивались следующим образом: палата пэров сочла себя оскорбленной, и 23 июня 1847 г. редактор «Прессы» был вызван на ее заседание; большинством голосов пэры постановили, что Эмиль де Жирарден невиновен в клевете, а значит, сказал правду; однако, несмотря на это, пэры не назначили никакого расследования по обвинениям, которые он выдвинул, и проголосовали за поддержку правительства. Иначе говоря, они поддержали и сам кабинет, и того, кто обвинял членов этого кабинета в коррупции.
(обратно)640
В этом здании на углу бульвара Капуцинок и одноименной улицы (разрушенном в 1855 г.) с 1820 по 1853 г. располагалось министерство иностранных дел, которое в 1840–1848 гг. возглавлял Гизо.
(обратно)641
Намек на княгиню Ливен (см. примеч. 63 /В файле — примечание № 173 — прим. верст./), которую среди прочего подозревали в шпионаже в пользу российского императора. Чтобы держать ее в курсе событий, ее возлюбленный Гизо постоянно слал ей короткие записки из палаты депутатов или из министерства.
(обратно)642
В издательском предуведомлении к «Парижским письмам» 1853 г. (вероятно, написанном самой Дельфиной) не без гордости говорится: «Независимый ум — возвышенность, с которой видно очень много, и вот вам доказательство: события, происшедшие в 1848 г., были предсказаны в „Парижском вестнике“ в 1847 г. с поразительной точностью». Эта фраза про революцию — в самом деле отнюдь не позднейшая книжная вставка.
(обратно)643
Этот банкет в поддержку избирательной и парламентской реформы, состоявшийся в пятницу 9 июля 1847 г. в развлекательном саду «Красный замок» с участием тысячи с лишним человек, стал первым в целой серии оппозиционных банкетов. Такая форма была избрана для того, чтобы оставаться в рамках законности и не навлекать на оппозиционеров обвинения в организации незаконных политических собраний или уличных манифестаций. За угощение каждый из участников платил сам.
(обратно)644
22–24 февраля 1848 г. в Париже произошла революция; предлогом стало запрещение правительством очередного оппозиционного банкета. Студенты и рабочие в знак протеста вышли на улицу, национальная гвардия отказалась их разгонять, и тогда безоружную демонстрацию расстреляли солдаты пехотного полка. После этого улицы Парижа покрылись баррикадами, и лишь тогда король решился отречься от престола в пользу своего десятилетнего внука графа Парижского (сына герцога Орлеанского, нелепо погибшего в 1842 году). Но было уже поздно. Луи-Филипп был свергнут, дворец Тюильри разграблен, к власти пришло Временное правительство, составленное из левых депутатов прежней палаты, и 25 февраля была провозглашена республика. Комментируемый фельетон — первый текст, опубликованный Дельфиной с начала революции; он начинается словами: «Какая жалость!.. Какая жалость!.. Все это кончится ужасно… а могло кончиться так прекрасно!..» (2, 491). Республиканцам Дельфина предъявляет те же упреки, какие предъявляла четыре года назад, когда они еще не пришли к власти, — в том, что они пекутся не о благе народа, а о собственной выгоде. 8 декабря 1844 г. она описывала шестилетнего мальчика, который в скверном провинциальном трактире не соглашался садиться за стол, потому что не хотел обедать «с республиканцами». Накануне один старый путешественник в шутку сказал ему, что молодые люди, которые садятся за стол, не снимая каскеток, и съедают все сладости, предназначавшиеся детям, именуются республиканцами; Дельфина охотно подхватывает шуточное определение, которое, по ее мнению, «замечательно подходит к определенной разновидности республиканцев»: «Они ничем не напоминают гордых Брутов прежних времен; воздержание и самоотвержение — не их конек, они стремятся истребить всех вокруг себя, но лишь ради того, чтобы самим жить припеваючи; они любят кровь, но ничуть не меньше они любят крем; манеры у них грубы, зато вкусы изысканны; они свирепы, но они не аскеты, и если стремятся свергнуть Тарквиния, то не для того, чтобы отомстить за Лукрецию, а д ля того, чтобы ее умыкнуть» (2, 353). После революции 1848 г., в фельетоне от 13 мая 1848 г., Дельфина повторила этот пассаж применительно к той «своре», которая делит добытое добро, ничуть не заботясь о народе, и поедает «филе косули в ананасном соусе». Строки, написанные в 1844 г., она воспроизвела слово в слово и лишь после упоминания «крема» («любят кровь, но любят и крем») прибавила в скобках: «ананаса мы предвидеть не могли» (2, 500).
(обратно)645
Бытие, 19.
(обратно)646
По легенде, этот сплав меди, золота и серебра образовался после того, как в 146 г. до н. э. римляне захватили и подожгли Коринф.
(обратно)647
Дворянские титулы были отменены 29 февраля 1848 г.
(обратно)648
О Мелибей, нам Ледрю спокойствие это доставил (лат.); искаженная цитата из Вергилия (Буколики. 1, 6); у Вергилия, разумеется, бог, а не Ледрю-Роллен, член Временного правительства, а затем пришедшей ему на смену Исполнительной комиссии. Проблема безработицы была одной из острейших проблем, вставших перед революционными властями; для ее разрешения еще в конце февраля были организованы Национальные мастерские — своего рода благотворительные заведения, где безработных использовали на общественных работах и платили им минимальное жалованье.
(обратно)649
Этот очерк стал последним фельетоном «виконта де Лоне»; написан он был еще 21 августа 1848 г., и в газетной публикации именно эта дата была выставлена перед текстом. Задержка произошла по вине цензуры, которая вернула текст после долгой паузы и с вымаранными фрагментами (об этом см. ниже в самом очерке). За время, прошедшее с момента публикации предыдущего очерка виконта де Лоне, в Париже разразилось восстание рабочих, поводом к которому стало фактическое закрытие парижских Национальных мастерских (22 июня рабочим моложе 25 лет было предписано завербовываться в армию, а остальным — отправляться в провинцию); восстание было жестоко подавлено войсками под руководством военного министра, члена Учредительного собрания генерала Эжена Кавеньяка, которому собрание передало по этому случаю всю полноту власти. Кавеньяк, исповедовавший республиканские убеждения, хотел, исполнив свою миссию и подавив восстание, снять с себя полномочия диктатора, но Собрание предписало ему возглавлять кабинет министров до президентских выборов, назначенных на 10 декабря. У Дельфины к Кавеньяку были личные счеты: поскольку Жирарден был решительным противников военной диктатуры, 25 июня его арестовали, и он провел 10 дней в тюрьме; выход «Прессы» меж тем приостановили, газета вновь стала выходить только 5 августа, причем со значительными цензурными изъятиями. Впрочем, последний очерк Дельфины написан по логике «чума на оба ваши дома»: бунтующие рабочие («партия завистников») вызывают у нее ничуть не больше сочувствия, чем истребляющие их «буржуа» с Кавеньяком во главе («партия эгоистов»). Непримиримой противницей Кавеньяка Дельфина осталась и после того, как прекратила сочинять очерки виконта де Лоне.
(обратно)650
Когда в июне 1848 г. Дельфина хлопотала об освобождении Эмиля из тюрьмы, она, по слухам, спросила у генерала: «Неужели мы вновь оказались под властью террора?» — «Нет, сударыня, мы оказались под властью сабли», — отвечал генерал. «Подвесьте вашу саблю на бечёвке, и вы получите гильотину», — сказала в ответ Дельфина (цит. по: Giacchetti. Р. 201).
(обратно)651
Перечислены герои средневековых рыцарских романов.
(обратно)652
Публицист-анархист Прудон, в июне 1848 г. избранный членом Учредительного собрания, в конце июля 1848 г. предложил свой план создания народного, или обменного, банка с даровым кредитом; Тьер подверг этот проект острейшей критике, и он был отвергнут.
(обратно)653
В репертуар этого театра, который в феврале 1847 г. открыл на бульваре Тампля Александр Дюма, входил спектакль по роману «Граф Монте-Кристо», действие которого начинается в Марселе.
(обратно)654
После революции 1848 г. Лувр, где находятся оба эти произведения искусства, был объявлен достоянием нации.
(обратно)655
В очерке, датированном 30 июня 1848 г. (он не появился в «Прессе» и впервые был опубликован в издании 1857 г.), Дельфина, отбросив условное «мы» и перейдя к честному прямому «я», рассказывает о том, как 25 июня 1848 г., когда в городе бушевало восстание, она, уходя из дома, дала приказ слугам впустить восставших, если они придут, и дать им все, что они пожелают, потому что «господин и госпожа де Жирарден не хотят, чтобы французы прослыли грабителями» (2, 509).
(обратно)656
Отточиями Дельфина обозначает места, вымаранные цензурой.
(обратно)657
Дельфина называет так Учредительное собрание, президентом которого журналист Арман Марраст, главный редактор газеты «Насьональ» и (с 9 марта 1848 г.) мэр Парижа, был избран 30 июня 1848 г. Бал он устроил в помещении Собрания — том самом, где до революции заседала палата депутатов. Республиканец Марраст был женат на женщине весьма знатного происхождения — побочной внучке английского короля Георга IV.
(обратно)658
Знаток древностей герцог де Люин, избранный в 1848 г. членом Учредительного собрания, восемнадцатого годами раньше, сразу после Июльской революции 1848 г., на свои деньги одел и вооружил национальную гвардию города Дампьер и был избран ее командующим.
(обратно)659
См. примеч. 331 /В файле — примечание № 441 — прим. верст./.
(обратно)660
См. фельетон от 29 февраля 1840 г. (наст. изд., с. 291 /В файле — год 1840 фельетон от 29 февраля — прим. верст./); там Дельфина именует американца Торна, в реальности вообще не имевшего никакого воинского звания, полковником.
(обратно)661
Речь идет о Ламартине. 12 июня 1848 г., выступая перед Учредительным собранием, он описал свои отношения с революционерами посредством этой оригинальной метафоры; он назвал себя громоотводом, который вступает в союз с молнией. Дискуссия, которая развернулась в Учредительном собрании в сентябре 1848 г., касалась текста новой Конституции и условий выбора президента Французской республики. Ламартин настаивал на том, что президента следует выбирать всеобщим голосованием; он сам также выставил свою кандидатуру на этих выборах, состоявшихся 10 декабря 1848 г., и проиграл их, заняв второе место от конца. Президентом стал Луи-Наполеон Бонапарт, против возвышения которого Ламартин тщетно предостерегал своих коллег. Сразу после революции Дельфина возлагала большие надежды на политическую будущность своего любимого поэта; злые языки утверждали даже, что в то время она «намеревалась править Францией вместе с господином де Ламартином» (Boigne. Т. 2. Р. 473), однако иллюзии эти довольно скоро развеялись; во всяком случае, комментируемый фрагмент выдает большое разочарование в политической деятельности Ламартина. Ламартин усмотрел в статье доказательство «нежной и старинной дружеской привязанности» и ответил благодарственной запиской (см.: Imbert. Р. 115).
(обратно)662
Персонаж оперы Обера «Немая из Поргичи» (ср. примеч. 96 /В файле — примечание № 206 — прим. верст./).
(обратно)663
Развлекательный сад с экзотическими растениями в теплицах, открытый в 1847 г. на Елисейских Полях.
(обратно)664
25 августа 1848 г. в Учредительном собрании должно было начаться обсуждение причин июньского восстания; хотя бунт и был подавлен, парижане со страхом ожидали продолжения — установления «красной», то есть коммунистической республики.
(обратно)665
Книга графа д’Эстурмеля «Воспоминания о Франции и Италии в 1830, 1831 и 1832 гг.» вышла в 1848 г. Книга эта, которую критик «Ревю де Де Монд» в 1849 г. назвал пустой, хотя и забавной болтовней пожилого светского человека, по-видимому, показалась Дельфине совершенно несоответствующей тем трагическим дням, в которые она сочиняла свой последний фельетон.
(обратно)666
Военное положение в Париже было объявлено Кавеньяком в дни июньского восстания и продлилось до 19 октября 1848 г.
(обратно)667
Отсылки к страницам предисловия выделены курсивом. Общеизвестные имена не аннотируются. У лиц французской национальности прилагательное «французский» в аннотациях опускается.
(обратно)


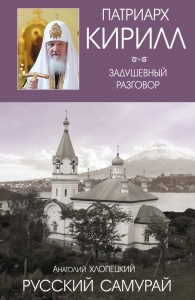
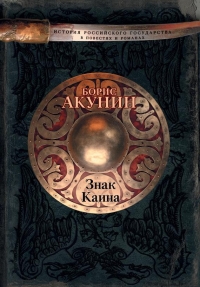


Комментарии к книге «Парижские письма виконта де Лоне», Дельфина де Жирарден
Всего 0 комментариев