С прекраснейшими из цветов,
Покуда лето и я здесь,
Фидель.
За городом, где я поселился, мне предстояло обосноваться в построенном на старинный лад фермерском доме без веранды, а вот ее-то мне очень недоставало: не только потому, что веранды всегда были мне по душе — ведь домашний уют они сочетают с привольем открытого воздуха, и так приятно поглядывать там на столбик термометра, к тому же и местность вокруг дома столь живописна, что собирающие ягоды мальчишки, бродя по холмам и долинам, то и дело наталкиваются на загорелых художников с кистью в руке у прилаженного где-нибудь в сторонке мольберта. Для художников здесь сущий рай. Круг созвездий обрамлен кольцом гор. Во всяком случае, когда смотришь из окна, кажется именно так, а стоит подняться чуть выше — и никакого кольца уже не увидеть. Будь место для постройки выбрано на сотню футов в сторону, не было бы этой волшебной оправы.
Дом построен давно. Семьдесят лет минуло с тех пор, как из недр Песчаниковых Холмов был извлечен камень Каабы — тот священный Каминный Камень, к которому каждый раз в День благодарения совершали паломничество живущие окрест пилигримы. Так давно это было, что рабочим, рывшим яму для фундамента, нередко приходилось бросать лопату и браться за топоры, чтобы сразиться с древними обитателями подземных урочищ — мощными корнями могучего леса, возвышавшегося там, где дремлющие луга ныне простираются по отлогим склонам вдали от моего усеянного маками пригорка. От дремучего леса остался один только вяз, самой стойкостью своей обреченный на одиночество.
Тот, кто строил этот дом, сам не знал, какое чудесное место выбрал: уж не Орион ли некоей звездной ночью простер с высот свой огненный дамоклов меч и провозгласил: «Строй здесь!» Как же иначе могло прийти ему в голову, что, когда площадка для строительства будет расчищена, взору предстанет подлинно царственное зрелище — не что иное, как сам Грейлок со всеми близлежащими холмами, видом своим подобный Карлу Великому в окружении подданных?
Так вот, в доме, стоящем посреди такой местности, отсутствие веранды, предназначенной для тех, кто пожелал бы предаться созерцанию и вволю наслаждаться открывающимся пейзажем, казалось ничуть не меньшим упущением, чем если бы в картинной галерее не поставили скамеек; ибо мраморные залы этих известняковых холмов — разве не картинные галереи, увешанные полотнами, которые из месяца в месяц, из года в год тускнеют и опять обновляются? Почитание красоты сходно с набожностью: ведь нельзя поклоняться прекрасному на бегу — для этого необходимы душевное спокойствие и сосредоточенность, а в наши дни вдобавок еще и уютное кресло. Правда, в старину, пока нерадение еще не вошло в моду, а благочестие поощрялось, ревностные обожатели Природы во время своих прогулок, надо думать, подолгу простаивали в благоговейной позе
— точно так же застывали тогда в кафедральных соборах и почитатели вышних сил; однако же ныне, когда вера пошатнулась, а колени ослабли, без веранды, равно как и без церковной скамьи, не обойтись.
В первый же год моего пребывания в этих краях я, желая с большим удобством наблюдать коронацию Карла Великого (а в ясную погоду его коронуют с каждым восходом и закатом), устроил себе на склоне холма, на дерне, королевское кресло с зеленым бархатным сиденьем и высокой, обитой мохом спинкой, причем над самым возглавием, как будто нарочно — уж не из соображений ли геральдики? — расцвели три голубые фиалки на серебристом поле разросшейся дикой земляники; балдахин же заменила решетка, увитая жимолостью. Ни дать ни взять, королевский трон. Получилось настолько по-королевски, что меня, как и его величество короля Дании, который почивал у себя в саду, застигла врасплох предательская боль в ухе. Но если временами влага пропитывает насквозь Вестминстерское аббатство оттого, что оно построено так давно, то как не водиться сырости в здешней горной обители, куда более древней?
Веранда требовалась непременно.
Дом мой был обширен, а капитал невелик, и о веранде, опоясывающей дом, не могло быть и речи, хотя плотники, произведя тщательные обмеры, горели желанием оказать мне любезность и содействовать самым дерзким моим замыслам
— не помню уж по какой цене за фут.
Благоразумие подсказывало выбрать только одну из четырех сторон. Но вот которую?
На востоке раскинулось стойбище Песчаниковых Холмов, тающих в дымке по направлению к Кито; там каждой осенью в одно холодное утро на самой крутой из вершин вдруг является первенец сезона — островок белого пуха, будто новорожденный ягненок с нежнейшим своим руном; а когда рождественский рассвет облачает сероватые холмы в шотландские накидки в красную полоску — чем не прекрасный вид с веранды? Прекрасный, конечно, что и говорить, но ведь Карл Великий на севере — отсюда его не увидишь.
Может быть, южная сторона? Там растут яблони. Отрадно благоухающим майским утром сидеть и смотреть на сад, весь в белых бутонах, точно невеста перед свадьбой; в октябре же тут зеленый арсенальный двор, усыпанный грудами румяных ядер. Отрадно, не спорю, — но зато на севере Карл Великий.
На западной стороне — горное пастбище, переходящее в кленовые леса у вершины. Хорошо в начале весны отыскивать глазами на склонах холмов, до того времени серых и голых, старые тропы, угадывая их по полоскам свежей зелени. В самом деле, приятно, что правда, то правда; но Карл Великий не там, а на севере.
Итак, Карл Великий одержал победу. Случилось это вскоре после 1848 года — как раз в ту пору, когда всюду в мире к власти пришли короли: они имели решающий голос и голосовали сами за себя.
Не успели плотники взяться за топоры, как все соседи покатились со смеху, и первым мой сосед Дайвзnote 1. Веранда на север! Зимняя веранда! Уж не собрался ли он зимою, в полночь, наблюдать северное сияние? Надо думать, запасся впрок муфтами и меховыми рукавицами.
Это было в марте — месяце под знаком Льва. Не забылись еще посиневшие носы плотников — и то, как они посмеивались над неопытностью горожанина, который вздумал построить свою единственную веранду на северной стороне дома. Однако марту не длиться вечно: терпение — и приходит август. И вот тогда, в прохладном элизиуме моих северных покоев, я — Лазарь на лоне Авраама — бросаю вниз сострадающий взгляд на беднягу Дайвза, терзаемого в чистилище своей южной веранды.
Но даже в декабре моя северная веранда не теряет для меня своей притягательности: пускай там гуляют пронизывающие сквозняки и северный ветер, будто мельник, просеивает снег в тончайшую муку — все же я вновь и вновь, с заиндевелой бородой, меряю шагами из конца в конец свою скользкую палубу, обходя с наветренной стороны мыс Горн.
Равно и летом, когда подолгу сидишь здесь, всматриваясь в даль, как всматривался некогда король Кнут, часто вспоминается море — и волнами пшеницы на вздымающихся буграх, и рябью травы, бегущей к низкой веранде, словно к берегу, в то время как зрелый пух одуванчиков взметывается вверх, подобно брызгам; и пурпур гор так похож на пурпур валов, когда мирный августовский полдень покоится недвижимо на простирающихся внизу лугах — точь-в-точь штиль на экваторе; но еще и сама необозримость, пустынность местности прямо наводит на мысль о безмолвных океанских просторах, и сходство это так велико, что при первом же взгляде на диковинный дом, высящийся над деревьями, невольно представляется неведомое парусное судно, вдруг явившееся у варварских берегов.
И тогда в памяти моей встает еще одно сухопутное путешествие — путешествие в страну фей. Путешествовал я наяву, но, если вдуматься, история эта столь же достойна внимания, как если бы была вымыслом.
Однажды я заметил с веранды непонятный предмет, загадочным образом ютящийся в нагрудном кармане пурпурного одеяния горы на северо-западе — в укромной впадине или расселине; впрочем, сказать с уверенностью, находился он на склоне одной горы или же на самой верхушке другой, было нельзя; смотришь прямо на голубую вершину — и она словно беседует с тобой через головы соседних гор и без обиняков говорит тебе: хотя она, голубая вершина, и стоит в окружении прочих, она не чета им — боже упаси! — и следует помнить (а, надо признать, основания на то имеются) о ее превосходстве на целую дюжину локтей над остальными; за вершиною этой горные цепи выступают двойной колонной, будто военный отряд, и так теснятся и громоздятся друг на друга своими неправильными изгибами и зубцами, что при взгляде с веранды та или иная из ближайших гор, менее высоких, при определенных атмосферных условиях совершенно сливается с отдаленными, и тогда предмет, едва различимый на верхушке ближней горы, кажется помещенным на склоне дальней. Такие уж это горы: играют в прятки перед самым носом у наблюдателя.
Но, как бы то ни было, та точка, о которой пойдет речь, располагалась так, что становилась видимой, да и то смутно, лишь изредка — при подлинно колдовской игре света и тени.
Больше года я даже не подозревал о существовании таинственной точки в горах — и, возможно, так бы и остался в неведении, если бы не тот исполненный магии день поздней осени, способный повергнуть поэта в восторженное безумие; день, когда потемневшие кленовые леса, уже утратившие свой прежний багрянец, слабо курились, будто развалины сожженного города. Поговаривали, что дымка, застилавшая всю округу, вовсе не признак бабьего лета, которое обычно не бывает столь болезненно угрюмым, но что ветер наносит этот дым издалека — от лесных пожаров в Вермонте, где леса уже не первую неделю охвачены пламенем; неудивительно, что мглистое небо выглядело зловеще, как котел Гекаты, а два охотника, пересекавшие на закате красноватое жнивье гречишного поля, были словно преступный Макбет и охваченный дурными предчувствиями Банко; и вот тогда, в один из таких вечеров, солнце, которое спускалось в горы, как отшельник в пещеру Одоллама, чуть ли не на самом юге, где по сезону ему и полагалось скрываться, вдруг пробившись узким лучом сквозь просвет меж туч — Симплонский перевал в поднебесье, нарисовало на поблекшей щеке северо-западного холма алеющую земляничной ягодой родинку. Условный сигнал, подобный зажженной свече, ослепительная искорка посреди сгущающихся теней.
Там феи, подумал я, там, на волшебной лужайке, водят хоровод феи…
Шло время, и вот как-то с приближением лета, после короткого ливня в горах, напоминавшего крохотный островок, затерянный в туманном океане солнечного сияния, после одного из тех дождиков вдали — подчас в разных концах гор два или три идут одновременно (а я так люблю наблюдать их с веранды в мае, когда прекращаются грозы, которые зимой то и дело окутывают древний Грейлок, словно Синай, и тогда чудится, будто смуглый Моисей взбирается наверх по опаленному болиголову); именно после такого короткого ливня я увидел радугу, которая упиралась своим дальним концом как раз в то место, где осенью я приметил яркую родинку. Конечно, там феи, подумал я, вспоминая, что от радуги распускаются цветы и что тот, кто сумеет добраться до конца радуги, непременно найдет на том месте клад — полный мешок золота. Да-да, у конца этой самой радуги — как бы хорошо было очутиться там! И мне еще сильнее захотелось туда отправиться, ибо только сейчас я заметил в склоне горы нечто похожее на пролом или грот; однако, зажженное радугой, это таинственное нечто переливалось и сверкало, как рудники на Потоси. Правда, мой прозаически настроенный сосед заявил, что это всего-навсего старый пустой сарай с проломленной наружной стенкой, который стоит на пологом скате холма. Но, подумал я, пускай сам я никогда там не бывал, мне лучше знать.
Спустя несколько дней веселый рассвет воспламенил золотую блестку — точно там, где и прежде. Блестка эта слепила глаза: похоже было, что солнце бьет прямо в стекло. Стало быть, постройка, если только она существует, уж во всяком случае не сарай, тем более заброшенный, где годами плесневеет залежалое сено. Нет! Коли это нечто возведено руками смертных, то, скорее всего, там домик в горах: возможно, долгое время он пустовал и разрушался, а нынешней весной его чудесным образом подновили и застеклили оконные рамы.
И вот однажды снова, но уже в полдень, в той же самой стороне, над затуманенными верхушками растущего на террасах леса, появилось обширное светящееся пятно, как если бы солнце отразилось в воздетом над головою серебряном круглом щите: подобный отблеск, как подсказывал опыт, могла отбрасывать только крыша, недавно крытая гонтом. Тут уж я окончательно уверился в том, что далекая хижина в волшебной стране с недавних пор сделалась обитаема.
Отныне изо дня в день, захваченный своим открытием, всякую минуту, свободную от чтения «Сна в летнюю ночь» и всего того, что я мог найти о Титании, я устремлял тоскующий взор к холмам, но тщетно. То целое войско теней, сопровождаемое королевской стражей, размеренно-важной поступью шествовало по склонам; то, обращенное в бегство разгорающейся зарей, оно бросалось врассыпную от востока на запад, словно повторялись давние битвы Люцифера с архангелом Михаилом; в другое же время горы, не потревоженные отсветами этих призрачных сражений на небесах, окутывала дымка, не благоприятствующая волшебным зрелищам. Огорчение мое росло — и еще более оттого, что вскоре я был вынужден проводить время взаперти у себя в комнате, а ее окна выходили на другую сторону.
Но вот одним сентябрьским утром, когда, почувствовав себя лучше, я сидел на веранде, предаваясь размышлениям, а мимо дома как раз проходили гурьбой, точь-в-точь стадо овечек, сбившихся вместе, фермерские ребятишки с корзинками для орехов, и я услышал, как они говорили: «Славный денек сегодня!» (на самом же деле день был из числа тех, которые, как ведомо их отцам, предвещают ненастье), — да, именно тогда, когда я, сделавшись болезненно чувствительным после перенесенного недомогания, не мог смотреть без отвращения на высаженный моими же руками китайский плющ, который, взобравшись, к моему удовольствию, по угловому столбу веранды, усеялся поначалу белоснежными звездочками, а теперь, стоило лишь слегка отодвинуть листья, видно было, как во всех распустившихся бутонах кишат мелкие прожорливые черви, неотличимые по цвету от лепестков, что словно бы обрекало непорочную белизну на вечное проклятие, причем личинки их таились, вне сомнения, в тех самых луковичках, что я высаживал весной, полный надежд; в таком-то вот состоянии беспричинного раздражения, свойственного выздоравливающим, сидел я на веранде — и, случайно подняв глаза, увидел вдруг на горе огненно-золотое окно, сверкавшее, будто резвящийся над водой дельфин. Там феи, снова мелькнуло у меня в голове: королева фей растворяет волшебное окно, а может быть, там беззаботная девушка, она живет в горах; взглянуть на нее — и я исцелюсь, и я избавлюсь от своего уныния. Довольно, челн пустился вдаль — эгей, душа, возвеселись! Отчаливаем в царство фей — пусть радуга укажет путь, скорей, скорее в царство фей!
Как попасть в царство фей, что за дорога туда ведет, я не знал — и спросить было не у кого: даже некий Эдмунд Спенсер, который побывал там, как он сам писал мне об этом, мог сказать только, что тому, кто захотел очутиться в стране фей, достаточно туда отправиться — и отправиться с верой. Я определил, в каком направлении следует двигаться к горе, где обитают феи, и в первое же ясное утро, едва позволили силы, вскочил в свой челн — кожаный, с высокой лукой — отдал швартовы и отплыл вдаль — путешественник, вольный, будто осенний лист. Занималась заря, и, устремившись на запад, я разбрасывал семена утра перед собой.
Через несколько миль я оказался вблизи холмов, но перестал их видеть. Заблудиться я никак не мог: цветы золотарника у обочины служили путеводными знаками, указывающими, я был уверен, дорогу к золотому окну. Следуя им, я попал в пустынную местность, источавшую ленивую безмятежность, где по заросшим тропам блуждали стада, так и не очнувшись от дремоты с наступлением дня: коровы и овцы едва шевелились, словно во сне. Травы они не щипали: зачарованные не нуждаются в пище. Так, по крайней мере, утверждает Дон-Кихот
— мудрейший из мудрецов, когда-либо живших на свете.
Я продолжал свой путь — и добрался наконец до подножия сказочной горы, но лужайки фей все еще не было видно. Передо мной простиралось отлогое пастбище. Перескочив через замшелую загородку из пяти перекладин, покрытую такой влажной зеленью, что она представлялась выловленным обломком затонувшего судна, ко мне приблизился, принюхиваясь, узкомордый старый Овен, в курчавом парике и с обломанным рогом, затем церемонно развернулся и повел за собой по Млечному Пути из цветов кашки, мимо смутно голубеющих созвездий незабудок — Плеяд и Гиад, и продолжал бы уводить меня по своей небесной тропе все дальше и дальше, если бы не мелькавшие впереди золотисто-желтые щеглы — несомненно, лоцманы, что сопровождают странника на пути к золотому окну; они то и дело перепархивали с куста на куст по направлению к густому лесу, который сам по себе казался мне притягательным, как и старая изгородь у темной лесной дороги, уходящей меж зарослей наверх. Я перебрался через нее
— и Овен, посчитав меня отныне некоей заблудшей душой, отвернулся и удалился прочь по своей более благоразумной стезе. Запретный край, куда ему нет входа, открылся мне.
Зимняя дорога в лесу густо устлана зимолюбкой. Вдоль весело звенящего по гальке ручья, радостного в своем уединении, под колеблющимися ветвями елей, не обласканных ни одним временем года, но неизменно зеленых, держал я путь вместе с моим конем — вперед и вперед, мимо старой лесопилки, сплошь увитой лозами, заглушившими ее резкий скрипучий голос, более уже не слышный; вперед, по краю зеленеющего, как весной, глубокого ущелья, прорезавшего себе путь сквозь белоснежный мрамор, где вьющиеся ручьи выточили в природной скале по обеим сторонам подобия пустых часовен; вперед, мимо стеблей джека-на-кафедре, что, как и его тезка— креститель, возвышает глас свой в пустыне; вперед, мимо громадной свилеватой колоды, поросшей папоротниками: ее в незапамятные времена не один раз пытались расколоть, но, несмотря на все старания, только оставляли в ней свои топоры — эти топоры до сих пор ржавеют там, где они застряли; вперед — туда, где вода, столетиями стремглав падая вниз по ступенчатым перекатам, беспрестанным вращением не знающих износа кремней пробуравила в выступах полые, как черепа, углубления; вперед, мимо торопливых струй на быстрине, с шумом свергающихся в укромную заводь, попав в которую они поначалу растерянно кружатся на месте, а потом замедляют бег и умиротворенно текут дальше; вперед, по более ровной местности, мимо темнеющего круга на земле, где, должно быть, танцевали феи или раскаляли обод для колеса — внутри круга все казалось выжженным; все дальше, выше — и наконец прямо под свисающие ветви фруктового сада, где девически застенчиво глянул на меня оставшийся с рассвета на небе узкий серповидный месяц.
Мой конь выгнул вниз шею. Перед ним были рассыпаны румяные яблоки — плоды с Евина древа, сорта «не ищи дальше». Он попробовал одно, я другое: они пахли землей. Это еще не страна фей, подумал я, набрасывая повод на изогнутую ветвь сгорбленного старого дерева, которое подставило мне ее, словно руку. Дальше дороги не было, и надо было самому прокладывать тропу, полагаясь лишь на собственную отвагу. Я с трудом продирался сквозь кусты ежевики, которые сопротивлялись и отталкивали меня назад, хотя задача моя состояла в том, чтобы через бесплодные заросли, будто лавром увенчивающие гору, по скользкой крутизне достичь пустынной неприветливой вершины. Это еще не страна фей, говорил я себе, но утро — вот оно, передо мной.
Скоро я сбил себе ноги и устал, но до цели своего путешествия все еще не добрался, а шел теперь вдоль скалистого перевала, ведущего вниз, к густым зарослям. Извилистая дорога, полузаросшая кустиками черники, сворачивала в этом месте за ближние утесы. Меж зазубренных выступов виднелась расселина; сквозь нее круто взбиралась наверх тропинка — к самой вершине горы, защищенной с севера своей более высокой соседкой, и там покатый склон образовывал над темнеющим обрывом небольшую площадку; именно здесь, среди причудливых обломков, покоящихся как спящее стадо, вилась почти нехоженная тропинка — прямо к приземистой сероватой хижине, прикрытой сверху, будто монахиня капюшоном, остроконечной крышей.
Один скат крыши заметно пострадал от непогоды; ближе к мшистому водосточному желобу он мягко зеленел, словно бархатный: вне всякого сомнения, монашествующие улитки основали там свои замшелые аббатства. Другой скат недавно покрыли гонтом. На северной стороне дома, где не было ни окон, ни дверей, некрашеная обивка зеленела так же, как стволы сосен с северной, поросшей лишайниками стороны или как днища заштилевших японских джонок. Низ дома, как и соседние валуны, окаймляли полоски ярко-зеленого дерна, ибо даже песчаник в стране фей — дикий песчаник, на котором воздвигают очаг, — все равно сохраняет свою плодоносную силу, как если бы он по-прежнему находился под открытым небом; оказавшись же теперь в основании хижины, именно он и питал собой эти полоски дерна. Это так, если верить Оберону — признанному авторитету по части волшебного. Но и без Оберона бесспорно одно: даже в обыденном мире почва близ фермерских домов, как и почва вокруг камней на пастбищах, пускай невозделанная, всегда гораздо тучнее, нежели земля поодаль, — такое нежное, живительное тепло исходит от простого камня.
Ярче всего дерн зеленел, однако, у входа, где нижний брус и особенно дверной порог за долгий век вросли глубоко в землю.
Ни изгороди, ни забора. Кругом — папоротники, папоротники; дальше — леса, леса и леса; а за ними — бесконечные горы, и надо всем этим — необъятное небо. Небесный выгон, где среди горных вершин пасется луна. Ничего, кроме природы: дом и тот — часть природы, а рядом с ним — невысокая поленница березовых дров, сложенных на открытом воздухе для просушки, и между серебристо-светлыми поленьями, словно сквозь ограждение забытой могилы, пробились вверх побеги дикой малины, своенравно заявляя о своих правах.
Узкая дорожка, почти что овечья тропка, вела по полегшим папоротникам. Наконец-то я в стране фей, здесь живет Уна со своим агнцем. Вот ее скромное обиталище — паланкин, помещенный на вершине; он приютился между двумя мирами и не принадлежит ни одному из них.
Отправляясь из дома, на случай жары я надел легкую желтую шляпу из плетеного линя: эта шляпа и белые парусиновые брюки были реликвиями моих плаваний в тропиках. Увязая в податливой гуще папоротников, я споткнулся, и колени мои окрасились зеленью цвета морской волны.
Помедлив у порога — вернее, у того места, где раньше был порог, — я увидел сквозь открытую дверь одинокую девушку, которая шила у окна. Бледная девушка склонилась над шитьем у засиженного мухами окна, над заклеенными верхними стеклами вьются осы. Я заговорил с ней. Она слегка вздрогнула, как вздрогнула бы приносимая в жертву юная таитянка, внезапно заметившая в просветах меж пальм фигуру капитана Кука. Быстро успокоившись, она предложила мне войти, передником обмахнула для меня табуретку и тихонько опустилась на свое место. Я поблагодарил и сел, но какое-то время тоже не находил слов. Так вот он, сказочный дом на горе! Вот она, королева фей у своего зачарованного окна…
Я подошел к окну. Внизу, в глубине вытянутого, узкого перевала, будто в нацеленном телескопе, виднелся далекий, подернутый дымкой лазурный мир. Я едва узнавал его, хотя сам только что явился оттуда.
— Какой прекрасный отсюда вид, не правда ли? — проговорил я наконец.
— Ах, сэр. — Слезы навернулись у нее на глазах. — Когда я впервые поглядела в это окно, разве могла я подумать, что такой вид будет меня печалить?
— Чем же он теперь тебе не по душе?
— Не знаю. — И слеза капнула на шитье. — Не вид из окна тут виноват, а сама Марианна.
Несколько месяцев назад ее брат — ему едва минуло семнадцать — прибыл сюда издалека, с той стороны гор, чтобы рубить лес и жечь уголь, а она, старшая сестра, сопровождала его. Они давно осиротели и теперь стали одинокими обитателями заброшенного домика в горах. Гости к ним не приходят, путники не заглядывают. Дорога — с крутыми, опасными поворотами — используется только в сезонное время для перевозки угля. Брат отсутствует целыми днями, подчас его нет и ночью. Когда по вечерам он, изнуренный работой, возвращается домой, то сразу же, бедняга, перекочевывает со скамьи на свою кровать: так вот, устав за всю долгую жизнь, покидают привычное место ради ничем уже не нарушаемого покоя. Скамья, постель, могила…
Молча стоял я у волшебного окна и слушал, слушал…
— Вы не знаете, — вдруг спросила девушка, отвлекаясь от своего рассказа,
— вы не знаете, кто живет вон там? В той стороне я никогда не бывала: взгляните туда — вон тот дом, мраморный. — Она указала вниз, через долину: — Неужели не видите? Там, на пологом склоне: впереди поле, а позади лес; дом белый-белый, а лес голубой, от этого дом кажется еще белее — неужели не видите? Это единственный дом, что виден отсюда.
Я вгляделся, куда она указывала, и, к изумлению своему, узнал, хотя и не сразу, свое собственное жилище — узнал скорее по расположению дома, нежели по его внешнему виду или по описанию Марианны; он сверкал точно так же, как и эта горная хижина, когда я смотрел на нее со своей веранды. Голубая дымка преображала скромный фермерский домик в замок зачарованного короля.
— Я часто гадаю, кто живет там. Вот кто, должно быть, очень счастлив. И сегодня утром я все про то же думала.
— Очень счастлив? — переспросил я, вздрогнув. — А почему ты так думаешь? По-твоему, там живет какой-нибудь богач?
— Богач или нет, я над этим и не задумывалась. Но так и кажется, что там, в этом доме, обитает счастье. Сама не знаю, отчего мне так кажется: ведь дом так далеко… Порою я даже думаю, будто все это мне только чудится. Видели бы вы его на закате!
— Да-да, закат осыпает его золотым блеском, но ведь и восход озаряет золотом ваш дом, разве не так?
— Наш дом? Солнце одно на всех, но оно никогда не озаряет золотом наш дом. Да и зачем? Этот дом стар, он ветшает от сырости. Вот отчего он так порос мхом. По утрам солнце заглядывает в это окно — конечно, оно было заколочено наглухо, когда мы только пришли сюда; это окно я не могу содержать в чистоте, как ни стараюсь; солнце палит мне в глаза, когда я шью; а что говорить о мухах и осах, они так и зудят — столько мух и ос водится только в таких пустующих горных домишках, как этот. Вот, взгляните, что за занавеска — это мой передник: им-то я и пытаюсь загородиться от солнца во время зноя. Посмотрите, как он выгорел. Солнце золотит наш дом? Вот уж чего Марианна никогда не видела…
— Может быть, потому, что, когда крыша вся озарена золотом, ты по-прежнему остаешься дома?
— В самую жару, вы хотите сказать? Нет, солнце не золотит нашу крышу, сэр… Она так протекала, что брату недавно пришлось покрыть одну сторону заново — разве вы не заметили? С северной стороны — там солнце продолжает разрушать то, чти начал дождь. Да, солнце одно на всех, но эта крыша рассыхается, и дом в конце концов сгниет… Что вы хотите, старый дом! Хозяева его перебрались на Запад и, говорят, давно умерли… Дом высоко в горах, зимой в нем даже лиса норы не устроит. Дымоход в очаге заваливает снегом, будто пустой пень…
— Странные у тебя фантазии, Марианна!
— Нет, в жизни оно все так и есть…
— Тогда вместо «странные у тебя фантазии» я сказал бы «странная у тебя жизнь», но ведь я говорю: фантазии.
— Как вам будет угодно, — тихо отвечала она и снова принялась за шитье.
В этих ее словах и в том движении, с каким она вновь взялась за работу, было что-то такое, что заставило меня умолкнуть. Глядя в волшебное окно, я увидел набежавшую на дом громадную тень, как если бы гигантский кондор повис над ними на распростертых крыльях; видно было, как с тенью этой сливаются и поглощаются ее густым сумраком более слабые и прозрачные тени от утесов и папоротников.
— Вы следите за облаком, — промолвила Марианна.
— Нет, за тенью. За тенью от облака: самого облака мне не видно. А как ты догадалась? Ведь ты занята работой.
— Тень заслонила шитье. А вот теперь облако ушло и вернулся Трей.
— Кто-кто?
— Пес, лохматый пес… В полдень он тихонько крадется в сторону, меняет очертания, а потом возвращается и норовит ненадолго прилечь у порога — неужто вы его не видите? Его голова повернута к вам, а когда вы только-только вошли, он смотрел прямо перед собой.
— О чем ты? Ведь ты не отрываешься от шитья.
— Вон там, у окна, наискосок…
— А, это о той неровной тени, ближайшей к нам? Да, в самом деле, она смахивает на огромного черного ньюфаундленда. Набежавшая тень ушла, прежняя возвратилась, но отсюда не видать, что отбрасывает ее.
— Чтобы увидеть, нужно выйти из дома.
— Наверное, одна из тех поросших травою скал?
— Вы видите его голову, морду?
— Чью, тени? Ты говоришь так, будто сама это видишь, однако ни разу не отвела глаз от своей работы.
— Трей смотрит на вас… — И все это, не поднимая век. — Сейчас его пора, я его вижу.
— Ты столько просидела у этого окна в горах, где бродят одни облака да туманы, что мир теней стал для тебя реальностью; правда, ты говоришь о них, как о призраках, но ты изучила их так, что можешь не глядя сразу сказать, где они находятся, хотя они неслышно, будто мыши, пробегают рядом и то и дело являются и вновь исчезают: для тебя эти безжизненные тени все равно что друзья, которые и в разлуке вспоминаются беспрестанно; ты знаешь всех их в лицо — разве не так?
— Об этом я не задумывалась… Правда, была у меня одна любимая тень — тень от березы: она так утешала меня, чуть заметно качаясь на папоротниках, прогоняла усталость, но теперь ее нет — и она уже никогда не вернется, как возвращается Трей… В это дерево ударила молния, и брат распилил его на дрова. Вы проходили мимо поленницы — под ней только корни, а тени нет… Она улетела — и не вернется больше, и никогда-никогда уже ей не затрепетать на ветру…
Подкралось еще одно облако — и снова поглотило пса, накрыв чернотой всю гору, и безмолвие вокруг было таким глубоким, что глухой мог бы позабыть о своей глухоте или поверить, будто бесшумные тени переговариваются между собой.
— Совсем не слышно птиц, Марианна, куда они все подевались? И почему дрозды не клюют ягод? А мальчишки не приходят сюда их собирать?
— Птицы поют иногда, а мальчишек я здесь не видела… Спелые ягоды осыпаются — и никто, кроме меня, об этом не знает.
— Но щеглы провожали меня — добрую половину пути.
— А потом улетели назад… Мне сдается, они порхают по склонам, а на вершине гнезд не вьют. Вы, конечно, думаете, я тут живу одна, ничего не вижу, не слышу — одни только раскаты грома да шум падающих стволов, — совсем не читаю, говорю мало, почти не сплю, и от всего этого у меня странные фантазии, так вы сказали. Это не воображение, а бессонница и усталость вместе… Брат весь день на открытом воздухе, а у меня работа нудная, женская: сижу и шью, шью…
— А погулять разве ты не выходишь? В лесу ведь такое приволье.
— Привольно и одиноко: оттого и одиноко, что так привольно… Иногда, правда, после полудня я иду прогуляться, но скоро возвращаюсь домой. Лучше уж скучать одной у очага, чем в горах… Тени вокруг мне хорошо знакомы, а в лесу они мне все чужие.
— Ну, а что же ночью?
— Ночью то же, что днем… Думаю, думаю — точно колесо крутится и никак его не остановить: это все оттого, что мне никак не уснуть…
— Я слышал, что если не спится от усталости, то стоит прочесть молитву и опустить голову на подушку, набитую свежим хмелем…
— Вон, поглядите!
Она показала рукой через волшебное окно туда, где на склоне прилепился крошечный садик — клочок взрыхленного суглинка, наполовину огражденный скалами; там, совсем близко друг к другу, обвили колышки две хилые плети подрезанного хмеля и, взобравшись до самого верха, могли бы встретиться и соединиться в объятии, однако слабые стебли, неуверенно покачиваясь на весу, вяло клонились обратно, к земле, откуда они произросли.
— Значит, подушка не помогла?
— Нет.
— А молитва?
— Молитва тоже…
— Есть ли еще какое-то средство — быть может, заговор?
— О, если бы я могла хоть раз оказаться в том далеком доме и только взглянуть на счастливца, который живет там! Глупая мысль — и с чего это я себе вбила в голову? Это, наверное, потому, что я живу так одиноко — и ничего, ничего не знаю…
— Я тоже не знаю и потому не могу ответить, но если бы ты только могла представить себе, Марианна, как бы я хотел быть тем самым счастливцем и жить в том счастливом доме, о котором ты мечтаешь. Тогда бы ты видела сейчас этого человека перед собой — и тогда эта твоя печаль, возможно, оставила бы тебя…
Довольно! Больше я не пускаю свой челн к волшебной стране фей, я не расстаюсь с верандой. Это моя королевская ложа, а этот горный амфитеатр — мой театр Сан Карло. В самом деле, декорации великолепные — иллюзия полная. Маэстро Жаворонок, мой первый солист, имеет здесь свой главный ангажемент, и когда на утренней заре я упиваюсь его рассветной нотой, которая, подобно звуку, исходившему от изваяния Мемнона, доносится, кажется, прямо от золотого окна, каким далеким от меня представляется тогда усталое лицо за ним!
Но каждую ночь, едва опускается занавес, вслед за темнотой является истина. Вершины гор тонут в непроглядном сумраке. Из конца в конец меряю я шагами палубу своей веранды, преследуемый воспоминаниями о Марианне и множеством других, столь же правдивых, историй.
1856
ПРИМЕЧАНИЯ
Эпиграф: У. Шекспир, «Цимбелин» (д. 4, сц. 2).
За городом, где я поселился… — В сентябре 1850 г. Мелвилл поселился на ферме «Эрроухед», неподалеку от г. Питтсфилда, штат Массачусетс.
Кааба — главное святилище мусульман в Мекке — четырехугольный храм, в одном из углов которого замурован черный камень, метеорит больших размеров.
День благодарения — последний четверг ноября; первыми его отметили как праздник в благодарность «за добро минувшего года» колонисты, основавшие Массачусетс в 1621 г.
Грейлок — самая высокая (1064 м) вершина Беркширской горной гряды на северо-западе штата Массачусетс.
Карл Великий (742— 814) — король франков, основатель династии Каролингов; с 800 г. римский император.
…короля Дании… — иронический намек на события трагедии Шекспира «Гамлет».
Вестминстерское аббатство, или церковь св. Петра — одно из старейших сооружений Лондона, построено в XI в. на берегу Темзы; усыпальница королей и выдающихся деятелей Англии.
Элизиум — в античной мифологии место, где пребывали души умерших героев.
Лазарь на лоне Авраама… — Согласно евангельской притче, бедняк Лазарь попал после смерти в объятия Авраама, «отца верующих», то есть в блаженный приют умерших праведников. Богач же мучится в адском пламени и просит Авраама послать Лазаря, чтобы тот омочил палец в воде и коснулся языка богача (Лука, 16: 19-31).
Король Кнут I Великий (ок. 995-1035) — король Дании, Англии и Норвегии, герой средневековых преданий и поэм, в которых выступает как «владыка морей».
Игра света и тени. — Этот образ чрезвычайно часто встречается как в творчестве Мелвилла (см., например, последующие произведения), так и его друга, писателя-романтика Натаниеля Готорна (1804— 1864), и воплощает стремление отразить неоднозначность явлений бытия.
Котел Гекаты — древнегреческая богиня мрака и чародейства Геката в средневековых преданиях превратилась в царицу ведьм, такой она и изображена в трагедии Шекспира «Макбет», где варит в котле колдовское зелье вместе с ведьмами (д. 4, сц. 1).
Макбет и Банка — герои трагедии Шекспира «Макбет», вместе встретили ведьм-прорицательниц, предсказавших первому — корону, второму — смерть (д. 1, сц. 3).
Пещера Одоллама — то есть пещера близ города Одоллама в земле Ханаанской; по библейской легенде, в ней Давид скрывался от Саула (1 Царств, 22: 1— 2).
Симплонский перевал — один из важнейших перевалов через Альпы, связывавших Швейцарию и Италию.
Пророк Моисей — согласно библейскому преданию, выводя народ израильский из Египта, взошел на гору Синай, где, среди грозовых раскатов, ему явился бог Яхве и вручил десять заповедей (Исх., 19: 1-15).
Рудники на Потоси — область на юго-западе Боливии, где в середине XVI в. были открыты богатые месторождения серебра.
Титания — в западноевропейском фольклоре королева фей, супруга короля эльфов Оберона; оба являются центральными персонажами комедии Шекспира «Сон в летнюю ночь».
Люцифер (библ.) — гордый ангел, возмутившийся против бога и за это свергнутый в преисподнюю; впоследствии — одно из имен Сатаны. Символ вселенской борьбы добра и зла — битва архангела Михаила с сатаной — один из центральных эпизодов Апокалипсиса (12: 7-9).
…китайский плющ… — Последующий эпизод является характерным примером использования Мелвиллом символики белого цвета для подтверждения еще одного важного для писателя положения — о неразрывности добра и зла.
Спенсер Эдмунд (1552-1599) — английский поэт эпохи Возрождения, автор поэмы «Королева фей» (1590).
…зачарованные не нуждаются в пище — ссылка на разговор Санчо Пансы и Дон Кихота в главе 49 части 1 романа Сервантеса «Дон Кихот».
Плеяды и Гиады — звездные скопления в созвездии Тельца.
Джек-на-кафедре — многолетнее североамериканское растение (Arisema triphyllum) из семейства ароидных; початок цветка окружен покрывалом, в верхней части изогнутым наподобии капюшона.
Тезка — креститель — имеется в виду Иоанн Креститель (Jack — сокращение от John).
Оберон — См. примеч. к Титании …Уна со своим агнцем. — В аллегорической поэме Э. Спенсера «Королева фей» (см. примеч. к Спенсеру Эдмунду) один из персонажей — Уна — олицетворяет Истину, а ее агнец — Верность.
Кук Джеймс (1728-1779} — знаменитый английский мореплаватель, неоднократно останавливался на острове Таити, открытом в 1767 г. английской экспедицией Сэмюэла Уоллиса (1728-1795), и в 1769 г. нанес на карту архипелаг Общества, к которому относится остров.
Сан-Карло — старинный оперный театр в Неаполе.
Изваяние Мемнона — гигантская статуя, воздвигнутая в Фивах (Египет) в XV в. до н. э.; имела трещину, из-за которой при резком изменении температур на рассвете издавала дрожащий звук.
Note1
От dives (лат.) — богатый
(обратно)

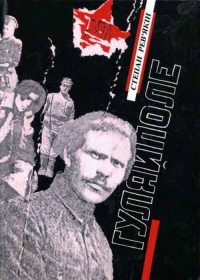


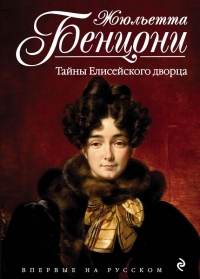
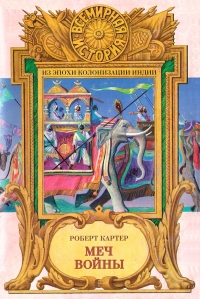
Комментарии к книге «Веранда», Герман Мелвилл
Всего 0 комментариев