П. Tonep Предисловие
Роман Макса Вальтера Шульца «Мы не пыль на ветру», предлагаемый вниманию советского читателя, относится к тем произведениям современной немецкой литературы, которые посвящены, как принято говорить на родине писателя, «расчету с фашизмом и войной». Это значит, что автор этой книги, один из наиболее талантливых представителей социалистической немецкой литературы наших дней, возвращается в этой книге к временам гитлеризма для того, чтобы понять свое прошлое и недавнее прошлое своего народа.
Макс Вальтер Шульц сам принадлежит к числу тех, кто учился в гитлеровской школе, служил в гитлеровской армии, воевал на разных фронтах, пережил крах преступной государственной системы и военный разгром, который стал освобождением страны от гитлеризма. С тех пор прошло уже два десятилетия и много воды утекло в реках старинной немецкой земли. За эти годы встала на ноги и окрепла Германская Демократическая Республика — первое в истории немецкого народа рабоче-крестьянское государство, искренний друг нашей страны, оплот мира в Европе. В исторически короткий срок в республике сформировалось новое поколение немцев, для которых социализм — родное, кровное дело.
История на наших глазах подтверждает уверенность всех последовательных антифашистов, которые и в самые темные годы гитлеровских побед были убеждены, что в немецком народе не умерла и не могла умереть гуманистическая, демократическая, революционная традиция.
С каждым годом в Германской Демократической Республике появляется все больше книг, написанных теми, кто вместе со страной прошел этот путь перемен, и раскрывающих на разном жизненном материале, под разным углом зрения закономерность и вместо с тем всю огромную сложность процессов национального обновления. Интерес к этим книгам очень велик, и велико их значение в духовной жизни страны; миллионам жителей Германской Демократической Республики они помогают глубже осознать то новое, в творчестве которого они участвуют своим трудом. Эти книги привлекают к себе все большее внимание и на западе Германии, потому что они свидетельствуют о подлинно национальном характере тех демократических и антифашистских преобразований, которые были осуществлены на востоке страны и в самом своем начале задушены в Федеративной Республике Германии.
Само обращение писателей к этому историческому материалу предполагает умение смотреть на свой жизненный путь «со стороны», из перспективы сегодняшней действительности. Причем дело здесь, конечно, не во временной дистанции; дело в тон огромной внутренней работе, которая должна совершиться в сознании писателя, прежде чем он сможет до конца отряхнуть со своих ног прах прошлого. Без творческой и гражданской смелости, без стремления «продумать до конца» свое время здесь нельзя ждать настоящего успеха.
Достаточно бегло сопоставить две немецкие литературы, существующие в наши дни, чтобы убедиться в этом. Литература Западной Германии знает немало сильных и талантливых антивоенных произведений; по авторы их редко подымаются до сознательного антифашизма, до последовательного «расчета» с прошлым. Характерна в этом смысле небольшая повесть Манфреда Грегора «Мост». Она рассказывает о тех шестнадцатилетних немецких школьниках, которые и последние месяцы войны были брошены гитлеровцами под ноги наступающих союзных армий, когда уже не было никакой надежды на спасение разваливающегося рейха. О кратком бессмысленном бое горстки школьников против американских танков вспоминает единственный оставшийся в живых участник десять лет спустя, в 1955 году. Эта талантливо сделанная книга вызывает ненависть к военщине, возмущение бессмысленностью жертв. Но и десять лет спустя рассказчик не понимает, в чем смысл трагических событий его детства; опыт прошлого ничему не научил его. Эта статичность героя, застывшего в пассивном и трагическом неприятии фашизма, природу которого он не в силах постичь до конца, свойственна многим западногерманским книгам о второй мировой воине, в известном смысле даже такой сильной и талантливой, как «Дом без хозяина» Генриха Бёлля. Герои этих книг словно и не задумываются над тем, что они, независимо от их собственных моральных качеств, были частицей захватнической армии и, следовательно, соучастниками преступлений; они остаются «маленькими людьми», беспомощными против сил, которые направляют их жизнь.
Писатели Германской Демократической Республики, принадлежащие к литературе, которая развивается в условиях социалистических преобразований, разрабатывают эту проблему смелее — они не уходят от вопроса об ответственности своих героев за трагические события недавнего прошлого, их книги в соответствии с исторической правдой рассказывают о переломе, происшедшем в сознании миллионов немцев.
Советский читатель знает уже немало таких книг. Назовем хотя бы большой роман Дитера Нолля «Приключения Вернера Хольта» (Издательство иностранной литературы, 1962), вызвавший живой интерес в нашей стране, или появившуюся ранее повесть Вольфганга Нейхауза «Украденная юность» («Молодая гвардия», 1961), или рассказ Франца Фюмана «Однополчане» (опубликован в сборнике «Рассказы немецких писателей», Издательство иностранной литературы, 1959) — одно из первых произведений на эту тему в литературе Германской Демократической Республики. Все эти книги талантливы, и каждая из них талантлива по-своему. Роман «Мы не пыль на ветру» — новое веское доказательство быстрого роста молодой социалистической немецкой литературы, уверенно ставящей вопросы большого национального звучания.
Макс Вальтер Шульц родился в 1921 году, и к концу войны ему исполнилось 24 года. Писатели его биографии и жизненного опыта вступали в немецкую литературу в первые послевоенные годы. Однако Шульц нескоро стал писателем; после войны он был рабочим, затем учился в педагогическом институте, работал школьным учителем. Позднее он окончил Литературный институт имени Иоганнеса Бехера в Лейпциге и преподавал там. В печати он выступал редко и только как критик. Роман «Мы не пыль на ветру», вышедший в 1962 году, когда его автору уже исполнилось сорок лет, — первая книга Макса Вальтера Шульца. Писатель дал неторопливо вызреть впечатлениям молодости, и ему удалось найти свой угол зрения на жизненный материал, уже затронутый его предшественниками. Книга имела большой успех, лишенный налета какой-либо сенсационности. О ней и сегодня говорят и пишут как о явлении, оставившем заметный и прочный след в немецкой литературе.
В большинстве немецких книг о годах второй мировой войны действие происходит в конце ее, и это не случайно: именно на развалинах гитлеровского рейха решался вопрос о будущем немецкого народа. Роман Макса Вальтера Шульца тоже начинается в самые последние дни перед капитуляцией, когда гитлеровские заправилы бежали, словно нечистая сила перед наступлением дня (первая часть носит подзаголовок «Петухи кричат поутру»), но захватывает и несколько месяцев послевоенной жизни, когда в стране начинался сложнейший процесс всеобщей перестройки. Цель автора — не только показать, как рвались старые связи и рушилась обанкротившаяся система взглядов и представлений, но и проследить, как намечались новые связи с жизнью и людьми.
В книге много героев, хотя непосредственного сюжетного действия в ней сравнительно мало; композиционно она, в сущности, построена из нескольких взятых крупным планом сцен, в которых автор с немалым мастерством сталкивает своих героев. В сравнении с другими книгами писателей ГДР о годах войны роман Макса Вальтера Шульца кажется менее автобиографичным. Это не значит, что жизненный опыт автора не отразился в романе; наоборот, не случайно главный герой книги, Руди Хагедорн, родился в том же 1921 году, что и его создатель, и в той же местности Германии — в Рудных горах, и если родной город Шульца зовется Шейбенберг, то город, в котором родился Руди, носит подозрительно похожее название — Рейффенберг; на последних страницах Руди, как и Макс Вальтер Шульц, принимает решение стать школьным учителем и т. д. Но разворот действительности в этой книге более эпичен; нити действия в ней но сходятся к одному персонажу, и если, например, в «Приключениях Вернера Хольта» за героем почти всегда можно увидеть рассказчика (несмотря на то, что книга написана не от первого лица), то в романе Шульца сделать это нелегко; в этой книге следует говорить по крайней мере о четырех главных персонажах, о четырех представителях одного и того же поколения немецкой молодежи, проходящих «проверку историей». При этом внимание автора обращено не столько на калейдоскоп бурных и трагических событий того времени, сколько на внутренний мир героев, который писатель умеет воссоздавать пластично и сильно, раскрывая за каждым поворотом мысли, за каждым взрывом чувств соотнесенность с процессами объективного мира.
В рецензиях на роман «Мы не пыль на ветру» часто упоминается имя Томаса Манна; действительно, творческая манера Шульца имеет самое непосредственное отношение к строю манновской «интеллектуальной прозы» с ее идейной насыщенностью, стремлением философски осмыслить эмпирический поток жизни. В школе Томаса Манна учился автор этой книги раскрывать диалектику частного и общего, чувственного и рационального, использовать лейтмотивы и ассоциативные связи, позволяющие свободно обращаться с материалом, нарушая хронологическую последовательность событий. Через Томаса Манна прежде всего идет связь этой книги с традицией немецкого «романа воспитания», предполагающего широкое исследование личности в ее связях с обществом.
Следует назвать тут и Арнольда Цвейга и его романы, в которых так мастерски переплетена личная судьба героя, оказавшегося на чуждой ему войне, с глубоким осознанием несправедливости самой войны и породившей ее общественной системы. Как и в книгах Арнольда Цвейга, герои романа Макса Вальтера Шульца много рассуждают и спорят, что, казалось бы, трудно представить себе в тех условиях, в которых они находятся. Однако эти диспуты на боевых позициях в ожидании атаки противника или среди развалин первых послевоенных дней не противоречат художественной правде; они комментируют хаос военных событий, позволяя читателю понять их закономерность и взаимную связь. Нигде не философствуют так мало, как на войне; нигде так много не спорят о смысле жизни, как в книгах о войне.
Вместе с тем в романе Макса Вальтера Шульца, как и у Арнольда Цвейга, мы не найдем ни описаний кровопролитных сражений, ни апокалипсических картин разложения и смерти, для чего, казалось бы, действительность двух мировых войн дает полное основание. Здесь нет бегства от трудного и сложного жизненного материала. Наоборот, эта подчеркнутая сдержанность (характерная в той или иной мере для всей литературы ГДР) внутренне полемична. Среди книг о второй мировой войне, вышедших на Западе, и прежде всего в Федеративной Республике Германии, есть немало таких, которые словно полностью сотканы из картин ужасов и страданий и не оставляют читателю ни проблеска надежды, ни мысли о возможности сопротивления. Читать подобные книги страшно, и авторам их не многое надо было выдумывать: во второй мировой войне можно найти достаточно примеров многоликой и безжалостной смерти, и с этой точки зрения ее действительность превосходит самые страшные фантазии. Правдивость таких книг весьма условна, как и весьма условна их антивоенная направленность. Потрясая читателя скоплениями ужасов, они чаще всего только уводят от осознания причин войны, внушают мысль о невозможности с ней бороться, оправдывают жестокость человека, вынужденного обороняться от жестокого мира. Цель каждой реалистической книги о войне другая — не потрясти, а попять. Ужасам войны писатель-реалист противопоставляет не истерический крик, а смелое осознание причин и следствий, или, говоря словами Арнольда Цвейга, «осторожное и беспощадное проникновение мысли в запутанную ткань жизни».
Роман «Мы не пыль на ветру» по сравнению с некоторыми другими книгами о второй мировой войне может на первый взгляд даже показаться «идиллическим». Автор не выносит на страницы своей книги ни сцен кровавого террора, ни изощренных издевательств в концлагерях, ни картин массового уничтожения, которых не вмещает нормальный человеческий разум. Эта страшная правда истории во всей своей громадности как бы отодвинута им за пределы непосредственного действия, сделана тем фоном, на котором он разворачивает свое исследование «бравой немецкой души» и путей возвращения ее обладателю «прямой походки человека».
Мы не найдем в книге подробного рассказа о долгих годах, проведенных коммунистом Эрнстом Ротлуфом в гитлеровском концлагере, не много говорится и о том, что сын и дочь Ротлуфа пошли за фашистами и предали отца. Там просто сказано, что это «тот самый Ротлуф — в прошлом атлет, лучший спортсмен рейффенбергского «Красного спорта», в прошлом сорвиголова, черный как смоль, а теперь худой как скелет и серый как камень». «Серое как камень» лицо Ротлуфа встретится и книге многократно, каждый раз вызывая в памяти мысль о фашистских преступлениях и несгибаемом мужестве коммунистов; один из героев недаром назовет лицо Ротлуфа «символом немецкой трагедии».
Красавица Лея Фюслер была отправлена в концлагерь по обвинению в «пессимистических высказываниях», саботаже и неарийском происхождении. Этого было больше чем достаточно, чтобы она погибла. И все же но воле автора судьба обошлась с ней милостивей, чем с многими ее товарками по лагерю, — она осталась жива и медленно приходит в себя. Сколько пришлось ей вынести, мы можем только догадываться. Красота ее поблекла, она стала полукалекой, но против фашизма свидетельствуют не только ее физические мучения, но и то, что она сломлена морально, дух ее не вынес испытаний. Эта «Гретхен гестаповских застенков» отныне смотрит на мир «глазами, полными слез и страданий, и только такими глазами».
Не много узнаем мы и о том, что выпало на долю Руди Хагедорна за пять лет фронтовой жизни и госпиталей. Эпизоды, которые он вспоминает на страницах книги, скорее анекдотичны, чем страшны. Но, как сказано в романе, смерть и его подстерегала «тысячу тысяч раз» и он вынес «много такого, от чего мурашки бегут по спине». Уже на первой странице говорится о том, как в Брянских лесах истекал кровью его старший друг, и Руди, объятый «колючим ужасом перед бессмысленностью смерти», спрашивал в отчаянии: «Почему? Почему это все?» Такой же вопрос задавали себе в то годы миллионы немцев, и тем настойчивее, чем сильнее становились удары Советской Армии. Эта сцена пройдет затем через всю книгу как один из ее лейтмотивов, и для Руди Хагедорна все более чуждой будет становиться горькая мудрость солдата, не знающего, за что он воюет: «цветут и отцветают розы, не спрашивая «почему», и солдаты подыхают, не спрашивая «почему».
Мы хорошо знаем теперь, что поколение немецкой молодежи, воспитанное в гитлеровской школе и гитлеровской казарме, не было единым, и оно тем больше распадалось, чем нагляднее жизнь раскрывала лживость внушенных ей идеалов. Об этом рассказано во многих книгах немецких писателей. Очень сильно это размежевание показано в романе Дитера Нолля «Приключения Вернера Хольта» на примере разрыва Хольта со своим однокашником Вольцевом, отпрыском старинного офицерского рода. В конце этой книги Вернер Хольт не только не приходит на помощь своему бывшему другу, но и открывает огонь из автомата по нему, называя его убийцей.
У Руди Хагедорна тоже есть свой друг-враг; это Армии Залигер, товарищ его юности и покровитель, которого он в детстве спас от смерти, а потом, уже взрослым человеком, поклялся убить за предательство в любви и дружбе. Однако размежевание их изображено в ином регистре, нежели столкновение Хольта с циником и воплощением «солдатского духа» Вольцевом. Рядом с Вольцевом Армии Залигер мог бы на первый взгляд показаться не таким уж страшным. Он творит зло, казалось бы, только под давлением «злых» обстоятельств. Он не оставил Лею Фюслер, когда узнал, что общение с ней грозит многими неприятностями; наоборот, он продолжал добиваться ее любви. Правда, он оставил ее позднее, когда перед ним открылась счастливая офицерская карьера и женитьба на Лее могла эту карьеру погубить. Он не был членом национал-социалистской партии и дал беспрепятственно уйти коммунисту Фольмеру, когда тот пришел к нему с советом сдать батарею без боя и тем самым избежать бессмысленного кровопролития. Правда, он донес на него позднее, когда ему самому грозила опасность быть обвиненным в пособничестве дезертиру Руди Хагедорну.
Руди Хагедорн страстно любил Лею, но не защитил ее и служил режиму, обрекшему ее на страдания; Армии Залигер оставил Лею, чтобы стать офицером; Руди Хагедорн пошел добровольцем, воевал в гитлеровской армии пять лет и дезертировал «без пяти минут двенадцать», даже не успев осознать, что он делает; Армии Залигер сдал свою батарею без боя, следуя намеку (но не приказу) своего начальника. Существенна ли разница между ними? Не имеем ли мы дело с двумя немцами «гитлеровского образца» — если не близнецами, то родными братьями? Ведь рядом с эсэсовцами, «черными хищниками», убийцами по природе своей, Армии Залигер может сойти всего лишь за «попутчика», мелкого соучастника чужих преступлений. Таким он и кажется капитану американской армии Корнхаупту, допрашивающему Залигера. Корнхаупт «устал» от того, что он увидел в побежденной Германии, где, как ему кажется, нет возможности отделить правду от лжи, добродетель от преступления. Корнхаупт пытается взвешивать вину на неких вневременных весах абстрактной справедливости, и ему все немцы, одетые в военную форму, представляются одинаково виновными (или невиновными); ответ на вопрос, предал Залигер Фольмера или нет, начинает казаться ему мелкой политической игрой, не имеющей отношения к истине и справедливости.
Но для всех, кому дороги судьбы немецкого народа, ист и не может быть забвения прошлого. Для них решающее значение приобретает характер связи с преступным режимом. Спор идет о конкретном прошлом и конкретном будущем каждого немца и всей Германии, и потому Залигер должен ответить за пролитую по его вине кровь. Она пролилась не случайно и не по неведению.
В книге Шульца беспощадный приговор, лишающий героя права называться человеком, может быть вынесен и вне зависимости от того, палачествовал он сам или нет, участвовал в массовых казнях неповинных людей или только присутствовал при них, а на основе такой «малости», как поспешно отведенный взгляд, нечаянно вырвавшиеся слова, выдающие желаемое за действительное. В согласии с традициями реалистической литературы Макс Вальтер Шульц показывает внутреннюю опустошенность тех, кто призывает к преступному насилию, и тех, кто пошел к ним на службу. За всем поведением Армина Залигера стоит страх; он всегда искал свою выгоду, и запутанность жизненных ситуаций для пего не источник «тоскливого беспокойства», желания избавиться от «немоты», как для Руди, а возможность уйти от ответственности как в конкретном, так и в самом широком, общем смысле этого слова, — уйти от своей доли личной ответственности за то, каков окружающий тебя мир. В американском лагере для военнопленных, избежав суда, он занимается софистическим рассуждением об обреченности человеческого существования и относительности всех ценностей нашего мира, а затем, оказавшись в Западной зоне, предается ни к чему не обязывающему покаянию, участвуя в неком «братстве святого гуманизма», так же как еще недавно участвовал в гитлеровском «братстве» во имя «великой Германии». (Здесь, как и в описании всего залигеровского семейства, в книге появляются отчетливые сатирические ноты.) Тонкий и беспощадный анализ духовного мира Залигера относится к бесспорным удачам книги. И не случайно мудрствования Залигера начинают походить на рассуждения отца Лен, «гражданина мира» ван Будена; экзистенциалистская философия страдания, философия «пыли на ветру» и стоического приятия трагедий жизни очень удобна и для тех, кто хочет перед самим собой и перед всем миром оправдаться в преступном соучастии, и для тех, кто привык пассивно наблюдать, как другие творят зло.
Руди Хагедорн в отличие от Армина Залигера никогда не мог заставить себя «до конца подчиниться омерзительным правилам игры», хотя ему и довелось проделать всю войну солдатом гитлеровской армии и даже заслужить Железный крест первой степени и «прочие побрякушки». Он с детства приобщился к старой гуманистической культуре в ее чисто немецкой интерпретации — благородной и великой в своих идеалах, но практически беспомощной. И его прекрасная мечта о гармоническом мире, на каждом шагу обнаруживая свое бессилие (начиная с неумения защитить красавицу Лею), спокойно уживалась с соучастием в реальном зле фашизма и войны, от которой он, идеалист и мечтатель, лично не получал выгод, но все же надеялся на бесплатное обучение в награду за ордена и медали. Когда Руди Хагедорн начинает мечтать о своем будущем счастье, то выясняется, что это сугубо мещанский, филистерский идеал: обеспеченное существование, семейный очаг, отгороженный от всех волнений мира, красивая жена (похожая на Лею), чтение по вечерам классической литературы. Такой идеал может «сосуществовать» с любым злом, находиться внутри любого общества. Но каждый раз, когда действительность сурово требует от Руди проверки ого понимания «добра», он делает шаг в верном направлении, и каждый раз, начиная с ухода из гитлеровской школы, делает этот шаг слишком поздно, и ему приходится снова и снова «отыскивать начало». В решительные минуты Руди действует правильнее, чем мыслит. Он дезертирует, «словно чужая воля огрела его кнутом»; в своем родном Рейффенберге он столь же неожиданно для самого себя («словно в нем пружина сработала») помогает советскому патрулю и немецкой народной полиции поймать фашистского преступника. И каждый раз эти поступки приводят его на край могилы — первый раз символически, когда с помощью французских военнопленных он, закопанный в земле, пережидает, пока через него прокатится фронт, и второй раз уже реально, когда ему мстят за то, что он действовал заодно с коммунистами.
Макс Вальтер Шульц, как и все реалисты настоящего и прошлого, уверен, что и в самой запутанной ситуации можно и должно провести границу между добром и злом, прекрасным и уродливым, тем, что принадлежит прошлому, и тем, что открывает путь в будущее. Для проверки и доказательства этой истины он привлекает иг. страницы книги весь арсенал классического гуманитарного образования, проверяя его в сложных перипетиях современной идеологической борьбы. Эта книга но относится к разряду «легкого чтения»; в ней даже любовные письма приобретают характер трактатов по вопросам нравственности, оставаясь при этом любовными письмами, искренними или лживыми, исповедью смятенного сердца или ловким сочинением расчетливого ума. Герои книги привыкли осмысливать свои поступки — и это дает автору возможность осмысливать действительность во всей ее сложности и противоречиях. В многочисленных спорах и диспутах, которые ведут на страницах романа его герои, сталкиваются и противоборствуют современные идеологии, кипят страсти так, как они кипели в те дни в Германии. Страна была покрыта развалинами, но опустошения в душах и сердцах казались страшнее, чем руины городов. Это было время, когда в толще немецкого народа пробуждающаяся мысль еще только начинала спорить с обанкротившейся системой взглядов, когда близкий рассвет еще не озарил окрестности (вторая часть книги называется «Совиные сумерки»).
Было бы неверно пытаться в предисловии разбирать каждую нить в этом сложном клубке идейных противоречий; это невозможно, да в этом и нет нужды — читатель увидит смысл споров в живом столкновении человеческих судеб, и не только главных героев, но и многих других персонажей: старого немецкого гуманиста Фюслера, взвешивающего свою вину за преступления гитлеризма и с душевным трепетом принимающего от советского офицера назначение на пост директора своей старой гимназии; либерала ван Будена, исповедующего экзистенциализм католического толка, считающего всех коммунистов «упрощенцами»; нового бургомистра Рейффенберга Эрнста Ротлуфа, восстанавливающего в себе чувство доверия к своим соотечественникам, и многих, многих других, среди которых особое место занимает чешский коммунист, борец антифашистского Сопротивления Хладек, в чьи уста автор вкладывает самые дорогие ему мысли.
В развитии сюжетного действия Ярослав Хладек принимает мало участия — он появляется, чтобы поздравить своего друга, профессора Фюслера, с пятидесятипятилетием, — но роль его в идейных столкновениях огромна. На страницах романа он защищает систему марксистских взглядов на жизнь, на историю, на человеческую личность. Вместе с рассказами Хладека, так легко находящего общий язык и с советскими офицерами и с немецкими коммунистами, в роман входит мысль о герое революционной, справедливой войны. Это не суровый аскет и не одержимый фанатик — отнюдь, в нем широко и свободно раскрыта человеческая натура, и знак этой свободы — способность к счастью, «ничем не скованный смех». Для Хладека эта «веселая доброта», которая в состоянии исцелить мир, полнее всего воплощена в подручном пекаря, Кареле, подпольщике, герое пражского восстания, близком друге Хладека и его племянницы Франциски. «Когда Карел смеялся, — говорит Хладек, — цепные собаки снимали карабины с предохранителя».
Карел не действует в книге, мы узнаем о нем только из рассказов Хладека; но как ни мало о нем сказано, именно он по замыслу автора воплощает в книге меру человеческого героизма и человеческих возможностей. Карела можно посадить в тюрьму, но смех его вырвется за тюремные стены; его можно убить — но товарищи не забудут его и он останется с ними в одном строю.
И не случайно в доводах Хладека, в его рассказах так часто упоминаются и Тиль Уленшпигель и Швейк.
Лея уверена, что «шутка в Германии забыта и разбита. Умерли все — Пьеро и Пьеретта. Касперль, Арлекин, даже Швейк — все погибли, расстреляны эсэсовцами у железнодорожной насыпи, у кирпичной стены, зарыты в землю». Хладек убежден, что на немецкой земле смех возродится, что вернется к ней герой немецкого эпоса, никогда не унывающий, бессмертный Тиль Уленшпигель. Тиль Уленшпигель здесь символ нравственного здоровья народа, «плебейского духа», не искаженного преступлениями хозяев жизни.
На последних страницах книги Хладек, уже вернувшийся в Прагу, пишет Лее письмо, чтобы еще раз попытаться вдохнуть в нее жизнь. Это одно из наиболее сильных и удавшихся мест книги. Хладен рассказывает в письме о годах подпольной борьбы, о Кареле, о гибели своей любимой жены Коры, то есть о том, о чем до тех нор он не имел сил рассказать кому бы то ни было, — какой странный выбор темы для того, чтобы ободрить сломленного несчастьями человека! Но в книге Макса Вальтера Шульца самые трагические страницы говорят о силе человеческого счастья. Это, казалось бы, парадоксальное противоречие выражает одну из основных ее мыслей: любое соучастие в делах фашизма, самое малое, самое пассивное, калечит душу, пригибает к земле, извращает человеческую натуру; только борьба за свободу распрямляет человека, дает ему возможность жить в полном смысле этого слова. Поэтому подлинное счастье можно найти только на «дорогах истории», на дорогах народной борьбы, поэтому «надо стать счастливым, крепким, уверенным. Надо быть закованным в броню счастья, когда идешь в бой за счастливую историю человечества».
Жизнеутверждающая человечность коммунистической морали, закалившаяся в смертельной схватке с фашизмом, спорит на страницах книги, доказывая свою правоту и свою историческую силу, и со «старонемецким гуманизмом» профессора Фюслера, и с отчаянием Лен, и с аккуратной системой буржуазно-охранительных идей ван Будена. И если спор с «экзистенциалистски-модернистским строем мыслей» ван Будена непримирим, потому что в новых, послевоенных условиях в этом споре все больше раскрывается противоположность исходных посылок и целей, то со старым Фюслером Хладек спорит, чтобы помочь ему уверовать в свои силы, а с Леей — чтобы поддержать ее.
Бурное партийное собрание коммунистов — это одна из кульминаций книги — происходит в здании бывшего рабочего клуба, на фронтоне которого снова видна старая надпись: «Несмотря ни на что!» «Несмотря ни на что» — это слова Карла Либкнехта. Так называлась его последняя статья, опубликованная в газете «Роте фане» в день убийства Карла Либкнехта и Розы Люксембург, 15 января 1919 года. Несмотря ни на что, немецкая революция будет жить. Она не привнесена «извне» в страну Маркса и Энгельса, Гёльдерлина и Гёте, она возрождается, собирая вокруг себя и возвращая истинную цену и великим традициям немецкой гуманистической культуры, и неистребимому «плебейскому духу», и простым человеческим чувствам — любви и дружбе, верности и порядочности, вере в свои силы и в свой народ (третья часть книги носит название «Старый ствол»). Подлинно национальное, народное в полном смысле слова неотделимо сегодня на немецкой земле от немецкой революции, от дела социализма, от его созидательной силы.
Кто понял эту истину, тот обрел твердую почву под ногами, тот перестал быть «пылью на ветру», которую носит с места на место «зачумленный ветер».
Как и все писатели ГДР, пишущие о временах гитлеризма, Макс Вальтер Шульц суров и предельно требователен к своему герою. Он знает, чтобы достичь «сегодня», надо «перешагнуть один за другим много порогов и закрыть за собой много дверей». Руди Хагедорну на пути его исканий и мечтаний помогает крестьянская девушка Хильда Паниц, потерявшая в войну всех близких и оказавшаяся рядом с ним в суровый час всеобщих перемен. Ей тоже приходится многому учиться, и простая истина, что «честно работать на бесчестных господ» — значит участвовать в их бесчестных делах, дается ей не легко; по она гораздо меньше, чем другие ее сверстники, связана с ложью преступного государства и общественной системы, и чувство, в котором много от материнского, ведет ее верным путем, спасительным и для нее и для Руди.
Оправившись от болезни, Руди Хагедорн соглашается с предложением, которое он поначалу отверг, и становится школьным учителем. За этим важным шагом стоит нечто большее, чем просто поворот сюжета; недаром такое же решение принимают герои и других немецких книг о второй мировой войне.
Школьный учитель — издавна заметная фигура немецкой общественной жизни. Еще во вторую половину прошлого века школьная реформа создала в Германии цепкую и всепроникающую систему воспитания юношества. Воспитание это носило тогда откровенно реакционный характер. После победы Германии над Францией в 1871 году было широко распространено изречение: «Войну выиграл школьный учитель». Это значит, что победу обеспечило воспитание немецкой молодежи в националистическом, милитаристском духе. Преддверием прусской казармы оставалась немецкая школа и в кайзеровской империи и позднее, в Веймарской республике, воспитывая немецкую молодежь, поколение за поколением, в духе беспрекословного подчинения любому приказу, высокомерного презрения к другим народам. Генрих Манн, самый острый социальный писатель Германии начала двадцатого века, еще в 1905 году выставлял в своем «Учителе Гнусе» воспитателя немецкой молодежи на всеобщее посмешище. Позднее Иоганнес Бехер, Арнольд Цвейг, Лион Фейхтвангер, Людвиг Ренн много писали о том, как на полях сражений первой мировой войны они избавлялись от идеалов, внушенных им в школе. Учитель Канторек в книге Эриха Марии Ремарка «На Западном фронте без перемен», восхваляющий «великое время» и «железную молодежь» и попадающий на фронте под начало своих же учеников, — ото тоже образ немецкого учителя, сатирически переосмысленный уже после разгрома Германии в первой мировой войне.
Гитлеризм взял себе на службу традиции прусского националистического воспитания, добавив к ним свойственную фашизму грубую демагогию. Молодежь росла в уверенности, что Германия стала невинной жертвой «международного заговора», что она должна «смыть с себя позор Версаля», «отомстить исконным врагам немецкого народа». На место тех преподавателей, в ком можно было уловить «либеральный дух», пришли «стопроцентные арийцы», «коричневые ректоры» — растлители душ и воспитатели палачей.
Естественно, что после разгрома гитлеризма сразу же встал — как один из самых насущных — вопрос о будущем немецкой молодежи, о создании совершенно новой системы образования. Новая школа была важнейшей составной частью начинавшихся демократических преобразований. Ярослав Хладек говорит по этому поводу на страницах книги:
«Немецкие учителя, научите немецкую молодежь одному: научите ее с революционным размахом браться за работу, научите ее взыскательной человеческой скромности, научите ее той культуре доверия, общественная функция которой — создать истинную демократию, власть свободного народа. И если это вам удастся, немецкие учителя, тогда Германия будет располагать прекрасной молодежью. Но горе вам м стране вашей, если это не удастся».
В небольшом листке бумаги — заполненной анкете, которую Руди Хагедорн посылает заведующей школьным отделом Эльзе Поль, — заключено очень многое: в нем и доверие старой коммунистки к бывшему солдату гитлеровского вермахта, и отказ Руди Хагедорна от соблазна бежать куда глаза глядят и сложить голову «под беспощадным солнцем чужбины», и решение остаться в родном городе, где взаимоотношения с людьми складываются так нелегко. Он преодолел в себе страх, а преодолеть страх, как говорит один из героев книги, «значит взять на себя ответственность».
Так раскрывается полемический подзаголовок этой книги — «Роман о непотерянном поколении».
Понятие «потерянное поколение» связано в истории литературы с книгами, написанными разными писателями в разных странах Запада (США, Англии, Германии) на рубеже двадцатых-тридцатых годов нашего века, то есть в преддверии мирового экономического кризиса или в самый разгар его. Эти книги объединяло острое ощущение трагизма бытия и затерянности человека в общество, его бессилия перед враждебным ему миром. В обстановке социальных потрясений тех лет и обнищания народных масс, наступления фашистской реакции и неуверенности в завтрашнем дне эти книги находили самый широкий отклик у читателей, хотя предметом изображения в ннх была первая мировая война, закончившаяся свыше десяти лет назад. Но война не была тогда только историей, именно в те годы угроза новой, второй мировой войны как авантюристического выхода из социальных противоречий становилась все более реальной.
После второй мировой войны выражение «потерянное поколение» породило в журналистике Запада немало схожих определений («поколение вернувшихся», «немое поколение», «поколение без отцов» и т. д.). Аналогия здесь вызвана стремлением свести литературные явления (по большей части очень разные) к уже привычному и знакомому комплексу идей и настроений: хаотический мир, враждебный личности, в котором будущее сулит только новые беды; ненависть к угнетению при неспособности разобраться в окружающем хаосе, победить его; тоска по теплым человеческим чувствам, противопоставленным грязи социальной жизни, и т. д. На немецкой почве понятие «потерянное поколение» связано прежде всего с романом Эриха Марии Ремарка «На Западном фронте без перемен», породившем много последователей и подражателей. Эти книги занимают особое место в немецкой литературе. Они носили ярко выраженный антивоенный характер и тем самым вступали в бой с обширной милитаристской литературой, знающей в Германии и своих пророков, вроде Ганса Гримма, и своих рафинированных «классиков», вроде Эрнста Юнгера, и дешевых разносчиков «солдатских идей» — таких, как Двингер, Беймельбург и многие их сегодняшние последователи в Западной Германии. Но антивоенный пафос писателей «потерянного поколения» был непоследователен и по большей части неглубок, а реализм ограничен, потому что авторы этих книг, описывая первую мировую войну, уходили от изображения революционных процессов, закончивших ее. Они не верили в возможность изменений к лучшему ни в обществе, ни в человеческом сознании. Поэтому все последовательно антивоенные, антимилитаристские, антифашистские писатели, борясь против реакционной демагогии и прославления войны как «естественного состояния» человека, спорят в своих книгах и с настроениями «потерянного поколения». Это относится и к Иоганнесу Бехеру, и к Бодо Узе, и к Арнольду Цвейгу, и к Людвигу Ренну. Молодая литература Германской Демократической Республики продолжает сегодня именно эту, самую плодотворную и самую богатую реалистическими возможностями линию в изображении военных событий. Романы и повести Герберта Отто, Франца Фюмана, Дитера Нолля, Германа Канта, Вольфганга Нейхауза, Гюнтера де Бройна, Макса Вальтера Шульца и других талантливых писателей — это подлинно новая немецкая литература о войне. Страницы этих книг рассказывают о том, как из глубины трагедий и нравственного падения восставала воля к жизни и созиданию, к свободному, «раскованному» смеху.
Заслуживает внимания то обстоятельство, что в литературе Германской Демократической Республики с каждым годом все сильнее заявляет о себе тяга к эпичности, к широкому охвату исторического материала в национальном масштабе. Эта черта литературы ГДР имеет прямую связь со стремлением писателей видеть действительность в движении, человеческое сознание — в развитии, в росте. Так, например, Дитер Нолль закончил вторую часть своей книги о Вернере Хольте и работает над третьей, которая доведет повествование до начала пятидесятых годов. Макс Вальтер Шульц также называет свой роман «первой книгой». За ним последует вторая, над которой писатель работает в настоящее время. В этой книге встанут проблемы уже начавшихся социалистических преобразований в освобожденной от фашизма, но расколотой Германии — материал для творческого воплощения едва ли но еще более сложный, чем тот, который лег в основу романа «Мы не пыль на ветру».
Советский читатель, которого не могут не радовать успехи социалистической немецкой литературы, будет с интересом ждать продолжения этой талантливой книги, не только умной и увлекательной, но и много говорящей нам о процессах, идущих сегодня в немецком народе.
П. Tonep
… Ведь человек — это бог, лишь только он стал человеком.
И если он бог, — он прекрасен.
Гёльдерлин, «Гunерион»ЧАСТЬ ПЕРВАЯ Петухи кричат поутру
Глава первая
В ясное апрельское утро последней военной весны унтер-офицер противотанковой артиллерии один, совершенно один шагал широкой мощеной дорогой, что прямой чертой почти на семь с половиной километров протянулась от Эберштедта до развилки на Райну. Вчера, вместе с партией полумертвецов отпущенный из госпиталя, со все еще мокнущей огнестрельной раной в бедре, он на фронтовом распределительном пункте получил предписание направиться в распоряжение командира тяжелой зенитной батареи, расположенной за деревней Райна, чтобы там передать пятилетний фронтовой опыт, навалившийся на его плечи, молодым помощникам зенитчиков. Великогерманское отечество от Мааса до Мемеля — огромное растекшееся малиновое пятно в школьных атласах — было сплющено, как грошовое мороженое между двух вафель. Русские уже форсировали Одер, и головные части американских танковых войск, если им удастся сохранить темп наступления последней недели, дня через два тоже будут в западной части угольной и промышленной области Средней Германии.
Унтер-офицеру, дюжему с виду парню, за два последних военных года стало начисто безразлично, в какой климатический пояс и в какое боевое подразделение его назначат. В конце концов горемыки, которые обязаны во все это верить, везде получат ту же самую резиновую колбасу, тот же сыр в тюбиках, тот же искусственный мед и вдобавок те же кусочки железа в ребра.
В России у нашего унтер-офицера заряжающим самоходного орудия был пожилой обер-ефрейтор, маленький, плоскогрудый человечек, метранпаж но профессии, прежде и теперь убежденный любитель природы, нетребовательный, как отшельник, и смахивавший на лешего в своих никелированных очках с тесемочками под стальной каской и с вечно щетинистым подбородком. Отто Зибельт — так звали чудака, стоическое спокойствие которого иногда доводило начальство до ярости, а иногда заставляло только удивленно пожимать плечами. Но и он тоже отправился к праотцам. Случилось это во время отступления через Брянские леса, на солнечной просеке, поросшей ежевикой. Он лежал рядом с обломками самоходки, которую прозвал «гром божий», и истекал кровью.
— Старина, Отто, почему же так? — давясь стоявшим в горле комком, спрашивал его Руди. — За что же это?
Тот, что лежал здесь, стал ему вместо отца. Впервые за эту войну унтер-офицер ощутил колючий ужас перед бессмысленностью смерти.
Умирающий посмотрел на него затуманившимися глазами.
— Хватит тебе меня учить. Придержи-ка язык, Хагедорн. Был на свете человек по имени Ангелус Силезиус, и он сказал: «Цветут и отцветают розы, не спрашивая «почему». Вот тебе и весь смысл жизни. Сними с меня очки, Руди, хватит уж, насмотрелся. И давай деру, не то тебя Иван сцапает…
Цветут и отцветают розы, не спрашивая «почему», и солдаты подыхают, не спрашивая «почему»… Неужто в этом весь смысл жизни?
И сколько этот самый унтер-офицер Руди Хагедорн ни размышлял над роковым «почему», мысли его были словно бескрылые птицы, высиживающие пустые яйца. Гули-гули-гу, гули-гули-гу — воркует лесной голубь, камнем падая на деревянную голубку, что сидит на коньке амбара, и ржавое острие гвоздя, торчащее из ее спинки, вонзается ему в самое сердце.
Утро сулило ясный, теплый весенний день.
Пелена утренних туманов разорвалась над хлебными полями, и теперь клочья ее, застрявшие в черных ветвях придорожных деревьев, улетучивались в ослепительном сиянии восходящего солнца. На него можно было смотреть, разве что прикрыв глаза ладонью и прищурившись. Хагедорн время от времени так и делал, потому что в Эберштедте его предупредили: американские самолеты переходят на бреющий полет над ровной черточкой шоссе, когда оно залито ярким солнечным светом.
«Тут не удержишься от слез…» Вот и доказательства валяются на обочинах: обгорелые машины, сброшенные в кювет, кверху торчат колеса с обуглившимися покрышками, разбитые тягачи. Тишина и пустота на большой дороге производили почти призрачное впечатление. Нигде ни живой души, даже на полях, только слышны отрывочные трели, жаворонков, невидимо парящих в голубизне неба.
Одинокому человеку на дороге казалось, что нечистая сила гонит его вперед. Буря смутных мыслей, время от времени сама собой иссякавшая, вновь забушевала в его мозгу при мысли, что судьба, как злая баба, подшутила над ним. Согласно приказу, он шел на батарею, командиром которой был капитан Залигер. У толстого майора на распределительном пункте, вообразившего, что ему надлежит лично позаботиться о назначении Хагедорна, это имя случайно сорвалось с языка, когда он показывал ему на карте расположение батареи:
— Вот здесь, возле этой злосчастной дыры Райны, ожидаются жаркие бои. Деревня стоит на главном направлении наступления противника. Командиру батареи, капитану Залигеру, для его детского сада позарез нужен дошлый фронтовик вроде вас. Передавайте привет! Залигер мой старый приятель.
«И мой тоже», — собрался было сказать Хагедорн, но вовремя спохватился и не допустил себя до такой цивильной задушевности. К тому же не обязательно это тог самый Залигер, друг его детства, тот, которого он десятилетним мальчишкой вытащил из пруда, с которым они побратались кровью в глубине Катценштейновой пещеры, тот, с которым они в дивно сумасбродные годы пробуждения плоти молились на одну и ту же девочку: Лею, красавицу, чистую, умную, неприступную богиню. Но надежда, что это не тот Залигер, рассыпалась в прах, после того как он навел справки у одного из писарей. Залигер и был Залигер, Армии, стервец, который при первом же испытании предал их дружбу, втерся в доверие к Лее, потом хитростью добился ее любви, а вскоре, когда на карту было поставлено его производство в офицеры, бросил ее, как жалкий негодяй.
Когда это случилось, Хагедорн, дрожа от стыда и презрения, ринулся в Катценштейнову пещеру, где они мальчишками надрезали себе мизинцы и каждый высосал у другого по три капли крови. Там он дал себе до ужаса ребяческую клятву, которая, вместо того чтобы врачевать душевную рану, нанесенную ему Залигером, стала как бы солью, все больше и больше ее растравлявшей. Ибо он поклялся убить Залигера, но не нашел в себе мужества совершить убийство, ни мужества, ни ненависти, пи юмора, наконец, чтобы позабыть о дурацкой клятве, отнестись к ней как к нелепой детской выдумке. Разве не лучше было бы ему, сыну дорожного смотрителя, преодолеть эти болезненные торможения, пойти к Лее, племяннице и приемной дочери его почитаемого учителя доктора Фюслера, и сказать ей: «Позволь мне загладить вину Залигера перед тобой. Я давно люблю тебя». Нет, однажды он все-таки решился на это, после смерти Отто, когда ему снова удалось выжить, в то время как откатывающийся к границам родины Восточный фронт временно стабилизировался на Висле. Он наконец написал Лее и открылся ей. Но было уже поздно. Лею Фюслер забрали в гестапо, и с тех пор никто не слыхал о ней. Мать сообщила ему об этом в дни, когда он еще носил в кармане письмо к Лее, вложенное в солдатскую книжку. Итак, доброе и прекрасное письмо отправилось в огонь, а гадкая записка осталась лежать в нагрудном кармане рядом с личным номером. Даже разбуженный среди ночи, Хагедорн мог наизусть сказать ее содержание: «Клянусь своей жизнью и всем, что для меня свято, клянусь Германией и горячими лучами полуденного солнца, клянусь шелестом ночного леса и валунами на лугу, клянусь глазами Леи и ее материнским лоном лишить жизни тебя, армин залигер (это имя так и было написано маленькими буквами), когда бы мы с тобой ни встретились. Предателю — смерть!» Пониже собственной кровью он вывел свое полное имя: «Руди Пауль Христиан Хагедорн».
И вот теперь он идет к тому, чье имя написано в записке с маленькой буквы, в знак того, что человек этот уже вычеркнут из жизни. И что-то должно случиться. Сегодня он и Залигер окажутся вдвоем, с глазу на глаз, и Залигер, конечно… конечно же, изобразит нечаянную радость и будет вести себя так, словно ничто, даже время, не встало между ними, разве что несколько воинских званий. «Бог ты мой, Руди, старина, дай же на тебя поглядеть! Исхудал маленько, а в общем вид у тебя что надо! А твой классический носик еще лучше стал…» Залигер вечно подтрунивал над очень уж широкими ноздрями Хагедорна. Ах, Залигер умел быть милым, как старая шлюха! И Хагедорн этого боялся. Лучше бы капитан встретил его с холодной вежливостью и отодвинул и сторону прошлое, словно пустую чашку. Он еще того и гляди назовет его по-старому — Амос.
Горячая волна стыда обдала Хагедорна, когда он вспомнил, откуда взялось это прозвище. Залигер, сын аптекаря, на два года старше, чем он, в 1930 году поступил в рейффенбергскую гимназию. Вскоре он стал экзаменовать его, Хагедорна, повсюду, даже в их «крепости» на ветвях старого каштана, возле их казенного домика. «Каких римских богов ты знаешь?» Руди не знал ни одного. «Ну, малыш, надо знать хотя бы бога любви! Вспомни-ка, начинается на А, А-м, Ам…» Вне себя от радости, что хоть это-то он знает, Руди закончил: «Амос». Его благочестивая мать, иной раз желая похвалиться своим знанием Священного писания, а также памятью, перечисляла имена пророков: «…Осия, Иоиль, Амос, Авдий, Иона, Михей, Наум, Аввакум…» Одно имя почему-то застряло в памяти девятилетнего мальчика. Залигер едва не лопнул со смеху. И с тех пор стал звать своего дружка Амосом. Конечно, только когда они были вдвоем, иначе дело дошло бы до потасовки, из которой Армии вряд ли бы вышел победителем.
А теперь что-то должно случиться. С этим надо покончить. Но как? Хагедорн задумался: речь ведь идет о праве, не о возмездии. В библии сказано: «Мне отмщенье и аз воздам». Мать нередко это говорила, когда, закончив свою кропотливую работу позументщицы, вставала от стола и, не в силах разогнуть спину, терла покрасневшие глаза. Не исключено, что Залигер стал другим человеком. Возможно, раскаяние перевернуло его душу, возможно, проклятая война вконец изменила его коварную, наглую сущность. Все мы переменились. И я уже не тот до глупости робкий влюбленный. Немало красоток прошло через мои руки. Только вот не любил я ни одну. Что же касается вины, то все мы в долгу как в шелку перед своей совестью. И думать нам надо теперь не о прошлом, а о будущем, Да, да…
Волнующая таинственность окружала Лею Фюслер с первого дня ее появления в Рейффенберге. Ей было пятнадцать с половиной лет, когда ее дядя, доктор Лео Фюслер, холостяк, ректор гимназии имени Гёте, взял ее к себе, в дом в качестве приемной дочери. У Леи, высокой и узкобедрой, были иссиня-черные волосы, миндалевидные карие глаза и чуть припухлый рот на чистом, как у мадонны, лице, словом, она была первой красавицей города. Когда дядя встретил ее на вокзале и она в первый раз шла с ним по улицам, у мальчишек и у парней постарше спирало дыханье, пожилые мужчины с особой почтительностью приветствовали доктора, но, в сущности, эта почтительность относилась к его спутнице; молодые девушки вдруг принимали вызывающе гордую осанку и строили обидно холодные мины; женщины улыбались, мыслями уносясь в прошлое, а старушки бесцеремонно останавливались и шептали друг другу: «Очень уж она вызывающая, и откуда взялась такая? Да еще пальто на ней ярко-желтое, где ж это видано…» А маленькая девочка, катившая обруч по тротуару, вбежала домой с пылающими щеками и крикнула матери: «Я видела Белоснежку!..» Откуда приехали Лея Фюслер, никто толком не знал. Но кое-кому вдруг вспомнилось, что среди предков Фюслеров был итальянский зодчий, красивый человек с огненными глазами и кудрями черными как смоль. «Может быть, она приехала с юга, нас ведь теперь с итальянцами водой не разольешь. Опа, пожалуй, и говорит-то не по-нашему». Но Лея говорила на чистейшем немецком языке, правда, — и об этом очень хочется здесь написать — с очаровательными прирейнскими интонациями. Не в словах, а в мелодике речи. Когда она говорила: «Пожалуйста, три сигары для моего дяди», то это звучало совсем по-другому, чем в устах рейффенбергской девушки.
Но прошло немного времени и все узнали, что мать прелестной Леи была младшей сестрой доктора Фюслера, актрисой, впрочем уже давно оставившей сцену. Она жила в Дюссельдорфе под своей сценической фамилией и недавно умерла от чахотки. Но об отце Леи никто так ничего и не узнал. Конечно же, она дитя любви. Кто знает, не был ли ее отец высокопоставленным лицом, может быть, он князь или сын миллионера и ему нельзя было жениться на ее матери, потому что она была актриса. В жизни чего только не случается…
Подобные догадки и сплетни по пятам преследовали девушку, но Лея делала вид, что не подозревает о них, со всеми здоровалась приветливо и скромно, кланялась даже окнам, на которых вдруг начинали шевелиться гардины, по рейффенбергским понятиям до дерзости часто меняла туалеты, к тому же еще и прическу: сегодня носила косы, завтра баранками закручивала их на ушах или венцом укладывала на макушке, иной раз стягивала волосы в узел, а не то — и тут уж мальчишки и юноши положительно сходили с ума — кудри ее свободно рассыпались по плечам, лишь слегка скрепленные светлой лентой.
Но сколько бы принцев ни выказывали готовности ради нее прорваться сквозь терновую изгородь, она пресекала их намерения всегда ровным дружелюбием и девичьей чистотой, которую и неприступностью-то нельзя было назвать. Ее удалые поклонники понимали, конечно, что их дурачат, но никто в этом не признавался себе со злобою в сердце, до того мило все устраивала красавица. Так Лея покорила еще и сердца женщин, матерей и жен, у которых в доме имелся принц — юный или уже в летах.
Вскоре стало известно, что после летних каникул Лея поступит в шестой класс гимназии имени Гёте. В первый день занятий все школьники начистили ботинки, до полной чистоты отскребли ногти, словом, вылизались до блеска, как коты весной. Дежурный по интернату отряд гитлерюгенда гордо вышагивал в коричневых коротких штанах с накрепко заглаженной складкой, с напомаженными волосами, расчесанными на пробор, стараясь, чтобы отвага была написана на лицах. Когда наконец Лея, сжимая прекрасной рукой кожаную папку, с очаровательно застенчивым выражением на лице поднялась но ступенькам портала и вошла в гимназическую дверь, все здание содрогнулось от учащенного биения мальчишеских сердец. Хилый пятиклассник шепнул своему соседу: «Слушай, если она захочет, я на месте уложу педеля». А педель был грубиян, которого все боялись, бывший штурмовик, не только освобожденный от платы за отопление и стол, но и собиравший здесь свои бенефиции. Жил он в подвале гимназии и, помимо своих комендантских обязанностей, заправлял еще и интернатской кухней. Он ничуть не считался с возвышенно-духовной атмосферой заведения и в кровь разбивал носы мальцам, посмевшим жаловаться на плохое питание.
Лея оказалась в том же классе, что и Руди Хагедорн. Руди попал в гимназию не потому, что был пронырой, благодаря аптекарю Залигеру, который великодушно установил ему ренту на все время учения в размере пятнадцати марок ежемесячно в знак признательности за спасенье своего сына Армина. Плата за учение составляла двадцать марок в месяц. Но Руди имел скидку в десять марок за хорошие отметки и еще потому, что доктор Фюслер был к нему расположен. Таким образом, пять марок оставалось у него на книги, писчебумажные принадлежности, подметки и на проезд. Это было чертовски мало. А мать еще, случалось, вздыхала, что он не платит ей за харчи. Он был «здешний» и потому жил не в интернате, а дома, значит, дома он и столовался; утроба же у него была ненасытная. Правда, матери очень хотелось, чтобы ее старший сын стал «большим начальником», но она никак не могла смириться с мыслью, что парень сидит у них на шее год спустя после конфирмации и, видно, просидит еще долгонько.
Суровое представление, укоренившееся в рабочих семьях, — кончил школу, кончай с домом, — прочно засело и в ней. Школу кончают в четырнадцать лет, и тут уж либо не садись за родительский стол, либо плати за v харчи.
Пауль Хагедорн, отец Руди, хвалился всем и каждому: «У меня старший учится, а это кой-чего да стоит. Да уж очень хочется, чтобы дети жили не так, как мы, грешные. Лучше мне одну воду лакать, чем не дать ему доучиться». Рабочий городского коммунального управления, папаша Хагедорн все еще много работал. Мать была надомница, она делала бахрому для абажуров, вязала шапки, прикрепляла абажуры к каркасам. За это платили гроши. А четыре детских рта нуждались в пище. У нее на руках были Руди, Кэте, Кристоф и Бербель. По профессии отец был чулочник, долгое время работал в фирме Хенель и выполнял там обязанности профсоюзного казначея. Затем началась массовая безработица. Пособия его вскоре лишили, и, чтобы снова приобрести право на таковое, он время от времени брался за случайные городские работы. Да так и остался рабочим магистрата. Он сумел сделаться там необходимым, безотказно ходил чинить водомеры, дробил камни для дорожных покрытий, заменял курьера, а при случае и могильщика. С такими мелочами он не считался. Только безработным больше быть не хотел. Без работы это был беспомощный, отчаявшийся, жадный до водки человек. Теперь отец от подсобного рабочего при магистрате поднялся до помощника дорожного смотрителя. Но нацистскую похлебку его душа никак не принимала. Когда его коллеги говорили о политике, он отмалчивался. Он добросовестно исполнял свои обязанности, аккуратно платил взносы в Рабочий фронт и стал членом Имперского союза многодетных. В поощрение честному служаке за скромную арендную плату предоставили домишко на окраине города с двором и садиком. Мать, которая никак не могла свыкнуться с нацистами и свое благо усматривала в посещении церкви, тоже радовалась новому жилью.
Руди очень любил свою мать и старался как можно тише вести себя в гитлерюгенде. А чтобы не слизывать масло с хлеба у сестер и брата, четыре раза в неделю в послеобеденное время работал «мальчиком за все» в «Мастерской но ремонту автомобилей, мотоциклов и велосипедов Альберта Вюншмана младшего». За это ему платили три марки в неделю. Две с половиной он отдавал матери, которая охотно бы сберегла их для него, да только никак у нее это не получалось. Пятьдесят пфеннигов, а иногда еще и несколько грошей, полученных на чай, оставались ему. С того времени как в школе появилась Лея, его хозяйственные расходы сильно возросли. Он тайком от всех покупал красивую почтовую бумагу, на которой в стихах или в торжественно прозаической форме силился выразить свои пламенные восторги. Да, он втрескался в Лею заодно с доброй дюжиной других мальчишек. Имени своего он ей не открывал. И эпистолы подписывал вычурным оборотом: «Ваш нелицеприятный друг Гиперион, который откроется вам, когда приспеет время». Но каждый ее взгляд, каждое безразличное слово, сказанное ею, представлялось ему новым связующим звеном между ними. Он был убежден, что она знает, кто скрывается под именем «Гиперион», и молчаливо одобряет его сдержанность, столь отличную от назойливости других. Как мог он догадаться, что и другие скромники присваивали себе имя этого классического возлюбленного. Ведь ни для кого не было тайной, до какой степени их ректор, а он был еще и дядюшкой Леи, привержен к Гёльдерлинову Гипериону. Как знать, может, эти письма попадутся ему на глаза и он посоветует своей дивно прекрасной племяннице отдать предпочтение Гипериону. Ах, как редко в мировой истории столь много любовной поэзии изливалось за столь короткое время, на столь тесном пространстве и в столь полнейшей невинности! А Лея, вызвавшая всю эту бурю, оставалась всех холоднее. Гимназисты прозвали ее «Вселенная» — непостижимо чарующее и в то же время рационалистическое прозванье, выражавшее самые высокие из их чувств: тоску по неведомым далям, печаль, разлитую в мире, их окружающем. Ибо, как ни близка вдруг стала таинственная даль, она исчезала, стоило только захотеть к ней приблизиться, ее нельзя было обнять руками, нельзя было губами притронуться к ней. А таких девчушек спокон веков ищут влюбленные романтики, испытывая при этом приятнейшие страдания. Там, где по рейффенбергской мостовой ступала нога Леи, расцветали голубые цветы, и каждый, завидев голубой цветок, бормотал: «Вселенную увидеть и умереть…»
Но в следующем году после троицы вдруг грянул гром среди ясного неба, и почти все рыцари голубого цветка внезапно сложили свое оружие. Шли дни, а Лея не появлялась в классе. В это же самое время ее приемный отец и дядя был смещен с должности ректора и, несмотря на отличное здоровье, прежде времени уволен в отставку с половинной пенсией. Однажды ночью, захватив с собой Лого, он уехал лечиться в Карлсбад.
Место Фюслера занял бывший учитель гимнастики, ныне крупный партийный деятель. Этот атлетически сложенный болван, стоя в актовом зале на украшенной свастикой кафедре, объявил всем собранным здесь учителям и школьникам причины удаления прежнего ректора и его приемной дочки. Со вздувшимися от гнева жилами новый ректор — или «Муссолини», как его прозвали озорные школяры, — огласил страшную весть: Лея Фюслер (он называл ее «фюслеровская девчонка») полуеврейка, дочь еврейского интеллигента по фамилии ван Буден, который окопался в Англии и, сидя там, лает на национал-социалистскую империю, как нес на луну. Господин же Фюслер старался замолчать этот хорошо известный ему факт.
После этого сообщения в передних рядах, где сидели фланкировавшие эстраду учителя, раздались возгласы возмущения, тотчас же подхваченные школьниками и смолкшие лишь по знаку оратора.
— До нас, кроме того, дошел слух, отщелкивал щелкун с высокой кафедры, которая стояла под фреской, изображавшей «Кормленье пятью хлебами пяти тысяч человек на озере Генисаретском», — и, кстати сказать, через глубоко возмущенных молодых людей, что полуеврейке Фюслер было написано множество писем и стишков учениками нашей гимназии, разумеется, в неведении изложенных мною обстоятельств. Пока что, — тут голос оратора сделался громоподобен, а слова перекатывались в его разверстом рту, как осколки стекла в жестянке, — мы будем смотреть на это как на невольную ошибку, а значит, смотреть сквозь пальцы. Но завтра, друзья мои, если завтра какому-нибудь мягкотелому типу вздумается сокрушаться о своей любвишке, мы сумеем внушить ему наши понятия о крови и чести, да так, что он и своих не узнает. Негодяев в нашем рейхе клеймят каленым железом.
В это мгновенье Руди попытался встретиться взглядом со своим другом Армином Залигером. И встретился на секунду-другую. В нем он прочитал ту же ярость, то же непокорство, которые сжигали его душу. Залигер тоже писал письма Лее. И никакого секрета тут не было, все знали, кто ей пишет. Из последовавшей затем торжественной церемонии — переименования школы имени Гёте в школу имени Дитриха Экарта — Руди Хагедорн ужо почти ничего не слышал.
Под вечер Армии забежал за ним к Вюншману, и они пошли по узкой тропинке вдоль старой городской стены, заросшей кустами жасмина.
— Поверь, это не для меня, Руди. Плохим немцем я себя не считаю, за фюрера готов идти в огонь и в воду, законы касательно евреев, по-моему, правильны. Но нельзя же все валить в одну кучу. Лея, во-первых, полуеврейка, во-вторых, она отродясь не видала своего отца. Это я знаю от своего папаши, он ведь всегда был на дружеской ноге с доктором Фюслером. Существует граница, где повиновенье кончается, иначе человек станет трупом. Но все, что я сказал, — между нами. Я тебе доверился, потому что ты мой друг.
И как же Руди тогда гордился своим другом! Армии в заговоре вместе с ним, и насколько же ему теперь легче вопреки всем угрозам по-прежнему излагать Лее на тонкой красивой почтовой бумаге свои трогательно возвышенные чувства. «…B один прекрасный день, моя богиня, я предстану перед вами зрелым человеком, всеми почитаемым, человеком, который конструирует и строит автомобили, повергшие в восторг весь земной шар. Но лучший из них будет принадлежать вам! Словно в волшебном сне, мы будем мчаться с вами под сенью цветущих деревьев на юг, в Италию, к гробницам Ромео и Джульетты. Только моя любовь восторжествует не в смерти, а в жизни! Меня с вами не разделяет ничто, кроме пространства и времени. Но много ли значат время и пространство в сравнении с моей любовью? Я наберусь сил. Ждите меня, ждите, покуда я стану зрелым человеком…»
Залигер, в свою очередь, продолжал писать Лее. Руди знал об этом, но не испытывал ни малейшей ревности. Он готов был вверить свою судьбу Лее, готов был, точно раб, подчиниться ее воле. Залигер же не усматривал в Руди серьезного соперника. Он даже сообщил ему карлсбадский адрес Фюслеров.
В октябре, после занятия Судетской области немецкой армией, Лея и доктор Фюслер вернулись в Рейффенберг. Карлсбадский друг, предоставивший им квартиру на неограниченный срок, вынужден был изменить своему слову. Он продал дом и перебрался в Прагу.
В Рейффенберге Фюслеры жили теперь очень замкнуто. Лея выходила на улицу лишь для того, чтобы сделать необходимейшие покупки, доктор Фюслер весь ушел в свой любимый мир музыки, философии и классических литератур. Лея приветливо и благодарно взглядывала на тех, кто с нею раскланивался, но никогда не кивала в ответ, даже головы не поворачивала. Взор ее всегда был устремлен в какую-то отдаленную точку. Она строила веселую мину, но не могла скрыть тоски, уже угнездившейся в уголках ее пухлого ротика. Она и Руди Хагедорну отвечала на приветствие точь-в-точь как другим. И сейчас была ему ближе и дальше, чем когда-либо.
У Залигера достало мужества и денег на то, чтобы брать у доктора Фюслера уроки фортепьянной игры. Но не любовь к музыке толкнула его на это. Он уже довольно сносно играл на рояле, а музыкальные его потребности не шли дальше желания повеселее исполнить несколько вальсов для пожилых дам, несколько ноктюрнов повзволнованнее для подростков, маршей побравурнее для мужчин и каприччо позабористее для остальной публики. Опасность, что люди пронюхают о подлинной цели его музыкальных занятий, не казалась ему слишком грозной. Он разделял мнение, господствовавшее в его почтенном родительском доме, что «богемский ефрейтор», приведя в действие машину экономики, тем самым выполнил свой долг. С такой «реально-политической» точкой зрения он никогда не знакомил своего друга, отец строго-настрого ему это запретил.
Руди завидовал Армину — его счастливому случаю и его мужеству. Но и теперь еще не ревновал, только слегка печалился, видя, как тот с нотной папкой в руках исчезает в дверях высокого дома в конце Дрейбрудерштрассе. Залигер рассказал ему, как доктор Фюслер отнесся к переименованию старой гимназии. Он и бровью не повел, а говоря в юмористическом тоне о новом ректоре, процитировал Гёте:
На пиротехника взгляни, родная! Уж он ли не искусен в измереньи? Но им ошибочно кладется мина. Его сильней стихии мощь глухая: Миг, — и взлетели в общем разрушены! Он и его искусство, все едино[1].— Да, Фюслер — истинный гений. Этими словами он метил как в своего достопочтенного преемника, так и в фюрера. Но об этом молчок, ясно?
— И ты видишь Лею? Тебе случается говорить с ней?
— Она все прячется, прелестное дитя.
Руди Хагедорн ему поверил. Что друг в этом пункте мог бесстыдно его оболгать, ему даже в голову не приходило. На самом деле, покуда Фюслер музицировал, Залигер часами беседовал с Леей и все больше завладевал ее вниманьем. Лея уже начала снисходительно подсмеиваться над сердечными излияниями «последнего Гипериона», правильно угадав, кто скрывается под этим именем. Остальное довершил Залигер: тонко и язвительно издеваясь, он обрисовал своего друга как совершенное бревно. Еще до наступления рождества Залигер многого добился. Лея позволяла ему целовать себя, и не всегда вполне благопристойно.
— Считай это нашей помолвкой, Лея, в марте я сдам на аттестат зрелости и позабочусь о том, чтобы сразу же поступить в высшее учебное заведение. Медики у них отбывают половинный срок военной службы. Подумай, через шесть лет ты будешь моей женушкой. Даже если всех чертей вытряхнут из бутылки… Позволь мне запереть дверь, обожаемая моя Лея… Прошу тебя…
Рядом, в музыкальной комнате, доктор Фюслер играл какой-нибудь прелюд на виолончели, своем любимом инструменте…
С Руди все вышло по-другому: во время внезапной проверки портфелей — у кого-то, кажется, стащили авторучку — среди его книг и тетрадей было обнаружено письмо к Лее. (На самом деле искали не ручку, а как раз такие письма.) Ну, тут и пошло! Насквозь коричневый ректор хотел немедленно «вышвырнуть негодяя». Но по намеку вышестоящей школьной инстанции ограничился тем, что зачитал ему consilium abeundi — угрозу исключения. Люди, рекомендовавшие действовать поосторожнее, нимало не заботились о благе ученика шестого класса Хагедорна. Они еще раз — и уже в последний — приняли во внимание симпатии, которыми пользовался Фюслер в Рейффенберге, и прежде всего в тамошнем педагогическом мире. Фюслер находился в переписке с педагогическими институциями многих стран.
Но насквозь коричневый ректор, который презирал такую осторожность и всеми доступными ему способами старался выйти из тени своего более значительного предшественника, тоже позволил себе намек. Его прекрасно понял фюрер гимназического гитлерюгенда «Дитрих Экарт» — семиклассник, бывший в наилучших отношениях с новым ректором. Он приказал трем своим шарфюрерам явиться на секретное совещание и потребовал учинить над Хагедорном официально запрещенный, а при старом ректоре даже строго наказуемый суд чести, иначе называвшийся судом духов. Суд духов был старой-престарой традицией гимназии, корнями уходившей, надо думать, во времена дореформационных монастырских школ. Мучительства, которым подвергался преступник, были, видимо, заимствованы из обихода инквизиции, с той только разницей, что грозные кары вершились над ним символически. Все три шарфюрера без сколько-нибудь серьезных возражений пошли навстречу пожеланию фюрера отряда. Одним из этих трех был Армии Залигер.
На следующее утро — предпоследнее школьное утро перед рождественскими каникулами — Руди Хагедорн обнаружил в своей парте конверт за семью печатями. Прописными латинскими буквами на нем было начертано его имя и по-латыни — приказанье стоя распечатать таковой. Хагедорн мгновенно сообразил, что его час пробил. Право же, не надо было быть знатоком латыни, чтобы понять, что кроется за семью печатями: admonitio severa — строжайший призыв к discipulum Hagedornum — ученику Хагедорну предстать в семь часов — septima hora — перед судом высоких духов — tribunali spirituum, разумеется, лишь но доброй воле — sed quod totum voluntarium est…
В семь часов вечера, как только большая стрелка электрических часов на портале прыгнула на цифру двенадцать, ученик Хагедорн — но доброй воле — постучался в массивную дубовую дверь гимназии. Изнутри ключ повернулся в замке. Дверь отворилась. Два «палача», закутанных в белые простыни, с высокими красными капюшонами на головах, немедленно скрутили вошедшему руки за спиной и, толкая его перед собой, повели вниз по лестнице в длинный подвальный коридор. Там было темным-темно, хотя через каждые три метра коридор освещался какими-то странными канделябрами. Это оказались «стражи», сплошь закутанные в белое, с горящими восковыми свечами в руках. Когда палачи с «преступником» прошли мимо первого стража, он присоединился к процессии, следующий тоже последовал за ними «гусиным шагом». Ритуал был точно установлен. Палачи втолкнули Хагедорна в помещенье, где истопник опорожнял корзины для бумаги. Там стоял сладковатый запах подгнивших оберток и заплесневелых фруктовых объедков. В неровном свете свечей, которые держали вставшие в круг стражи, палачи сорвали с Хагедорна пальто, куртку и все прочее, так что он остался нагишом. При этом он сам помогал им, боясь, что они что-нибудь разорвут и мать заметит неладное. Затем они нахлобучили ему на голову мешок из-под угля с прорезью в поперечном шве. Все свершалось без единого слова. Палачи и стражи должны были вести себя так, словно у них вырваны языки, ибо были низшими, услужающими духами. Один из них взял цветочный горшок с пеплом и посыпал голову Хагедорна.
Когда палачи и стражи с преступником посередке снова вышли в коридор, из темных его углов послышалась странная и устрашающая музыка. Это другие низшие духи, так называемые «дудошники», дудели в деревянные четырехгранные дудки от фисгармонии, приобретенной доктором Фюслером много лет назад. А тут еще барабан забил древний, как мир, маршевый такт… Хагедорну была знакома вся эта чертовщина. Он сам однажды был дудошником на суде духов. И все-таки дрожь пробрала его.
Этот второй акт назывался «процессия». Дудошннки, как и стражи, с головы до пят закутанные в белое, и барабанщик, перепоясанный черным шарфом, свистя и отбивая дробь, выступили из темных углов, еще увеличивая зловещую толпу. Вдруг из ниши на лестничной площадке выскочили два «медика» с «шаманом» в руках. На медиках были не остроконечные капюшоны, а круглые шапочки, вроде тех, которые перед операцией надевают хирурги, только что на них позванивали бубенчики. Они дули в коротенькие пищалки и, словно вне себя от радости, бесновались и прыгали вкруг шамана. Шаманом был скрепленный проволокой скелет из биологического кабинета. Скелетоносец в белом балахоне и в черной треуголке факельщика нес его перед собою на шесте, раскачивая таким образом, что кощей болтал в воздухе руками и ногами да еще стучал костяшками пальцев.
По низкому сводчатому коридору, где проходили укутанные паклей трубы парового отопления, процессия двинулась вниз, к входу в «катакомбы». Перед круглой дырой входа остались стоять все, кроме палачей и преступника. Жуткий вой оставшихся, казалось, еще усилился и теперь с каким-то непонятным глухо-громким звуком разбивался о кирпичные стены.
Руди Хагедорн, брошенный палачами на колени, должен был проползти, да еще со скрученными на синие руками, последние несколько метров до того места, где восседали высшие духи. Пол был усыпан щебенкой и песком. Тот, кто хотел заранее обеспечить себе расположение высших духов, должен был во время этого странствия, не морщась от боли, смотреть им прямо в глаза. Высшие духи всматривались в лицо преступника и таким образом определяли, в какой степени душевной разбитости и раскаяния он предстанет перед ними. Хагедорн тоже не опускал головы, с усилием подавляя боль. Он задался целью окаменеть, отрешиться от всех чувств и мыслей, покуда над ним будет совершаться зловещий обряд, смотреть только в свое сердце и не видеть ничего, кроме образа Леи. Так он и полз, словно заводная кукла, по направлению к высшим духам, восседавшим на полу на кожаных подушках в белых простынях, неподвижно, как идолы, с картонными коронами на головах; лица их были завешаны черными треугольными платками с прорезями для глаз: справа сидел «префект», слева — трое «присяжных». Судейский стол изображала снятая с петель дверь, покрытая зеленым сукном из учительской. Три свечи горели на нем, освещая кучу грозного хлама: четыре кинжала образца «гитлерюгенд», вынутых из ножен и острием направленных в грудь преступника, с выгравированной на лезвиях надписью «кровь и честь», буковую палочку, лежавшую перед префектом, ржавые ручные кандалы, железный ошейник, толстые затрепанные книги в переплетах из свиной кожи. Суд начался. Префект, взяв в руки одну из книг, минут десять кряду читал по-латыни средневековые установления уголовного суда. Резкие звуки дудок и барабанная дробь, словно адская музыка, сопровождали его напыщенную декламацию. Руди Хагедорн, помимо своей воли, перестал видеть духовным оком образ Леи. Он смотрел на узкую тонкопалую руку, лежавшую на зеленом сукне стола, четвертый ее палец прикрывал собою мизинец. Он знал эту руку как свою собственную. А из ее мизинца однажды высосал три капли крови. Внезапно эта рука пробудила в нем чувство тошноты. От него это не зависело. Он же знал, что Залигер один из присяжных. Тот, кто попытался бы уклониться от суда духов, будь то обвиняемый или присяжный, был бы навеки заклеймен трусом. И все-таки Хагедорн страшился узнать друга. Мумии, сидевшие перед ним, его не интересовали. Но зато теперь он знал, в какую шкуру облекся его друг.
Барабаны и дудки смолкли. Префект зачитал обвинение и тотчас же обратился с вопросом к коленопреклоненному Хагедорну. Признает ли он себя виновным в преступной кровосмесительной связи с оборотнем? Все равно — духовной или плотской? Да или нет? Хагедорн попытался под черной прорезью постыдной завесы отыскать глаза друга. Ему было жизненно необходимо сейчас почувствовать опору, не в одиночку противостоять клевете, ибо он решил ни за что не признавать этого обвинения. Но взгляд друга не встретился с его взглядом. И Руди промолчал, промолчал вопреки всем правилам игры в раскаяние. Он не мог говорить. Что-то сдавило ему горло. Образ Леи уже не витал перед ним. Опуская веки, он при каждом ударе своего сердца видел, как красноватые волны накатывают ему на глаза, одна за другой, видел бег своей крови, а в ней комьями слизи плыло отвращенье, отвращенье к этому действу, к этому другу.
Префект начал нервничать, выкрикнул свой вопрос во второй, в третий раз. Хагедорн молчал, уставясь в пол. Один из палачей дернул его за волосы — смотри, мол, в глаза префекту. Он посмотрел, и вдруг Лея снова возникла перед ним.
Он только криво усмехался, покуда не услышал, как префект хлопнул кулаком по столу, и не увидел, как тот. схватив буковую палочку со словами «I ad graecum Pi»[2], высоко поднял ее и переломил пополам. После оглашения смертного приговора суд поднялся. Один из присяжных, самый долговязый, стукнулся головой о низкий потолок, отчего у него лопнул обод короны, державшийся на канцелярских скрепках. В коридоре снова загремела, завизжала адская музыка.
Настало время приводить приговор в исполнение. Преступник за свою беспринципность был приговорен ко «всем трем смертям». Палачи убрали со стола предметы устрашения, сорвали с него зеленое сукно и привязали Хагедорна к двери. На ней, как на носилках, они понесли преступника в прачечную, на «лобное место». Впереди процессии махал конечностями скелет, но медики теперь уже паясничали возле носилок.
По прибытии в прачечную начался церемониал «первой смерти». Палачи положили дверь с привязанным к ней преступником на козлы. Откуда-то появился «кат». Одежду ему тоже заменял мешок, только красного цвета, на голове красовался красный капюшон. Даже руки у него были вымазаны красной краской.
— Делай то, что тебе положено! — обратился к нему префект.
При первой смерти надо бы «принять яд», то есть выпить полстакана касторового масла. Хагедорн не сопротивлялся. Он уже с утра к этому приготовился, сказал дома, что у него понос, и съел целую миску «затирки» из ржаной муки, до того густой, что и ней колом стояла ложка. Начни он артачиться, они влили бы касторку насильно, вставив между зубов деревянные распорки. Когда с принятием яда было покончено и медики произнесли свое «mortuus est»[3], дудки подняли такой несусветный визг, что «мертвец» вернулся к жизни, но лишь для того, чтобы пройти через вторую смерть — от «смертоносного луча».
Перед новой казнью палачи освободили ему руки, стащили с него угольный мешок, затем снова привязали его к двери и нагого, несущего на распростертых руках дверь, поставили к безоконной стене. В прозрачном свете свечи он казался гигантской летучей мышью. Одни из палачей подключил садовый шланг к водопроводному крану, второй протянул кату другой его конец с медным наконечником. Префект приблизился к приговоренному и, точно судья на футболе, присуждающий одиннадцатиметровый штрафной удар, отмерил трехметровую дистанцию. На конечную ее точку встал палач. Префект кивнул, это был знак открыть кран. Сильная струя ударила Руди в грудь. Он едва не задохнулся. Флейты пронзительно взвизгнули, барабан откликнулся дробным басом. Указующий перст префекта опустился ниже. Вода уже сбегала с живота и с бедер злосчастной жертвы. Свечи в руках стражей зашипели и потухли. Хагедорн тяжело дышал. Рука префекта скользнула вверх. Струя ударила прямо в лицо Руди. У двух или трех дудошников вдруг сперло дыхание, они перестали дуть в свои дудки, увидев, что Руди вертит головой направо и налево, а кат нацеливает струю ему в рот. «Музыка!» — заорал префект и снова опустил руку. Струя уже бичевала живот жертвы. Хагедорн изо всех сил прижался затылком к кресту-двери. Одного из дудошников — это был тот самый пятиклассник, который похвалялся на месте уложить педеля, если она того пожелает, — вырвало прямо в раструб дудки. И в это же мгновенье наступила тишина. Ни звука, только шорох струи, бомбардирующей жертву.
Теперь хоть взгляни на меня, Армин, взгляни… помоги мне… Но Армин оставался глух к его мольбе. И тут что-то по-звериному грубо завыло в Хагедорне. Это был не его голос, не его воля, не его боль. Из него кричал умирающий homo sapiens, смертельно раненное человеческое существо, одаренное способностью мыслить и чувствовать. А тот смеялся отрывистым, сухим смехом, похожим на коклюшный кашель. И это тоже был не его голос, это было клокотанье в глотке человеческого чудовища, слишком трусливого, слишком эгоистического и вялого, чтобы сострадать мукам другого, выродка, усилием воли подавлявшего в себе взбунтовавшуюся совесть. Таков был Залигер. Руди не слышал его сухого, отрывистого смеха. Крик замер на его губах так же внезапно и стихийно, как зародился в нем. Голова его упала на грудь. Он трясся от всхлипываний, как ребенок, уже выплакавшийся, но все еще дрожащий от волнения.
Префект подал знак. Палачи схватили дверь с привязанным к ней преступником и снова водрузили ее на козлы. Один из шутов-медиков приложил руку к неистово бьющемуся сердцу нагого и обессилевшего Хагедорна, покачал шапочкой с колокольцами и проговорил: Mors non gerit — преступник не скончался. И пытка была приостановлена, словно экзамен, на котором испытуемый обнаружил немыслимые пробелы в знаниях. Они избавили Хагедорна от «третьей смерти через погребенье живьем». Эта казнь обычно совершалась в котельной, где истерзанного преступника засыпали коксом, затем спрашивали, раскаялся ли он, и в случае утвердительного ответа его «ветхий Адам», то есть мешок, в который он был облачен, сжигался в топке. Эта сцена на сей раз не была разыграна. Палачи отвязали Хагедорна и швырнули ему под ноги грязную мешковину. После этого все духи с воем и гиканьем убежали из прачечной. Хагедорн в полной темноте все предохранители были вывинчены — ощупью пробрался в соседнее помещение, где стояла сладковато-гнилостная вонь, за своей одеждой. Покуда он одевался, зубы у него стучали от холода. Когда же он наконец нащупал тяжелую парадную дверь и открыл ее, кто-то изо всех сил наподдал ему коленкой в зад, так что он, но помня себя, скатился со ступенек портала. Обернувшись, он увидел в дверях педеля в стоптанных войлочных туфлях, в галифе и телогрейке.
— Поганец эдакий, — донеслось до него сверху.
Как пьяный, тащился домой Руди Хагедорн. Во многих окнах горела рождественская звезда. Снег крупными хлопьями бесшумно падал на землю. Хорошо, что идет снег, хорошо, что свежая пелена покроет грязный и скользкий паст на мостовой и тротуарах. На круто поднимающейся в гору Фронгассе к стенам домов были приделаны железные перила — для стариков и инвалидов. Сейчас за них цеплялся семнадцатилетний юноша.
Руди надеялся, что родители уже легли. Ведь скоро половина десятого. Но окна были освещены, и, войдя, он застал ИХ на кухне. Видно, они его ждали. Мать, сложив руки на коленях, сидела у своего рабочего стола, отец пристроился на ножной скамеечке в углу возле дверцы чугунной печки и перочинным ножом щепал лучинки для растопки. На материнском столе лежал голубой конверт. Руди тотчас же смекнул: в голубом письме сообщается о consilium abeundi, которое ему зачитал ректор. Пауль и Дора Хагедорн предполагали, что под этим непонятным латинским выражением кроются невесть какие страхи. Мать печально взглянула на него.
— Что ты натворил, Руди, признавайся!
— Чепуха, — перебил ее отец, — просто наболтал глупостей, — Пауль Хагедорн встал и вышел из-за печки с сапожной щеткой в руках. — Или ты что-нибудь спер, дружище? А? Я с тебя семь шкур спущу! Ты ведь меня знаешь, скажи лучше правду…
Руди ничего не говорил, ни слова. Отец было замахнулся на него, но увидел в глазах сына такую ярость, что рука его сама собой опустилась.
— А ну, говори, что ты там нашкодил, опозорил нас, да?
У Рудb раза два прервался голос, покуда он выговорил:
— Я ухожу из гимназии. Никакими силами меня не затащат туда, на эту каторгу… Лучше я пойду в ученье к Вюншману, там, глядишь, через полтора года я уже подмастерьем стану и смогу хорошо платить вам за свое содержание.
Отец в ярости отшвырнул сапожную щетку:
— Опять новости! Я не позволю морочить мне голову!
— Да скажи ты, ради бога, что случилось, Руди, — взмолилась мать.
Руди сказал только полправды: он-де написал Лео письмо, просил ее не слишком огорчаться, уверял, что все еще будет хорошо. А они нашли письмо в его папке и обошлись с ним как с преступником.
— Вот b все. С меня хватит. Плевать я хотел на такую гимназию. Никакой я не преступник, и руки у меня не крюки — работать могут. Завтра же пойду к Вюншману, как бы вы меня ни ругали…
Мать молча достала хлеб из ящика, как-никак парень с утра ничего не ел, кроме затирки из ржаной муки. Отец ворчал:
— Для нашего брата ничего к добру не оборачивается. И что тебе, спрашивается, за дело до этой кисейной барышни? Ты разве не понимаешь, что дела у нас пошли лучше, с тех нор как евреи и пикнуть не смеют…
Он ткнул пальцем в копченую колбасу, которую мать положила на стол.
— Ели мы раньше такие вещи, а? Всей семьей один селедочный хвост грызли, вот тебе и все! Впрочем, делай как знаешь, нынче ведь, известное дело, яйца курицу учат…
Под новый год отец пошел с Руди к Вюншману и подписал контракт, который вступал в силу с первого января. Ректор гимназии имени Дитриха Экарта не препятствовал отчислению ученика Хагедорна.
В день нового года к Хагедорнам зашел Армии Залигер.
— Не ерунди, старина, ты же себя губишь, — Руди смотрел в окно и был нем как рыба. — Конечно же, Руди, с моей стороны было подло участвовать в суде духов. Но что я мог сделать? Иной раз приходится с волками выть… послушай, старик, не будь же упрям как осел.
Не оборачиваясь, Руди отвечал:
— Не стоит из-за меня расстраиваться, человек должен знать, что он делает…
Залигер ушел раздосадованный. Руди смотрел ему вслед, видел, как тот прошел мимо старого каштана, на котором когда-то была их крепость, видел узкую спину друга, его расхлябанную походку, еще по-детски тонкую шею и непокрытую голову с шелковистыми белокурыми волосами. Он страдал, зная, что Армии уходит навсегда. Но… в конце концов старую дружбу ведь предал не он, а Залигер.
Верной и неизменной оставалась лишь робкая, глубокая любовь Руди к Лее. Но писать ей он больше не мог. Не мог и все тут. Чистые и наивные признания, с такой легкостью лившиеся из-под пера Руди-Гипериона, ученику слесаря Хагедорну вдруг стали казаться смешными. Много раз он пытался заговорить с Леей на улице. Но ни-чего у него не выходило. Лея шла мимо, уставив дружелюбный взгляд в какую-то дальнюю точку. Ну, ничего, мое время еще приспеет, утешал себя Руди.
В марте Залигер сдал на аттестат зрелости и тотчас же был призван в армию. Покончив с последним экзаменом, старший класс в полном составе и с новым ректором во главе посетил начальника управления призывного района, и каждый в отдельности заявил там о своем желании стать офицером или хотя бы офицером запаса. Когда 1 сентября разразилась война, Залигер уже был фенрихом.
Вскоре после этого Хагедорн встретил доктора Фюслера на Рыночной площади у столба с громкоговорителем, как раз передававшим, что Англия и Франция объявили войну Германии. Доктор Фюслер взял его под руку, и они с Руди пошли по аллее вдоль пруда. В спину им гремел Баденвейлерский марш.
— Я хотел поблагодарить вас, мой милый Хагедорн. Вы мужественно боролись. Да, да, не отпирайтесь, я знаю, что говорю… — И тут же он поспешил переменить тему и заговорил о войне: —…Вот проклятая судьба, опять нация должна все это принять на свои плечи.
Но Руди почувствовал: у старика на сердце что-то вполне конкретное. И только пожимая на прощанье руку Хагедорну, он выдавил из себя:
— Разрешите мне дать вам отеческий совет, мой милый, верный Гиперион, подлинно отеческий совет: выбросьте из головы мою племянницу. Бедная девочка, она и так в полубезумном состоянии. Армин Залигер… Ах, да, вы ведь ничего не знаете, словом, он был все равно что помолвлен с нею. Он тоже хотел преодолеть все препятствия. Но разве их преодолеешь? Как офицер, он должен был порвать старые связи. Я это понимаю, стараюсь понять. И потому, прошу вас, Хагедорн, не добивайтесь Леи. В лучшем случае вы во второй раз сделаете ее несчастной — и себя тоже. Нам осталось только благоразумие… Всего вам хорошего!
Хагедорну казалось, что его, как школьника, поставили в угол и высекли. Шатаясь, добрел он до ближайшей скамейки, испещренной, как все скамейки в этой аллее у пруда, пронзенными стрелою сердцами.
В следующее воскресенье в Катценштейновой пещере он принес свою дурацкую клятву — убить Залигера. Но когда Залигер в начале октября после взятия Варшавы приехал на несколько дней в отпуск, Руди бегал от пего, как пор, от того, в чей дом он забрался.
А еще немного позднее, в начале декабря, он пошел в управление призывного района и записался добровольцем. Еще до рождества его направили в действующую армию.
Мать плакала, утираясь фартуком, и кляла войну, целуя на прощание своего первенца. Отец пошел провожать добровольца на вокзал. На перроне он заговорил об его уходе из гимназии, видно, это все еще точило его сердце:
— Ты очень меня огорчил, Руди, что не выдержал до конца с гимназией. Ну, да теперь уж что говорить… Тебе восемнадцать лет. Если ты героем вернешься с войны, я зарежу индейку и такую выберу, чтобы весила ровно столько фунтов, сколько тебе тогда будет лет. Фунтов, верно, на девятнадцать-двадцать потянет…
Отец не дождался отхода поезда. Он отправился в пивную, сдвинув на затылок черно-синюю фуражку дорожного смотрителя, и напился до бесчувствия.
Когда поезд проходил по мосту и глазам Руди еще раз открылся родной город, старый городишко на взгорье, дома, лепившиеся по склону Рейффенберга, огромная каменная церковь, длинная заснеженная крыша ратуши, многооконный массив старой гимназии, большие ворота амбаров возле кладбища, облака, плывущие над городом и горой, он вспомнил о любимой, остававшейся здесь, и в простоте душевной подумал: «Я высвобожу тебя из заточения, Лея…»
— Нам осталось только благоразумие, — сказал доктор Фюслер и после сталинградской катастрофы уговорил Лею пойти медсестрой в рейффенбергский госпиталь. — Господа национал-социалисты начинают нервничать. От страха человека прошибает холодный пот и маска соскальзывает с его лица. Мы должны забежать вперед. До сих пор они тебя игнорировали и даже выдали тебе нормальную продовольственную карточку. Пусть их загребущие руки отпадут от нас. Заяви о себе. Медсестер не хватает. Не брезгуй самой черной работой. Твое неприхотливое служение гуманизму защитит тебя. Конвенции Красного Креста они все-таки еще придерживаются… А я предложу себя в учителя начальной школы.
Лея ему повиновалась и пошла работать в госпитальную прачечную. Однажды в полдень, когда она развешивала на веревке солдатские подштанники, трио выздоравливающих юных героев, которые грелись на солнышко в госпитальном саду, решило сыграть с ней злую шутку. Покуда Лея ходила за следующей партией белья, они связали вместе все мокрые штанины и спрятались за кустами. Вернувшись с тяжеленной корзиной белья, Лея сразу обнаружила приготовленный ей сюрприз. Она готова была посмеяться над этой мальчишеской выходкой и нисколько не рассердилась на парней, ужо не раз пристававших к ней с дерзкими шутками, несмотря на ее постоянную молчаливую холодность. Но… «нам осталось только благоразумие»… Поэтому она притворилась рассерженной и поспешила устранить содеянное. Однако развязывать мокрые узлы оказалось не так-то просто. Тут пресловутая троица выскочила из своего укрытия:
— Плати выкуп, красотка!
— Каждому — поцелуй в нос.
— Ерунда, лучше пойдем в кино с нами, тремя смиренниками!
— Или в кафе, мы будем платить по-царски, если, конечно, у тебя есть талоны.
— Мы уж разнюхаем, кто тебя домой провожает…
Лея и бровью не повела.
— Пациентам не положено находиться в этой части сада. Прошу вас, уйдите…
Тон Лен не оставлял ни малейших сомнений в ее искренности.
— Глупая индюшка! — уходя крикнул ей один из них.
Этот ерундовый случай тем не менее возымел последствия. Все три парня отправились к фельдфебелю роты выздоравливающих.
— Мы не за то на фронте кровь проливаем, чтобы здесь над нами измывалась какая-то вертихвостка!
Лею без всяких разговоров перевели в инфекционное отделение. В мае 1944 года туда привезли с лихорадкой ректора гимназии имени Дитриха Экарта, прозванного «Муссолини», уже успевшего дослужиться до майора. В обязанности Леи входило два раза в день мыть дезинфицирующим раствором полы в палатах. Она испугалась и оробела, узнав нового пациента. Но страх ее, видимо, был напрасен. Господин майор и ректор был теперь но только учтив, но даже вкрадчиво любезен.
— Я слышал, что вы добровольно пошли работать, фрейлейн Фюслер? — Лея заставила себя утвердительно кивнуть. — Поступок, несомненно, заслуживающий уважения.
Она ненавидела этого человека всеми силами своей души: о, если бы он оставил меня в покое, если бы не впивался в меня оловянными кнопками своих глаз! Он притворяется благожелательным, но я-то знаю, что это лишь перестраховка. Сейчас он перебирает все свои грехи. Высадка союзных войск в Нормандии и на Сицилии — эти события представляются ему незначительными, но то, что немцы, оставив Псков, отдали последний русский город, эта мысль не покидает его и в лихорадочном бреду. Вчера он кричал: «Ни с места, солдаты! Мы должны остановить продвижение красных… Чего вы хотите от меня? Не я же это затеял… Не я, не я…»
На следующий день, придя в сознание, Муссолини сказал:
— Теперь мы избрали новую тактику — резиновый фронт. Надо, чтобы резина достаточно натянулась, потом мы ее спустим, и Иванам придется удирать за Урал. Пусть там щелкают свои подсолнухи, покуда они у них есть. Мы, германцы, извечно движемся на восток. Вам понятно, фрейлейн Фюслер?
— Разумеется, господин майор.
— Что значит «разумеется»? Таков безусловный исторический закон, после тысячелетнего загнивания рейха воскрешенный и воплощенный в жизнь нашим фюрером. Вы, кажется, этому не верите?
— Конечно, верю, господин майор…
Лея, в светло-голубом форменном платье, как раз протирала шваброй под кроватью Муссолини и нагнулась пониже, чтобы спрятать вспыхнувшее лицо. Он дотронулся до ее обнаженной руки. Кровь бросилась в голову Леи. Она хотела закричать, крик уже стоял у нее в горле. Но опомнилась и сдержалась… Нам осталось только благоразумие… Это кричал ее молчаливый рот, ее широко раскрытые глаза, рука, которую она отдернула.
Тот понял.
Взволнованная и потрясенная, Лея совершила оплошность — пять кроличьих безрукавок отправила не в холодную дезинфекцию, а в горячую санобработку. Из парового котла меховые безрукавки вышли размером не больше распашонки для грудного младенца. Начальница пришла в ярость:
— Вы занимаетесь саботажем.
Назавтра Лея Фюслер была арестована на квартире своего дяди. В безграничном отчаянии доктор Фюслер потребовал от гестаповцев предъявления ордера на арест. Ему сунули под нос какую-то бумажонку, но всего лишь на одну секунду. Он не успел ее прочитать. И запротестовал. Тогда ему сунули под нос уже нечто совсем другое — дуло револьвера. Фюслер опустился в кожаное кресло у книжных полок и только устало взмахнул рукой, когда они уводили Лею. Но на этом его испытания но кончились. Пришли другие люди и перевернули вверх дном всю квартиру — домашний обыск. Ордера он уже больше не требовал. Прежде всего гестаповцы перетряхнули его тщательно оберегаемую корреспонденцию. Фюслер понял, что они ищут его переписку с двумя людьми, недавно арестованными в связи с покушением на Гитлера. Что ж, пусть стараются, все это давно уничтожено. Нам осталось только благоразумие…
Лея без судебного разбирательства была препровождена в женский концлагерь. В ее «деле» значилось: «Отец еврей, сотрудник немецкого отдела лондонского радио», и еще были запротоколированы слова майора, которые он произнес на одре болезни: «…временами высказывалась весьма пессимистически».
«Я освобожу тебя из заточенья, Лея…» Эта благородная фраза после пяти лет военной действительности стала казаться Руди Хагедорну до того наивной, что стыдливая память сама собою вытеснила ее. Но то, что человек забыл или запомнил, не определяется его волей и желанием. С тех пор как Хагедорн узнал об аресте Леи, его воля и его желание едва-едва тащились по пути пассивной надежды. Ему думалось, что должна же для нее существовать какая-то возможность выкарабкаться. Какая именно — он не знал. Лея, это-то он знал, но отличалась физической выносливостью, а после истории с Залигером, после всего, что сделали с нею и с ее дядей, была, конечно, еще и разбита душевно. А если даже она справлялась с душевною невзгодой, то разве может храброе сердце одолеть голодную смерть или пулю?.. Как часто слышал Хагедорн на Восточном фронте, что особые отряды гнали перед собой, как скот, еврейское и полуеврейское население и расстреливали его на краю какого-нибудь рва. Сам он никогда этого не видел и никогда до конца в это не верил. Он думал: такие слухи распускаются для устрашения народов. Но когда мать написала ему: «…теперь они забрали и Лею Фюслер, а об Эрнсте Ротлуфе так никто ничего и не знает. А вот насчет Альберта Поля, который был учителем в Рашбахе, был вывешен красный плакат. Ему отрубили голову в Бранденбурге. Это все ужасно…», он понял, что это не «слухи для устрашения». С того дня, уповая лишь на какую-то невероятную возможность, он уподобился человеку, поверившему в благочестие дьявола.
И вот теперь он идет к Залигеру. И верит, что Залигер знает больше, чем он. Его отец, наверно, еще общается с ее дядей, а уж доктору Фюслеру, конечно, все известно. Прежде всего, решил он, я спрошу Залигера о Лее. То, что он скажет, будет занесено на общий большой счет. Но то, как он скажет, — на его собственный, и он мне за это ответит…
Между тем Лея Фюслер за несколько дней до этого ясного апрельского утра была освобождена из лагеря английскими войсками. Сейчас она, тяжело больная, лежала в больнице. Но наш бравый солдат не знал этого, так же как не знал доктор Фюслер и не знал капитан Залигер.
Глава вторая
До развилки на Райну надо пройти еще добрых три с половиной километра по прямому, как стрела, шоссе. Впрочем, городок уже виден — впереди, справа, на непостижимо плоской равнине, где горбатятся только груды пустой породы. Открытые разработки бурого угля, который добывают здесь, определили и ландшафт этой местности. Гигантские дюны, бурые провалы месторождений, нагие, геометрически правильные индустриальные горы. Издали кажется, что откос террикона подступает к самым дверям домов в Райне. Желто-белый дым лениво клубится над его тупой верхушкой. Если все будет в порядке, думал Хагедорн, через час я дойду до батареи. Если все будет в порядке… потому что плохие воспоминания были связаны у него с прямыми, как стрела, дорогами. На таком прямом шоссе он однажды обморозил себе ноги и шел вперед на бесчувственных ступнях, как на ходулях. Он и сейчас не в состоянии держать ровный шаг, хотя под лыжными брюками у него надеты мягкие хромовые сапоги. Он снял их на Одере с одного лейтенанта, которому они уже но могли понадобиться.
Такие дороги мучительны для ног, для глаз, они портят настроение и будят воспоминания. Шагая по прямым дорогам, волей-неволей начинаешь думать: автострада Смоленск — Москва тоже была прямой, как стрела. Ну и помучила же она нас… у нее не было конца. Конец маячил перед нами, словно наша собственная длинная тень в лучах вечернего солнца. Только упоенные победами волны эфира, которые они слали нам вслед, переносились через наши тени, через тени танков, через тени тягачей и орудий, через тени цистерн, через тени машин с боеприпасами и тени марширующей пехоты. Они уже дерзко плыли над Спасской башней, уже распределяли нас на зимние квартиры.
Но тут дед-мороз гулкими залпами возвестил о своем приходе. Веселее затараторили русские пулеметы, из минометов, как из рога изобилия, посыпалась осколочная благодать, и батареи 122-миллиметровых орудий все чаще пели свои басовые арии над прямой линией автострады. Волны эфира, словно вспугнутые стаи уток, повертывали вспять, шелестя мчались над нашими головами и несли на родину героическую весть о бравых солдатах, которые храбро бьются и храбро замерзают в своих подбитых ветром шинелишках. Тысячи тысяч раз подстерегала нас смерть на этом прямом, как стрела, шоссе, но конца ему не было.
Не думать, не вспоминать!
От мыслей не оборонишься, хоть они и ни к чему солдату. Мысли — интеллигентская болезнь. А ему надо жить сейчас, и не впроголодь, а чтобы всего было вдоволь — нищи, сна, водки, стрельбы, девушек. И чтобы все шло впрок солдату. Расписанья нашей жизни не существует вот уже шесть лет. В любую минуту может отойти твой, пли мой, или его поезд, все равно, молод он или стар, любит он солнечный свет или лунный, клянет он все на свете или молится, умен он или глуп, счастлив или несчастен. Поющее железо ни о чем не спрашивает; оно твердолобо, как полевой жандарм. Поэтому я и говорю себе: бери, что плохо лежит, пользуйся каждой минутой, она может быть твоей последней, а тебе ведь только двадцать четыре года.
Высоко над густыми кронами проплывает небо, бледное, пустое. Облачка, мелкие, как рубашонки ангелов, спокойно висят в белесой глуби. Наверно, думает Хагедорн, чтобы вымерзли вши, ведь там наверху холодище дай боже! Вот только заводятся ли у ангелов вши? Пожалуй, все-таки заводятся, что ни говори, война, и ангелы дневалят в небесных казармах. На каждого солдата двое, для триединства. И попочки у этих ангелочков нежно-розовые, как зимняя заря в России. Да, да, камрады, во все надо вдумываться…
Эту романтическую остроту, кажется, отпустил тот толстяк, которого под деревней Александрово им пришлось кусками отдирать от лафета? А может быть, Блом, тощий, вечно голодный Блом, который, стоя ночью на посту, застрелил лошадь, потом, пропоров ей брюхо штыком, сунул ноги в теплую, сочащуюся дыру, уснул да так и замерз. Скорей всего это был он. Но точно Хагедорн уже не знал. Столько людей померзло и погибло в эти чертовы морозы…
Да он уже и не хотел знать. Он считал, что время — это только «теперь», а теперь надо о другом думать, когда смотришь на небо. А именно: что у этих облаков, жгутом вытянувшихся там, вверху, над терриконами, серебряные головки, у головок острый, соколиный взгляд и что на короткой волне они даже могут подавать голос, и еще что это американские разведчики, двухфюзеляжные лайтнинги; они выискивают наши позиции и натравливают на них спитфайеров и сандерболтов, этих летающих собак с высунутыми красно-огненными языками, которые жадно слизывают всю грязь с улиц, и в первую очередь людей, идущих и едущих и бегущих. Но больше всего им но вкусу дороги, прямые, как стрела. И никто не в состоянии отпугнуть их. Да, это так. И сейчас у нас апрель сорок пятого.
Сегодня самолетов что-то не видно. Поэтому и на прямой дороге ни души. Но они еще прилетят. Толстый майор на распределительном пункте, показывая Хагедорну его путь от железнодорожной станции до батареи, сказал, что они обрушиваются как снег на голову. Никто не знает когда. Толстяк — поредевшие волосы у пего пахли фиалковой помадой — даже затеял разговор с ним, Хагедорном. Это было что-то новое. До сих пор ому еще не встречался майор, желающий беседовать с унтер-офицером. Может быть, старшие офицеры решили стать человечнее теперь, когда все бесчеловечнее становится война, когда она свирепствует уже у нас на родине, втягивая в свой водоворот наших женщин и детей? Или это решили только самые несмелые из них? Другие привыкли подкреплять свои приказы пистолетом, а то и угрозой полевого суда, если солдаты без прежней охоты выполняли их. И, спрашивается, кого больше одолевает страх, тех или этих?
— То-то они обрадуются, и Залигер и молодые бойцы, когда им в подкрепление будет придан старый фронтовой пес, — сказал толстый майор. — Покажите им как следует, что можно натворить в воздухе и на земле восьмидесятивосьмимиллиметровой зенитной пушкой. У вас, похоже, немалый опыт стрельбы но наземным целям.
Ордена и значки на груди Хагедорна, видно, так подействовали на раздушенного тыловика, что он, не задумываясь, произвел его в высший моральный чин — «фронтового пса». Что ж, это тоже загляд вперед. Если позволить себе отступление от правил и думать не только о «теперь», а представить себе победоносный мир, то, надо полагать, «фронтовым псам» будет обеспечена благодарность отчизны. Тогда, наверно, можно будет рассчитывать на бесплатное обучение в гимназии и в техническом институте…
И в воображении Хагедорна вновь воскресли картины его мечтаний: вот он стоит у чертежной доски и конструирует прекрасные дешевые автомашины или в белом халате со счетной линейкой и штангенциркулем в кармане проходит по монтажному цеху, а в его шкафчике рядом с белым халатом висит еще и рабочий комбинезон, потому что он самолично участвует в монтаже машин нулевой серии, вникает в каждую мелочь. И дом у него есть, с гаражом и садиком за каменной оградой, и красивая, умная жена, с которой он после работы читает Гёльдерлина и Рильке, таинственного Гофмана или Кольбенхейера, она еще и музыкальна к тому же, играет ему бетховенские сонаты и поет песни Шуберта… И вдруг одна из этих картин утратила реальность; у его красивой и умной жены были черты Леи Фюслер. Но жива ли еще Лея? Заодно утратили ясность и другие картины, некогда переливавшиеся ярчайшими красками. Со временем они помутнели и поблекли, так же как поблекла надежда на конечную победу Германии. Все ерунда. Не надейся, не спрашивай, каков будет конец. Толстый майор не интересовался будущим. Он заставил унтер-офицера рассказать, как тот заслужил свои награды — Железный крест первой степени и прочие побрякушки. И Хагедорн понес несусветный вздор, неторопливо, обстоятельно — ведь он в это время курил чужие греческие сигареты, майор же весь обратился в слух, а в его заплывших глазках сверкала сталь прусских сабель.
— Случилось это не так давно. Когда в конце января наш истребительно-противотанковый дивизион прибыл в окрестности Варты, мы увидели на другой стороне замерзшего озера одинокий помещичий дом с белым фасадом и прекрасной колоннадой. Он показался нам заколдованным замком…
Но о главном и горьком для него Хагедорн умолчал. Да майора это все равно бы не тронуло. Хагедорн тогда не подозревал, что эту же самую историю он в недалеком будущем расскажет вторично уже совсем другому слушателю и как раз из-за того горького и обидного, что в ней было. Относительно бело-красной ленточки в петлице, которой унтер-офицер действительно гордился, майор его не расспрашивал. Хагедорн знал — теперь уже никто не говорит «Медаль за участие в кампании на Восточном фронте», а называют ее «Орден мороженого мяса». Потому что черно-белая полоска посередине — где вам меня понять, господин майор, — это шоссе, прямое, как стрела, автострада, а красные по бокам — отмороженное мясо героев. Да и не стоит такое рассказывать добродушному, благоухающему фиалковой помадой майору, а разве что товарищу или девушке, которая хочет не только до безумия распаляться солдатской любовью, но еще и почувствовать, как мурашки пробегают у нее но телу от ужаса.
С полей поднимался свежий запах земли, благодатный, весенний, терпкий запах матери-земли. Хагедорн жадно вдыхал его. Унести с собой, наслаждаться им, наслаждаться всем, что прекрасно! А свежий запах земли прекрасен. Но только когда он бьет тебе прямо в нос с распаханного поля. В окопе тоже пахнет свежей землей. Но это уже другое дело. Заодно ты вдыхаешь и что-то вроде трупного запаха. Впрочем, в мыслях можно очистить воздух от этой мерзкой примеси, она ведь воображаемая. А можно ли? Да, если не думать. Думать — антигигиенично.
Но от мыслей никуда не денешься. Человек не может не думать о прошлом и главное — о будущем. Что мы наделали? Что с нами будет? Русские уже приближаются к Эльбе и к Берлину тоже. Американцы продвинулись за Кассель. Надо постепенно привыкать к мысли о колючей проволоке, о лагере, возможно, в каком-нибудь медвежьем углу, возможно, в Неваде, а не то в Сибири, или о двухметровой яме в земле и о том, что сообщат о твоем местонахождении имперскому союзу по охране могил павших воинов.
Но если не будет третьей империи, то не будет и имперских союзов. Ему вспомнилось благочестивое речение: любовь никогда не проходит! Если пройдет рейх, пройдет все. Почему Адольф не пускает в ход секретное чудо-оружие, о котором нам все уши прокричали? Он-то, наверное, знает, почему, и применит его, когда другие будут думать, что уже схватили победу за хвост и позволят себе быть легкомысленными. Мы должны продержаться. Фридрих Великий держался семь лет, чтобы выиграть свою войну. А ведь подковы казацких коней уже стучали по мостовым Берлина. Или, может, правда то, о чем говорят на всех перекрестках: американцы и англичане высадились под Данцигом, чтобы вместе с нами пойти против русских?
Мы еще завоюем окончательную победу. Германия не может погибнуть.
Свята Германия и бесконечна…
Хагедорн стал насвистывать про себя эту песню-гимн гитлеровской молодежи. Она всегда ему нравилась ясностью, чистотой, и верой в национал-социализм. На мгновенье он ощутил противоестественное удовольствие — славить шип, на который накололся, то есть утраченную веру в рейх.
Внезапно за спиной задумавшегося унтер-офицера взревели мощные моторы. Налетели штурмовики.
Реакция его мгновенна. С быстротой обезьяны он вскакивает в придорожную канаву полуметровой глубины и по счастливой случайности сухую. Но не бросается наземь, а, согнувшись в три погибели, бежит туда, где штабелем навалены снегозаградительные щиты, образующие навес. Языки пламени могут лизнуть дно канавы, но в узкий лаз навряд ли проберутся. Теперь он уже не бежит, а ползет На брюхе. От длинной очереди, выпущенной самолетом с большой высоты, трещат сучья деревьев. Пули, шлепающиеся на шоссе, выбивают мелкие искры, где-то сбоку свистит рикошетирующие снаряды. Три сандерболта проносятся над самыми кронами деревьев, три тупых туловища — сигара с отрезанным концом, три бешено вращающихся воздушных винта, три стеклянные кабины, трое гладко выбритых Джимми; из двадцати четырех пулеметов они палят по одному-единственному человеку и дружно ухмыляются: ишь как распростерся немчура, точно площица, но рановато ухмыляются, не попали они в немецкую площицу, даже не задели ее. Разве что страху нагнали, вот и все. Но страх быстро проходит. Скрылись из глаз машины — и его как не бывало. У них, наверно, много чистого спирта, думает Хагедорн, а Джимми, возможно, думают: хоть на одного меньше из миллионов немцев, больно их много развелось. God be praised! Слава тебе, господи! Плевать я на вас хотел, господа!
Хагедорн встает, смотрит им вслед, насмешливо скалится. Сейчас они уже упражняются в стрельбе в Райне, палят по кухонным окнам, но гостиным, спальням и сортирам. Дьяволы! Зенитки молчат, слишком они низко летают. Но вот ведущий делает разворот. За ним остальные. И уже летят в обратном направлении!
Хагедорн пробегает последние несколько метров до лаза, хочет заползти в него. Но место уже занято, и похоже, что женщиной. Ему видны полуботинки, зеленые носочки, коричневые шелковые чулки. Судя по икрам, и остальное достаточно солидно. Хагедорн все же заползает в лаз, протискивается вперед. Икры вздрагивают, когда он невольно до них дотрагивается. В эту минуту три самолета с грохотом проносятся над навесом.
— Извините, пожалуйста, это место еще свободно?
У унтер-офицера кривится рот. Женщина уставилась на него широко раскрытыми, полными ужаса глазами. Она отнюдь не уродина, впрочем, и красоткой ее не назовешь, здоровая девица среднего роста. По свежему, крестьянскому лицу трудно определить ее возраст. Но, вероятно, ей уже за двадцать.
— Не бойся меня, девочка, я не кусаюсь.
Ни слова в ответ, только глаза умоляют: оставь меня в покое.
В воздухе наплывает гул еще более сильный и угрожающий. За терриконами что-то грохнуло. Серия взрывов, одна за другой. Истребители-бомбардировщики! На слух их не меньше двух десятков! Они летают выше, чем штурмовики. Вот они вошли в вираж и открыли огонь из своих пушек.
— Хотят расколошматить зенитную батарею, — говорит Хагедорн. — Значит, скоро подойдут танки. Возможно, даже завтра. Танкисты еще побаиваются зениток. Вот эти и лупят по батареям.
Девушка только жалобно смотрит на него. Под чистой кожей ее щек нежно розовеет набегающая кровь, красные пятна страха проступают на лице, портят преждевременный ровный загар. На висок из-под ярко-зеленого платка выбилась блестящая каштановая прядь. Хагедорн ближе придвигается к девушке. Он видит узенькую полоску белой кожи на затылке и над нею пушистые завитки. Видит совершенно ясно, потому что лежит вплотную рядом с ней и старается как можно выше держать голову, подпирая ее руками. Девушка лежит но шевелясь. Не хочет смотреть на солдата. Она смотрит прямо перед собой, и в глазах ее все еще светится страх. Судя но цвету и покрою ее юбки и жакета, она из «дев трудовых». Хагедорну хочется, чтобы она прониклась к нему доверием, он просит ее успокоиться. Он не причинит ей ничего худого.
Сделав круг над целью, машины всякий раз прядают вниз. Это можно определить на слух. Они с воем устремляются к земле, дают несколько очередей из пулеметов и пушек и с воем взмывают вверх. Потом рвутся бомбы. Налетает следующая волна, воет, палит, сбрасывает бомбы чертово колесо. Зенитки молчат, не слышно ни одного выстрела. Хагедорн говорит:
— Зенитчики не стреляют. Стоять у орудий во время такого налета — самоубийство. Но кое-кому все же придется его совершить.
Девушка рывком продвинулась вперед, высунула голову из-под прикрытия, кажется, она хочет бросить взгляд на батарею и на Райну. Но под этим углом зрения все равно виден только скос канавы да высокие столбы дыма в небе.
— Осторожно! кричит Хагедорн, когда она еще больше высовывается.
Девушка послушно соскальзывает вниз. Свежее лицо побледнело. Вид у нее совсем убитый. Надо попробовать к ней подойти по-человечески, подумал Хагедорн с состраданием, да и так… вообще.
Вдруг девушка закрыла лицо руками и, повернувшись к нему спиной, легла набок. Рыданья сотрясали ее. Он приподнялся и нагнулся над нею, так что его рот почти коснулся ее уха. Она, верно, чувствовала его дыхание.
— Рейнхард, — вдруг простонала она.
Это опрокинуло всю его тактику. Значит, она влюблена в какого-то Рейнхарда. И этот Рейнхард наверняка сидит сейчас в щели на батарее, и над ним с воем кружатся самолеты, изрыгая смерть. Она боится за него. Но что мне за дело до ее Рейнхарда? Я поступлю, как джентльмен, никогда не скажу ему, что его девушка… Буду молчать. Знаешь, малютка, эта ситуация требует, чтобы мы перешли на «ты». Не мы се спровоцировали, а она нас. На войне всегда так. Ты слаба, я силен. Спрячься за моей спиной. Я поведу тебя, если хочешь, даже к твоему Рейнхарду, попозже, когда минует опасность. Сейчас самое время довериться мне.
И он заговорил:
— Слушай, девушка, от твоих слез ему легче не будет. Еще увидишься с ним, со своим Рейнхардом. Не каждая нуля попадает в цель.
Она и вправду постепенно успокоилась.
— Это мой брат, — наконец пролепетала она, — ему только шестнадцать лет, он еще совсем несмышленыш и такой добряк…
— Твой брат?
— Да.
Ну, брат — это не препятствие. Но и ему не следует говорить. Брату не надо знать…
— У тебя доброе сердце, — сказал Хагедорн и, смеясь, подул ей в затылок, под завитки. Она молчала. Он сдул слезу с ее носа. Она молчала. Ласково, но с силой перевернул ее на спину. Она молчала и только смотрела на небо. Великий женский страх горел в ее взоре. Затем она снова закрыла лицо руками. Очень уж любит этого мальца, подумал Хагедорн. Как-никак старшая сестра. И тут же подумал: верно, она заменяла ему мать. Как в куклы играла. Это была смутная, путаная мысль. Он хотел подавить ее в себе, но тщетно. Да он и сам знал, что такую мысль ему подавить не удастся. Она связана с воспоминаниями, как веревками прикручена к ним. Всякий раз, когда он видел проявление материнских чувств в девочке, у него становилось тяжко на душе, и он поневоле вспоминал о своих сестрах, как по-матерински обходились они со своими куклами и как маленькая Барбель однажды в проливной дождь с плачем вбежала в дом — ее кукольный сынок насквозь промок, бедняжка. Такие воспоминания бередят чувства, а иной раз и совесть.
О материнском начале Хагедорн однажды разговаривал с Залигером, еще во времена, когда вся гимназия благоговела перед Леей. «Тут уж ничего не поделаешь, — сказал Залигер, — встретится девушка, которую, как тебе кажется, ты любишь, и это значит, что прежде всего ты любишь в ней материнское начало. Ты это продумай и запомни. Бледные куколки, которым оно чуждо, пожалуй, более сексуальны, но они только высасывают всю твою душу. Берегись таких. В сущности это холодные, как лед, бабенки. Они украшают праздник своей любви ненасытностью, потому что страдают хроническим отсутствием аппетита. Ты понял, малыш?»
По окончании этой беседы Залигер щелкнул по носу своего младшего соученика Хагедорна, верно, потому, что тот состроил очень уж глупую рожу.
А девушка рядом с Хагедорном плакала, плакала, как его сестренка в тот дождливый день, из-за того, что ее кукольный сынок лежал на батарее под ливнем пуль. Широко раскрытыми, испуганными заплаканными глазами смотрела она на него. Этого взгляда раненой лани он больше не мог выдержать, черт побери, не в силах он смотреть ей в глаза. Ему даже показалось, что он краснеет.
— Убрались восвояси, вылезай, — сказал он.
Они выкарабкались из укрытия, хотя грохот и вой все еще стояли в воздухе, только что ужо не над самой землей. Руди Хагедорн поправил портупею и туже затянул ремень. Он думал: не исключено, что я мог бы полюбить эту девушку, как когда-то полюбил Лею. Но это бессмысленно. С любовью покончено и с материнством покончено. У нас у всех грязные руки. Я уже готов был накинуться на нее, как зверюга. Смущенная девушка ни слова не проронила, ни слова, только завязала потуже зеленый платок и поправила заколку не без кокетства. Она чувствовала благодарность к этому солдату, не зная даже, как его зовут. Смотри-ка, думал Хагедорн, она на глазах расцветает, прелесть какая стала, верно оттого, что у нее камень свалился с души. Теперь надо сказать ей что-нибудь доброе. Но что? Я не знаю добрых слов.
— Вы тоже зенитчик и стоите в Райне?
— Я туда иду. Пойдем вместе, разузнаем, может, твой братишка еще целехонек.
Это было жестоко. Но он должен быть жесток. Должен спастись бегством в мир мертвых чувств.
— Нет, мне сейчас нельзя идти… После обеда мы начнем пахать. Хозяину наплевать на налеты и на Рейнхарда тоже. — Она показала рукой на прошлогоднее жнивье, где через ровные промежутки были разложены небольшие кучи навоза, частично уже разбросанные по нолю.
— Ты прикомандирована к крестьянскому двору? — поинтересовался Хагедорн.
— Вы это по моей одежде решили?
— Да, ты ведь «дева трудовая»?
— Теперь уже нет. Я работаю у хозяина в Рорене. — Она кивнула в сторону грязно-рыжих крыш деревеньки, торчавших из ложбины.
— В таком случае прощай и не поминай лихом, — отрезал Хагедорн, собираясь идти.
— Господин унтер-офицер…
— Ну, что еще?
— Будьте добры, приглядите маленько за пареньком! Рейнхард Паниц его звать, шестое орудие.
Трогательная девушка! Хагедорну захотелось сказать ей грубость, хоть словами причинить ей боль.
— В наше время, деточка, никого под стеклянный колпак не спрячешь.
Ее свежее личико снова поблекло.
— Наша мать, — просто сказала девушка, — погибла в Дрездене. Отец убит. У меня никого нет, кроме братишки. Я и сюда-то нанялась, только чтобы за ним приглядывать.
Звучит как начало сказки, подумал Хагедорн. Братик и сестричка в году тысяча девятьсот сорок пятом. Но, увы, это обыкновенная история. И, к сожалению, слишком много людей рассказывает теперь эту печальную сказку. Конец к ней каждый должен придумать сам. Преследуемый этой навязчивой мыслью, он сказал:
— Может, ты знаешь заклинанье против осколков и пуль? Я его не знаю. Точно так же они могут угодить и в меня.
— Нет, — серьезно отвечала она, — в вас не могут.
— В меня не могут? Из-за моих прекрасных глаз, что ли?
Она глянула на него взглядом старой колдуньи.
— Нет, оттого, что вы без сердца…
Повернулась и пошла на бурое поле к навозным кучам.
Без сердца? Ай да сестричка из сказки! Таким девчонкам только палец протяни, они уж о сердце заговорят. А сердце — антикварная редкость.
— Эй… ты…
Девушка не оглянулась. Да и Хагедорн больше не окликал ее, он ведь не знал, собственно, что ей возразить. И подумал: может, в ее словах есть доля правды? Но я ее перехитрю. Просто не стану об этом думать. Забуду. Точка. Конец.
Унтер-офицер Хагедорн и вправду больше об этом не думал. Он приказал себе: вперед, но дороге, прямой, как стрела.
Но не желанье и но воля человека определяет то, что остается у него в памяти или из нее выветривается.
Глава третья
Немного погодя шоссе оживилось. Хильда Паниц, работавшая в поле, — она сильными ловкими движениями брала вилами навоз и разбрасывала его по земле — видела, как пожарные машины из Эберштедта промчались в Райну. После воздушного налета над городом выросло плотное облако дыма, окрасилось багровыми отсветами пожаров и лениво расплылось по небу.
В поле было почти безветренно. И все же запах гари постепенно примешивался к запаху навоза и свежей весенней земли. Девушка вдыхала дым, и ей чудилось, что он поднимается с рыхлой бурой земли, жестокий жар огня, казалось, въелся в свежесть полей и лугов и бьет ей прямо в лицо. Внезапно с высокого бледного неба на нее заморосил мелкий дождик горелой бумаги или соломы.
И «это» с неба, не из ада, думала девушка, страшась назвать «это» по имени, чтобы не подпустить к себе. Ибо страх представлялся ей огромным, мерзостным зверем, изготовившимся к прыжку.
Хильда Паниц снова перевязала платок, пониже спустила его на лоб, потуже стянула на затылке; теперь он обрамлял ее лицо, как монашеское покрывало. Этот платок две недели назад, в день ее двадцатилетия, ей подарил Рейнхард. Красивый большой платок, из чистой шерсти, теплый и ярко-ярко-зеленый. «Возьми, сестричка, — сказал он. — Я его организовал для тебя. Мне это далось без груда. Надеюсь, тебе нравится?» Эти слова, звук его голоса она слышала как сейчас. В день ее рождения Рейнхард без увольнительной примчался в Рорен, до которого от батареи был добрый час ходьбы. Он застал ее в кухне, где она готовила пойло для свиней, вытащил из нагрудного кармана платок, даже не завернутый в бумагу, развернул его под тускло горевшей лампой и, так как руки у Хильды были липкие от картофельных очистков, сам накинул ей на волосы и завязал, неловко и неумело, под подбородком.
Она стояла, оторопев от радости, и ей очень хотелось посмотреться в зеркало, а он подбежал и чмокнул ее в нос. Уже много лет брат, которому пошел сейчас семнадцатый год, не целовал ее. А теперь она даже не могла прижать его к себе, потому что стыдилась своих вымазанных и липких рук.
Смеясь над ее растерянностью и радостью, мальчишка убежал, даже не поздоровавшись с хозяевами. С тех пор Хильда не видала его.
Хозяева подарили ей на рожденье черный толстый резиновый фартук. Фартук по утрам висел в сенях на гвозде рядом с прочей ее одежонкой. Поздравлять хозяева ее не стали. Да и зачем? Хозяин был властный человек, а хозяйка с утра до вечера только и знала что браниться.
В большой комнате под грамотой на право владенья наследственным хутором висел девиз Мартина Хеншке, фюрера местной организации крестьян, тоже под стеклом и в рамке: «Не щади себя в труде! Не щади врага! Храни верность фюреру».
Девушка знала, откуда у хозяина оказался этот фартук, в лавке ведь такой уже давно нельзя было достать. Хеншке взял его у Лизбет Кам, «полностью оставшейся без крова вследствие бомбежки», женщины, эвакуированной из Берлина и по разверстке поселенной у него на хуторе. Вместе со своей семилетней дочкой она жила на бывшем сеновале над конюшней. В этом заброшенном чердачном помещении имелось одно низенькое слуховое оконце, смотревшее на улицу, да два небольших люка, пробитых в стене, выходившей во двор, и заслоненных досками. Поначалу Хеншке даже отказывался поставить там печь, ссылаясь на инструкцию по противовоздушной обороне, и всеми способами принуждал жиличку работать у него на хуторе. Дело в том, что в последнее время прекратился приток дешевой рабочей силы, то есть военнопленных, которых можно было кормить водянистой похлебкой да пинками. Из-за участившихся налетов и нехватки конвоиров их попросту перестали выпускать из лагерей.
Лизбет за словом в карман не лезла и грустить была не охотница. Когда Хеншке попытался заставить ее работать, она спокойно заметила, что еще не известно, останется ли у пего на квартире, а вообще в войну она стала трамвайным кондуктором и другому делу не училась, знает только, что как аукнется, так и откликнется, и к этим знаниям ничего прибавлять не намерена. Денег у нее хватает, может стомарковыми бумажками у него весь пол застелить, хайль Гитлер! На это Хеншке нечего было возразить, хоть он и знал, откуда ветер дует, но за пораженческие идеи, скрыто присутствовавшие в бойких словах этой горожанки, все же не решился стянуть веревку на ее шее. Ему было известно, что ее муж — обер-фельдфебель, награжден золотым Германским крестом. Зато он сумел позаботиться, чтобы его строптивую квартирантку мобилизовали на работу в Эберштедтские оружейные мастерские, где она в огромном каменном корыте с кислотой очищала от ржавчины трофеи — винтовочные стволы и штыки.
Когда Хеншке заметил, что от вредной работы у нее появились синие круги под глазами, светлое чувство справедливости вдруг возобладало в нем. Из-за негнущейся ноги — наследие первой мировой войны — он больше не подлежал мобилизации, а в качестве амтсвальтера и ортсбауэрнфюрера почитал основной своей задачей помощь в «битве за пропитанье» и «превращенье каждого крестьянина в активного бойца». За неистовую преданность партии и солдатскую манеру выражаться крейслейтер с марта месяца начал посылать его в деревни как главного оратора. Там он всячески изощрялся и брызгал слюной, распространяясь на одну и ту же тему — «Победа или Сибирь», как иезуит, неизменно читающий проповедь о вечном блаженстве и вечном проклятии.
Хеншке в буквальном смысле слова выколачивал свои фразы. Потому что костыль, с которым он не расставался, после каждой второй или третьей с таким треском стукался о старый стол деревенской харчевни, что казалось, кто-то стреляет из пистолета. А так как он колотил направо и налево кошек, собак, коров, лошадей, военнопленных, прислугу, даже жену, то в деревне его окрестили «Хеншке Тяжелая Рука».
В середине марта, женщина, жившая со своей дочкой на чердаке, получила страшную весть — ее муж пал смертью храбрых в боях за родину. Обезумев от этого известия, она кричала в голос, и крики ее через открытые люки чердака разносились по соседним дворам: «Все пускай идет псу под хвост, все, все, все…»
Когда она, наконец, стихла, ее обуял страх, что Хеншке, сочтя отчаянные ее выкрики за «разлагающие высказывания», донесет на нее гестапо. Она ворвалась к нему в комнату и забила отбой, то есть стала говорить о своей вдовьей доле, которую она будет нести отважно и гордо, как подобает немецкой женщине. Заодно она подарила хозяйке черный резиновый фартук, прочную штуковину с металлическими петельками и холщовыми завязками. Ей удалось вытащить его из подвала своего разбомбленного дома, и он очень и очень пригодился ей при работе с кислотой. В воздухонепроницаемых защитных комбинезонах, которые администрация выдала работницам, женщины потели так, что последние остатки жира сходили с них, и к тому же часто болели чесоткой, ангиной и другими болезнями.
Хеншке милостиво отнесся к раскаявшейся женщине «в намять героической гибели вашего отважного супруга и кавалера Германского креста», как он выразился, а фартук принял в качестве скромной квартирной платы. Впрочем, чтобы избежать подозрения во взяточничестве, он заплатил ей за него две марки. Его жене этот фартук не понравился и в конце концов достался Хильде.
Рейнхард за зеленый платок в продолжение десяти дней отдавал свою порцию колбасы и масла пожилому, вечно голодному ефрейтору, который в гражданской жизни был профессором остеологии и расовой теории, плюс к тому табачный паек «до первого пришествия», как выразился ефрейтор.
Но девушка об этом ничего не знала. «Мне он легко достался», сказал Рейнхард. Знала она только, откуда взялся передник. И никак не могла понять, почему жиличка, к которой она забежала назавтра, наотрез отказалась взять обратно эту вещь, столь ей необходимую.
По шоссе теперь, близко следуя друг за другом, шли санитарные и транспортные машины. Сопровождающие, сидевшие рядом с шофером, держали двери кабины открытыми, то и дело всем корпусом высовывались наружу и едва не сворачивали себе шеи, глядя в небо — не возвращаются ли самолеты противника.
Когда девушка увидела машины с красными крестами, у нее руки и ноги отнялись. Страх, огромный омерзительный зверь, которого она надеялась не подпустить к себе, уже разевал на нее пасть, полную бешеной слюны; она, словно ища спасенья, закрыла лицо руками, так что ногти впились ей в щеки, и не помня себя твердила: «Господи, боже мой, оставь мне брата, не отнимай у меня последнее. Господи, боже мой…»
Она ринулась на шоссе, дождалась, пока прошла машина со знаком военно-воздушных сил, остановила ее и стала просить подвезти до зенитной батареи — там у нее братишка. Ей повезло. Машина, старый рено с комично высокой газогенераторной колонкой позади кабины, до половины груженная боеприпасами, как раз шла на батарею, и шофер согласился ее прихватить. Сидя между шофером и сопровождающим, девушка прижимала руки к телу, словно ее тряс озноб, и неотступно смотрела на широкую асфальтированную ленту шоссе, которая лениво двигалась навстречу вздрагивающему капоту машины. Ей казалось, что они все время едут вверх и вниз, вверх и вниз.
Оба солдата в кабине, один, за рулем, — пожилой, с воспаленными веками, уже много дней не державший в руках бритвы, и второй — долговязый юнец, у которого слишком большая каска то и дело сползала на затылок, не сразу смекнули, что с этой девушкой не заведешь тех дорожных разговоров, которые они (с добавлением натурой) привыкли взимать со случайных пассажирок в качестве платы за проезд. Поначалу молодой, изображавший из себя человека бывалого и хладнокровного (высовываясь из кабины и глядя в небо, он насвистывал «Тореадор, смелее в бой»), беззастенчиво выкладывал все, чем было полно его опытное рыцарское сердце, а потом призвал на помощь руки и, чтобы окончательно растопить лед, положил их на колени «мадонны». Старший сообразил, что девушка не жеманится, сидя так неподвижно и оцепенело, к тому же он вспомнил, что она едет на батарею к брату, и одернул не в меру ретивого кавалера. Юнец от нее отвязался, но ей в укор и себе в утешение промурлыкал:
— Сердце красавицы склонно к измене…
В том феврале, когда пылал Дрезден и погибла мать, два солдата вот так же подвезли ее в машине. Но тогда они ехали из маленького городишки в Судетах, где она работала в госпитальной кухне подсобной рабочей, через заснеженный горный хребет по направлению к Дрездену. Минутами, когда до ее сознания доходило, почему она в пути, когда перед ее глазами вставал текст телеграммы, посланной Рейнхардом: «Мать погибла во время налета. Квартира, вещи сгорели. Приезжай домой», ей казалось, что где-то рядом оглушающе и пронзительно звучит фанфара. Наверно, это было подсознательное воспоминание — одно время Рейнхард был фанфаристом в отряде гитлерюгенда и, когда он начинал упражняться в кухне, она убегала в спальню и зарывалась в подушки, только бы не слышать этих раздирающих мозг и уши звуков. Отец бы тоже этого не стерпел. Но отец был уже мобилизован и писал из Бельгии, что живет хорошо, но дома жил бы лучше. До войны он служил при большой булочной возчиком — со своим фургоном и лошадью. Нацистов, насколько ей помнится, он недолюбливал. Во всяком случае, никогда не позволял своим детям участвовать в воскресных экскурсиях Союза немецких девушек и юнгфолька. Когда Рейнхарду исполнилось восемь лет, он купил ему велосипед — чтобы у каждого из членов семьи был свой собственный. При более или менее сносной погоде семейство Паниц в полном составе выезжало за город. Отец до смерти любил вспоминать свои юношеские странствия. И петь он любил. Собираясь ехать за город, он иногда засовывал свою гитару в рюкзак Рейнхарда. В июле сорок четвертого отец, уже обер-ефрейтор, был убит в Югославии. Каинтан, командир его роты, написал матери: «…верный своему долгу, пал за фюрера и отечество…» Но не написал, что обер-ефрейтор Паниц получил от своего капитана приказ съездить на велосипеде в оставленный немцами населенный пункт и взять забытый капитаном бритвенный прибор. Паница застрелили партизаны.
В ту поездку через заснеженные леса и горы девушка рассказала своим спутникам о своей горькой сиротской судьбе. Один из них, красивый молодой человек со спокойными повадками, заботливо и ласково отнесся к ней, когда же они на собственный страх и риск остановились на ночь в гостинице в Цинвальде, разделил с ней ее постель и в доказательство своих честных намерений оставил свой домашний адрес в городе Ютербоге. Письмо, которое девушка вскоре туда послала, вернулось с пометкой «адресат неизвестен». Со вторым повторилось то же самое.
От брата Хильда утаила безмерное свое разочарованье. Да и не подобало в те дни об этом рассказывать. Рейнхард по мере сил помогал ей во время ее двухнедельного отпуска «для посещения родителей, пострадавших от воздушного налета». Ни разу она не видела, чтобы он плакал. Он вел себя разумно и осмотрительно, как мудрый старый человек. На единственной уцелевшей стене родительского дома, правда обугленной и побитой осколками, Рейнхард написал мелом: «Хильде Паниц следует идти к фрау Шмидель». Это была знакомая отца и матери, жившая в Нейштадте. Сам он проходил краткосрочное обучение в казармах возле Хеллера. Он предпочел бы остаться краснодеревщиком, но уже усвоил манеру будто бы хладнокровно приспосабливаться к любым обстоятельствам.
Только раз брат и сестра пошли на разрушенную улицу, к руинам того дома, что на веки вечные погребли под собою их мать, а также их детство и юность. Набрав в горсть цементной ныли, Рейнхард стер написанные мелом слова. И от прошлого не осталось ничего, кроме чужой полуобвалившейся стены.
Чтобы похоронить в отдельной могиле обгоревшие останки матери, опознанной лишь но обручальному кольцу, Рейнхард Паниц выменял у знакомого повара на серебряную цепочку сестры немного шпику и кофе в зернах. Хильда сиесла эти продукты горбатому кладбищенскому сторожу. Поощренный взяткой, тот пообещал «устроить» отдельную могилу. Увы, этот добрый человек по смог сдержать своего обещания. Похоронная команда, работавшая, так сказать, аккордно, захоронила фрау Эльзу Паниц вместе с другими до неузнаваемости изуродованными мумиями в большой общей могиле. Хильде рассказали, что горбатый старикашка вдруг запрыгал на одной ноге и стал на богохульный манер распевать хоралы.
В последний вечер ее отпуска Рейнхард, захватив с собой гитару, зашел к фрау Шмидель, Вместе с хозяйкой брат и сестра пели старые песни, тс самые, которые нередко певали с родителями.
Мир прекрасный, бесконечный Перед нами распростерт…А когда тоска схватила за горло Хильду и голос ее задрожал, хозяйка, сама потерявшая мужа и старшего сына, по-матерински прижала ее к своей груди и зашептала ей что-то о мужестве, о твердости сердца, необходимой в эти времена. Рейнхард сердито ударил по струнам и сказал, что сердца становятся всего тверже, если хранить их на льду. А потом спел мальчишеским грубоватым голосом:
Ведь этим моряка не испугаешь…
На следующий день Хильда уехала обратно в Судеты. Но оказалось, что госпиталь ликвидируется. А так как она уже отработала свой срок и была, так сказать, рядовой, то ее от трудовой повинности освободили. Она не знала, куда же ей теперь податься. Но несколькими днями поздней Рейнхард закончил свое краткосрочное обучение и написал ей, что направлен на зенитную батарею в Райне. Тогда и она стала искать работы и крова где-нибудь поблизости. Кем и у кого работать, ей было все равно. Привередничать не приходилось. По окончании школы, весной 1939-го, когда ей пришлось отбывать год обязательной трудовой повинности, Хильда попала на работу в многодетную семью дрезденского школьного учителя, эсэсовца. Там ее использовали как «прислугу за все», а кормили главным образом высокопарными нацистскими словесами. В один прекрасный день она разбила вазу из дымчатого богемского стекла… А как только она была освобождена от своих многочисленных обязанностей в этой семье, грянула война. Она стала ученицей закройщицы на фабрике дамского платья, но вскоре уже кроила только солдатское обмундирование. По прошествии без малого трех лет, так и не сдав экзамен на мастера, Хильда была мобилизована в «девы трудовые» и работала сначала в районе Позена, потом в Судетах у богатых крестьян в поместьях, в госпиталях, вечно перебрасываемая с одной грязной работы на другую.
Хильда Паниц в свои двадцать лет знала уже немало мужчин, которые ухаживали за ней, нетерпеливо и дерзко ее вожделели. В сильном теле Хильды, в крестьянской огрубелости ее свежего лица было что-то преждевременно женское, и мужчин, тосковавших вокруг нее, это сводило с ума, но крик страсти, обычно слишком рано и грубо вырывавшийся из их глоток, не туманил ее голову.
От нахалов Хильда отделывалась легко и просто, но с торопыгами приходилось трудней. Стоило ей подумать, что этот молодой красивый парень, штурмующий ее вздохами и мольбами, завтра или послезавтра, возможно, вознесется над милой и любимой землей в страшном облаке взрыва, как ее охватывало состраданье. И ей случалось дарить радость такому торопыге, не спрашивая, будет ли он верен ей. К солдату, который по пути в Дрезден спал с нею, она и вправду хорошо относилась. Он сочувствовал ей, выслушал ее рассказ и старался ее утешить. На то, что он оболгал и обманул ее, она не обижалась и даже видела в этом справедливое возмездие. Частенько она говорила себе: до сих пор ты сама всех обманывала, состраданье выдавала за любовь, а это обман и грех перед любовью.
Обо всем этом она стыдилась рассказать Рейнхарду. Но теперь вдруг подумала: он же все рассказывает мне. И не стыдится говорить, что в наше время сердце надо хранить на льду. На самом деле он не такой. И я не такая, как можно подумать по моим поступкам. Сейчас война. Все боятся смерти и друг друга. А чтобы жить, надо иметь хоть одного человека, которого ты ни капельки не боишься, которому все можно сказать и который всегда поможет тебе… Я расскажу Рейнхарду, как я познакомилась с этим унтер-офицером, который едет к ним на батарею. Да, непременно расскажу, я ведь не знаю, что он за человек, этот унтер-офицер. А Рейнхард будет все знать о нем, все решительно…
Широкая асфальтированная лента дороги перестала набегать на капот машины. Девушка заметила, что они попали в вязкую колею, слышала, как ревел и пыхтел мотор. Из-за опасного груза шофер не поехал кратчайшим путем — через горящую Райну — и свернул на проселочную дорогу, огибавшую селенье, которая должна была прямо привести их к батарее. Около тонкой блестящей мачты машина остановилась.
— Приехали, — сказал солдат.
Девушка поблагодарила и выпрыгнула из кабины.
С блестящей тонкой мачты до земли свисали оборванные телефонные провода. На лугу возле орудий зияли полуобвалившиеся ровики, вокруг которых все было забрызгано гигантскими брызгами желтого песка и мергеля, нанесенными сюда взрывной волной. Казалось, на зеленую лужайку ссылались с неба простреленные звезды.
Пройдя около ста метров по той же проселочной дороге, девушка наткнулась у штабеля пустых ящиков из под боеприпасов на паренька с винтовкой, стоявшего на посту. Боязливо поглядывая на защитные накидки, топорщившиеся над холмиками за снарядными ящиками, он сказал, что, пожалуй, лучше ей не смотреть на брата… Сейчас придет повозка с соломенной подстилкой и отвезет тела павших бойцов на Райнское кладбище… Паренек, знавший сестру Рейнхарда Паница, был вполне уверен, что ей сообщили но телефону о несчастье, и страшно перепугался, увидев, как безумно расширились глаза девушки, а руки стали хватать пустоту. Потом она заскулила жалобно, протяжно, так немые выражают свое горе, и рухнула на порожний ящик.
В расположении батареи, где люди суетились, как муравьи в разворошенном муравейнике, перетаскивая мешки с песком, маскировочные сети, восстанавливая старые и отрывая новые укрытия, кое-кто заметил девушку. Но ни кто не поспешил к ней. Только паренек с лицом бледным, как у гипсовой статуи, стоял возле нее и мертвецов, держа винтовку на плече. Он впился пальцами в ремень так, словно это была его единственная точка опоры.
Унтер-офицер Хагедорн, вскочивший в санитарную машину, чтобы добраться до Райны, уже прибыл на батарею. В канцелярии, разместившейся в одном из домов на окраине, у него отобрали командировочное предписание и направили к обер-фенриху фон Корта, командиру огневого взвода. Хагедорн разыскал его на огневой позиции, где он, стоя на бруствере орудийного окопа, командовал солдатами, перетаскивавшими 88-миллиметровую пушку, электропривод которой, а также система принимающих приборов были выведены из строя огнем бортового орудия самолетов противника.
Обер-фенрих, стройный, чернявый малый, помоложе Хагедорна, был одет в солдатскую куртку, на офицерский манер сильно стянутую ремнем в талии. На его черных маслянистых волосах лихо сидела фуражка с мягкой складкой, как носят фронтовые офицеры. В петлицу были продернуты две ленточки — Железного креста и Креста за военные заслуги второго класса. Он кричал орудийному расчету, по большей части состоявшему из помощников зенитчиков, тянувших пушку, хриплым надорванным голосом:
— Ну-у, взяли! Лево, лево держать!
При этом он подрагивал коленями и, комкая одну перчатку в правой руке, в такт своим командам хлопал ею по левой. А так как ребятам все равно не удавалось вытащить тяжелое орудие но крутому скосу окопа, то он раз за разом кричал им: «Эй, вы, калеки!» Он был похож на итальянца. На батарее его прозвали «Паганини». Хагедорн явился к нему со словами:
— Прибыл для дальнейшего прохождения службы.
Причем он нарочно произнес это подчеркнуто не по-военному, не принимая стойки «смирно». Этот обер-фенрих — тыловая свинья, крыса, вынюхивающая добычу, и чтобы я стал оказывать ему почтение! Да будь он хоть двадцать раз «фон»! Фон Корта сверху вниз поглядел на Хагедорна, скривил рот и задиристо вскинул голову. Хагедорн ответил ему взглядом, довольно точно выражавшим, что он думает. С первой же минуты он решил: плевать мне на этого типа и точка. В скучной и долгой войне частенько возникают краткие распри. Иной раз они даже полезны. Человек, если он, конечно, не шляпа, извлекает из них известную толику радости. Но при таком поединке нижний чип должен уметь вовремя отступить, так это небрежно отойти в сторону, едва старший занесет руку для удара. Но прежде всего он должен постигнуть тактику Августа Пифке, то есть тактику великолепно сыгранной глупости. И еще нужно уметь молча глотать обиды.
Хагедорн заметил, что Корту там, на бруствере, слегка покачивает.
— Командуйте за меня! — заорал обер-фенрих так, словно перед ним стоял глухой. Хагедорн осклабился и отвечал учтиво, как продавец галстуков:
— Слушаюсь, господин обер-фенрих!
Тот круто повернулся, сошел вниз и удалился, прямой, как свечка, только что слегка припадая на обе ноги.
Хагедорн сменил солдата у передней станины.
— А ну, давайте, ребята! Раз-два, взяли! — Он нисколько не удивился, что «ребята» и вправду по-другому взялись за дело. Орудие плавно сдвинулось с места и было живо доставлено на шоссе, ведущее к Райне. Там один из солдат сказал своему товарищу, нарочито громко, чтобы слышал Хагедорн:
— А наш-то Паганини — задница!
— Кто это Паганини? — спросил Хагедорн, хотя и знал, о ком идет речь.
— Обер-фенрих, — без обиняков отвечал тот.
— Господин обер-фенрих, — поправил его Хагедорн и тотчас же резко сказал: — Если вы еще раз употребите это выражение в моем присутствии, вам будет плохо!
Тот стоял перед ним, не в силах скрыть ни своего разочарования, ни испуга. И ты тоже еще станешь как Август Пифке, подумал Хагедорн.
Когда они шли обратно, один из парней обратил внимание Хагедорна на девушку, неподвижно лежавшую на снарядных ящиках. Хагедорн узнал ее.
— Это сестра одного из наших ребят, его сегодня прикончило, — сказал кто-то. — Она часто наведывалась на батарею. Да что там, мы могли точно так же лежать под накидкой.
— Я бы не выскочил из укрытия, как Рейнхард Паниц, оттого что обер-фенрих заорал: какой мерзавец оставил панораму на шестом орудии! Бедняга Рейнхард решил, что должен сбегать за ней, у нас ведь осталось всего две штуки на двадцать одно орудие…
Позади девушки стоял обер-фенрих и что-то говорил ей, переминаясь с ноги на ногу. Ну совсем злой дух сорок пятого года, подумал Хагедорн, прямой потомок того, что стоял в соборе за спиной бедной Гретхен. Но девушка, видно, и не слышала чернявого. Тогда рука Корты в замшевой перчатке протянулась и потрепала ее по плечу. Хагедорн пошел к ним. Он знал, что это непростительная глупость — сейчас приблизиться к обер-фенриху и, возможно, испортить ему игру. Это уже ничего общего не имело с тактикой Пифке. И все-таки он пошел. Он должен был пойти, что-то неотвратимо побуждало его к этому.
Паганини не обратил на него ни малейшего внимания. Он наигрывал для девушки стаккато на коричневой геройской скрипке.
— Фрейлейн! Послушайте! Встаньте же наконец. Это горе, большое горе. Но в наши дни нам не пристало горевать о павших в бою. Верьте мне, девушка, только слава павших героев живет вечно…
Обер-фенрих еще довольно долго говорил в том же тоне. Девушка не реагировала. Она сорвала с головы зеленый платок, скомкала его и прижала ко рту. Когда у чернявого иссякло терпение, а также мысли и он начал досадливо покашливать, Хагедорн подбежал, склонился над ней и проговорил:
— Встань, девочка! Кто знает, от каких мучений избавился твой брат! Встань, поди домой…
Он опять заметил мягкие завитки на ее шее. Но невеселая мысль вдруг кольнула его. Куда же это — домой? Куда? У него на языке уже вертелись слова: домой, к моей матери. У меня еще две сестры, найдется место и для тебя. Там есть лес. И нет войны. Там на лугах сейчас зацветают крокусы… Он заколебался. И ничего не сказал. Девушка поднялась, посмотрела на него обезумевшими глазами, посмотрела на топорщившиеся защитные накидки, открыла рот, чтобы что-то сказать, но голос ее не слушался, тогда она бросилась бежать, словно ее ударили кнутом, по проселочной дороге. Зеленый платок то развевался в ее руках, то волочился по грязи.
У паренька с лицом гипсовой статуи вырвался стон. Казалось, винтовка на плече, каска на голове и шинель на теле вдруг стали непомерно тяжелы ему.
— Нечего нюни распускать, — рявкнул на него обер-фенрих, — возьмите себя в руки, здесь не институт благородных девиц.
— Слушаюсь, господин обер-фенрих, — пробормотал паренек, щелкая каблуками и вытягиваясь по стойке «смирно».
Хагедорн обратился к Паганини:
— Господин обер-фенрих, разрешите проводить девушку, она еще глупостей наделает.
Фон Корта в ответ громко расхохотался и крикнул:
— Этого еще не хватало! Лучше вы ничего не сумели придумать?
И так же внезапно перестал смеяться, у этого человека все делалось без перехода. Он отозвал Хагедорна в сторону и грозным шепотом заговорил:
— Вы, видно, из породы знахарей, что внушают некоторым нашим согражданам, тем, у которых глаза на мокром месте, что геройская смерть — это еще наименьшее из зол. «Кто знает, от каких мучений избавился твой брат!» А вы знаете, унтер-офицер, чем это пахнет?
От чернявого разило винным перегаром. Хагедорн дав но ужо понял, что совершил ошибку. Этот тип принадлежал к тем, что пьют и но пьянеют, и его трезвость была самым неучтимым в нем. Что он осрамил его перед девушкой — беда невелика. Но что он при этом но только порол ерунду, но и сбросил с себя маску — это могло для него плохо кончиться.
Чувствуя, что он весь покрывается холодным потом, Хагедорн вытянулся по стопке «смирно» и постарался скорчить самую почтительно-дурацкую мину, на которую был способен. Чернявый между тем продолжал правой рукой дергать пальцы на левой так, что суставы хрустели. Затем он с брезгливым видом произнес:
— Для вашей пользы будем считать, что вы не в мору наивны. Ну, да, впрочем, это не замедлит сказаться.
Хагедорн собрался было произнести: «Разрешите идти, господин обер-фенрих», но успел проговорить только «Разрешите…», как тот перебил его:
— Пойдемте со мной!
На полпути к орудиям фон Корта вдруг остановился и снова накинулся на Хагедорна:
— Это называется подрыв оборонной мощи и боевого духа гражданского населения. Толстый нес! Что вы смотрите на меня, как баран на новые ворота? Это неоспоримый факт.
— Я думал, господин обер-фенрих…
— Ага, думали! Думать — опасное занятие. Итак, что вы изволили думать?
— Я думал, господин обер-фенрих, что так, пожалуй, будет человечнее…
— Человечнее?
Фон Корта опять разразился смехом, опять внезапно оборвал его и посмотрел вслед девушке, которая была уже довольно далеко и шла ело волоча ноги.
— Для вашей пользы допустим, что у вас было на уме нечто человечное. Хотели на охоте уберечь лань! Так, что ли? Вам бы быть утешителем вдов и сирот, а не солдатом.
Взгляд из-под прищуренных век пронзил Хагедорна. Он понял: сейчас надо поступиться своей гордостью, надо снести циничные остроты чернявого, иначе все начнется сначала и кончится рапортом по команде. Итак, он подобострастно осклабился и сказал:
— Так точно, господин обер-фенрих.
Тот отбросил носком сапога подвернувшийся под ноги камень. На секунду Хагедорн почувствовал искушение побежать за этим камнем и по-собачьи в зубах принести его обратно. Чернявый повернулся на каблуках и зашагал, прямой как свечка, только колени у него слегка подгибались, к четырем 88-миллиметровым пушкам, установленным довольно далеко от других орудий и, судя по тому, на какую глубину они были врыты в землю, предназначенных для ведения огня по танкам.
Хагедорн, торопливо следовавший за обер-фенрихом, ненавидел себя. Если я и перед Залигером буду так пресмыкаться, думал он, значит, я и есть пес…
Когда они подошли к орудиям, обер-фенрих, вышагивавший впереди, сказал:
— Командир батареи возле «Доры». Подите, доложите ему, усталый воин, о своем прибытии. — Он проговорил это, не остановившись ни на секунду, не обернувшись, отцепил от себя Хагедорна, как автоматически отцепляют одну вагонетку от другой.
Хагедорн постоял в раздумье: какое же из двух орудий «Дора»? То ли крайнее слева, на шоссе, идущем в западном направлении от Райны, то ли крайнее справа на поле? Когда батарея развернута в линию, то все орудия устанавливаются в алфавитном порядке, только так и не иначе.
Так как чернявый свернул направо, то Хагедорн двинулся к орудию на шоссе. Подойдя уже достаточно близко, он убедился, что поступил правильно — на лафете стояло «Дора», но Залигера не было видно. Орудийный расчет копал ровики вокруг круглого орудийного окопа, а земля шла на усиление бруствера. Вот дурачье, строят добротно, солидно, точно береговые укрепления.
— Эй, ребята, вы что, себя замуровать хотите? Надо же сделать ход сообщения, чтобы удрать, когда до горла дойдет и уже побежит пехота…
Зенитчики подозрительно поглядели на незнакомого унтер-офицера.
— У нас никто удирать не собирается, — сердито буркнул какой-то узколицый юнец.
— Ну, разумеется, — примирительно отвечал Хагедорн.
Эти мальчики еще не пообтерлись как следует и не понимают, что для окончательной победы недостаточно отваги и добротных укрытий.
Хагедорн влез на бруствер орудийного окопа там, где он расширялся (под этим местом, видимо, находилась ниша для боеприпасов).
— Я ищу вашего командира, говорят, он где-то здесь.
— Точно так, господин унтер-офицер, вы как раз стоите у него на голове, — отвечал щекастый малый под злорадный хохот остальных. Хагедорн мигом спрыгнул вниз.
— Черт побери, да здесь у вас настоящая крепость с казематами и всем прочим. — Парни сразу настроились дружелюбнее.
— У нас отличный блиндаж для расчета, господин унтер-офицер. Нам приходится выносить основательные удары из-за близости к шоссе. — Хагедорн рассеянно кивнул.
Из орудийного окопа послышались приглушенные голоса. Минуту спустя оттуда вынырнул Залигер; Хагедорн видел его по-прежнему узкую спину, все еще по-детски тонкую шею, шелковистые светлые волосы, выбившиеся из-под фуражки. Жгучее чувство радости пронизало его. Только бы не заколебаться, не ослабнуть, воздать друг другу должное; мне — быть почтительным к старшему но званию, тебе — правдивым со мной.
Вслед за Залигером вынырнул обер-ефрейтор с птичьей головой. Оба полезли из окопа вверх по ступенькам.
— На войне всегда надо иметь в запасе нечто вроде Авраамова лона, — пошутил Залигер.
Хагедорн двинулся к нему, все еще его не видевшему.
Капитан отряхнул песок с чистого наглаженного френча, а когда он снял фуражку, намереваясь ее выбить, раздался голос, от которого его рука замерла в воздухе:
— Господин капитан, унтер-офицер Хагедорн прибыл в ваше распоряжение.
Бывают минуты внезапного воспоминания, когда все нервы в мозгу рывком стягиваются в тугой узел, который потом ослабевает в остром приступе головной боли. Именно это чувство испытал сейчас Залигер. Он круто обернулся к Хагедорну, провел рукой по волосам и затем медленно надел фуражку. Мгновенное потрясенье прошло. Залигер сумел взять прежний насмешливый тон.
— А скажи-ка, малыш, с каких это пор к старшему по званью обращаются откуда-то сбоку?.. — Хагедорн стоял перед ним, вытянувшись в струнку и не шевелясь. — Ладно уж, разомни свои старые кости, Руди… — Хагедорн не изменил положения.
— Имею честь передать господину капитану привет от начальника фронтового распределительного пункта.
Дотронувшись двумя пальцами до козырька фуражки, Залигер отвечал:
— Господин капитан выражает благодарность. — Он улыбнулся, но между бровей у него залегла вертикальная складка. — Давай-ка пройдемся немного…
— Слушаюсь, господин капитан…
Они шли рядом но тропинке, протоптанной через лужайку, и оба молчали. Залигер раздумывал, с чего начать. Он остался таким, как был, думал капитан, он хочет дать мне понять, что между памп нет ничего общего. Проклятая история с Леей… Что он понимает, этот желторотый… Но с людьми надо уживаться. Не успеешь оглянуться, и ты опять заперт в рейффенбергском хлеву. Уже в последний раз, когда я был в отпуске, тамошние жители на меня косились. Лучше, если между нами все будет по-хорошему.
Залигер остановился и рукой указал на расположение батареи — точь-в-точь помещик, обозревающий свои владенья:
— Будь я стариком Поликратом, я бы сказал: все это подчиняется мне. Но будем говорить откровенно. Я не Поликрат, а ты не старый египетский фараон. Признаюсь, я не очень-то счастлив…
— Господин капитан хочет сказать, что мечта развеялась…
— Какая мечта?
— Мечта о конечной победе.
— Ах, ты говоришь не о личном, о политике. Это превышает мою компетенцию. По мне, болтай что угодно, только не поминай зря черта, у стен тоже есть уши…
— Обер-фенрих, вероятно, подаст на меня рапорт, господин капитан. А потому…
— Ты что, с ума сошел? Надеешься, что я смогу тебе помочь? Что ты там надурил, старик?
— Да, собственно, ничего. Я встретил на батарее девушку. Она плакала но своему убитому брату… Отец у нее уже погиб, мать погибла. Я сказал ей: не реви, кто знает, от каких мучений избавился твой брат.
— И это все?
— Все, господин капитан.
Залигер вздохнул с облегчением.
— Ну, это я улажу с Кортой. Типичнейший психопат наш обер-фенрих. Будь с ним поосторожнее!
— Благодарю вас, господин капитан.
— Так вот, значит, где была собака зарыта. Ну, а теперь по боку «капитана». Слезай-ка со своих ходуль…
Хагедорн Мигом оставил свою официозность и посмотрел в глаза Залигеру доверчиво и прямо.
— Армии, мне надо задать тебе одни вопрос личного характера. Твой отец ведь еще встречается с доктором Фюслером: что слышно о Лее?
— Пойдем, — сказал Залигер, — на ходу легче разговаривать. Поверь, Лея была мне не менее дорога, чем тебе. И мы разошлись с нею не по-злому, а, если можно так выразиться, по-благоразумному. Потому что сделали бы друг друга несчастными. Я был честолюбив и не хотел в качестве нравственного героя хромать вслед за так называемым расцветом нации. Мой отец был большой шишкой в военном ферейне, так же как и мой дед старик Хенель. А мамаша уже собиралась приобрести сукно для парадного мундира, разумеется, из чистой шерсти. В тридцать девятом — сороковом наша армия ведь еще была на высоте…
У растрепанной березки они снова остановились. Залигер обрывал кусочки лопнувшей коры и растирал их между пальцев.
Наконец Хагедорн прервал молчанье.
— Я многое передумал, Армии. В том, что произошло, мы все виноваты, и все в равной степени. Бессмысленно думать о прошлом и закидывать друг друга грязью. Думать надо о будущем…
Залигер, по-видимому, радостно взволнованный, воскликнул:
— Верно, Руди, совершенно верно! Человечность разумна, а не патетична…
Хагедорн промолчал, не стал соглашаться с ним. В радости, охватившей Залигера, ему вдруг — почему, он и сам не знал — почудилось что-то неладное. И он тотчас же повторил свой вопрос:
— Что с Леей?
Залигер склонил голову набок и бросил обрывок коры наземь.
— Лен больше нет.
Он явно хотел прекратить разговор о Лее. И потому предположение выдал за свершившийся факт. Он лгал и не лгал в одно и то же время, ибо в глубине души был в этом убежден. Последняя ее открытка к Фюслеру была написана чужой рукой: «Я очень больна, но я выздоровлю». Нет, Лея не волевая натура, она мимоза и отчасти страстотерпица. А такие гаснут в лагерях, как свечи. У Залигера был знакомый врач-эсэсовец, он прочитал ему целую лекцию о различных типах заключенных.
— Ты это точно знаешь? — глухо переспросил Хагедорн.
— Увы, слишком точно.
Сквозь растрепанные ветви березки Руди недвижным взглядом смотрел на голые ноля за грязно-рыжими крышами Райны. От яркого света кучи светлой глинистой земли на бурой поверхности нолей казались ледниковыми бороздами. Ему вспомнилось: дома у них когда-то висела картина в рамке, на которой под закатным небом, красным, как томатный соус, были изображены величаво одинокие, увенчанные ледниками вершины Альп. На самой высокой из них виднелся крест. Под картиной длиннохвостыми готическими буквами стояло: «О вечность, громовое слово». В одни прекрасный день, наверно от сырости, лакированная рамка разъехалась, картина и стекло упали на пол. Отец забил ненужным теперь картоном дыру в курятнике, из которой дуло. Отныне только куры и индюшки созерцали вечность. Однако пернатые всегда недовольно квохтали, видя томатно-красное небо, что доставляло истинную радость отцу, так как сам он, боясь своей набожной жены, не отваживался хулить «вечность». Эта картина возникла в памяти Руди, когда он смотрел на светлый небосвод над полями. Но такое воспоминание в такой момент показалось ему до ужаса неуместным. Он стыдился, что весть о смерти Леи не вызвала в его воображении другой картины, что боль не перебудоражила всю его душу.
— Вообще говоря, — начал Залигер, — можешь сходить разок к девушке, которую ты утешал. Если, конечно, ами не поспешат к нам с визитом.
— Все во мне онемело, все мертво. Те, что там остались лежать, счастливее нас… — сказал Хагедорн.
Быстрым досадливым движением Залигер натянул ветку березы и отпустил; она щелкнула прямо перед носом Хагедорна.
— Хе-Хе, дружище, советую покрепче стоять на ногах. Жизнь идет вперед. Ты найдешь меня в моем бунгало, если, конечно, еще хватит времени. В доме еще только предстоит большая стирка… — И тут же Залигер сделался сух и деловит, назначил Хагедорна командиром орудия «Дора» и осведомился, согласен ли господин унтер-офицер с этим назначением. Руди позволил себе контрвопрос: нельзя ли ему перед вступлением в должность получить увольнение на два часа. Ему надо еще кое-что сказать девушке, всего несколько слов…
Вот бесстыдство какое, подумал Залигер. Другому я бы всыпал по первое число. Но сказал:
— Ладно, поди поддержи девушку. Официально ты повезешь почту в штаб. Он находится в деревне за Рореном. Возьми велосипед. Мои герои из канцелярии что-то разлюбили велосипедные прогулки.
Хагедорн не поблагодарил его. Только кивнул. Но оставшись один, достал из нагрудного кармана пожелтелую, обветшавшую записку, разорвал ее в клочья, положил в ямку, которую вырыл носком сапога, и притоптал.
Глава четвертая
Хильда сидела у Лизбет на чердаке, возле колченогого стола, зажатого меж двух балок, уронив голову на руки, и плакала, плакала…
Лизбет стирала в жестяном ведре единственную смену белья — свою и своей дочки. Сегодня она — будь что будет — не пошла на работу. Со вчерашнего дня автобусы стали ходить только по ночам. Надо быть ко всему готовыми. Не то, чего доброго, на всю жизнь застрянешь в этой дыре или сунут тебе в руки фаустпатрон и… пожалуйте воевать! Недаром же Геббельс кричал: «Немецкие женщины, немецкие матери! Грязной тряпкой гоните врага из своего дома!» Хромой черт! А в результате моя девчурка останется одна-одинешенька на свете, как эта бедняжка у стола, посмотришь на нее и сердце кровью обливается. А моей Гите и семи-то еще нет. Хильда уж как-нибудь пробьется, она девушка умная. Хотя кому он нужен, ум, в наши дни? Чем умнее, тем хуже.
— Ты выплачься хорошенько, Хильда, лучше ничего сейчас не придумаешь. Плачешь, плачешь, а потом вдруг слезы перестают литься, и человеку легче делается на душе. Я ведь помню, как со мною было.
На деревянной лестнице послышались легкие шаги. Вошла Гита с глиняным горшком в руках.
— Фрау Хеншке дала мне молока на пудинг.
— Слышишь, Хильда, Хеншке, эта скотина, подарила девчонке горшок снятого молока. Лишь бы она но играла у них на дворе. Вылить бы ей его за шиворот!
Девочка стала просить миску и пудинговый порошок, она сама сейчас приготовит чашечку для себя с мамой и другую, побольше, для тети Хильды. Лизбет пошарила в побеленном комоде, служившем ей кухонным шкафчиком, и дала девочке порошок.
— Смотри, много сахару не клади и не ешь раньше времени!
Лизбет пошла было к своему ведру, но остановилась возле Хильды и, положив руку ей на плечо, сказала:
— Все еще будет хорошо, Хильда. А те, у кого на совести Рейнхард и мой муж, скоро за это заплатят.
Плечи девушки вздрогнули. Лизбет отошла от нее, вынула белье из ведра и отправилась во двор за водой.
Гита поставила на стол маленькую мисочку и принялась размешивать порошок в молоке.
— У тебя щеки совсем мокрые, тетя Хильда…
— Да, девочка.
— На, вытри лицо, — она достала из своего кармана носовой платок. Хильда прижала его к пылающим щекам. — Мама тоже плакала, как вот ты сейчас — посмотри, хватит уже мешать?
— Нет, еще остались комочки, Гита…
Лизбет вернулась с полным ведром.
— Ах ты плутовка, оставь в покое тетю Хильду. — На самом деле Лизбет радовалась, что Гита хоть немного разговорила бедняжку. — Не будь у меня ребенка, — начала она, — я не знаю, что бы над собой сделала…
Хильда уже опять плакала, тихо, непрерывно, жалобно растягивая губы. Нельзя было без содроганья смотреть на нее. Ах я дура! бранила себя Лизбет, и дернуло же меня сказать ей про ребенка. У нее-то никого нет!
— Хватит тебе мешать, Гита, довольно. — Надо отвлечь бедняжку от горьких мыслей. — Знаешь, Хильда, как появится дружок на пороге, так сразу и радости и забот не оберешься. Мы, женщины, ведь только и живем заботой о тех, кого любим… — Лизбет натянула веревку перед раскрытым оконцем. Она сегодня с утра отодвинула солому и отвалила доски от люков.
— Чуешь, Хильда, каким пахучим весенним воздухом пест в нашей гостиной? Мы покрасим твои вещи, и они в два счета высохнут.
Она слышала, как Хильда всхлипывает за ее спиной, и ей было больно за девушку. И что это я ей только раны растравляю! думала Лизбет. Она отлично знала, как была обманута Хильда. Какой-то подлец заманил ее в постель и оставил фальшивый адрес. Еще слава богу, что она не забеременела. Тогда бы ей только и осталось, что в воду… Вдруг она заметила внизу на улице мужчину в синей куртке и в синей же фуражке, который вел свой велосипед. Она знала его, и появился он здесь как нельзя более кстати. Это был Герберт Фольмер. Он работал на открытой разработке угля. Лизбет свела с ним знакомство в автобусе.
Уравновешенный, спокойный человек, знавший, чего он хочет. Ему было уже под пятьдесят. Жена его умерла от рака несколько лет назад. Он тогда сидел в лагере. Его старушка мать присматривала за Гитой, покуда Лизбет работала, а он своими руками сложил для них печку и вывел трубу в слуховое окно. Это был единственный человек в деревне, которому она доверяла и была благодарна, не только за печку, но и за доброе, искреннее слово.
— Господин Фольмер, — крикнула Лизбет, высунувшись из окна, — мы опять хотим просить вас об одолжении.
Фольмер остановился. Вид у него был усталый и замученный. Лизбет даже испугалась.
— Я сейчас отопру ворота, — крикнула она и проворно, как молоденькая девушка, сбежала с лестницы.
Во дворе она тотчас же заметила, что у Фольмера опалены брови и ресницы. Но не стала спрашивать в чем дело, а торопливо рассказала ему о горе, постигшем Хильду.
— Ну что делать? Реветь с ней вместе? Ей-богу, ума не приложу.
Фольмер прислонил свой велосипед к стене конюшни.
— Я ее знаю, — сказал Фольмер, — Случалось, помогал ей сгружать бидоны с молоком. Очень простая и хорошая девушка. Да, такое горе как огнем обжигает… Будь оно проклято, это безумие…
Дворовые собаки, три черных шпица, рвались с цепей и неистово лаяли. Под деревянным навесом хозяйка мыла молочный бидон. Она даже глаз не подняла и притворилась, что не слышит приветствия Фольмера. Вот так парочка — баран да ярочка, съязвила она, видя, что Лизбет и Фольмер поднимаются по лестнице на чердак.
— Дядя Фольмер идет! Вот хорошо-то… — воскликнула Гита.
Хильда поднялась, чтобы уйти, как только те вошли в комнату. Лизбет уже сыта по горло моими бедами и слезами, да и не может человек снять горе с другого, подумала она. Но Лизбет и Фольмер слышать не хотели об ее уходе.
— Не спеши-ка, девушка, — сказал Фольмер, как всегда спокойно и слегка запинаясь, — надо нам поговорить. Немножко бодрости — лучшего тебе пожелать нельзя. — Он взял Хильду за руку и хотел посадить ее на стул. Но она осталась стоять. Гита со своей мисочкой подошла поближе и удивленно сказала:
— Да у тебя лицо совсем голое, дядя Фольмер!
Герберт Фольмер потрепал ее по щеке.
— А зато я вам кое-что принес. — Это прозвучало достаточно горько. Он вытащил коробочку из кармана и бросил ее на стол. — Вот вам — шоколадный паек. Они опять нас оторвали от дела и послали тушить пожар и убирать трупы. Шока-кола успокаивает нервы, а следовательно, мы победим…
Лнзбет схватила коробочку.
— Я ее спрячу в печку, — взволнованно воскликнула она.
— Ничего мы не будем прятать в печку, — возразил Фольмер, — а разделим поровну. И делить будет Хильда. — Он протянул Хильде свой перочинный нож и тоже подсел к столу.
— Разрежь заклейку…
Хильда не дотронулась ни до коробки, ни до ножа. Она неподвижно стояла у стола и, словно бы не видя Фольмера, смотрела через окошко на квадратный кусочек весеннего неба.
Барашки облаков сверкали в лучах закатного солнца, словно посыпанные металлической крошкой. Облака положи на вазу из дымчатого богемского стекла, которую я разбила, отбывая службу в доме дрезденского учителя. В наказание хозяйка перестала давать мне карманные деньги, целых семь месяцев ни единого пфеннига. Отец ругался на чем свет стоит, но оплатить ей урон не имел возможности… Если эти дымчатые стеклянные облака столкнутся, они, верно, разлетятся вдребезги. И осколки, как бомбы, с визгом посыплются на землю, разорвутся на шоссе, или в лугах, или у ручья, где часовня… Небо упадет на землю стеклянным дождем… Упадет и господь бог, и они прикроют его зеленым брезентом. А парень с лицом, как у гипсовой статуи, скажет: пожалуй, лучше вам не смотреть на него…
Фольмер гулким, как орган, голосом сказал, чтобы я срезала бумажную полоску с коробки, в которой лежит шоколад, успокаивающий нервы. Возьми и отведай, сказал мертвый бог под зеленым брезентом, это тело мое…
Лизбет кричит на меня за то, что я уставилась в одну точку! Но если ветер вгонит стеклянные облака в окно, я ослепну, у меня уже болят глаза…
А Фольмер гудит:
— Когда я был молод, я по-другому смотрел на небо, даже если на душе у меня черт знает что творилось. В марте двадцать первого мы сидели в Лихтенбургской тюрьме… ах, бог ты мой, что за чушь я горожу…
И правда, что он такое говорит? И закрывает лицо руками! Видно, и ему трудно приходится…
Фольмер вдруг замолчал, видимо, смутившись. Он хотел рассказать, как в 1921 году в старой Лихтенбургской тюрьме, куда он попал за мартовское восстание, он и его товарищи в знак протеста против террористических приговоров объявили голодовку. Он так ослабел, что едва держался на ногах, и в те дни голубое весеннее небо за решеткой камеры стало для него великим искушением. И все же он не предал этому лазоревому великолепию свою теперь уже вдвойне голодную молодую жизнь и голодал дальше, хотя тюремщик два раза на дню ставил перед ним аппетитно дымящуюся миску, и не он один, все они, коммунисты, не поддались слабости и добились учреждения контрольных комиссий.
Но об этом он ничего не сказал. Не позволил себе разоткровенничаться перед этой девушкой. Склонив голову на руки, он молча предавался воспоминаниям, а на лице его, казалось, было написано: и что это я разболтался. Затем он опустил руки, улыбаясь всмотрелся в прозрачную желтизну за окном и продолжал:
— Я тогда был еще холост и только гулял с моей Эльзой. И небо было точно такое же — светлый шелк. Тронь руками — зашуршит. И Эльза была похожа на тебя, здоровая, чистая… Хорошая была пора… Ну, перестань же смотреть в одну точку, девочка!
Лизбет говорит, что я пугаю ребенка. И правда, что это я пялюсь на небо, как дура. Мама всегда говорила, что я глазами буравлю дырки в стене. И трясла меня за плечо. Я тоже буду так делать, если мои дети вдруг уставятся в одну точку. А сейчас надо вскрыть коробку. У Гиты уже слюнки текут… Ей кажется, что я спятила… Разрезая заклейку, Хильда сказала:
— Кто знает, от каких мучений избавился Рейнхард.
Она села за стол и разломила на четыре части обернутую в серебряную бумагу плитку. Фольмер пододвинул ей свою долю. Лизбет положила в карман передника свою и половину дочкиной. Девочка убежала, сжимая в руках свое сокровище, села на кровать и с блаженным видом принялась откусывать по кусочку.
— Я бы не сказал «от каких мучений избавился», — начал Фольмер. — От каких, собственно? Ты думаешь, что после войны будет еще хуже?
«После войны» до сих пор рисовалось Хильде разве что в неясных представлениях, например сияющие огнями витрины по вечерам. Она идет по улице с кем-то, кому не надо завтра уезжать. Они заходят в магазины, покупают что им вздумается, без талонов, без карточек… И тот, кто идет с нею, зовет ее из сияния витрин и фонарей в сумрак… Но сегодня надежда умерла.
И она сказала:
— Мы ведь должны будем заплатить за войну.
Фольмер пронзительно на нее взглянул.
— Да, заплатить за нее мы должны. Все, кто в ней участвовал — должники. Так, думается мне, будут считать те, кто победит. У меня, ты ведь этого не знаешь, было два сына, Карл и Ганс, они тоже остались лежать там, отдали свою жизнь за… Меня дома не было, когда они уходили и когда пришли похоронные. Один в Польше, другой в России, а где — неизвестно. Этого Эльза уже не перенесла. Что ж, я совиновник. В глупостях, которые творят дети, виноваты родители… — Фольмер провел рукой по лбу, словно вытирая нот. Лизбет выжала рубашку, давно уже выжатую.
— Может быть, мы все умрем с голоду, — сказала она.
— Господа дерутся, слугам конец приходит, — проговорил Фольмер, — Ну а что, спрашивается, будет с господами? Останется хутор у Хеншке-Тяжелой Руки или нет? Гитлер уцелеет на своем посту или не уцелеет?
— Адольф? — крикнула Лизбет. — Да и бы его своими руками повесила.
Фольмер жестом утихомирил ее.
— Если другие будут справедливы, они отдадут народу то, что осталось от господ. Будь я победителем, я бы дал народу возможность всем распоряжаться в Германии. Тебе, к примеру, Хильда, и тебе Лизбет…
Лизбет взяла в зубы два зажима и повесила рубашку. Он старается утешить и меня и Лизбет, подумала Хильда. А стеклянное небо все равно обрушится.
— Может, русские так и поступят, — сказала Лизбет, — но сначала они нас основательно вздуют.
— Все может быть, — пробормотал Фольмер. Потом взял в руки веселку, которую забыла на столе Гита, — А что, если господа ничего не оставят нам? Кроме нот такой веселки, да еще, пожалуй, пустой горшок и воду в колодце, а муку — ищи-свищи?
— Тогда нам одно останется ложись да помирай!
Фольмер неторопливо, точно читая но книге, отвечал:
— Нам нужен хотя бы хлеб. По хлеб нам дадут. Одни и другие. У нас ведь есть чем платить за пего — наш труд. Мы посеем хлеб, и урожай будет наш, псе будут наше — и хлеб, и земля. Так, думается мне, парод начнет хозяйничать для себя.
Хильде его мысли, высказанные в нарочито простой, но в то же время символической форме, представились и правдивыми, и в то же время сомнительными.
— До урожая год надо ждать, за это время мы с голоду подохнем.
Но Фольмер был рад уже тому, что взгляд Хильды больше не был остекленелым, что боль, как пожар пылавшая в ней, начала стихать под натиском простых и здравых мыслей. Тревожиться о будущем всегда лучше, чем остекленелым взглядом смотреть в пустоту.
— Кто был твой отец? — спросил Фольмер.
— Возчик в булочной.
— А мать?
— Мать шила на людей.
— Ну, а брат?
— Рейнхард был краснодеревщик.
— А ты? Чем ты занималась?
— Я? Я училась шить, но не доучилась и стала «трудовой девой».
А если бы они тебя назвали трудовой пчелкой или трудовой шлюшкой, была бы какая-нибудь разница? В работе, разумеется.
Лизбет выгребала золу из плиты, пора было затапливать, чтобы покрасить в черное платье Хильды и успеть ого высушить. Трудовая шлюшка! Ну и выдумает же этот Фольмер. А чем, собственно, была она сама на трамвайной линии или в оружейных мастерских? Все мы одурели. Хильда, конечно, обалдело смотрит на Фольмера. Ладно, пусть малость поязвит ее. У Хильды эта «дева трудовая» прочно засела в мозгу. Скажи Хеншке: иди разбрасывать навоз, на налеты мы плевать хотели, она пойдет ни слова не говоря. Сейчас Фольмер ее, конечно, перебудоражил…
— Я честно трудилась, — сказала Хильда.
Вот тебе пожалуйста! С ней еще нельзя так говорить. Очень уж она расстраивается. Поначалу и со мной так было.
— Ну, конечно, — сказал Фольмер, — конечно же, ты честно трудилась. — У него вертелись на языке слова: «До глупости честно». Но сейчас он не выговорил их, хотя в свое время не постеснялся сказать это Лизбет, которая до тридцать третьего года состояла в Союзе социалистической молодежи.
— В твоей семье все были честные работяги, — продолжал он, глядя на Хильду. — Теперь ты осталась одна. Надо тебе загладить их вину.
Хильда уже ничего не понимала. Какую вину должна она загладить? Честную работу? Может, он хочет на меня наклепать? Что за человек этот Фольмер? Мне он чужой, чужой, как все. Унтер-офицер был добр ко мне. А Фольмер даже и не хочет быть добрым…
Но тот сразу почувствовал, что она замкнулась в себе. Я зашел слишком далеко, подумал он, и ранил ее. Много ли смыслит такая девчушка. Надо сказать ей пояснее, хоть это еще и рановато.
— Ты думаешь, Хильда, что этого достаточно — честно работать на бесчестных господ? А я считаю, что если слуги по-хорошему относятся к тем, кто их эксплуатирует, то они недостаточно честны. Человек не может радоваться тому, что с него семь шкур дерут. Или тебе это доставляет удовольствие? Ты никогда больше не говори: я «трудовая дева», Хильда, говори просто: я рабочая девушка. Это будет правильно. И помни, что разница тут огромная…
— Не знаю, — проговорила Хильда, уже опять уставившаяся на голубое весеннее небо. Светлые, сверкающие облака представлялись ей теперь бумажными змеями. Когда-то она очень любила вместе с Рейнхардом пускать змеев на лугах в пойме Эльбы.
Лизбет Кале не была суеверной. Но странная убежденность в предопределении рока овладела ею, когда она услышала голос на улице, спрашивающий Хильду Паниц, и, высунувшись в окно, увидела широкоплечего молодого человека в унтер-офицерском мундире. Это чувство не прошло, когда она шутя сказала Хильде:
— Иди-ка вниз, там под окном стоит твой суженый! — Хильда вскочила с места и, вытянув шею, поглядела через плечо Лизбет. Краска внезапно залила ее лицо.
— Это кто же такой? — поинтересовался Фольмер.
Хильда отвечала, что этот человек был сегодня очень добр к ней. Фольмер рассмеялся:
— Ну, тогда беги скорей вниз, не прогадаешь…
Лизбет крикнула в окно:
— Эй, унтер-офицер! Вы не ошиблись адресом! Только погодите минутку… Надо же Хильде хоть глаза вымыть холодной водой и малость причесаться.
Когда Хильда Паниц встретила у ворот Руди Хагедорна, у нее были счастливые и растерянные глаза, как у всех девушек, которых ждут. Она торопливо закрыла за собой ворота, чувствуя на себе взгляд хозяйки и угадав ее мысли…
Итак, она стояла с Руди на улице. Его поведенье мало отличалось от поведенья почтальона, принесшего телеграмму. Только глаза у него были слишком тревожные для почтальона, взгляд их скользил по ее лицу, то вдруг от него отворачивался, встречался с ее взглядом и снова потуплялся в землю. Наконец Хагедорн заговорил:
— Я хотел только сказать вам…
— Мне неприятно стоять здесь, — перебила его Хильда.
Они прошли несколько шагов и завернули за угол конюшни. Между задней стеной конюшни, примыкавшим к ней сараем и высоким сплошным забором соседнего двора тянулся узкий проход, некое подобие ущелья в кирпичных Альпах собственников, которое образовывало изгиб там, где начиналась стена сарая. За этим изгибом, не видным с улицы, Хильда остановилась.
— Люди так и пялятся на меня, — проговорила она.
Руди держал велосипед за руль и за седло. Он смотрел в землю и видел коричневую юбку Хильды, зеленые носочки и высокие грубые башмаки.
— Я хотел… хотел только сказать вам, фрейлейн… если вы не знаете, куда деваться, — у этих сволочей вам оставаться не надо, — то у нас дома найдется местечко для вас. Мой отец дорожный смотритель, у нас домишко в Рейффенберге — это в горной местности, и там на лугах теперь цветут крокусы…
Его глаза опять бегло скользнули по ее лицу. Но теперь стены не давали взгляду возможности спастись бегством, снова и снова отбрасывали его на лицо девушки. Руди увидел, как Хильда положила руку на руль, рядом с его рукой, и услышал, что она говорит:
— Вы мне даже не сказали, как вас зовут.
— Ах, да, меня зовут Хагедорн, Руди Хагедорн.
— А меня Хильда Паниц.
— Так вот, фрейлейн Хильда, я ведь понятия не имею, когда я вернусь домой… Это же только цветочки — ягодки впереди. Нас, возможно, отправят в Неваду или в Сибирь… Я был бы счастлив знать, что вы устроены…
— Послушайте, — начала Хильда и запнулась.
Кровь опять быстрее побежала под кожей ее висков и свежих щек. Как она хороша, подумал Руди, и какой это сильный характер. Жакет Хильды был расстегнут. Пуловер туго обтягивал грудь, а в одном месте даже выбился из кушака юбки.
— Послушайте, Руди… — Ее рука на руле подвинулась и слегка притронулась к его руке, — не возвращайтесь на батарею, не возвращайтесь… — Хильда не могла совладать со своим голосом, от долгого плача он охрип, огрубел. Руди прикрыл своей рукой ее руку:
— Что ты говоришь… Это же невозможно…
— Спрячься, Руди. Я помогу тебе. Люди тебе помогут. Может быть, они спрячут тебя в шахте… Не возвращайся обратно.
Хильда протиснула пальцы меж его пальцев; их руки были теперь сплетены. Ну, началось, подумал Руди, она уже впилась в меня, как репейник. Впрочем, не она первая… До чего это глупо. Все девушки на один манер, когда дело доходит до чувства: отныне моя жизнь твоя, а твоя моя. Они не понимают, в какое время живут. Моя жизнь ведь вовсе не моя. Она сдана внаем. И не я ею распоряжаюсь.
— Это невозможно, Хильда. Да я этого и не хочу. Не хочу удирать, когда заваруха уже расхлебывается. Если я… что ж тогда прикажешь делать людям женатым и семейным…
Хильда отвела свою руку.
— Одна я к тебе домой не поеду. Останусь здесь. Здесь тоже нашлись хорошие люди.
Как она чутка! Сразу почувствовала, что холод про брался в мое сердце. Виноват я. Она ведь хотела мне добра, одного добра… А я не выношу больше никакого доброго чувства. Это ужасно. Ах да что там, ерунда…
— Мне надо спешить, — сказал Руди, как почтальон, заболтавшийся при разноске почты.
Он поднял велосипед и не без труда повернул его в этой теснине. Руди и Хильда пошли рядом, оба до отчаяния разочарованные. Перед выходом на улицу Хильда еще раз остановилась.
— Мне было очень приятно то, что ты мне сказал там, на батарее. Я только, когда уже шла обратно, по-настоящему поняла твои слова. А теперь я понимаю их еще лучше. Рейнхард был такой же, как ты, разве что еще неопытнее. В наше время сердце надо хранить на льду, сказал о» как-то. Ах, жестокости в вас…
— Может быть, ты и права. Не знаю. Прощай, Хильда.
— Скажи «до свиданья», Руди! Все еще будет хорошо, вот увидишь!..
Руди Хагедорн не сказал «до свиданья». Он сказал:
— Мне надо еще отвезти пакеты в штаб… — С этими словами он сел на велосипед и уехал. Хильда стояла у ворот. Она смотрела ему вслед, пока он не скрылся за церковью, там, где разветвлялась улица. Ей казалось, что у нее из рук выскользнул ребенок и упал в глубокую, зияющую пропасть.
Глава пятая
Капитан Армии Залигер попросил не беспокоить его в ближайшие часы. Он поднялся в свою мансарду над канцелярией, чтобы засесть за писанье соболезнующих писем родственникам погибших.
Сегодняшний налет он благополучно пересидел в блиндаже командного пункта батареи, затем сделал все возможное по ликвидации последствий бомбардировки, по телефону сообщил адъютанту командира дивизиона данные о потерях и некоторые подробности прошедшего бон, ободрил раненых при отправке громким: «Выше голову, ребята, кожа быстро нарастет!», но но мере возможности старался не смотреть на убитых. После всего этого он отправился к выдвинутым вперед орудиям…
Залигер сидел у своего письменного стола, но вместо того, чтобы писать, в бессмысленной задумчивости созерцал пышные маки на обоях. Сам того не желая, он думал о встрече, состоявшейся сегодня по воле взбалмошного случая, можно сказать, в последнюю минуту загнавшего на батарею Руди Хагедорна, друга детства, с которым он так часто играл в разбойников, с которым перебил немало окон, играя в футбол на улице, и исходил под барабанный бой немало километров, а также немало и математических доказательств растолковал ему. Хагедорн был на полтора года младше его, учился двумя классами ниже и пребывал в постоянной вражде с математической логикой. И мечтателем он был, этот Руди, безнадежным мечтателем, несмотря на свои сто восемьдесят сантиметров роста, к тому же отличным легкоатлетом и по боксу одним из первых в гимназической команде. В этом отношении ему далеко было до Руди и рядом с ним он казался просто хилым парнишкой. В девять лет Руди вытащил его из пруда, прыгнул за ним в ледяную воду, хотя тоже не умел плакать, и с мужеством отчаяния продержался вместе с ним на воде, покуда не подоспели люди с длинной лестницей. Но он был щедро вознагражден за свою отвагу. А потом произошла эта история с Леей, а еще немного позднее — суд духов. Такое дуракавалянье ведь никто всерьез не принимает. Он, Залигер, не вопил бы, словно его режут, а дал бы еще засыпать себя коксом и покаялся бы в своем прегрешении. Подумаешь какое дело! В Священной римской империи сам император босой шел по снегу в Каноссу и принудил папу, этого снятого антихриста, отменить свой приговор, отлучавший его от церкви. Тот, кто хочет себя утвердить, должен подчиниться правилам игры, пусть даже омерзительным. А дальнейшее зависит от удачи.
Но за это время Руди, кажется, уяснил себе пресловутые правила игры. Корта заявил, что довел этого «умника капрала, этого психа» до состояния, когда тот готов был ему сапоги лизать. Тем не менее Корта лишь с большой неохотой согласился поставить крест на этой истории. Высказывание Хагедорна было, конечно, непростительно глупо. Если обер-фенрих настоит на своем и все же подаст рапорт, он вряд ли сумеет вызволить друга. На этого Корту временами находили приступы ярости и он на все лады измывался над своими подчиненными. Ибо вину за отступление на всех фронтах и за разоренье своего родового поместья в Венгрии он возлагал в первую очередь на солдатскую тупость, которую, в зависимости от количества потребленного им алкоголя, именовал то пассивным сопротивлением, то активизировавшейся медвежьей болезнью.
Надо как можно скорее, еще сегодня вечером, поговорить с Руди, сказать ему, чтобы держал язык за зубами, и лучше всего здесь, в бунгало, с глазу на глаз за бутылкой абрикотина. Тему «Лея» можно вообще не затрагивать! Пусть мертвые хоронят своих мертвецов… Самое главное — до конца выяснить, что Руди подразумевал под своим двусмысленным «думать надо о будущем». Надо, как в добрые старые времена, подзубрить с ним доказательство, условие, следствие и вывод. Условие — это тот факт, что войну выиграть уже нельзя. Следствие — в Германии началась истерия, но поддаваться ей не обязательно, надо только уметь высоко держать голову. Прожектерство и фатализм в наши дни — самоубийство. Надо найти верный топ, мой мальчик.
Капитан заставил себя не думать о друге и взялся за письма. Первое, написанное мелким прямым почерком, было адресовано родителям убитого сегодня рядового Гейера: «Глубокоуважаемые господин и госпожа Гейер…»
Маленькая двухкомнатная квартирка в мансарде над канцелярией, занимаемая Залигером, отнюдь не отличалась спартанской простотой. Напротив, обставлена она была очень уютно и даже несколько экстравагантно. В обязанности ординарца входили: ежедневная чистка пылесосом толстенного плюшевого ковра, «ловля блох», как это называл Залигер, уход за азалиями и кактусами на подоконниках с помощью лейки и лопаточки, стряхивание ныли метелочкой с демонических ритуальных масок, оставшихся от прежнего владельца, — они висели на стене против письменного стола рядом с портретом Гитлера, в окружении цветных литографий, вырванных из учебника анатомии, с изображениями человеческого скелета и тщательно вычерченными баллистическими кривыми. На белой лакированной двери капитан, подчиняясь минутному капризу, намалевал жирного мопса, кладущего яйца, из которых вылупливаются крокодилы. Когда здесь происходили пирушки, Залигер предлагал гостям разгадать аллегорию, но сам воздерживался от каких бы то ни было толкований или давал крайне противоречивые.
На письменном столе Залигера почти неслышно тикали авиационные часы в дюралевом футляре. Дюралий был отодран от фюзеляжа, а часы взяты из кабины летчика сбитого боинга. Стекло над светящимся циферблатом, мутное и потрескавшееся, чуть ли не наполовину было покрыто какой-то ржаво-коричневой краской — засохшей кровью американского летчика, вместе со своим экипажем погибшего в этой машине. На кровавой краске, похожей на загар, Залигер напильником выцарапал: Memento mori[4]. По вольному его истолкованию эти слова значили: не скулить, Залигер, если влипнешь и придется тебе помирать геройской смертью.
Этот двадцатишестилетний офицер внушил себе, что он не трус. И не безосновательно. Никто бы не мог доказать ему обратное. Но так или иначе, а настоящего пороху он пока еще не шохал. Благодаря своему красноречию и общей интеллигентности, а также известной педагогической сноровке Залигер почти всю войну был преподавателем в зенитно-артиллерийском училище и на офицерских курсах. Лишь полгода назад одновременно с присвоением ему звания капитана он был направлен в линейную часть и назначен командиром батареи под Райной. Здесь он и сидел с тех пор, главным образом в своем бунгало. И плевал на то, что офицеры соседних батарей за высокомерие поносили его на чем спет стоит. Пить-то они псе любили у него наверху. Единственное, что не нравилось Залигеру в обстановке бунгало, ого четыре ядовито-зеленых кресла вокруг журнального столика. Под шумок воины он бы с удовольствием заменил их солидными кожаными, но ввиду создавшегося положения ему пришлось оставить сие благочестивое намерение.
Неприятную обязанность, всегда возлагавшуюся на командира батареи, он старался выполнять корректно и обходительно. Сегодня надо было написать шесть таких писем, вчера их было только два, третьего дня пять… За последнюю неделю — когда фронт приблизился почти вплотную — батарея ежедневно подвергалась налетам и ежедневно несла потерн. Убит был лейтенант — командир приборного взвода, два унтер-офицера из огневого взвода и пятнадцать солдат. Раненых — почти втрое больше. За пять лет существования батарея понесла не больше потерь, чем за последнюю неделю.
Завтра, если сам он останется цел, он опять будет посылать новые Иововы возвещения. Американские самолеты каждый день, по меньшей мере один раз, с воем кружатся над батареей и будут кружиться, покуда не кончится великая суматоха.
Несмотря на полную уверенность, что война безнадежно проиграна, Залигер решил до последнего дня быть верным своему долгу, ио все сумасшедшие приказы «продержаться» выполнять только для видимости — насколько это возможно, не рискуя головой. На последнем совещании у командира дивизиона знакомый лейтенант, всегда располагавший достовернейшей информацией, шепнул ему, что рейхсмаршал и главнокомандующий военно-воздушными силами против воли Гитлера начали переговоры о перемирии с американцами. Пентагон заинтересован в том, чтобы вместе с обладающим огромным опытом ведения войны на Востоке военачальником и новым правительством без Гитлера и Гиммлера предпринять совместные действия против русских. Залигер краем уха уже слышал эти разговоры в пивной. Но командир дивизиона в своей речи говорил о реальных шансах на победу, об отмирании воли к сопротивлению, о безоглядной и беспощадной борьбе с деморализацией и дезертирством, а также об организации своего рода партизанского движения под названием «Вервольф».
Безумие! Но тот, кто сейчас вздыхает или же смеется над безумцами, тот, можно сказать, уже мертв.
Собственноручно писать родственникам погибших капитан почитал своей обязанностью, своим долгом порядочного человека. Надо, чтобы люди но крайней мере не строили себе иллюзий, не уповали на возвращение сына или брата, когда, рано или поздно, вся немецкая армия окажется в плену. Осложнялась эта обязанность тем, что капитан должен был против собственных убеждений внушать людям, что утрата близкого человека — высокая честь. Но что еще можно было написать?
Итак, капитан писал господину и госпоже Гейер: «…Вы и ваша досточтимая супруга принесли величайшую из жертв, какую только могут принести немецкие родители немецкому народу и рейху, — пожертвовали вашим единственным сыном и наследником. Но для нашего народа, ведущего сейчас героическую битву, равной которой не знала тысячелетняя история рейха, битву под девизом «быть или не быть», никакая жертва не может быть слишком велика. В эти дни каждый немец должен выказать те высокие свойства души, которые…»
Перо замерло в руке капитана. 15 этой работе он не позволял себе никакой рутины и каждое письмо стремился писать тоном, соответствующим образу жизни и понятиям адресата. А у этого господина Гейера, насколько ему было известно и как явствовало из бумаг его покойного сына, кроме среднетехнического образования и мундира штурмовика, имелось еще и небольшое производство, где вырабатывался искусственный мед, тот самый вожделенный продукт военного времени, который ему уже и в горло не лез. Много ли значат для такого человека «высокие свойства души»? Заказ на поставки искусственного меда от военного ведомства, суливший огромные прибыли, и был для него признаком «высоких свойств». Когда туман рассеивается, отдельные предметы яснее предстают перед глазами. Его, Залигера, учили верность и честь считать за высокие душевные свойства немца. И правда, эти красивые слова помогли ему без особых душевных конфликтов прожить первые четыре года войны. Только когда начался пятый круг, по, собственно, уже со времени поражения под Сталинградом, когда все в Германии на мгновенье зашаталось и едва не рухнуло, он почувствовал уколы в той области души, где сидела его честь.
Шесть лет назад, когда гимназист Армии Залигер, сдавая экзамен на аттестат зрелости, писал сочинение, тема была дана следующая: «Любое действие должно служить во славу чести, которой в случае необходимости должно глазом не моргнув пожертвовать и самой жизнью». Шесть лет назад Армии Залигер, безусловно, даже радостно подчинился этому бойкому истолкованию второго по значению символа фашистской веры; свое чувство чести и свое понимание таковой, точь-в-точь как кровяные колбасы, развесил для копчения на дубовых балках свастики, да еще щелкнул при этом каблуками. Сегодня ему казалось, что из этих шести балок в огне войны обуглилась добрая половина. И уж совсем прогоревшими представлялись ему те, на которые он когда-то вешал свой, как ему думалось, здравый человеческий разум. Теперь уже вернее будет повесить его на гвоздь сомнения, неверия, рассудочности. Ну, а как же насчет чести и верности?
Капитан полагал, что у него осталась только немецкая и офицерская честь, уже независимая от духа постыдной ныне свастики. И все же теперь, как и раньше, он чувствовал своего рода демоническую силу, исходившую от человека, чей портрет висел над его письменным столом. Гитлер, размышлял он, жертва своего собственного «я», своей фаустовской сущности. Нельзя ставить его в ряд с другими бонзами национал-социалистской партии. Этот молодой интеллигентный офицер всерьез приписывал вожаку нацистского стада трагическую обреченность и таким образом вновь надевал на себя ярмо, которое, как он думал, уже сбросил с себя.
И все же он сознавал, что стоит выше того господина Гейера, которому сейчас писал письмо. Эти полуинтеллигенты, думал он, всегда будут находить утешение в звонких и высокопарных словах, понять которые они не могут, но делают вид, что поняли. Итак, он решил не вычеркивать туманное «высокие свойства души» и, поставив запятую, продолжал: «…делают нас способными глазом не моргнув пожертвовать жизнью во славу чести и верности нашего народа».
Совесть свою Залигер успокоил, подумав, что и его отец, отнюдь не штурмовик, а только член военного Ферейна и владелец не фабрики, а «Аптеки трех мавров» в Рейффенберге, торгующий не «искусственным медом Гейера», но наряду с другими лекарствами — «успокоительными и снотворными каплями Залигера» собственного изготовления с охраняемым законом фирменным знаком — три темнокожие головы в пестрых тюрбанах, — родной его отец, несмотря даже на довольно нахальное «глазом не моргнув», был бы до известной степени утешен таким письмом. Для матерей надо присовокуплять еще несколько горделиво-трогательных слов, например закаленное в страданиях материнское сердце и тому подобное…
За последнюю неделю Залигер, отдавал он себе в этом отчет или нет, все же приобрел немалую рутину в писанье сочувственных писем.
Только одно ему сегодня никак не удавалось — письмо Хильде Паниц в Рореи. Что пишут двадцатилетней девушке при такой печальной оказии? Собственно, ей вообще не надо было бы посылать письма. Писать он обязан жене, родителям или по закону назначенному опекуну. Но власти и Дрездене до сих пор не удосужились назначить опекуна рядовому Рейнхарду Паницу. А теперь ему таковой уже ни к чему. Но добропорядочность требует, чтобы и сестра получила свою долю утешения, ведь она потеряла последнего родного человека. Это особо печальный случай. А потому и тон надо постараться найти более мягкий и теплый. И капитан начал писать: «…B великом горе, постигшем вас, фрейлейн Паниц, вас может утешить лишь сознание неразрывной связи с нашим народом. Все мы теперь учимся сносить жестокие и тяжкие удары судьбы…»
Опять перо замерло в руке капитана. Предметы видятся яснее, когда рассеивается туман, — не только ему, но и другим. Слова, им написанные, могли бы читаться так: не плачь, девочка, в наши дни многим приходится тяжко и все мы должны быть готовы к наихудшему… Если это письмо попадет в руки стукача, он начнет вытворять со мною то же, что обер-фенрих с Руди Хагедорном. Нет, в наше время нельзя позволять себе такую роскошь, как чувства, над чувствами надо учредить опеку разума, запретить себе их.
Не буду писать этого письма. Залигер в клочки разорвал лист бумаги, лежавший перед ним. Что-то все-таки было им сделано, Руди Хагедорну было разрешено увольнение на несколько часов, чтобы разыскать девушку. Это было самое простое и самое человечное. Он, наверно, утешил ее сентиментальными речами, на девушек это всегда оказывает благотворнейшее влияние…
В момент, когда эта мысль осенила капитана и он даже ощутил известную гордость от своего превосходства над прочим человечеством, кто-то два раза постучал в дверь. Залигер, полагая, что это его ординарец или ефрейтор из канцелярии, досадливо крикнул:
— Придите попозже!
Но тот, кто стучал, уже вошел в комнату со словами:
— Уже достаточно поздно, господин капитан.
Залигер обернулся и увидел перед собой незнакомого человека в поношенной синей куртке, с изможденным лицом и светлыми глазами. В этих глазах горело что-то: бдительность, воля, целеустремленность, что-то не злое, но опасное.
— Не помню, когда я звал вас сюда, — язвительно проговорил Залигер.
Сейчас он сожалел, что оставил портупею и револьвер в соседней комнате, где стояли платяной шкаф и кровать. Незваный гость, видимо, не имел намерения ему представиться.
— Я вижу, что вы готовите свою батарею для последнего боя, — сказал пришелец, слегка запинаясь.
— И вы хотите мне объяснить, как это сделать наилучшим образом? — ледяным тоном переспросил Залигер.
Он никак не мог взять в толк, откуда и зачем явился этот тип. Кто это, болтливый штатский с брикетного завода, которому вздумалось передать ему свои познания касательно оборудования огневых позиций для стрельбы по наземным целям? Или просто честный немец, еще не утративший веры в конечную победу и одержимый желанием вызволить из беды потерпевшую крушенье ладью? Нет, для этого у него слишком умное лицо.
— Я хочу отговорить вас от такого безумия, господип капитан. Это же ни в какие ворота не лезет… Вы солдат, а не азартный игрок. Сколько же еще наших парней должны сложить головы ни за что ни про что? Они нам еще понадобятся, господин капитан, и…
— Кто вы? — резко прервал его Залигер.
Незваный гость все еще стоял в дверях, словно приросши к месту, спокойно и пристально глядя на капитана, которым все больше и больше овладевало чувство неуверенности, так что он еще досадливее повторил, прежде чем тот успел раскрыть рот:
— Кто вы такой, отвечайте, когда вас спрашивают!
В то же самое время капитан схватил трубку полового телефона, стоявшего на письменном столе, и резко поднялся.
— Я могу предъявить нам удостоверение личности, — сказал человек в дверях и сунул правую руку в карман куртки. — Но имя это пустой звук. То, что я хочу вам сказать, будет лучше характеризовать меня. Я, господин капитан, полагаю, что если вы с вашими пушками завяжете бой с танками, то американец от нас мокрого места не оставит.
Хотя он говорил столь же дружелюбно, сколь и настойчиво, Залигер и бровью не повел на его слова. Но, помолчав, все же спросил опять:
— Кто вы и кто прислал вас сюда?
— Сегодня в Райне из окна третьего этажа выбросилась молодая женщина. Наверху в постелях лежали ее дети. Мертвые. Воздушный налет. Меня прислали многие…
Залигер положил трубку на рычаг и перестал крутить ручку. Видимо, не хотел, чтобы внизу в канцелярии раздался звонок. Нет, этот человек не просто бравый немец. И правую руку он все еще держит в кармане куртки. Конечно же, у него там револьвер, подумал Залигер, и эта мысль вдруг заставила его почувствовать нечто, едва не спровоцировавшее у него взрыв ярости, нечто, взбудоражившее его чувство чести, нечто, показавшееся ему до ужаса непонятным, до ужаса возмутительным, но и разумным в то же время. Этот человек, стоящий перед ним, немец, видимо пролетарий, в своем спокойствии воплощал другую силу. Значит, была другая сила в Германии, которая уже сейчас, — когда старую еще не снесли на погост, — осмелилась прорваться наружу, осмелилась вторгнуться в комнату командира батареи и там в спокойных и разумных словах попыталась толкнуть его на бесстыдно опасное решение.
— Вы предатель, — как-то неуверенно прошипел Залигер.
— Я не трус, господин капитан, и но предатель своего народа, — сурово отвечал тот.
Тогда Залигер схватил трубку и с лихорадочной быстротой стал крутить ручку. Тот. другой, стоял неподвижно, как статуя. Но вот он ожил, шагнул к капитану, вынул правую руку из кармана, протянул ему потрепанное удостоверение личности и своим несколько монотонным голосом проговорил:
— У вас всегда будет возможность схватить меня как предателя… Вот мое рабочее удостоверение: фамилия моя Фольмер, работаю в шахте «Феникс», проживаю в Рорене.
Залигер швырнул трубку обратно на бакелитовый ящик.
— Ваши люди неплохо отзываются о вас, господин капитан. И все же я обманулся, думая, что смогу подвигнуть вас не совершать последнего безумия в ваших же собственных интересах, господин капитан… Меня, знаете ли, привезли однажды в такое место, где стояли большие чугунные ворота и на них было выковано: «Каждому свое». Вскоре эти ворота откроются…
Залигер не выдержал пронзительного взгляда человека в куртке, отошел к окну и стал глядеть на дорогу, которая мимо огневой позиции тянулась на запад. На позиции длинные стволы орудии поднимались и опускались. Это обер-фенрих снова проводил учение. Ты не вправе предпринять что-либо против этого человека ни при каких обстоятельствах, молотом стучало в висках Залигера.
— Скоро, очень скоро страница перевернется, — проговорил голос за его спиной. — Подумайте о том, что за этим воспоследует, господин капитан… Этот чернявый над вашим письменным столом, можно сказать, уже окачурился. И скоро многие поймут, что значит поговорка: «Любишь кататься, люби и саночки возить». Вас нам стало жалко, капитан Залигер, по…
Таинственный гость не договорил фразы. Залигер слышал, как он повернулся, шагнул к двери, вышел вон. На лестнице смолкли шаги.
Залигера знобило. Он понимал, что этот озноб — страх, нерешительность, моральное разложение. Но не приказал своим солдатам схватить этого человека. Он подошел к столу, по пути отшвырнув ногой корзину для бумаги, бессильно опустился в одно из ядовито-зеленых кресел и закурил сигарету. Сигарета отдавала плесенью. У него кружилась голова. Часы на письменном столе, мертвенно-тихие, вдруг затикали стремительно, громко, жестко. По их стеклу фосфоресцирующими зигзагами пробегал дрожащий свет закатного солнца, совсем как на экране радиолокатора. Все в комнате вдруг закружилось: портрет Гитлера, демонические рожи на стене, жирный мопс, кладущий яйца, желтые и красные маки на обоях, ядовито-зеленые кресла…
Наконец капитан очнулся, встал и на весь дом заорал своему ординарцу:
— Мали, цыган проклятый, где ты там дрыхнешь! Свари мне кофе, живо, крепкий кофе…
Когда ординарец принес кофе, капитан уже опять сидел в кресле, лицо у него было серое, он сжимал руками виски в приступе острой мигрени.
— Запиши-ка, — брюзгливо сказал Залигер ординарцу, — вон на столе блокнот, пиши: Фольмер, шахта «Феникс», местожительство Рореп.
Глава шестая
Пока что из приятной беседы и дружеской лекции на тему о верпом тоне, которую капитан хотел прочитать Руди Хагедорну за бутылкой абрикотина, ровно ничего не вышло. Под вечер командир дивизиона объявил боевую тревогу. Все, от командира батареи до последнего солдата, должны были в эту ночь находиться у орудий. Согласно приказу, две трети орудийных номеров находятся в полной боевой готовности, треть отдыхает возле орудий. В ближайшие часы батарее, возможно, придется вступить в бой с танками противника.
Залигер тщетно пытался по телефону узнать более точные данные о месте и направлении наступления передовых танковых подразделений американцев. Ни в штабе дивизиона, ни в штабе полка ничего толком не знали. Надежной разведки, видимо, вообще не существовало. Лейтенант из штаба, обычно располагавший наилучшей информацией, сказал ему: «Ами со своими жестянками километрах в тридцати от нас, азимут ноль восемь — пятнадцать. Если господа американцы будут как следует нажимать и по пути не наткнутся на какие-нибудь камешки, через полчаса они будут здесь. Тогда вам каюк, господин Залигер.
Старик поехал на рекогносцировку, в машине три фаустпатрона и шесть пачек таблеток для успокоения нервов. Пока все!»
Что ж, какая-никакая, а информация!
С момента объявления боевой тревоги в сердца люден, все равно — молодых солдат или немногих старых вояк — закралось неусыпное беспокойство. Из бараков хоть и выносили мешки с соломой, стаскивали их в траншеи, а над койками натягивали брезент или же устраивали крышу из досок, засыпанных землей; никто из тех, кому было положено отдыхать, не ложился спать. Люди толпились в орудийных окопах, стояли, прислонившись к холодному металлу лафетов и стволов, подняв воротники шинелей и глубоко надвинув каски, так что белки глаз призрачно светились на затененных лицах. Одни говорили приглушенными голосами, словно громкий говор мог выдать расположение батареи, похвалялись своими подвигами или отпускали грязные шуточки, другие молчали, как воды в рот набрав. Они смотрели на готовые к открытию огня винтовки, лежавшие на бруствере, на тускло блестевшие в лунном свете латунные гильзы и на выкрашенные черной краской головки противотанковых снарядов, уже вынутых из ящиков и приготовленных к бою. В бинокли или невооруженным глазом, но все смотрели на запад, прикладывали ухо к земле, то и дело курили, рукой прикрывая огонек, и чаще обыкновенного наведывались в отхожее место.
Возле тринадцатого орудия кто-то запел жеманным тенорком: «Этой ночью или никогда…» Наверно, они там запаслись спиртным! Но другой голос вдруг зашикал на певца: заткнись, старик! Но окраине населенного пункта на позиции шли остатки стрелковой роты. Слышно было, как позвякивает шанцевый инструмент, как рушатся сорванные заборы, как жужжат пилы, спиливая деревья, и как старухи причитают над своими искалеченными садиками. Однажды до огневой позиции донесся похотливый женский визг и гортанный смех мужчины. Над ратушей в Райне время от времени появлялся неяркий красноватый свет. В котельной, видно, развели огонь почище чем в аду. Наверно, жгут бумаги и документы. Временами сильной тягой из трубы выбрасывает снопы искр. На некоторых хуторах тоже дымят трубы, дым отчетливо виден в сером свете ночи. Оттуда доносится визгливый, отчаянный крик свиней, которых спешат зарезать для посолки. На западе изредка взблескивает что-то. Ночь шепчется, плачет, светится блуждающими огоньками. Как ночь в джунглях, она манит, таинственная и опасная. Легкий ветерок иногда доносит из отхожих мест запах хлорки.
Жеманный тенор у тринадцатого орудия не унимался. Всякий раз он силился излить свою тоску в чувствительных песнях и ариях, и всякий раз его прерывали. Сейчас он затянул «Три лилии»: «И если я умру сегодня, — пел он, — то завтра буду мертв». На сей раз он все же понизил голос, но по-прежнему заливался, как соловей… Расчет, тремолируя, подтянул: ла-ла-ла-ла…
Люди пели, потому что глушить в себе песню уже не имело смысла. Теперь к ним присоединился обер-фенрих. Фон Корта всегда был первый там, где пьют. Если в орудийном расчете шла по кругу бутылка, значит Паганини уже не стоило искать в другом месте. На алкоголь нюх у него был как у легавой собаки. Но его появление никого не радовало. Он выпивал львиную долю водки и не умел сходиться с людьми. Если кто-нибудь позволял себе хоть чуть-чуть его поддразнить или обойтись с ним фамильярно, он, хлопая в ладоши, орал: «Ложись!» Иной раз случалось, что пьяный, упав на лицо, вышибал себе передние зубы. И напротив, Корта дружелюбно ухмылялся, когда собутыльники прославляли его уменье пить не пьянея или еще каким-нибудь образом «лизали подошвы его сапог», как он любил выражаться.
Залигер, находившийся в самом центре батареи, у прибора управления огнем, испугался, что в этой ситуации обер-фенрих допьется до сверхъестественного героизма. Поэтому он предложил Корте пройти вместе с ним по огневой позиции и проверить исправность связи с орудиями. Корта распрощался с собутыльниками, крикнул одному ефрейтору, кстати сказать, тому самому, что пел чувствительным тенором:
— Извольте правильно надеть каску, тоже мне тип!
«Типом» он титуловал всех без исключения, когда приходил в бешенство. Сейчас он взбесился из-за того, что Залигер не только оторвал его от выпивки, но вдобавок объявил для всей батареи «сухой закон».
Во время обхода, протекавшего в полнейшем молчании, Залигер и Корта вдруг услыхали на дороге, идущей и Райну с западной стороны, приближающийся шум моторов. Капитан мгновенно вскочил в орудийный окоп, застегнул на шее ларингофон и приказал командирам выдвинутых вперед орудий при появлении танков противника немедленно открывать огонь. Корта тут же ринулся к орудиям, не желая упустить возможности увенчать себя лаврами. Командиры орудий, и среди них Хагедорн, поочередно докладывали Залигеру:
— «Антон» понял, «Берта», «Цезарь», «Дора» поняли…
О появлении цели первым доложил Хагедорн:
— Немецкие машины! Три тягача буксируют счетверенные зенитные установки.
И вправду, вскоре все уже узнали эти небольшие вездеходные машины по тупым, скошенным радиаторам. Залигер почувствовал облегчение, но фон Корта еще пуще разъярился. Шутка ли, понапрасну пробежать без малого двести метров.
На высоте, где стояли четыре орудия, машины остановились. Из первой выпрыгнул высокий плотный человек. Фон Корта пошел ему навстречу. Минуту спустя он уже стоял перед гауптштурмфюрером СС — офицером в длинной шубе и в фуражке с серебряным орлом, под которым блестела мертвая голова. Между отворотами воротника красовался Рыцарский крест. К ярости обер-фенриха теперь добавилось еще и горькое воспоминание об уязвленном тщеславии. В свое время он хотел добровольцем вступить в войска СС, но был отвергнут, ибо выяснилось, что один из его предков взял в жены мадьярку, в жилах которой текла еще и цыганская кровь. Посему он ограничился сухим приветствием. Вернее, свел таковое к быстрому поклону и, представляясь старшему по званию, картаво — пусть знает, что перед ним отпрыск старого дворянского рода, — проговорил:
— Фон Корта.
Тот с усмешкой на него посмотрел и, ни единым движением не ответив на холодно-учтивый поклон, сказал:
— У вас, сопляк вы эдакий, кажется, все летит вверх тормашками. Так, что ли? Где ваш командир?
Обер-фенрих, уязвленный до глубины души, счел ниже своего достоинства продолжать разговор с этим «кабаном», как он про себя окрестил гауптштурмфюрера. Он повернулся на каблуках и в знак протеста вознамерился удалиться, не сгибая спины, прямой как свечка. Тогда гауптштурмфюрер в свою очередь повернулся к затянутому брезентом кузову машины и крикнул:
— Эй, ребята, здесь один вшивый зенитчик не желает с нами разговаривать! — Из машины тотчас же выпрыгнули четыре долговязых парня, которые с воинственным рыком, звучавшим, как: «Где эта скотина?» — не автоматами наперевес загородили дорогу обер-фенриху. Доведенный до крайней степени раздражения, Корта закричал прерывающимся голосом:
— Я отмежевываюсь от ваших методов, слышите, отмежевываюсь… Я буду жаловаться на вас вашему командиру.
Гауптштурмфюрер тем временем, засунув в угол рта сигарету, шарил в глубоких карманах своей шубы, ища спички, наконец он их нашел, с наслаждением затянулся и выпустил дым через нос.
— Ах, вот оно что? Еще где-нибудь зудит? — проговорил он, и вся когорта его телохранителей разразилась громким ржаньем.
Корта больше не протестовал и хотел уже только одного — ретироваться, но в какую бы сторону он ни повернулся, на него было направлено дуло автомата. Так продолжалось с минуту. Солдаты, выскочившие из двух других машин, от восторга хлопали себя по ляжкам. Обер-фенрих, как бы взывая о помощи, оглянулся на ближайшее орудие, но силуэты людей, метрах в десяти от него смотревших с бруствера, оставались неподвижны, среди них он узнал Хагедорна и преисполнился уверенности, что этот юбочник, эта подлая тварь, которого он так унизил несколько часов назад, теперь наслаждается зрелищем его собственного унижения. Он едва не захлебнулся от ярости.
Гауптштурмфюрер наконец приказал своим головорезам:
— Отпустите господина обер-фенриха, ребята, хватит с пего. — И затем, обернувшись к Корте: — Если вы соизволите вспомнить, я хотел видеть вашего командира…
Корта молча двинулся вперед, прямой как свечка, оскорбленный в своих лучших чувствах. Честно заявить спой протест — на это у спесивого дворянчика не хватило духу. Ярость, которая душила его, он жаждал выместить на свидетелях своего унижения — такова уж была его натура — и прежде всего на этом лупоглазом унтере. Повод? Ну, повод всегда найдется.
Разговор, вскоре после этого состоявшийся в блиндаже командирского пункта между Залигсром и кавалером Рыцарского креста, был суров и краток. Гауптштурмфюрер без предъявления какого-либо документа заявил, что командир корпуса, ответственный за подготовку полосы обороны армии, наделил его необходимыми полномочиями и поручил, используя расположенные в этом выгодном в оперативно-тактическом отношении районе «труднодоступные» скать: высот, создать на автостраде, имеющей очень большое значение, узлы сопротивления и опорные пункты, оборудованные для ведения круговой обороны на случай, если войска не смогут удержать фронт на всей его глубине; разумеется, для этого будут использованы псе средства и возможности. На замечание Залигера, что если, пропустив танки противника, они окажутся в окружении, то без боеприпасов, продовольствия и медицинского обеспечения они продержатся на этих «труднодоступных» скатах от силы дна три дня, гауптштурмфюрер повел разговор о тактике партизанских действий, о скором подходе из Баварии пре красно вооруженной армии, направляемой для деблокирования окруженных войск, и, наконец, о последней возможности во время этой малой войны глазом не моргнув взглянуть в лицо почетной смерти…
Вдруг Залигер почувствовал, что от этих — увы, столь знакомых — слов, за которыми, видимо, крылась безрассудная решимость, у него начался нервный тик, мелкое, непрерывное дрожанье кожи над бровями, который, как он заметил, иногда нападал на него после попоек. Чтобы скрыть этот признак полного нервного истощения, он пониже склонился над картой, которую тот, другой, расстелил на столе. На ней в центре района высот были нанесены три красных кружка — будущие «опорные пункты и узлы со противления», уже нареченные героическими именами: Крепость викингов, Вельфенштейн, Вотанова пещера…
— Сколько у вас осталось молодых солдат? — осведомился гауптштурмфюрер; ему самому было, пожалуй, около тридцати, хотя черные усики, торчавшие над верхней губой и подрагивавшие, когда он говорил, делали его старше.
— Около семидесяти пяти процентов, — отвечал Залигер.
— Что ж, неплохо. Нам как раз и нужны молодые волки. Любая война в конце концов решалась потенциалом молодой отваги, lie будь в 1918-м немецкая армия деморализована изнутри, не будь мертв дух Лаигемарка, ну да вы знаете, как это было… Вторично с нами такого не случится. Наша гитлеровская молодежь великолепно натренирована. Она-то и закроет образовавшуюся брешь.
Нехватка годов возмещается твердостью характера. Надо только умело руководить ими.
После того как Залигер определил координаты Вотановой пещеры — опорного пункта, удерживать который предстояло личному составу его батареи, гауптштурмфюрер вдруг спросил:
— Не замечали ли вы у людей вашей батареи каких-либо признаков усталости от войны? Скажите по чести, господин капитан! Гнилое мясо мы отсекаем. Сегодня утром мои ребята изловили трех охотников до привольной жизни, которые уже топали домой к своим лахудрам. Этих сволочей мы повесили на первом попавшемся дереве. «Прощай, Марн, моя красотка»… Я хочу знать…
Залигер старался сдержать предательское дрожанье над бровями и судорожно морщил лоб. Он заставил себя взглянуть прямо в глаза собеседнику и сказал:
— В моей батарее таких симптомов нет. За это я ручаюсь. Как обстоит дело в Райне — мне не известно. Ничего нежелательного я не слышал. — Между тем голос его срывался, словно у него пересохло в горле.
Гауптштурмфюрер помолчал секунду-другую, потом бросил пронзительный взгляд на Залигера и, отчеканивая слоги, проговорил:
— Вы лично будете отвечать за батарею, господин капитан, понятно?
Залигер хотел было сказать «вполне понятно», но промедлил лишнюю секунду, и тот продолжал:
— В бою мы вас поддержим огнем. Но если над позицией появится белая тряпка, мы вам такое устроим, что чертям тошно станет. Вы меня поняли?
Теперь уже Залигер не медлил с ответом. Да, он понял.
Гауптштурмфюрер сложил карту.
— Я вас проинформировал. Моя информация считается приказом. Хайль Гитлер! — и повернулся к выходу.
Высокий и плотный, он, нагнувшись, не без труда протиснулся в дверь блиндажа, одним махом взбежал по ступенькам и пошел назад к машинам, сопровождаемый своими четырьмя телохранителями, которых, видимо, из предосторожности прихватил сюда. Его длинная шуба развевалась на ходу.
Залигер тоже вышел, поглядел ему вслед. Ты дикий зверь, хищник, я издали чую твой резкий звериный запах. Но ты и прекрасный зверь. Если бы все мы были похожи на тебя, в Германии дела обстояли бы лучше. Он раскаивался, ибо опять впрягся в ярмо безоговорочного повиновения, что не арестовал человека, сегодня явившегося к нему в бунгало.
Когда к нему подошел обер-фенрих и рассказал о «неслыханной грубости» эсэсовского офицера, Залигер ответил:
— Мы с вами не при венском дворе, милейший. Там друг с другом обходились церемоннее. А мы сейчас готовимся жить в Вотановой пещере. Известная прелесть в этом, конечно, есть. Но говоря всерьез…
И он поставил Корте задачи в соответствии с только что полученным приказом. Под конец обер-фенрих заявил:
— Никогда я не смогу примириться с манерами имперских немцев, — других доводов против безумного приказа у него не нашлось.
И тотчас же снова начал разговор, хотя Залигер ни слова не сказал ему насчет «военной усталости», о новом унтер-офицере. По его мнению, с нытиками надо расправляться поскорее, один такой тип в состоянии деморализовать весь личный состав батареи… Самое правильное — подать на него рапорт по команде. Он еще подумает, не сделать ли это. Залигер молчал, полагая, что его молчанье в данный момент наибольшее благо для Хагедорна. Потом сказал:
— Прошу вас, Корта, возьмите на себя первое дежурство. Покуда еще не началась заваруха, мы можем сменяться каждые два часа. — С этими словами он пошел обратно в блиндаж.
Обер-фенрих, видимо, еще не мог взять в толк, что обстановка стала чрезвычайно сложной и бюрократия военных трибуналов уже переключилась на беспощадные законы военного времени. Тут судят на основании поведения солдата в последний день перед боем. Отличись Хагедорн в боях, предстоящих через несколько часов, и обвинение, выдвинутое Кортой, становится смехотворным. Да оно ведь и правда не более как смехотворное буквоедство.
Чтобы дать Хагедорну возможность достойно проявить себя, Залигер послал его на передовую. Поначалу он хотел оставить его при себе для особых поручений. Но это, конечно, еще больше разозлило бы Корту. С тех нор как в феврале пал Будапешт и русские пошли на Вену, а родовое владенье фон Корта, расположенное на венгерской границе, стало добычей пламени, в скудоумной голове обер-фенриха забрезжила мысль, что он поставил не на ту лошадь. С той поры его взбалмошность стала уже нестерпимой. Этот «славянин», как его прозвали офицеры, почел бы за счастье написать рапорт на каждого из этих «поганцев», рядовых и унтер-офицеров, всех сколом предать военному трибуналу за то, что они по глупости не сумели остановить войну у границ его фамильной усадьбы. Корта глуп и безмерно эгоистичен, думал Залигер, но не настолько глуп, чтобы раньше времени спрыгнуть с ошибочно выбранной лошади и сломать себе шею. Он и в Вотановой пещере, если до этого дойдет, будет варить свое вонючее месиво. Этим он привлечет к себе симпатии черного хищника, а там, глядишь, сживет меня со свету и примет командование. У меня лично уже не хватает сил на борьбу с разумом. Я это понял сегодня, когда ко мне явился тот человек в потрепанной синей куртке. В сумерках Вотановой пещеры любая разумная мысль будет казаться предательской, даже и не высказанная… Надо податься в кусты еще до ухода в пещеру. Но это исключено. Не могу я бросить батарею в трудную минуту. Разве что вместе со всеми перейти на сторону ами. Но и это исключено. Хищник нападет на меня со спины…
Капитан не мог уснуть. Вдобавок спанье на голом столе, с перчатками и противогазом в качестве подушки уже давно но тешило его романтическое воображение. Кроме пего, в блиндаже было еще два связиста, два обер-ефрейтора. Залигер приказал перенести коммутатор с телефонного узла сюда, в блиндаж командирского пункта. Думая, что «старик» спит, связисты шепотом беседовали о семейных делах.
— Моя жена родила четвертого, — говорил один, — никогда мы не хотели много детей и не вели себя как католики, ты меня понял? Но теперь — приезжаешь в отпуск и ни о чем другом не думаешь, а тут еще жена, как воск тает у тебя под руками…
— А мы все-таки сдерживались, — сказал другой, набивая короткую трубку. — Во время войны дети — невелика радость и для женщины тоже, лишний страх и ничего больше… А горя и без того хватает…
Первый отвечал:
— И пот — на тебе. Четверо! Словно четыре органных дудки. Смотришь каждый день на их фотокарточку и просто не верится, что они твои. Да ведь и правда, никогда нельзя поручиться, что именно ты отец.
— Так-то оно так, Ганс, — заговорил другой, — да никто еще не отдал приказа пуле не попадать и отца семейства.
— А жена, — живо перебил его первый, — думаешь, раздалась от четверых ребят? Ни капельки! Она и сейчас стройная, крепкая, как молодая девушка… Я должен уцелеть. У меня талисман — веточка мирты, которую она шесть лет назад приколола к моему жениховскому костюму. Ты веришь в талисманы?
Тот отвечал не без насмешливости:
— С четырьмя на шее женщине не так-то легко найти нового кормильца, да еще каменщика, который ей дом подымет. Не высовывай так башку из ямы, неровен час…
Хлопнул клапан коммутатора. Из штаба звонил начальник связи, тот самый лейтенант, который всегда располагал наилучшей информацией. Ему надо поговорить с обер-фенрихом, частный разговор. Связисты включили аппарат у прибора управления огнем. На коммутаторе разговоры по телефону слышны отчетливо.
— Алло, Корта, дружище! — крикнул лейтенант. — Последнее сообщение: русские занимают Вену. Сожалею, но это так. Напоминаю вам о нашем пари: две бутылки хеннесси. Честь имею… Да, кстати, и американской конюшне пала лучшая лошадь. Умер Рузвельт.
— Мне бы их заботы, — сказал телефонист с четырьмя детьми.
Его товарищ молчал. Залигер не мог видеть, что он предостерегающе приложил палец к губам.
Рузвельт… Какой Рузвельт?..
Вена сдана. Уже много дней они ждали этого известия. Корта держал пари, что город падет после дождичка в четверг. Там-де стоят старые императорские полки. Турки в свое время обломали зубы об этот город. Но сегодня тринадцатое апреля, надо же — тринадцатое. Залигер думал: кого в империи еще может тронуть то, что империя разваливается на части? Каждый теперь думает только о своем гнезде, о своей шкуре. Так он размышлял, покуда его не сморила дремота, насыщенная мучительными сновидениями.
Перед ним возникло лицо Хагедорна, все и мерцании, как крупный план в кино. У него и сейчас те же большие глупые глаза. Но радость встречи мгновенно гаснет в этих глазах. С чего бы? Он подает мне руку. Рука у пего холодная, чужая, пожатие ее пяло. Его ли это рука? Нет же, это рука Леи. Я стою с и ей перед высокой парадной дверью на Дрейбрудерштрассе. И держу ее руку в своей. Она холодная, чужая, пожатие ее вяло. Наверху старик Фюслер играет на виолончели. Окно отбрасывает желтое световое пятно на мостовую. Уже поздно, очень поздно для Леи. Должна же ты это понять, Лея, должна, должна! Вся моя карьера летит к черту. А я не рожден трагическим героем. Я слишком слаб для этого, Лея… Будь сейчас другое время, девочка моя…
Ты, по крайней мере, честен, Армин, но крайней мере честен. Нет, нет я не буду тебя целовать, пусти меня, пусти, слышишь? Ах, Армии…
В желтом световом пятне стоит человек, стоит не шевелясь. Это Руди. Надо к нему подойти! Наверно, он радуется. что мы свиделись вновь. Но радость мгновенно гаснет в больших глупых глазах Руди. Гаснет и желтое световое пятно на мостовой. Смолкает виолончель. Почему это Руди вдруг оказался у орудия? Куда ушла Лея? Она же только что стояла у высокой парадной двери на Дрейбрудерштрассе…
Залигер открывает глаза, бессмысленно смотрит на низко нависающие балки потолка. Издалека доносится голос второго телефониста: «Моя жена утонула под Готенхафеном. Мне это рассказала одна женщина из Кенигсберга. У нее двое детей, у этой женщины. А муж пропал без вести. Если он не вернется, я на ней женюсь. Опрятная такая женщина. А я работать умею. Скажи, ты что-нибудь смыслишь в электротехнике? Тащить провода — это же ерундовое занятие…»
И опять оба молчат. Капитан перевернулся на бок. Будь честен, Залигер. С Леей ты тоже был честен. Почему ты не оставил при себе Хагедорна для особых поручений? Почему ты не сказал Корте: вы занимаетесь ловлей блох! За этого унтер-офицера я отвечаю головой. Мы друзья с детства. «Славянин» бы поджал хвост. Трусливая собака! Когда проявишь твердость, он ворчит, но отступает.
Будь честен, ты не хотел близости Хагедорна. В его глазах ты прочитал упрек. Он не может тебе простить историю с Леей. Ты увел ее у пего из-под носу и был честен с ней, но потом позорно ее предал.
Будь честен, ты послал Хагедорна туда, где всего опаснее, к орудию, выдвинутому на шоссе. Если завтра ты узнаешь, что он убит, ты вздохнешь с облегчением. При этом известии ты почувствуешь укол в сердце, но все же вздохнешь с облегчением. Человек может стонать и одновременно вздыхать с облегчением. При этом он даже не кривит душой. Стон у него вырывается настоящий, и облегченье он тоже чувствует настоящее. И если когда-нибудь тебе скажут, что Лея умерла, у тебя в глазах потемнеет, но в то же время избавленье, как падающая звезда, прорежет ночь твоего страданья. И ты будешь молиться, чтобы она на небесах простила тебя, и будешь радоваться уверенности, что на земле она уже не очернит тебя ни перед людьми, ни перед твоей собственной совестью. Так уж устроен человек, продолжал размышлять Залигер. Он может найти себе оправданье в себе самом, потому что в нем живут две души. Более того, если у него достанет духа, он может поставить себя по ту сторону преступления и наказания. Я тоже вправе воспользоваться этим преимуществом…
— Храпит старик, — сказал телефонист, тот, который хотел жениться на жене пропавшего без вести, — и ничего не слышит.
Второй, у которого дома осталась жена и четверо детей, вытащил портсигар из нагрудного кармана и открыл его. Сигарет там не было, была только засохшая миртовая веточка, завернутая в целлофан.
— Когда я смотрю на нее, — сказал он, — я твердо верю, что теперь уж останусь жив. А вера — великие чудеса творит, Эрвин… — Его товарищ благодушно рассмеялся.
— Только твоих четырех ребятишек, надо надеяться, сотворил не святой дух, а ты сам.
В эту ночь Лея не могла уснуть. Она лежала в белоснежной больничной кровати. В палате было тихо и тепло, даже слишком тепло. В батарее — под большим окном — чуть слышно журчала пода. От темно-зеленого, гладкого, как зеркало, линолеума празднично пахло свежим воском. На столике рядом с кроватью Леи стояла ваза с яблоками и апельсинами. Волна тепла доносила до нее аромат фруктов. Со дня снасенья Лее псе время казалось, что сейчас рождество. Как светло, думала она, как светло, хотя ночные тени пробегали по комнате и даже ночничок не был зажжен. Но где-то за окном горели фонари. И окно не было затемнено. Мимо больницы то и дело проезжали машины с включенными фарами. Улица шла в гору, и когда машина брала подъем, световой клин на мгновенье ярко освещал палату. Тогда Лея отчетливо различала картину на стене — образ Марии из Изенгеймского алтаря, как ей объяснила добрая сестра Клементия. Из сияющего облака луч света падал на сидящую Марию. Лицо ее было светло, и по-земному счастливая улыбка играла на нем. Светилось и лицо ребенка у нее на руках, и одежда, обвивавшая ее колена. В дальней перспективе виднелось пурпурно-белое ложе. Зачем художник изобразил здесь брачное ложе Марии, думала Лея. Оттого что у нее такая земная и счастливая улыбка? Но о чем бы она ни думала, радость была ей чужда теперь. Она чувствовала тяжесть и покалыванье в сердце, холодный пот проступал у нее на лбу, руки дрожали. Лея приподнялась, так легче было дышать. Врачи велели ей лежать спокойно, запретили волноваться, уверяли, что она справится с «лагерной болезнью», как они называли ее состояние, снова расцветет. А сестра Клементия сказала, что года через два-три она, Лея, бог даст, родит ребенка. Врачи и сестры милосердия мастера утешать. Но мое дело плохо, у меня водянка в ногах, и вода идет выше, с каждым днем выше…
Лея откинула одеяло, села на кровати, спустила ноги, провела руками по исхудалым икрам. Суставы и ступня у нее распухли. Опухоль дойдет до сердца, думала Лея, она не опадает, а увеличивается. О, зачем вы еще терзаете меня надеждой! Освобожденье пришло слишком поздно. Вчера умерла Сопя, третьего дня Элиза, Мара, Лидия, Жаклина, псе они умерли уже на свободе. А как похвалялась Жаклина, маленькая парижская официантка: «Ну, хватит нюни распускать, allons! Жизнь вернулась. Через месяц я буду гулять по Rue Madeleine. Все будут на меня смотреть, оглядываться: о la 1а!» Не надо себя обманывать, ноги пухнут и пухнут…
На соседней кровати зашевелилась Франциска, товарка по лагерю, крестьянская девушка из деревни под Прагой, Францель, как все ее называли. Вот Францель — та выздоровеет, правда, она так исхудала, что тазовые кости проступают на бедрах. Но она живуча. У нее опухоль пошла на спад.
Франциска включила ночничок.
— Что с тобой, Лея, что ты делаешь? Тебе надо спать, много-много спать.
— Я сейчас усну. Ты не волнуйся. Мне вдруг стало так жарко…
— Ты плачешь, Лея? Почему? Теперь, когда все хорошо!
— Да, когда все хорошо! Потому что я глупая. Потуши спет, Францель, и спи, спи!
Ио Франциска встала и подошла к Лее. Ночная рубашка на ней была такая длинная, что ей пришлось ее приподнять даже, чтобы сделать два шага.
— Как подвенечное платье, — пошутила она и, усевшись рядом с Леей, накинула на плечи себе и подруге шерстяное одеяло. — Давай, Лея, помечтаем, как хорошо будет, когда мы вернемся домой.
Но теперь мечта становилась уже почти действительностью, и Лея не в состоянии была играть в эту игру, в трудный час так часто поддерживавшую женщин и девушек в лагере. Она плакала.
— Ах, я знаю, ты плачешь оттого, что у тебя нет больше твоих чудных волос! А я вот по своим не плачу. Не беда, новые вырастут, — сердилась Франциска.
Лея под одеялом приложила руку к сердцу и сказала:
— Говорят, что у мертвецов продолжают расти волосы.
— Но мы-то еще живые! Мы скоро поправимся. Ты должна этого желать.
— Не трать слов понапрасну, Францель, я сама знаю…
— Ничего ты не знаешь. Где твоя расческа? Сейчас ты у меня будешь красивая.
Франциска не стала дожидаться согласия подруги. Взяла из тумбочки расческу и щетку, встала на колени позади Лен и принялась осторожно расчесывать ее короткие взъерошенные волосы, в черноте которых уже поблескивали серебряные нити. Францель мурлыкала какую-то песенку, в которой Лея ни слова не понимала, смеялась и болтала, как заправская камеристка.
— Тебе надо пить побольше молока, Лея. Тогда грудь опять станет пышная и красивая. А на лицо класть творог. А волосы — так эта беда не велика, из маленьких кос быстро вырастут большие. Ну-ка, посмотри на себя! — Франциска сунула Лее карманное зеркальце.
Теперь уж Лея не могла не улыбнуться. За ушами у нее, как у маленькой девочки, торчали две коротенькие, туго заплетенные косички, «крысиные хвостики». Франциска тоже заглянула в зеркало через ее плечо и заулыбалась. У нее были точно такие же косички. По правде говоря, эта ребяческая прическа очень не шла к постаревшим и огрубелым лицам девушек, а ведь Лее было всего двадцать три года, Франциске — двадцать четыре.
— Мы с тобой похожи на линялых ворон, — заметила Лея.
— Кар-кар! — засмеялась Франциска. — Ну ничего, мы еще станем прехорошенькими птичками.
Но Лея вдруг сделалась серьезной, до ужаса серьезной.
— Если я все-таки выздоровею — вдруг так случится — я уже никогда не полюблю мужчину. Не могу. За десять месяцев лагеря я ни разу с тоской не подумала о мужчине, о ребенке, я хочу быть одна, одна на острове, где высоко растут пальмы, где дельфины играют в море, куда никто не может приплыть…
Франциска сердито покачала головой.
— Ну откуда у тебя такие глупые мысли…
— Я в этом не виновата. Мы не знаем, откуда берутся наши мысли, они — как пыль на ветру. Да мы и сами пыль на ветру…
— А я все время думала о Кареле, — сказала Франциска. — Наверно, он спасся. И не попал в лапы к фашистам. Он же был со мной. И еще я вспоминала о товарищах. Ты и не знаешь, Лея, что это значит: товарищи…
Лея села прямее.
— Если я выздоровею, я буду жить сама но себе. Никому не буду помнить зла и не хочу, чтобы кто-нибудь меня жалел.
— И любить не хочешь? — спросила Франциска.
— Нет, я больше не могу любить. Клянусь тебе, я…
Франциска вдруг обеими руками зажала рот подруге.
— Не смей, не смей клясться, покуда ты больна, вот когда выздоровеешь…
Лея обернулась к ней.
— Ты же меня не понимаешь. Да и не можешь понять. Ведь я, кроме всего, еще немка…
Лея смотрела на Франциску и читала смущенье в ее глазах, потом они вдруг стали холодными, отчужденными. Лея видела, как ее подруга поднялась, устало пошла к своей кровати и потушила свет. Лея тоже легла и натянула на себя одеяло. В ушах у нее что-то шумело, как в раковине. Немного погодя она услышала голос Франциски, казалось, он шел издалека:
— Если человек хочет быть добрым только наполовину, значит, он наполовину фашист…
— Можно пойти сестрой милосердия и больницу, — после долгого молчания проговорила Лея.
Когда фары проезжавшей мимо машины опять на секунду осветили комнату, Лея, эта девушка, полуеврейка, совсем на немецкий лад чувствовавшая себя всеми покинутой, увидела по-земному счастливую улыбку на лице Марии с младенцем. Эта улыбка поразила ее в самое сердце. Жив ли еще Руди Хагедорн, подумала Лея. И вдруг испугалась мысли, что его нет в живых.
Глава седьмая
Унтер-офицер Хагедорн, прислонившись к орудию, «повис на телефоне», то есть надел на себя ларингофон и наушники. Из восьмерых парней своего орудийного расчета он всех, кроме двоих «слухачей», отослал в блиндаж, выход из которого упирался в боковую станину лафета. Грубо сколоченная дверь, внизу замыкавшая короткую деревянную лестницу, была завешена брезентом. Свеча, которая горела в блиндаже, отбрасывала светлый неровный блик на размалеванную яркими пятнами коричнево-зеленую материю. До Хагедорна донесся приглушенный смех. Это заряжающий рассказывал о своих семи невестах, бесстыдно и похотливо вдаваясь в интимнейшие подробности. Хагедорн и слушал и не слушал. Любовные похождения — вечная и неисчерпаемая тема окопных разговоров. Но сейчас эти разговоры ему претили. Он хотел побыть наедине со своими мыслями.
Заряжающий, девятнадцатилетний ефрейтор, продув ной малый, сухопарый и цепкий, как плеть, с близко посаженными зоркими глазами и серебряной цепочкой на шее, предложил две бутылки водки по пятьдесят марок каждая, новому начальству — Хагедорну, дабы тот мог отпраздновать свое назначение. Уроженец совсем других краев, этот юнец состоял в наилучших отношениях с хозяйкой трактира в Райне и похвалялся, что, кроме своих семи невест, обслуживает еще и трактирщицу, которая стала очень охоча до мужчин, с тех пор как ее старика забрали в фольксштурм.
Еще во времена рекрутства Хагедорну внушали отвращение такие типы, похотливые, как кролики, и жадные до наживы, как ростовщики. Но за время войны он столько их навидался, католиков и евангелистов, высших и нижних чинов, до того к ним привык, что не верил и десятой доле их россказней. Сейчас он дал ефрейтору девяносто марок и потребовал три бутылки. Тот радостно ухмыльнулся и вдруг употребил выраженье, которое очень удивило Хагедорна, потому что он и вообще-то редко его слышал, а в качестве характеристики своей особы — никогда. Ефрейтор сказал: «Да, вы реалист, господин унтер-офицер, сразу видно».
Но вряд ли это определение вязалось с Хагедорном. Настоящий реалист прежде всего обладает тремя способностями, слитыми воедино: он снова и снова всматривается в предмет, стремясь себе его уяснить, он старается вникнуть в то, что за этим предметом кроется и наконец применяет свое знание в практической жизни. К тому же бывают реалисты и реалисты. Реалисты с характером и без оного. У Хагедорна характер был неплохой, но не сильный, глаза его умели видеть, но увиденное не питало его разум, а чувства и вовсе не доставляли ему ничего, кроме мучений.
Обычно это происходит с теми, кто недостаточно ясно отличает добро от зла и недостаточно крепко стоит на ногах, чтобы со злом бороться. Такие люди зачастую тяготеют к доморощенной мистике, из чувства самосохранения чураются познания. Случись же им попасть в положение, когда необходимо решиться на «да» или «нет», их вдруг охватывает тоска, они уверяют себя, что на поверку оказались пустым орехом, тоска перерастает в жажду смерти, в мировую скорбь, беспричинную и бессознательную, в своего рода аристократическое расточительство, которое приносит в жертву отчаянию и ум, и характер. Если эта тоска одиноко-беспомощно-честная, то она быстро сметает границы и устремляется либо в бездну смерти, либо, наоборот, в помойную яму жизни. Но затем, ударившись о дно, восстает по большей части в виде цинической или мистической жажды власти, которая с фанатической готовностью позволяет втянуть себя в долгие и запутанные отношения со смертью. Но если бы эта реалистическая тоска немецкой мизерии стала искать спою противоположность, то ей пришлось бы оглянуться на людей, на представления и познания, которые ей сулит жизнь, сулит богатство и красота человеческого существа. Но даже и в этом случае еще нельзя сказать, что бравая немецкая душа спасена отныне и вовеки. Может пройти еще немало времени, покуда поля к обращению в реалистическую веру обломает свои мистические и верноподданнические рога о действительность, о подлинную свободу и станет наконец жизнеспособным, человечным, стойким разумом.
Унтер-офицеру Руди Хагедорну, что стоял, прислонившись к орудию во власти своих мрачных мыслей, тоже придется еще долго ждать, прежде чем его относительно доброе зерно прорастет из шлакового панциря, который он позволил, да и не мог не позволить, надеть на себя.
Он злился на свою участь, на то, что в миг, когда он услышал о смерти Леи, другая пересекла ему дорогу. Злился на скудость своего чувства, позволившего другой свалить увитый цветами трон Леи, грубыми своими башмаками пройти но осиротевшей священной земле и сказать: «Спрячься, Руди. Я помогу тебе…» Любовь умерла, да здравствует любовь! Нет, так скоро дело не делается. Ты, Хильда, может быть, и замена, но не преемница. Лея была только однажды. Ты считаешь меня добродушным и недотепой. Это смешно! Я уже сыт по горло, по горло, и все же, видно, недостаточно сыт. И том-то и беда… Мне тебя жалко, я хочу тебе помочь. Вот как ты это повернула, ты хочешь помочь мне. Да я же в тыс ячу раз умнее тебя, в тысячу раз старше… Лихорадочная фантазия девчонки: «Спрячься…» Только мертвые могут спрятаться от конца. Мертвым достался лучший жребий. Как Залигер взъелся на меня за эти слова! Когда я вернулся из Рорена, он опять посоветовал мне остерегаться обер-фенриха: «Он тебя до черта не взлюбил и все еще лопочет насчет рапорта. Сотри ты эту военную усталость со своей физиономии, не то тебе крышка. Я не в силах тебе помочь, Руди…»
Весть о смерти Леи, встреча с Хильдой, стычка с обер-фенрихом — Хагедорну нелегко было снести это тройное потрясение. Он ощущал тяжесть во всем теле, причину которой не мог определить. При всем своем отупении он чувствовал, что прорвалась мозолистая кожа, которой во время войны обросла его душа, чувствовал, что выдохлась судорожная энергия, служившая защитой его воле к жизни, что ему изменил инстинкт — держа нос по ветру, чуять, откуда приближается опасность. Тело такое тяжелое и вялое! Хагедорн уже не страшился мысли, что еще сегодня он, может быть, будет лежать на высоте при последнем издыхании, подмяв под себя наушники, а Залигер будет тщетно кричать ему из этого мира:
— Алло, «Дора»! Орудие «Дора»! Унтер-офицер Хагедорн, да отвечайте же!
А как приятно думать о прошлом, мысленно перебирать скудные воспоминания о хорошем… Однажды Лен пришла ко мне, да, да, однажды она пришла ко мне! Это было, когда я еще ходил в гимназию, а три вечера в педелю работал подмастерьем у Вюншмана, чинил велосипедные насосы, накачивал автомобильные и мотоциклетные покрышки, заряжал аккумуляторы. Лея пришла со своим велосипедом. Когда она съезжала с горы, у нее соскочила цепь, не помог и ручной тормоз. Ее прогулка кончилась у рябины, на которую она наскочила.
— Вы не ушиблись, фрейлейн Лея? Совсем не ушиблись?
Как она упрашивала меня:
— Очень прошу вас, не говорите ничего моему дяде! Хорошо?
Я бы и без того ничего не сказал доктору Фюслеру. Он обращался с ней, как с драгоценной орхидеей, и с удовольствием посадил бы под замок колючий осенний ветер, от которого у нее так разгорелись щеки… Я зажал переднее колесо вместе с осью в тиски и начал центрировать. Она стояла рядом, ей очень хотелось уйти домой с готовым велосипедом. И все время смотрела мне на руки. Однажды она взглянула мне в лицо и рассмеялась, потому что за этой мудреной работой я прикусил себе язык… В ее тяжелых черных косах, уложенных короной на голове, застряло несколько рябиновых листочков и одна ягодка, красная, как коралл. Грудь у меня горела, словно по ней проводили горячим утюгом. Я копался и копался с колесом и думал: хорошо бы оно никогда не было готово… Мне очень хотелось завязать с ней разговор, но ничего в голову не приходило. Минуты летели быстро, голодные, как воробьи. Но вот колесо уже крутилось как следует и шина была уже надета. Лея спросила не без робости, сколько это будет стоить. Видно, у нее с собой было мало денег… Тут пробил мои счастливый час…
— Я сам договорюсь с хозяйкой, фрейлейн Лея. Это же моя работа, и она стоит дешево. Главное, что с вами ничего не случилось. Это правда, что вы не ушиблись, фрейлейн Лея?
Она покачала головой, благодарно на меня взглянула, нет, не только благодарно. Я покраснел, как рак. Мне подумалось, что она сейчас скажет: большое спасибо, мой милый, верный Гпнерион… Мне и сейчас кажется, что эти слова вертелись у нее на языке. Я даже уверен в этом. Потом она протянула мне руку. Я не хотел подать ей свою, потому что она вся была в масле. По Лея мной не побрезговала и крепко-крепко пожала мою грязную руку. Мне что-то сдавило горло. Даже «до свиданья» я не смог проговорить. В субботу хозяйка из моих трех марок удержала две тридцать. В счете, который она написала, числилось полкомплекта спиц. Столько их даже не пошло… И еще плата за рабочий час подмастерья. А я проработал не больше сорока минут, и уж, конечно, не был подмастерьем, даже учеником не был. Я и не подумал вручить Лес этот счет. Для нее я готов был сам стократ заплатить за свою работу.
Если бы я сумел сказать Лее хоть несколько слов… Умел же я говорить с ней на бумаге. Вот у Залигера красивые слова сами собой срывались с языка. Когда он йогом стал брать уроки музыки у Фюслера, он, наверно, совсем задурил Лею красивыми словами.
Сухопарый заряжающий рассказывал в блиндаже:
— За одну неделю три написали мне, что у них не пришли месячные. Мать честная, кто будет все это оплачивать! Но я живо смекнул: бабы этак только подогревают мужчин, замуж хотят дурехи! Хольцауге, рот не разевать, сказал я себе. И не будь дураком, каждой написал: спрыгни-ка с последних семи ступенек в погреб, милая моя девочка, когда пойдешь за углем. И смотри-ка, все устроилось к общему удовольствию. Это, ребята, все бабьи штучки. А вы держите ухо востро, но давайте им задурять вам голову.
Я бы уступил Залигеру Лею, если бы он сумел защитить ее. Но он красивыми словами втерся к ней в душу, а потом, когда его карьера могла оказаться под ударом, он втихую разорвал их тайную помолвку. Я уверен, что после он честно об этом сокрушался, но поступил-то он бесчестно и трусливо. Мне кажется, он рад, что она погибла. Нет, даже мертвую я ему ее не уступлю…
Залигер велел мне приходить к нему в бунгало. Хорошо, что из этого ничего не вышло. Чтобы он мне там плел: похвалялся бы своим так называемым благоразумием… Ты сам себе пакостишь и так далее. Старина Залигер, да разве ты не видишь, что мы уже на краю гибели с этим нашим благоразумием? Ты со своим и я со своим. Все благоразумие, все человеческое мышление растворяется в силе. Но у нас ее больше нет, сила у других…
Как сказал этот сухопарый? «Вы реалист, господин унтер-офицер?»
Да, мне сдается, я стал реалистом. Я реально представляю себе, что сейчас происходит. Этой весной мы подохнем, как мухи осенью. Не растекайся в жалобах, Хагедорн! В нашем классе на стене висело изреченье: «Плыви, как плывешь! Кто лавирует, тот трус, кто не лавирует, тот погибает». Надеюсь, что при последнем издыхании я смогу ответить Залигеру, когда буду лежать здесь, на высоте, и услышу в телефон его голос еще из этого мира: «Алло! Орудие, Дора“!» Надеюсь, что я еще успею сказать: «Спиши меня в расход, господин капитан… Сервус, старый бродяга! Я сберегу для тебя местечко в братской могиле… Конец».
Сухопарый заряжающий поднялся наверх из блиндажа, поднес Хагедорну полкружки водки:
— Да здравствует любовь, господни унтер-офицер… — Хагедорн взял кружку и опрокинул себе в рот живительную влагу, хотя командир батареи и запретил употребление спиртных напитков. С тех нор как унтер-офицер надел военную форму, сей грандиозный акт был его первым сознательным нарушением приказа.
— А теперь расскажите какой-нибудь анекдот из вашей юности, господин унтер-офицер! — захохотал сухопарый.
— Да, да, и позабористее! — послышалось за его спиной.
Весь расчет поднялся наверх, сплошь мальчишки лет но шестнадцать-восемнадцать. Хагедорн сейчас на их глазах принял боевое крещение, и они признали его. Тот, кто залпом осушает полкружки сорокадвухградусной — парень что надо. Сухопарый, высоко подпив бутылку, хриплым голосом орал:
— Если мир летит к чертям, мы полетим на воздушном шаре!
— Хо-хо, моя милка! — кричал другой.
— «О Сусанна, красотка Анна», — пели ребята и хохотали.
В душе Хагедорн радовался доброму отношению к себе и веселости этих мальчишек, довольных, как сытые каннибалы, и чувствовал, что какие-то жизненные силы вновь пробуждаются в нем. Это был старый призыв к братьям-сообщникам, к совместному конокрадству, к драке и пьянке, к жизни и смерти под ругань, под крики «ура» и «хайль», — словом, символ веры всех ландскнехтов свастики, нарушенье которого в силу привычки и веры представлялось Хагедорну подлостью.
— Ладно, — отвечал он, — будет вам анекдот из моей юности.
И начал рассказывать:
— Когда в конце января наш истребительный противотанковый дивизион перебазировался в окрестности Варты, на другой стороне замерзшего озера мы увидели…
— Паганини идет, — прошептал кто-то.
Заряжающий, стоявший на своем месте у орудия, оглянулся — куда бы спрятать бутылку — и… сунул ее в ствол. Затвор был открыт.
— Мы увидели одинокое поместье и дом с белой колоннадой. Он представлялся нам заколдованным замком… Смирно! — В блиндаж вошел обер-фенрих. Хагедорн отрапортовал.
— Продолжайте! — сказал Корта и уселся на установщик взрывателя по другую сторону орудия, не жалея своей чистой, как стеклышко, шинели. Настроение у пего, видимо, самое мирное, просто хочет посидеть вместе со всеми. Хагедорн, продолжая свой рассказ, старается говорить хлестко и без околичностей. Ему хочется загладить дурное впечатление, которое он поначалу произвел на обер-фенриха. Итак:
— Вблизи от помещичьего дома роют окопы. Но кто. нам не разобрать — русские ли солдаты, польские партизаны или какое-то наше подразделение. Лейтенант, наш командир, парень что надо, приказывает мне с двумя солдатами взять машину и разведать обстановку, но вступая в бой с противником. Мы живо-живо покатили вокруг озера, дорога, кстати сказать, шла через лес и не просматривалась. Подъехали к деревне — ни души не видать, ни одна труба не дымится, только собаки тявкают. Что ж, мы рискнули. Деревня была пуста. Посреди улицы, на грязном снегу, валялся комод. В одном из домов, за печкой, мы обнаружили мертвую старуху, крысы и собаки уже обгрызли ее. Оказалось, что окопы возле помещичьего дома рыли наши пехотинцы, в большинстве старые вояки. Мы въехали во двор. Я пошел к капитану, сказал ему, что он зажат в клещи, слева и справа уже прорвались русские танки. Он на меня зарычал: «Что значит прорвались! Мы удерживаем позицию и стоим насмерть». При этом от него разило сивухой метров эдак на десять. По двору шел обер-фельдфебель, и ноги у него подгибались, так он нализался. Капитан бросил меня, схватил его за пуговицу, да как задаст ему трепку. Что тут прикажете делать? Я уж хотел возвращаться, как вдруг в помещичьем доме кто-то заиграл на скрипке. Капитан напустился на своего обера: «Ты опять приставал к барышне, скотина!» Мысленно я обругал обоих и пошел в дом. Неужто хозяева еще но уехали? В холле везде были понавешаны оленьи рога и еще огромная кабанья голова. А между головой и рогами — нарисованное на дубовой доске родословное древо владельца. Так я узнал, что его зовут Антон Кюндраш и что он кавалер ордена Крови. Я поднялся по широкой лестнице, потому что звуки скрипки доносились сверху. Прекрасными я бы их не назвал, но скрипач играл бесшабашно, лихо, хотя иногда скрипка издавала какой-то противный, нервирующий звук, словно ножом по тарелке. Впрочем, я ничего в музыке не смыслю. Так вот, я очутился перед высокой белой дверью, постучал, но никто мне не ответил. Я решился войти и снял фуражку. И что же я увидел, эх, ребята, доложу я вам… Посреди гостиной стояла скрипачка: черные сапожки, черные рейтузы и нечто вроде гусарского мундира с серебряным галуном, стройная, с большим узлом белокурых, немножко растрепанных волос, ну чудо что за бабенка, лет этак двадцати. Она играла на скрипке и при этом дымила сигаретой. На резном пульте перед ней горели две свечи. Когда она меня увидела, у нее только слегка приподнялись брови, но она не прервала игры…
Сухопарый заряжающий проглотил слюну. Хагедорн хотел продолжать, но вдруг услышал за своей спиной голос обер-фенриха:
— Кап попала водка в ствол? — Корта вскочил и вытащил из ствола бутылку, которую сразу же заприметил, войдя в бункер. — Кто это сделал?
— Я, — отвечал заряжающий. Он рассчитывал, что Паганини попридержит язык, а в противном случае решил послать его ко всем чертям. Но Корта уже прохрипел:
— Вон, поганцы эдакие, вон! — Он выгнал расчет наверх и велел всем бежать вокруг орудийного окопа. — Ложись! Встать! Ложись! Встать!
Хагедорн по-прежнему стоял у орудия. Корта накинулся на него, а расчет тем временем рысцой трусил во круг окопа.
— Вы занимаетесь саботажем, самым настоящим саботажем! Командир запретил употребление спиртных напитков! А здесь лакают водку! О чем вы, спрашивается, думаете? Каждую минуту могут объявить тревогу, а у вас люди вдребезину! Эта штуковина остается в стволе, а вы туда же загоните снаряд! Мерзавец! Вы командир орудия, а у вас весь расчет нализался! Я подам на вас рапорт. Погодите у меня, гнусный тип, я вам еще вправлю мозги…
Хагедорн не защищался, хотя и вправду не заметил, что заряжающий сунул бутылку в ствол.
— В блиндаж! — скомандовал Корта.
Парим возвращались подавленные, растерянные, запыхавшиеся, в уверенности, что гроза еще разразится над ними. Но обер-фенрих положил бутылку за пазуху и опять уселся на то же место. Ребята вздохнули с облегчением, решив, что Паганини конфисковал бутылку с остатками животворного напитка — и делу конец. Просто обозлился, что ему не предложили.
— Ну и что же вы шепнули на ушко красотке? — насмешливо осведомился он.
Хагедорн вновь ощутил страх перед неучтимостью чернявого, ощутил собачью готовность по хозяйскому приказу бежать за брошенным камнем. Надо собраться с духом, подумал он, и досказать всю историю, но с настоящим концом, а не так, как я рассказывал ее напомаженному майору. Он решил слегка спекульнуть на этом настоящем и для него горьком конце, дать Корте позлорадствовать и том самым до некоторой степени примирить его с собой.
Итак, он продолжал, стараясь придать своему голосу, который не хотел ему повиноваться, глубину и спокойствие.
— Я сказал: «Фрейлейн, над вамп нависла грозная опасность, здесь каждую минуту могут появиться русские танки». Затем я назвал себя, словом, представился честь по чести, заверил ее, что разбираюсь в боевой обстановке, и предложил место в нашей машине, даже если бы нам пришлось выкинуть все фаустпатроны. Что же она мне ответила? «Вы паникер, обыкновенный паникер», — и как дернет смычком по всем пяти струнам. «Заклинаю вас, фрейлейн, поедемте с нами», — крикнул я, мне и впрямь было ее жалко. Здешний капитан, видно, неправильно обрисовал ей положение. Но она злобно взглянула на меня своими водянисто-голубыми глазами и ответила: «От таких героев, как вы, меня с души воротит, поезжайте с богом, да поскорее…» Я сразу понял, почему я внушаю ей отвращение. Мне в санчасти выбрили плешь, так как я расчесал голову — вши одолели. Башка у меня все еще была в парше. Ну, подумал я, воля человека — его царствие небесное, а я отсюда смотаюсь. Но жалко мне ее все-таки было. Вдруг, что за черт, слышу вдали неясный гул. Я тут же догадался, что это такое. Русские танки Т-34. За долгую службу научаешься отличать шум Т-34 от шума наших T-IV не хуже, чем жужжанье шмеля от гуденья жука. Я подбежал к окну. А они уже тут как тут! Смотрю, по заснеженной равнине за околицей покинутой деревни ползут серые черепахи, шесть, семь, восемь, девять штук. Она тоже подошла к окну. Я сунул ей бинокль, чтобы она могла разглядеть красные звезды, и сказал: «Поступайте, как хотите, но через пять минут русские будут здесь. Мы ждем еще три минуты в машине у задних ворот. Ровно три, ни секунды больше». Задние ворота выходили на дорогу, тотчас же скрывавшуюся в лесу. Все возможности бегства мы уже успели разведать. Эту науку живо постигаешь при подвижном фронте. «Меня зовут Вероника, — сказала вдруг девушка беззлобно и со слезами в голосе, — видно, мой папа был прав. Прошу вас, господин унтер-офицер, не бросайте меня в беде». И как же могут молить глаза такой девушки! «Три минуты!» — крикнул я и умчался, чтобы поставить в известность своих товарищей. Пробегая через двор, я успел сообщить капитану, что неприятельские танки на носу. Тот совершено растерялся и стал кричать: «Ключ, где ключ от больших ворот?» Мои товарищи собрались дать деру на полном газу. У нас ведь был приказ не ввязываться в бой с противником. Я взглянул на часы и сказал: «Две с половиной минуты для хозяйской дочки», сел рядом с водителем и схватил рычаг скоростей. Они бы и секунды не выдержали. Гул моторов становился все громче. Девица прибежала, запыхавшись, в шубке, в меховой тапочке, с сумочкой в руке, словно в театр собралась, и — мы чуть в обморок не попадали — с роскошным аккордеоном. Не успел я открыть ей дверцу, как мы уже мчались во весь опор. Через десять минут машина выскочила из лесу на заснеженную равнину, и вдруг я, черт меня побери, вижу — приблизительно в километре впереди нас по шоссе идет колонна Т-34. Мой шофер тормозит, одним рывком поворачивает машину обратно в лес или черт его знает куда. А в лесу уже жужжат шмели. Они идут за нами следом по единственной дороге среди равнины, где банку с ваксой спрятать негде, не то что военную машину с четырьмя рослыми седоками. Что делать? Шофер хочет остановить машину, удрать в лес и там где-нибудь притаиться. Моя пассажирка ревет, не то чтобы в голос, а тихонько всхлипывая, как маленькая девочка, которая потеряла деньги, когда мать послала ее за покупками. Вот я и говорю шоферу: «Фриц, поворачивай обратно, мы поедем прямо, за первой колонной». Все уставились на меня, разиня рот. Но мне вдруг пришла в голову мысль, совершенно безумная мысль. «Друзья, — говорю я, — наденьте фуражки задом наперед, они примут нас за Иванов». Мы были одеты в теплые шапки и ватники. Сам я сорвал с себя шапку, схватил аккордеон и пересел на заднее сиденье. Моя проплешина светилась, как фонарь. Мы снова тронулись в путь. Впереди русские, сзади русские, мы посередине и точно держим дистанцию — километр от первой колонны, километр от второй. На атом расстоянии они, ей-богу, могли принять нас за русских и решить, например, что мы везем с собой врачиху в трофейной машине и развлекаем ее чудной песней об атамане разбойников Стеньке Разине. Русские до смерти любят петь и играть на аккордеоне. А проплешины и у них есть. Надо их бить их собственным оружием, думал я…
Парни так и покатились.
— Пальцы у меня не гнулись, но я все же перебирал клавиши, — продолжал Хагедорн. — Аккордеон визжал, басил и хрипел, казалось, осел уселся за орган. Я же понятия не имею, как на нем играть. Но фрейлейн Вероника, мать честная, как она на меня смотрела, эта фрейлейн Вороника, я прямо духом воспрял. Знаете ли вы, что значит, когда девушка смотрит на вас и глаза у нее начинают блестеть и мерцать, словно в них загораются звезды? Тут с ума можно сойти. Тебе начинает казаться, что ты плывешь в волшебном челноке по заколдованному озеру… Я чуть не рехнулся. Забыл, что впереди нас и сзади русские танки. Но мой шофер еще помнил о них. Он высмотрел какую-то дыру; проезд под железнодорожной насыпью, мимо которой прокатила первая колонна. Мы нырнули в нее, выжимая восемьдесят километров в час. На большее наш драндулет был неспособен. Все. Выскочили! Вторая колонна, видимо, тоже прошла мимо. Фрейлейн Вероника мне улыбнулась…
До этого места Хагедорн уже рассказывал свою эпопею напомаженному майору, но о финале ее он умолчал и только подмигнул ему, на что майор, поглаживая рукой жирный подбородок, ответствовал: «Высший класс! Н-да, это, пожалуй, стоит мессы!» Но теперь, обманув похотливое любопытство юнцов и стремясь вызвать злорадство обер-фенриха, которое, как он думал, примирит его с ним, он досказал всю историю так, как она действительно кончилась.
— Мы беспрепятственно въехали в какую-то деревню, где еще застали нескольких человек из штаба дивизии, но и те уже собирались драпать отсюда. Машины стояли наготове. Вдруг фрейлейн Вероника крикнула: «Остановитесь!», выпрыгнула из машины и опрометью бросилась к молодому офицеру, который носком сапога стучал но крышке черного хорьха. Надо думать, что это был ее знакомый, она обратилась к нему: «Мой милый Бетцов». Тут все пошло как по маслу. Фрейлейн Вероника пересела в черный хорьх и сказала своему приятелю: «Эти молодые люди честно заработали по приличной сигарете на брата, пошарь-ка в своей волшебной шкатулке, милый». Офицер, капитан генерального штаба, не поскупился. Мы все получили но пачке «Уолдорф-Асториа». Я отнес аккордеон в черный хорьх. «Желаю вам, чтобы ваши кудри поскорей отросли», — улыбнулась мне на прощанье прелестная Вероника, и они укатили. Вот и весь мой рассказ.
Обер-фенрих поднялся, скучливо зевнул и сказал:
— Вашей фантазии цена восемь грошей и то с запросом. Пойдете со мной на доклад.
Хагедорн попросил у кого-то каску, своей у него давно не было, а на доклад полагалось являться в полной полевой форме. Корта приказал Хагедорну идти на три шага впереди него, как арестованному. От земли поднимался туман, и оба они быстро скрылись в нем.
— Я готов часами лупить этого Паганини но морде, — сказал один паренек и встретил всеобщее одобрение.
— А все из-за твоей дурости, — заметил другой, обращаясь к заряжающему, тоже под всеобщее одобрение.
Как старший по званию, тот нацепил себе на шею ларингофон и прошипел:
— Кто хоть словечко скажет против обер-фенриха, тому крышка, понятно? — Как видно, он понял, почему обор-фенрнх не потащил и его на доклад к командиру: из-за их добрых служебных отношений.
Телефонисты уже разбудили командира батареи для смены, когда обер-фенрих вошел в блиндаж командира батареи и, притворяясь до крайности взволнованным, доложил о происшествии в расчете орудия «Дора». Залигер, невыспавшийся, с головной болью, злился на тупую мстительность Корты, равно как и на растяпу Хагедорна. Обер-фенрих приказал Хагедорну дожидаться у входа в блиндаж. Он надеялся заставить командира тотчас же в официальном порядке передать дело в военный трибунал дивизии. По его мнению, речь шла о потере бдительности в боевой обстановке, и формально он был прав. Командир орудия, вопреки приказу позволяющий своему расчету употребление алкоголя в состоянии повышенной боевой готовности, должен нести ответственность перед военным трибуналом. Наказать за такой проступок своей властью командир батареи уже не может. Залигер кивал головой, слушая Корту, и в глубине души проклинал создавшееся положение. И надо же было этим дуракам засунуть бутылку в ствол орудия. Это подлило масла в огонь. Если Хагедорна упрячут в штрафной батальон, он еще должен будет бога благодарить.
Но война-то уж шла к концу. Стрелки неумолимо приближались к двенадцати. Время будет работать на Хагедорна, если удастся протянуть с подачей рапорта. Только бы не возбудить подозрительность Корты. Хорошо, что он не знает об их старой дружбе. Но сколько можно тянуть? Покуда батарея находится в состоянии повышенной боевой готовности, ни минуты дольше. Как только оно будет снято — пусть всего на несколько часов, — придется допросить весь расчет и направить рапорт по команде. Все остальное станет уже совершаться механически, а об ускорении событий позаботится Корта. И дернуло же этого Хагедорна… Господи, сделай так, чтобы уже началось наконец последнее действие, ведь вот уже семь дней звошгг звонок, оповещая о нем, стучало в мозгу Залигера. Он велел одному из связистов позвать Хагедорна.
Хагедорн вошел, остановился в дверях в положении «смирно», по всей форме доложил о прибытии. Он не смотрел ни на Залигера, ни на обер-фенриха. Его неподвижный взгляд был устремлен в угол блиндажа. Залигер немного обождал, ему хотелось сказать: «Вольно, держитесь свободнее, унтер-офицер», хотя тот и явился для объяснений. Но Хагедорн держался так официально, так подчеркнуто, оскорбительно безлично, что и Залигер, со своей стороны, вынужден был соблюдать форму и оставил Хагедорна стоять, как он стоял: руки по швам, грудь вперед, подбородок вскинут.
— Унтер-офицер Хагедорн, в вашем расчете пили водку?
— Так точно, господин капитан.
— Вам был известен мой приказ?
— Так точно, господин капитан.
— Вы лично участвовали в пьянке?
— Так точно, господин капитан.
— Кто засунул бутылку в ствол орудия?
— Заряжающий.
— Вы это заметили?
— Нет, господин капитан.
— Отдаете ли вы себе отчет в том, что вы учинили?..
Хагедорн промолчал, по-прежнему глядя в угол блиндажа. По пути сюда он решил даже взглядом не просить Залигера хотя бы пальцем пошевелить для пего… Я однажды искал твоего взгляда там, в гимназическом подвале, но ты от меня отрекся в беде и будешь отрекаться и впредь. Плыви, как плывешь. Этой весной с нами все равно происходит то же, что с мухами осенью…
— Я вас о чем-то спросил, унтер-офицер?
В вопросительном тоне Залигера было предложение немощи. Он спросил не резко, не злобно, а так, словно хотел перебросить мост к другу. Но Хагедорн упорно молчал, уставясь в угол. Ты не можешь мне помочь, Залигер, даже если бы ты хотел этого. У тебя не достанет ни нервов, ни мужества. А благоразумие гут ничего не значит. Этот обер-фенрих— акула. Мне следовало его пристрелить по дороге сюда. Пистолет у меня в кармане. Но меня и на это не достало.
— Унтер-офицер Хагедорн, отмалчиваясь, вы только глубже залезаете в трясину.
Корта, разочарованный тем, что Хагедорн и теперь не молит его о снисхождении, не сдержался и крикнул:
— У вас что, фронтовой психоз, тип вы эдакий, рохля несчастная!
Хагедорн молчал, уставясь в угол блиндажа.
Залигер внешне оставался спокоен, хотя дурацкое поведение Хагедорна все больше и больше действовало ему на нервы. В воцарившейся удручающей тишине слышно было, как попыхивает трубка одного из связистов, того, что не верил в талисманы. Изнервничавшийся Залигер попросту выставил его за дверь вместе с его «проклятой носогрейкой». Что хотел продемонстрировать Хагедорн — глупейшую солдатскую гордость? Или презрение, презрение к нему лично? С фатальной ясностью Залигер вдруг ощутил разобщенность со старым другом. Этот Руди Хагедорн стал другим человеком, непонятным, по его глазам видно, что упрямство в нем поглотило прежнее прекрасное сумасбродство, что его мечтательность обернулась безразличием ко всему на свете и воли к поискам верного тона для наших дней у него больше нет. Так почему же он, Залигер, медлит с подачей рапорта, подвергает себя опасности быть обвиненным в том, что он из личных соображений попустительствует человеку, оказывающему разлагающее влияние на окружающих. Всплывет, конечно, и то, что он сказал девушке.
— Приведите сюда весь ваш расчет, — устало сказал он, — но этому делу нужно провести дознание.
— Слушаюсь, господин капитан.
Хагедорн повернулся, как положено по уставу, и вышел. Залигер посмотрел ему вслед и вдруг почувствовал освобождение от терзавшей его неопределенной муки, почувствовал, как сильно у него болит голова. Корта позвонил по телефону в канцелярию, чтобы немедленно прислали ефрейтора с пишущей машинкой. Когда Хагедорн, выйдя из блиндажа, поравнялся с ефрейтором, курившим свою «носогрейку», тот сказал:
— Я бы знал, куда мне теперь идти.
Туман, поднимавшийся от земли, был теперь еще гуще.
Руди Хагедорн с поникшей головой шагал от командного пункта к своему орудию, до которого было рукой подать. Он не спешил и пошел кружной дорогой но шоссе, идущему в западном направлении от Райны. Что ни говори, Залигер вел себя вполне прилично. Он мог бы вызвать расчет по телефону, но он знает, что я вернусь и всех приведу с собой. Еще помнит, каков я. Однажды, мы еще были в гитлерюгенде и поехали в субботу на молодежную туристскую базу, где проводилось учение на местности, офицер из управления военного округа читал нам лекцию о чувстве долга немецкого солдата. Меня послали за шарфюрером, который в воскресенье крестил у кого-то ребенка. На обратном пути, когда мы остались вдвоем, Залигер сказал мне: «Теперь ты понял, что такое долг, долг службы? Он вот в чем заключается: солдат, которого должны расстрелять в пять часов утра, ложась спать в десять, заводит будильник, чтобы караульное подразделение, боже упаси, не проспало этот час». Я не в силах был над этим смеяться, а Залигер потешался от души. У меня мороз побежал по коже.
Хагедорн пошел еще медленнее. Странное противоестественное чувство сейчас владело нм. Словно он вылез из собственной кожи и сквозь туман шагает не он, а какое-то неведомое бездушное созданье, тень Руди Хагедорна, настоящий же Хагедорн, как филин, кружится над ним, и этот филин может полететь куда захочет — взмыть в небеса, улететь далеко-далеко, опуститься на ветку старого каштана, что растет в Рейффенберге возле их домика.
Там, в кроне старого каштана, под большими семихвостыми листьями укрылась крепость, которую соорудили когда-то они с Залигером. И еще ему казалось, что филин там снова обратится в человека, в доподлинного Руди Хагедорна в коротеньких штанишках с вечно израненными коленками, и что этот Руди может закинуть на каштан им самим сплетенную веревочную лестницу, может на прощанье подарить Армину свистульку из полого кусочка бузины с мудреной крышечкой, приделанной с помощью тетрадной скрепки. И может даже войти в дом попросить у матери горбушку хлеба, густо намазанную колбасным жиром, который так аппетитно отдает майораном…
Но ведь я иду сквозь туман. Я должен привести свой расчет. Залигер собирается провести дознание. Туман стал плотнее. Если к утру он не рассеется, американцы начнут наступленье позже. Танки в тумане не наступают, не могут действовать почти вслепую. А значит, у этих будет время отвезти меня в тыл, в военный трибунал, может быть в Эберштедт. И опять по дороге, прямой как стрела. В тумане мне даже не разглядеть будет грязных крыш той деревни, где живет Хильда, девушка, оставшаяся совсем одна на свете. Мне надо было осторожнее, ласковее сказать ей: Поезжай к моей матери, там густой лес, там теперь крокусы цветут на лугах, а на ветвях каштанов набухают толстые, блестящие почки, скоро уже покажутся ростки, а там и цветы… Когда она в последний раз взглянула на меня, что-то удивительно доброе светилось в ее взоре. Она добра и чиста. А я иду сквозь туман. Мне приказано привести расчет. Возможно, они захотят придать моему делу показательный характер. Но я иду. Мне дан приказ. Я, так сказать, завожу будильник, чтобы все со мной свершилось своевременно. Я иду и смотрю на свои сапоги. Сырой туман смывает мои следы с дороги. Так ходят теперь люди но земле…
Хагедорну пришлось отступить на обочину — сзади шли машины. Несмотря на темноту и туман, они двигались быстро, верно, спешили доставить на передовую срочный груз, боеприпасы или спирт — под брезентом постукивали жестяные ящики. Машин оказалось три. Хагедорн пропустил первую, потом вторую, третью. Но услышав, как прошипели по мокрому асфальту шины последней, унтер-офицер подскочил, словно в нем пружина сработала, словно чужая воля огрела его кнутом, пробежал несколько шагов за машиной, уцепился за задний борт и подтянулся на руках. Только бы выиграть время, пронеслось в его мозгу, а потом спрыгнуть, перебежать через поле, забиться куда-нибудь, как-нибудь выкарабкаться…
Глава восьмая
Нашему беглецу мерещилось, что его в бочке носит по волнам, что темнота ночи и туманная сырость вокруг — это глубокое и коварное море меж континентов и что сам он упал с корабля, который долго был ему домом, что его бегство, его паденье — это ошибка, неправдоподобная случайность, чистейшее безумие. Ибо когда солдат, принесший присягу, перед лицом врага покидает свой пост, солдат, которому приказано стоять насмерть, вдруг бросает свое оружие и гонится за переливчатым пестрым мотыльком, что олицетворяет толику его жизни, вернее, тоску по толике человеческого счастья, разве же это само по себе не безумие?
Правда, ты стараешься успокоить бурлящие мысли, считаешь: сто восемьдесят один, восемьдесят два, восемьдесят три… Надо досчитать до девятисот. Это пятнадцать минут. А пятнадцать минут — машины идут со скоростью около сорока километров в час — равны десяти километрам спасительного пути, на который не затрачиваешь сил. Через четверть часа истекут девятьсот секунд, его бегство будет замечено и Залигер бросится к телефону. Поэтому надо спрыгнуть, прежде чем машина подойдет к населенному пункту… двести двадцать один, двадцать два, двадцать три…
Но безумие, как меч-рыба в этом темном море туманов, метнулось в отверстие брезента и костяным своим мечом стало буравить его висок.
Хагедорн, истерзанный страхом смерти, истерзанный противоестественным одиночеством вольного, как птица, человека, свободного от всех человеческих уз, лежал ничком на рядах канистр, которые ездили под ним туда и сюда, так как были неплотно установлены. Когда колеса машины нырнули в колдобину и беспокойный груз сдвинулся к правому борту, Хагедорну больно прищемило руку. Чертыхаясь, он вытащил ее и, чтобы унять боль, засунул пальцы в рот… Шестьсот двадцать один, двадцать два, двадцать три… По обе стороны дороги вдруг выросли темные силуэты домов. Послышались голоса, где-то поблизости загрохотали по мостовой железные ободья колес, к этим звукам примешался цокот копыт множества лошадей. Водитель резко сбавил скорость. Машина с ужасающей медленностью объезжала какой-то конный обоз…
Обрывки разговоров донеслись до Хагедорна: «Мне отсюда до дома полчаса, да и то прогулочным шагом. Ханхен лежит в постели и во сне тянется к моей подушке… Слушай, рыжик, слушай…» — «…если есть еще бог на небе, Эрнст, то я, честное слово, его не понимаю… Допустить такое…» — «Моя Эрна теперь ковыляет на деревянной ноге. А я ей говорю — не расстраивайся,» от хромоты радости не убудет…» — «Ну, доложу я вам, ребята, наши фау-снаряды…» — «…в третьей роте вчера по суду расстреляли двоих пьяниц. Хотели улизнуть. Один буквально наложил в штаны…»
Грузовик остановился.
— Эй ты, смотри, свою смерть не проспи! — крикнул ездовой с проезжающей мимо повозки и кнутовищем ткнул Хагедорна в бок.
Девятьсот двадцать один, двадцать два, двадцать три… Время истекло… Надо прыгать! Самое простое — скрыться среди этой обозной неразберихи. Но самое простое еще не значит — самое лучшее. Хагедорн высунулся из машины и рискнул посмотреть вперед. Первая из трех машин остановилась на перекрестке. У поднятого шлагбаума стояли два долговязых полевых жандарма и разговаривали с водителем. Серебряные бляхи тускло поблескивали у них на груди. Девятьсот восемьдесят один, восемьдесят два… Если эти цепные псы теперь пойдут к следующей машине, я спрыгну, нырну между повозок и постараюсь скрыться в каком-нибудь саду. В кармане у меня пистолет. Ты или я. Обо мне никто не посмеет сказать, что я наложил в штаны…
Но псы но двигались с места. Один рукой показывал направление водителю — вперед и влево, другой со скучающим видом переминался с ноги на ногу. Они еще ничего не знали, ничто их не настораживало. А колеса уже закрутились снова. Хагедорн быстро втянул голову в плечи и перекатился через канистры на середину кузова. Они его не видели да и вообще не смотрели на проезжающие мимо них машины.
Когда шлагбаум остался далеко позади, беглец снова стал считать сначала: раз, два… и так до трехсот. Затем он вылез из-под брезента, уцепился за борт и, разжав пальцы, прыгнул на шоссе по направлению хода машины и покатился в придорожную канаву. Тяжело плюхнувшись в вонючую грязь, он осторожно пошевелил руками и ногами, желая убедиться, что они еще шевелятся. По счастью, они шевелились. И нигде ему не было больно. Шины грузовика шелестели по мокрому асфальту уже где-то далеко в тумане. Вскоре замер и этот звук. Тишина гудела в ушах. Хагедорн поднялся. С шинели, с рук у него стекала жидкая грязь, остро пахнувшая гнилыми капустными кочерыжками. Но он не попытался очиститься от нее, а еще зачерпнул обеими руками черной вонючей жижи и вымазал ею лоб, пос и щеки. Ибо и в самой темной ночи светится человеческое лицо. Если по моим следам спустят ищеек, думал он, то по крайней мере человеческий запах не пробьется сквозь вонючую корку. И Хагедорн побежал по полю. Каждые две-три минуты он останавливался и, как собака, почуявшая дичь, втягивал ноздрями воздух и опять шагал туда, откуда время от времени доносился гром орудий, а потом и чуть слышный стрекот пулеметов, полный веры в свое счастье, веры в то, что скоро, скоро он сыщет надежное убежище. Но чем скорее я уйду вперед до рассвета, думал он, тем больше у меня шансов перейти линию фронта. Надо остерегаться, чтобы не попасть в плен. Я хочу домой. Когда фронт будет уже далеко, я прежде всего вернусь в Рорен, к девушке. Я почти уверен, что она ждет меня. Может, ей удастся раздобыть для меня штатскую одежонку. А если она потребует или захочет благодарности, я возьму ее с собой домой. Она опрятная, сильная и одна как перст на свете. Лея умерла. Погибла из-за Залигера. Когда я в последний раз видел ее в Рейффенберге, она была как восковая кукла, а на мой поклон ответила как монашка. Но теперь надо думать о другом, о том, чтобы не бегать по полю, как заяц, а найти, где укрыться. Господи, до чего же здесь голо и пустынно…
Капитан Залигер утратил самообладанье и в присутствии обоих связистов и ефрейтора из канцелярии наорал на обер-фенриха:
— Чего вы хотите, Корта? Я не сторож своим солдатам. Если унтер-офицер дезертировал, я за это ответственности не несу. И меньше всего перед вами.
Обер-фенрих с непоколебимой уверенностью парировал:
— Что у этого малого все задатки подстрекателя и дезертира и что он упрям, как дьявол, мог слепой разглядеть, впотьмах. Я был поражен, что вы послали этого поганца одного. Это уж, разрешите заметить, господин капитан, но меньшей мере было…
— По меньшей мере вам придется засвидетельствовать, какое приказание я дал унтер-офицеру.
— Подумаешь, приказание, — хрипло выкрикнул Корта. — Этому подлецу, который только и знал, что гнуть свою линию, надо было дать штыком под ребра. А вы, господин капитан, разрешите заметить, подходили к нему в лайковых перчатках. А в лайковых перчатках вшей давить несподручно!
Чернявый собственными же словами опять распалил себя, к тому же бегство Хагедорна он воспринимал как свое личное пораженье и обиду. В этом состоянии он не побоялся заподозрить в соучастии своего начальника, которого и без того всегда порицал за склонность к буржуазному либерализму.
Залигеру казалось, что голова у него раскалывается от боли. Кожа на лбу опять заходила ходуном в нервном тике. Чтобы скрыть это неприятное явление, он встал перед большой картой воздушной обстановки, прибитой на стене блиндажа. Ефрейтор из канцелярии, трусливая душонка и подхалим, в двадцатый раз тыкал пальцем в какое-то слово на командировочном предписании, выданном Хагедорну в госпитале. При этом он все время шевелил губами, так как считал, что открыл нечто весьма важное в этом деле, что он, однако, не решается высказать вслух, ибо это может быть неприятно господину капитану.
Впрочем, почувствовав на себе злобный и презрительный взгляд обер-фенриха, он поправил криво сидевшие на носу никелевые очки и вкрадчивым голосом заявил, что дезертировавший унтер-офицер — уроженец Рейффенберга, Рейффенберга с двумя «ф». А насколько ему известно, в Германии есть только один Рейффенберг через два «ф». Капитан резко обернулся, и посему запуганный человечек проглотил вопрос, уже вертевшийся у него на языке: не знает ли капитан дезертира Хагедорна еще с довоенного времени. Да вопрос этот и не был нужен. Корта уже схватил предписание. На его лице тотчас же появилось глупо-заносчивое выраженье, доказывавшее, что он решил окончательно отмежеваться от этого дела.
До крайности разозленный Залигер взял со скамейки свой поясной ремень, надел его, усилием воли подавил свой гнев и с желчной иронией проговорил:
— Рейффенберг через два «ф», откуда и я родом, приютил в своих стенах без малого двенадцать тысяч жителей, тамошних уроженцев и приезжих, знать имя каждого, номер его шляпы и размер костюма вряд ли возможно.
В ответ Корта только презрительно шмыгнул своим тонким носом. Чтобы этого не слышать, Залнгер набросился на связиста:
— Передайте в Эберштедт, что их почта — сортир, а не государственное учреждение, если они тотчас же не дадут связь с отделом полевой жандармерии.
— Линия занята, — отвечал связист, — я уже два раза вызывал, господин капитан.
Покуда телефонист в третий раз пытался добиться соединения, позвонили из штаба дивизиона, куда уже поступило сообщение о случае дезертирства. У аппарата был сам командир. В его бешеных воплях то и дело повторялось слово «свинство». Залигер два раза сказал неокрашенным голосом:
— Так точно, господин майор, прошу разрешения напомнить господину майору, что дезертир не пробыл и двадцати четырех часов в моей батарее…
Сразу же после этого разговора позвонил начальник связи дивизиона:
— Примите мои соболезнованья, господин Залигер. Представляю, каково вам сейчас, это же такое чувство, словно пломба выскочила из зуба. А? Попытаюсь по радио связаться с частями, расположенными в радиусе пятнадцати километров. Прошу повторить анкетные данные беглеца. Этому делу дано кодовое название «Золотая пломба». Неплохо придумано, а? Согласны? У нас сейчас почетные гости в хозяйстве. Старик совещается с кавалером Рыцарского креста, офицером войск СС. Итак buenas noches[5],— сказал кабальеро даме своего сердца и отправился в ближайший бордель. Все…
Залигер приказал обер-фенриху сообщить о деле «Золотая пломба» полевой жандармерии и местным полицейским органам и просить их начать розыск.
— Прежде всего позвоните в Рорен, там живет его девица. Cherchez la femme[6], может быть, он лежит с нею в постели. — Но Корта с кривой улыбкой объявил:
— Считаю долгом поставить господина майора в известность о том, что дезертир — уроженец города Рейффенберга, через два «ф», и с вашей стороны, господин капитан, ему было оказано неподобающее доверие. Это мой долг.
— Я вас даже прошу об этом, — сказал Залигер и вышел из блиндажа.
Тотчас же после его ухода позвонили из полевой жандармерии и сообщили, что розыск начался.
В эту ночь на эберштедтском почтамте дежурной телефонисткой была молодая девушка. Ее брат уже больше года как пропал без вести на Восточном фронте, во время своего последнего отпуска он как бы мимоходом сказал ей: «Если бы я сидел на твоем месте и кто-нибудь потребовал бы быстрейшего соединения с полевой жандармерией, у меня от спешки испортился бы аппарат: «Слушаю, сейчас, одну минуточку, не отходите, пожалуйста, от аппарата, линия занята, пытаюсь разъединить…» и тому подобный вздор. На самом деле я, покуда возможно, просто бы ничего не делал. В таких делах главное — не торопиться, поспешишь — беды натворишь. А помешкаешь на несколько минут, иной раз даже секунд, глядь — и спасена жизнь какого-нибудь паренька, которому все уж до того осточертело… Представь себе, что они гонятся за мной. С собаками и прочими причиндалами отрядов особого назначения. Ты пойми, девочка, это же охотники за людьми…»
В эту ночь девушка, замирая от страха, почти шесть минут не давала соединения. Она отлично знала, на что идет, хотя и не знала — для кого. Полагала, конечно, что для паренька, которому все до того уж осточертело… Ведь с ее братом случилось то же самое. Он не пропал без вести, а перебежал к русским. С каждым днем она лучше и лучше это понимала. Мать не носила траура, а отец всегда так уверенно говорил: «Верь мне, наш мальчик вернется. Доброе зерно не пропадает». И тогда она обязательно скажет ему: «Я несколько раз сделала так, как ты мне советовал. Не торопилась… Может, это и сослужило службу какому-нибудь бедняге».
Только один из всех, вовлеченных в это дело, подозревал, что на эберштедтской телефонной станции тормозят соединение: телефонист в блиндаже, тот, что не был суеверен и сказал Хагедорну: «Я бы знал, куда мне теперь идти». В голосе девушки ему послышались страх и решимость. Он знал ее голос по многим служебным разговорам и иной раз даже любил пошутить с «коллегой». У девушки был приятный, какой-то задушевный голосок. Человека ведь узнаешь и по тому, как он говорит. Во всяком случае, я эту девчушку предупрежу, уж как-нибудь намекну ей, если одна из крыс, которые уже начали пожирать друг друга, начнет ерепениться.
И все же эта мысль заставила его устыдиться. До тридцать третьего он два года состоял в социал-демократической партии. Когда фашисты пришли к власти, его как следует отлупили штурмовики и потом отпустили ка все четыре стороны. С той поры он перестал интересоваться политикой, но, правда, не попался на удочку нацистской программы трудоустройства, а зарабатывал себе на хлеб, работая монтером, и свою жизненную энергию свел к тем немногим вольтам, в которых испытывали потребность граждане третьей империи, чтобы не мучиться угрызениями совести и быть сытым. Уверенный, что владычество Гитлера неминуемо повлечет за собой войну, он договорился с женой не заводить детей и не приобретать громоздкой мебели. Все случилось именно гак, как он это предвидел в своем бездействии. Теперь гитлеровская империя была накануне гибели. Но разве он приложил к этому руку? Девушка на почте боролась. Неважно, что ее лепта была совсем маленькой в борьбе против коричневого колосса. Если бы каждый из миллионов людей своевременно внес свою маленькую лепту, Гитлер многого бы не добился… Если бы да кабы… Какая сейчас от этого польза? Обвинительный приговор миллионам вынести нельзя, нельзя обвинить их в бездействии, если ты сам один из них. Надо начать с себя, думал он. Сейчас примкнуть к тем, кто действует, — все еще единственно разумное. Новое время стоит на пороге, оно уже взялось за ручку двери… А что оно принесет с собой, опять-таки зависит от нас, только от нас.
Залигер пошел к орудию «Дора», чтобы допросить расчет. Несмотря на всю его самоуверенность, он терзался страхом, что при ближайшем рассмотрении дела о дезертирстве его поступки могут быть квалифицированы, как содействие побегу.
«Вы несете личную ответственность за батарею…» — пригрозил черный хищник. Сейчас он сидит у командира дивизиона. Этот шизоид Корта «по долгу службы» уже, конечно, доложил о своих подозрениях. Не исключено, что после этого старик почувствовал себя обязанным дать черному хищнику его, Залигера, характеристику: «… из породы воображак, штатские замашки, умничанье и так далее…» Старик, человек невежественный, бывший кельнер вагон-ресторанов, дослужившийся до майора и принимавший участие еще в испанской войне в составе «легиона Кондор», инстинктивно не терпел «воображак», наверно, в силу горького опыта своей гражданской профессии — они были не очень-то тароваты на чаевые. А черный хищник? Разве не было у него оснований для подозрительности? Разве на вопрос, не замечает ли Залигер у подчиненных симптомов военной усталости, он секунду-другую подозрительно не помедлил с ответом? И дело тут было совсем не в Хагедорне, а в том человеке в куртке, который явился к нему и больно его задел своей вздорной рассудительностью… Вот по этой самой дороге каких-нибудь полчаса назад шел Хагедорн. И в каком-то месте, может быть, именно здесь, он повернул, прошел через стену тумана и растворился в нем, как призрак. У этого парня, видно, не все дома. Кстати сказать, неплохой аргумент, даже Корта вынужден будет признать, что во время допроса в блиндаже Хагедорн вел себя ненормально. И все-таки я не верю, что он сбежал к той девчонке в Рорене. Он ринулся за линию фронта. Конечно! Не совсем же он сумасшедший. Ничего доброго он от меня не ждал… Старик, наверно, потребует от меня честного слова. Ну что ж! Я со спокойной совестью скажу, что никакие личные отношения не связывают меня с этим унтер-офицером из Рейффенберга…
Господи боже мой, пороть надо того, кто ради бывшего приятеля рискнет своей шкурой. Да и вообще не след якшаться с голодранцами, вроде Хагедорна или этого, в куртке, ничего хорошего от них не дождешься. Это другие люди. Отец заставлял меня водиться с Руди Хагедорном, потому что тот вытащил меня из пруда. И все эти годы частично платил за его обученье. На самом деле ему следовало сразу же отвадить этого пролетарского сынка, а не затевать с ним дурацко-сентиментальную дружбу…
По какому, собственно, нраву Хагедорн винит меня за Лею? Он не может взять в толк, что человек должен держаться положенных ему границ. Я честно признался Лее, что не рожден трагическим героем. А он бы извел ее чувствительными ламентациями. Еще вопрос, что человечнее и разумнее.
Что мертво, то похоронено. Дружба с Хагедорном похоронена. Я поклянусь в этом командиру, даже если он не потребует от меня клятвы. Вот только что может обернуться неприятностью: вчера после обеда, когда мы вновь встретились с Хагедорном, я при свидетелях дружески с ним беседовал. И к тому же еще похлопывал его но плечу. Ну да это, конечно, пустяки, как-нибудь вывернусь… Если бы хоть отпустила эта адская боль в голове…
У командира притаился черный хищник. Он зарычит, когда я приду со своим честным словом, зарычит от недоверия. У него чутье — дай боже! Стоит только ветерку подуть, и он уже чует, где, что и как. Мной овладел порыв, не подконтрольный ни разуму, ни чувству долга. Послав Хагедорна к орудию за расчетом, я, конечно же, дал ему известный шанс. Ты, мол, сын божий, так помоги сам себе.
Хищник тотчас же выпустит когти: почему вы не сразу ответили, когда я спросил, замечается ли у вас в батарее пресловутая военная усталость? Факт, что вы с этим дезертиром, тотчас же по его прибытии, шатались по нолю. Отвечайте, господин капитан, кто вы: педераст или капитулянт? По всему видно, что последнее. Нет? Тогда докажите обратное.
Залигер обессилел и остановился в тумане, пальцами сжимая виски, в которых молотом стучала боль. Я дал сбить себя с толку. После поражения на Волге моей установкой было — не падать духом, найти верный тон для наших дней. Хагедорн задурил меня своим лозунгом «думать о будущем», а этот тип в куртке — вздорно разумным призывом «кончать!» В приступе сентиментальности я отождествил эту чепуху со своей концепцией. И тотчас же рассыпался прахом мой девиз: не рисковать своей шкурой для других. Я не хочу висеть, вытянув шею, на первом попавшемся дереве. Это не для меня! О нет!
Страх, от которого его тошнило, от которого дрожали руки и ноги, заставлял Залигера говорить с самим собой. Огромный влажный плат тумана, как слюну, стирал с его губ прерывистые звуки. Но вдруг его точно осенило, он опустил руки, сжимавшие виски, уставился в пустоту и зашагал все быстрей и быстрей, потом вдруг припустился рысью в направлении шоссе, ринулся по нему обратно на батарею, наконец добелил до дома, где находилась канцелярия и его бунгало. На дворе под наспех сколоченным кухонным навесом пылал огонь. Он кликнул своего ординарца Мали, тот не отозвался, Залигер наконец разыскал его, пьяного среди пьяных поваров. Он штыком открывал ящики с консервами из неприкосновенного запаса. При отступлении в Вотанову пещеру этот запас должен был быть роздан солдатам — но кило консервированной свинины на четверых.
Наверху, в бунгало, Залигер, присев к письменному столу, заставил Мали стать по стойке «смирно» и, как психиатр, настойчиво и серьезно, задал ему несколько вопросов. Парень тщетно пытался вникнуть в их смысл, от натуги у него глаза на лоб полезли.
— Мали, знаете вы, что такое апраксия? Нет, не знаете. Понятно. В состоянии апраксии человек, несмотря на безупречное действие периферийной нервной системы, некоторое время не может сделать ни одного движения руками.
Мали переминался с ноги на ногу и бессмысленно таращил на него глаза.
— Возьмем, к примеру, письмо — это сложная манипуляция. Временами я не в состоянии ничего написать. Апраксин — нервное заболеванье. Я болен ею. Я доверяю вам, Малн, вы первый, с кем я об этом говорю.
Парень проглотил слюну так энергично, словно заодно хотел заглотнуть и свой кадык.
— Вы помните, что незадолго до того, как было снято состояние повышенной боевой готовности, я приказал вам сварить особо крепкий кофе?
— Так точно, господин капитан. Я положил двойную порцию. Двадцать граммов на одну чашку.
— Я не приказывал вам что-нибудь писать?
— Так точно, господин капитан, приказывали. Записка, верно, еще лежит на столе.
Залигер схватил ее и прочитал: «Фольмер, шахта Феникс, проживает в Рорене…» Он сунул записку Малн.
— Это ваш почерк?
— Да, — удивленно подтвердил парень, — хотя я все еще пишу готическим шрифтом…
— Значит в случае чего, вы могли бы клятвенно подтвердить, что я спросил крепкого кофе и приказал вам написать эту записку?
— Я положил двадцать граммов молотого кофе. И большое «Р» я написал точь-в-точь, как меня учил господин учитель…
— Мои чемоданы уложены, Мали?
— Конечно, — заверил его ординарец.
После этого Залигер приказал ему удалиться, и парень пошел к двери, решительно и твердо ступая. Удивленье протрезвило его.
На ночном столике в соседней спальне стоял телефонный аппарат, непосредственно подключенный к городской АТС. Залигер сел на край кровати и потребовал немедленно соединить его с отделением гестапо в Эберштедте.
— Некий Фольмер, проживающий в Рорене, — начал он.
— Старый клиент, — прервал его голос на другом конце провода.
— …высказыванья разлагающего характера. Требовал от меня сдачи батареи без боя…
— Вы его арестовали, господин капитан?
— Нет, жду вашего указанья.
— Идите вы… — прорычал его собеседник. И швырнул трубку.
Выждав секунду-другую, тихонько опустил трубку и Залигер. Удовлетворенье разлилось у него по жилам. Он знал, что охота началась, что но его слову собаки уже спущены, но не поздно ли? Не скрылся ли Фольмер? А, наплевать, я сообщил куда следует, обелил себя, поддержал свою честь. Он вдруг снова увидел перед собой человека в потертой синей куртке, неподкупно настороженный взор светлых глаз был устремлен на него. Достаточно и звонка… Залигер подошел к умывальнику, растер виски и смочил их одеколоном. Буравящая боль, казалось, отпустила его. Он уже опять тешил себя мыслями о самоизвинении, самооправдании. Думать о будущем — значит, думать о настоящем, ибо настоящее при ближайшем рассмотрении относительно и всегда на мгновенье впереди наших мыслей. А поскольку мы живем в настоящем, мы рабы относительного. Судить о нас вправе лишь тот, кто оделил нас бренностью. Покуда мы живем, мы эту проклятую относительность воспринимаем, как бренность. И в конце концов это восприятие сводится к страху смерти. Человек, одержимый страхом смерти, не поступает морально или аморально, он действует инстинктивно, как инстинктивно закрывает глаза от яркого света… Расслабленный этими мыслями и удовлетворением, которое они ему принесли, капитан Залигер снова зашагал по направлению к огневой позиции.
Корта со своим верноподданническим рапортом не пробрался дальше адъютанта командира дивизиона. Адъютант, сделав удивленное лицо, воскликнул: «Черт возьми, дружище!», — но тут же объявил, что сейчас не имеет возможности передать рапорт. Господин майор не разрешил себя беспокоить: у него сейчас важное совещание, и ему можно докладывать только о боевой обстановке и о приказах и распоряжениях, поступающих из штаба дивизии.
На то у майора были свои причины. Дело в том, что беседа с гауптштурмфюрером, поначалу касавшаяся характера предстоящих действий вервольфа, затронула другую, более приятную тему. Когда уровень коньяка в бутылке понизился почти до минимума и майор — поскольку разногласий касательно тактики вервольфа между обоими собеседниками не возникло, — попотчевал дорогого гостя рассказом о нескольких эпизодах гражданской войны в Испании и заодно похвалился личной дружбой с рядом влиятельных сановников франкистского государства, гауптштурмфюрер вдруг забеспокоился, вскочил, стал шагать из угла в угол, закуривая одну сигарету от другой и нервно стряхивая пепел на красную кокосовую циновку, лежавшую между дверью и письменным столом. Майор отнес беспокойство гостя за счет своих рассказов, полагая, что тот, будучи на пятнадцать лет моложе, даже и не слыхал о том, как зенитчики летом 1936 года в тренировочных костюмах взошли на борт обыкновеннейших торговых судов и сами вытаращили глаза, когда те взяли курс на Бискайский залив, а им была выдана военная форма, в трюмах же они обнаружили свои зенитки и изрядное количество боевых снарядов к ним.
— Поначалу там, на юге, в краю «лимонных рощ и цвету», нам пришлось довольно круто, ведь туда устремились коммунисты со всего мира… Но, правда, благодаря превосходству нашей боевой техники и отличной выучке немецких солдат… Да, это еще были хорошие времена! Я помню, как наши летчики в щепы разнесли Гернику, а мы — я тогда был еще юным лейтенантом — получили приглашенье на празднование этого дня в испанское офицерское казино в Виллафранке. Там ко мне вдруг пристал некий капитан Жуан, о, он недаром носил это имя, потому что был дон Жуаном до мозга костей. Этот малый с горячей кровью, как большинство испанцев, пожелал стреляться со мной из-за одной прехорошенькой сеньориты. Я сказал: «Mi capitano, это не слишком-то caballeresco, из-за подобной особы!..» Вот мы и порешили бросить монету, кто первый ее… Капитан назвал это pontificar, то есть «по-епископски», «полагаясь на суд божий», как объясняется это слово в испано-немецком словаре. Ему выпало быть первым… Впоследствии он женился на провинциальной даме, стоившей несколько миллионов. Нынче он procurador general — генеральный прокурор и частенько мне пишет…
Майор, силившийся произносить согласные на испанский манер, хрипел, словно в горле у него застрял гвоздь. Внезапно гость его прервал:
— А что, если бы вы, господин майор, — начал он, остановившись в позе человека, приготовившегося к дуэли на пистолетах, — рекомендовали меня своим влиятельным испанским друзьям?
Майору, грубо вырванному из волнующих воспоминаний, понадобилось время, чтобы понять смысл сказанного гостем, и еще минута-другая, чтобы совладать со своей растерянностью. С плохо сыгранным спокойствием он раскурил сигару и раздраженно спросил:
— Значит, вы полагаете, что уже ничего поделать нельзя?
— Империя разваливается, господин майор… на время. Нам приходится думать о послезавтрашнем дне. И самое главное сейчас — сохранить наиболее активную и способную часть руководства, еще оставшуюся в живых.
Уставившись на гаснущий огонек спички, майор сказал:
— Под этим углом зрения, уважаемый друг, по правде сказать еще не до конца мною обдуманным, я, конечно, готов…
Гауптштурмфюрер поклонился торжественно, как школьник на уроке танцев.
— Покорнейше благодарю, господин майор! Я думаю, у господина майора найдется применение подлинному Ренуару?
— Французский лимузин? Какой мощности мотор?
— Нет, картина. Оценена в долларах.
Разразившись громовым хохотом, майор извинился за свое невежество и, так как гость торопил его, сел за писанье рекомендательных писем. Все они начинались словами: «Ваше высокоблагородие, досточтимый друг!» и, поставив подпись (он, конечно, не забывал должность и поенное звание), скреплял ее служебной печатью.
Гауптштурмфюрер достал из своего толстого кожаного портфеля картину, обернутую гофрированным картоном й перевязанную бечевкой:
— Вы можете неплохо ее продать. Я ее не сиял со стены, а получил за одного заложника. — Майор, ни слова не говоря, небрежно сунул картину в ящик письменного стола. Когда же он собрался откупорить вторую бутылку мартеля, оказалось, что гость страшно спешит и больше задерживаться не может.
— Я захвачу только своего шофера, все остальное в вашем распоряжении. Надеюсь, я еще успею выехать из Фюрстенфельдбрука. Ждите посылки с лимонами и не потому, что вам не хватает витамина «С». Пусть родина знает, что орлы наших знамен улетели на чужбину и вернутся…
Майор выразительно поднял руку для приветствия «хайль Гитлер» и слегка заплетающимся языком проговорил:
— Постараюсь продержаться, покуда орлы меня не кликнут…
Ему очень хотелось узнать, сколько можно взять за картину, но спросить он постеснялся.
Адъютант командира, обер-лейтенант, призванный из запаса, младший компаньон экспедиционной конторы в Ганновере с широкой сетью отделений, хотел защитить Залигера от опасного обвинения Корты. От этого Корты за километр несло высокомерием. К тому же адъютант провел немало приятных вечеров в бунгало Залигера, кот недавно, например, когда тот пригласил штабных девиц из Галле. То-то было здорово! Ну можно ли, чтобы такой парень погиб из-за доноса? Однако благие намерения адъютанта были несколько поколеблены всезнающим начальником связи.
— Имей в виду, — сказал он. — что господин Залигер заслал парламентарием к противнику своего доброго рейффенбергского приятеля. Вы меня не троньте, и я вас не трону. Он же отлично знает, что за эту оборону мы будем расплачиваться собственной шкурой. Его папаша — аптекарь. А эти люди чего только не придумают. Ах, да что там, уже не стоит рисковать головой, мы переходим к штыковым боям, значит, каждый бьется за себя…
Итак, адъютант принял решение держаться в этом деле, по мере возможности, благожелательного нейтралитета. К вящему его изумлению, командир не взорвался, ознакомившись с рапортом Корты. Этот прирожденный холерик, этот упорный последователь стратегического девиза «продержаться!» ограничился тем, что сказал:
— Империя разваливается — на время, конечно. Залигер скорее пригодится нам, чем Корта.
И тут же спросил, есть ли свободные машины, кроме легковой.
— Только артиллерийская мастерская, — отвечал адъютант.
— Пусть на эту машину погрузят пещи офицеров, и мы сегодня же отправим ее.
— Куда, господин майор? Ее запас хода ограничен, ведь она жрет горючее, как истомившийся верблюд воду.
— Вам, компаньону экспедиционной конторы, должно быть, известны места, где можно кое-что надежно укрыть.
У адъютанта в этой местности имелся клиент, на которого можно было положиться. Вопрос не явился для него такой уж неожиданностью. Но он притворился, что перебирает в памяти имеющиеся возможности. Он и начальник технической службы дивизиона давно уже состояли в деловых отношениях с этим человеком. Инвалид, бывший антиквар, он владел еще и птицефермой. Под толстым слоем куриного помета там уже давно хранились ценные запчасти для автомашин, электросверла, слесарные инструменты, автопокрышки и прочие драгоценности. Наконец адъютант припомнил имя «надежного клиента». Майор поинтересовался, смыслит ли этот человек что-нибудь в картинах.
— Вряд ли, господин майор, разве что в водонепроницаемой упаковке таковых.
В конце концов они друг друга поняли. Адъютант должен был самолично сопровождать машину. В путевке стояло «Транспортировка поврежденных во время воздушного налета двадцатимиллиметровых орудий в дивизионную артмастерскую».
Уточнив с адъютантом все детали, майор стал диктовать ему приказ по дивизиону. Майор обращался к своим офицерам, унтер-офицерам и солдатам с такими словами:
«Камрады! В предстоящих боях вы должны нагнать страху на врага. Народ и фюрер смотрят на вас. Исполните свой долг до конца. Господь бог не оставит наших храбрых батальонов. Бейтесь, покуда не обратите врага в бегство или трупы его не будут горами громоздиться перед нашими позициями…» Майор отвернулся. Он был потрясен пафосом своих слов, которые еще час назад произнес бы от души. Охрипшим голосом он приказал:
— Остальное допишите сами. Да здравствует фюрер и так далее…
— Слушаюсь, — отвечал обер-лейтенант и достенографировал что положено.
Растроганность начальника ему претила, хоть он и говорил себе, что этот человек начал служить в рейхсвере в 1925 году. Военная служба была его хлебом и его честью тоже. Но удивительно, если он пустит себе пулю в лоб, видя, что фирма обанкротилась. Этот эсэсовец, видно, вправил ему мозги, и надо же, чтобы именно он. Так или иначе, а в нас вновь ожил предпринимательский дух, глубоко гражданский, конечно. И он уже вполне уверенно и безжалостно проговорил:
— Надо моему клиенту уплатить хотя бы небольшие комиссионные. Как-никак он делит риск с нами пополам.
— Предложите ему этот драндулет — артмастерскую. Как он спрячет эту штуковину в корзинке с яйцами, это уж его дело.
Майору пришлось взять себя в руки, чтобы не обидеть адъютанта. Тот заметил, что кровь бросилась в лицо его командиру, и вышел вон.
В тот же самый час в деревне Рорен гестаповец повернул отмычку в дверном замке покосившегося домика, в котором жил Герберт Фольмер со своей матерью. За спиной взломщика в кожаном пальто с пистолетом в руке стоял Хеншке-Тяжелая Рука. У калитки маячило еще одно кожаное пальто и бургомистр, человечек, скрючившийся от страха. Арест должен был быть произведен незаметно. Машина гестапо ждала у въезда в деревню. Водитель получил указанье подъехать ближе только по сигналу карманного фонарика.
Герберт Фольмер спал одетый в кухне на деревянном диване, на который был брошен мешок с соломой. Сразу же после ухода от командира зенитной батареи он подумал, не лучше ли ему провести эту ночь у Германа Хенне в Эберштедте. Герман приютил бы его. Но нет, так не пойдет. Он, Фольмер, выпущенный из концлагеря, не имеет права подводить товарища. Его разбудил пронзительный крик в комнате матери. Когда он открыл глаза, они уже стояли перед ним. За стеной хрипела старуха, так, словно у нее шла кровь горлом. Поздно, уже ничего предпринять нельзя. Прежде чем Фольмер успел полностью отдать себе отчет в случившемся, они надели на него наручники…
Фольмеру подумалось, что горечь жизни вкусом напоминает терпкий вермут. Он совершил ошибку, которой не ждал от себя. Вдруг сделался легковерен, поддался чувству, не проверив его разумом. Наивно решил, что у капитана-зенитчика еще сохранились остатки совести. Когда в конце 1943 года Фольмера выпустили из концлагеря будто бы за хорошее поведенье, но главное потому, что он был горнорабочим, у него хватило ума правильно расценить эту милость. Еще в лагере товарищи его предупреждали: «Они спустили тебя с цепи, чтобы ты учуял связи, которые сами они найти не в состоянии. Будь осторожен, Герберт…» Движение Сопротивления не задавлено. Фольмер чувствовал это по тому, как смотрели на него некоторые люди, горняки в шахте, женщины на улице пли в автобусе, даже совсем зеленые юнцы. Ни слова не говоря, они выражали ему свое уваженье. Но это, в конце концов, мало что значило. Он впдел и слышал еще многое другое, более конкретное: столкновенье вагонеток в шахте, саботаж, пропаганду, ловко замаскированную «под слухи», например, разговоры о провалившемся наступлении в Арденнах: «А я-то только на него и уповал…», разговоры о легендарной отваге и выносливости русских: «Они и в сорок градусов мороза не испытывают потребности в перчатках». А на рождество им была найдена первая листовка: «Не быть миру на земле и в человеках благоволению, покуда я еще жив! Адольф Гитлер.» Фольмер передал ее по начальству, почуяв, что поблизости есть шпики. Однажды Герман Хенне послал его чистить водоотливную штольню. Герман Хенне, некогда его лучший друг, видимо, поладил с нацистами и делал вид, что не замечает Фольмера. Когда же Фольмер потребовал, чтобы он дал ему еще двоих людей, Хенне проговорил прежним, знакомым, скрипучим голосом:
— Ты должен работать один, Герберт, и сегодня и вообще, в крайнем случае с военнопленными. — И ушел. С этой минуты Герберт Фольмер точно знал, что он не одинок. Партия жива.
Ему подчинили бригаду железнодорожных строительных рабочих — пленных французов, всего двадцать семь человек. После того как он проработал с ними около двух месяцев, к нему подошел один рабочий и сказал:
— Товарищ Герберт, у нас тут подпольная партийная ячейка из трех человек. Мы сделаем все, что в наших силах, для поддержания патриотического духа наших людей. Ты можешь нам помочь. У нас общий враг и общие цели.
Фольмер крепко пожал руку француза. В ответ на одни только красивые слова он этого бы не сделал. Но он уже неделями наблюдал за этим человеком, так как поначалу Робер показался ему подозрительным. Вид как у профессорского сынка, а утверждает, что он сельский учитель и сын телеграфиста. В том, что Робер не самозванец, Фольмер убедился по его поступкам. Никогда он не просился на легкую работу, в первые, особенно трудные, часы дождливых или морозных дней им никогда не овладевало отвращенье ко всему на свете, тупая вялость или упрямство, настроение, нередко приводившее к стычкам между французами и заставлявшее Фольмера своими командами подгонять и пришпоривать их. Робер говорил: «Не давайте холоду добраться до мозга или дождю испортить вам настроение. Разум, друзья мои, — это крыша над головой. Ну что скажет твоя мадам, если ты вернешься к ней с пустой, иссохшей башкой? А соседи что подумают? Фернан стал настоящей свиньей в немецком плену — да?..»
Герберт Фольмер стремился заставить себя каждый свой поступок сначала проверить разумом, никогда не давать чувству увлечь себя. И вот оказалось, что его все же сгубило чувство — легковерие. Сколько горя видел он сегодня, когда они тушили пожар в Райне, сколько горя прочитал в глазах девушки, нашедшей приют у Лизбет Нале. Когда она поднялась наверх, на чердак, и Лизбет познакомила их, нестерпимая боль снова пронзила его. Сердце разрывалось, когда девушка причитала: «Никто, никто ничего не может сделать, они все хотят погибнуть, все хотят погибнуть». Вот тогда-то он и пустился в путь на батарею, к капитану. Разум его протестовал против этой затеи. Необходимо было выждать еще несколько часов. Он поверил в доброе имя этого человека. В Райне говорили, что командир зенитной батареи не нацист и не солдафон. А как перепугалась Лизбет Кале, когда я сказал: «Пойду сейчас на батарею и постараюсь пробудить совесть капитана». — «Фольмер, — сказала она, — я но вправе вас удерживать. Будь у меня это право, я бы вцепилась в вас ногтями и зубами…» — А я возразил ей: «Лизбет, разве мы имеем право думать о себе?» — И она отпустила меня, отпустила без единого слова.
Когда они, толкая перед собой Фольмера, проходили по тесным сеням мимо комнаты матери, он крикнул:
— Мать, возьми Лизбет к себе в дом…
Хеншке-Тяжелая Рука был человек мстительный. Мстительность брала у него верх даже над трусостью. Сейчас ему представлялась возможность наконец-то отплатить этой женщине на чердаке, крикунье, отказавшейся на него работать. Все, кто жил под его кровом, будь то человек или скот, должны были служить ему. Когда кожаные пальто втолкнули Фольмера в машину, он с важным видом потянул за рукав одного из гестаповцев и шепнул ему, что эта свинья-коммунист путался и чесал язык с одной бабенкой, что проживает у него на хуторе, и бабенка через это знакомство — уж поверьте мне, уважаемый, — только через это знакомство сделалась политически неблагонадежной. Кроме того, — Хеншке-Тяжелая Рука подозвал скрюченного бургомистра, — ты сказал, Вильгельм, что звонили из полевой жандармерии нашему жандарму, правда, он уже две недели как призван. Да говори же, Вильгельм! — Он пнул бургомистра в бок, — Господам из гестапо будет интересно, тут обнаруживается целая цепочка, это ясно как день.
Бургомистр, отчаянно мерзнувший в сыром тумане, поспешил сказать, что с батареи в Райне сегодня дезертировал унтер-офицер, чья девушка живет здесь, в деревне.
— А девица, в свою очередь, — ретиво подхватил Хеншке-Тяжелая Рука, — стакнулась, и уже давно, со сволочью, которую вы забрали. Все ясно и понятно: у женщин можно много чего выпытать и о том, и о другом. Надо только их хорошенько расшевелить! Кто знает, не прячут ли эти шлюхи беглого пса у себя в постели. Мы должны действовать немедленно!
Гестаповец в кожаном пальто закурил сигарету. На его гладко выбритом лице появилось брезгливое выражение, словно этот безусловно надежный, но глупый ортсбауерн-фюрер уже успел ему наскучить. Хеншке-Тяжелая Рука заметил, но по-своему истолковал это выражение. Он решил, что гестаповцев все равно ничем не удивишь, и этот камрад уже обдумывает план действий. Ио тут он услышал, как второй сказал:
— Наше дело арестовать и отвезти куда следует. Прикажут мне, так я и деда-мороза выволоку из чащобы и доставлю по назначению. А допросы нас не касаются. У каждого своя служба. На кой черт нам сдались эти бабы!
Его напарник в кожаном пальто пошел было к машине, но Хеншке-Тяжелая Рука взбесился, стал махать своей клюкой и прошипел:
— Так вот как ты понимаешь служебный долг! Я знаю твоего начальника, слышишь! Еще по службе в черном рейхсвере. В кавалерийском корпусе вместе служили. Одно мое слово и…
— Что ж, в таком случае пошли в ближайший ресторан, — пробурчал кожаное пальто и велел своим коллегам с машиной дожидаться у выезда из деревни. — Может, еще подберем парочку пассажиров…
Герберт Фольмер не все слышал, но схватил смысл разговора. «Как бы я был счастлив, — думал он, — привести Лизбет в свой домишко. И мать на этом настаивала. Но я этого не сделал, потому что всегда могло случиться то, что сейчас случилось. Не хотел я запутывать еще и ее, Лизбет… Хеншке, вот мерзавец, доведись мне только еще встретиться с тобой…»
Машина проехала мимо двора Хеншке и под окошком чердака. Фольмер заметил, что в нем темно. Одна из ставен была закрыта. Я к ней приделал пружинку, чтобы сама захлопывалась. Лизбет говорила, что любит спать при открытом окне. Хильда собиралась сегодня ночевать у Лизбет. Но эти уже пошли к вам… Ах, беда, что люди больше не умеют себе помочь…
По пути Хеншке-Тяжелая Рука разработал тактический план:
— Ты, Вильгельм, сначала будешь говорить о дезертирстве, потом мы выскочим из засады и огорошим их вопросом, какого рода разлагающую пропаганду вел этот Фольмер, отвечайте точно и подробно. И если эта сволочь наберет воды в рот, я из них такие звуки выколочу, будь я не я…
Набалдашником клюки Хеншке-Тяжелая Рука стукнул в дверь чердака. Дрожавший от холода бургомистр прокаркал:
— Откройте, именем закона, откройте!
Гестаповца это развеселило. Хеншке, не в силах дождаться, покуда им откроют, спиной навалился на дверь. Он-то знал, что доски, из которых она сделана, гнилые и петли приделаны кое-как. Дверь тотчас же распахнулась. Внутри около двери имелся выключатель. Хеншке нащупал его впотьмах. Тусклая лампочка на средней балке скупо осветила помещение.
Лизбет Кале, спавшая на соломенном тюфяке возле плиты, уже вскочила. Она стояла в длинной полотняной рубашке, еще не очнувшаяся от сна, и судорожно сжимала ее на груди. Хильда и маленькая Гита лежали в кровати. Девочка от страха с головой забилась под одеяло и тихонько скулила. Хильда натянула по самую шею старое пальто, которым ее укрыла Лизбет, и всей пятерней вцепилась в него.
— Где вы спрятали дезертира! Подать сюда эту собаку, — дискантом заорал кособокий бургомистр.
Он двинулся прямо на Лизбет, которая увернулась от него, как от пьяного, и стал топтать ногами шерстяные одеяла на ее тюфяке. Лизбет заметила, что на нем старые башмаки с незавязанными шнурками, на которых присох навоз. Натоптавшись вволю, он разрыл солому и одеяла и не своим голосом завизжал:
— Глупо прятать здесь кого-нибудь. Мы все равно его найдем и тогда уж — да сжалится над вами бог.
Хеншке-Тяжелая Рука стоял, широко расставив ноги, у самой двери. Его левая рука и палка, упертая в ботинок, образовывали треугольник. Правая, напротив, была вытянута вперед, в ней он держал парабеллум. На его могучую «бисмарковскую» голову была нахлобучена старая коричнево-желтая чиновничья фуражка с промятым верхом. На нем был коричневый мундир и армейская шинель. Гестаповец в кожаном пальто грозной тенью высился за дверью, я темноте лестничного пролета. Бургомистр подскочил к Лизбет, его пронзительный голос звучал теперь потише:
— Вы сами накликаете на себя беду, укрывая дезертира. Этот мерзавец, наверно, наврал вам с три короба. Говорите, куда вы его спрятали? Это послужит для вас смягчающим обстоятельством.
Лизбет провела языком по пересохшим губам. Но вообще-то могло показаться, что она собирается плюнуть. Бургомистр, подняв плечи, как гном, обошел плиту, обнюхал углы, все время не спуская глаз с кровати. Затем, набравшись храбрости, он приблизился к ней:
— Вон отсюда! Тебе говорят! Слышишь, скотина!
Лизбет не пошла за ними, стояла все на том же месте.
Но когда она, наконец, заговорила, кособокий выпустил старое пальто, которое он схватил, пытаясь вырвать его из рук Хильды.
— Здесь нет никого, — сказала Лизбет, силясь не потерять самообладанья, — кроме меня, моего ребенка и девушки с хутора, у которой они сегодня отняли последнее, что у нее было. Вы нее сами знаете, господин бургомистр, у псе убили последнего родного человека, брата, который служил в Райне, в зенитной батарее. Он раза два сюда заходил. И всегда вежливо здоровался с вами. Эта девушка из хорошей семьи, господин бургомистр.
Бургомистр еще больше скособочился.
— Так, так, — прошипел он, — а может, это неправда? Придется вам встать, фрейлейн, и храни вас бог, если…
— Если вы требуете, чтобы она встала, надо же ей что-нибудь на себя накинуть. Выйдите на минутку за дверь, — сказала Лизбет.
Хешке-Тяжелая Рука злобно расхохотался.
— Больно ты хитра, красотка. Мы уйдем, а эта собака выскочит в окно. Неплохо придумано! — Он круто повернулся и направил пистолет на Хильду, — Вставай, девка! Раз, два…
— Как в кино, — заметила Лизбет.
— Придержи свой поганый язык, — рявкнул Хеншке.
Многоразличные чувства боролись в Хильде, и мысли молнией проносились в ее мозгу. Ей было страшно. И она хотела встать. Но думала, что Хеншке все же не выстрелит. Просто он хочет посмотреть на меня раздетую. На мне ничего нет, кроме короткой нижней юбки. Он уже по раз меня подстерегал. Нет, ни за что не встану. Лизбет меня выручит. А Руди, Руди сбежал. Он меня послушался, и он ко мне вернется. Жгучая радость охватила ее, на мгновенье даже затмившая страх: а удалось ли ему скрыться? Хильда чувствовала, что страх, леденящий кровь, который охватил ее при этом внезапном вторжении, начинает растворяться и вместе с возвращающимся животворным теплом в ней растет уверенная, страстная ненависть к тем, кто тщится поймать Руди. Нет, я не встану по доброй воле, не встану. Пусть бьют. По доброй воле я уже никогда для этих людей ничего не сделаю, даже пальцем не пошевелю. Пусть бьют…
— Итак, даме не угодно встать, — издевался Хеншке и вдруг прорычал голосом, словно из громкоговорителя, так он рычал по деревням: «Победа пли Сибирь!», пли гнал на полевые работы военнопленных, — Встать, не то пристрелю как собаку!
Лизбет уже не могла сдерживаться:
— Вы хотите выгнать девушку из постели, потому что на ней ничего нет. Свинья вы, вот кто! Отсиживаетесь в тылу, а другие пусть за вас умирают!
Хеншке на мгновенье обомлел.
— Ага, заговорила, шлюха, — проворчал он, — все ей точно известно! С кем поведешься…
Лизбет поняла, что он намекает на ее отношения с Фольмером. Но нет, она не позволит забросать грязью то, что для нее свято. И она опять закричала не своим голосом:
— Вы не просто свинья, Хеншке, нет, вы трусливая скотина…
Это было уже слишком. Как разъяренный бык ринулся к ней Хеншке-Тяжелая Рука и занес палку над ее головой. Лизбет успела заслонить голову руками.
— Я тебя убью, проклятая, но сначала еще всю морду раскровеню. — Девочка громко заплакала под одеялом. Целясь палкой в голову Лизбет, Хеншке орал: — Я в мундире… Понимаешь, в мундире… Я тебя сейчас прикончу… Пистолет у меня заряжен… Но сначала я…
Гестаповец в кожаном пальто вдруг появился в комнате, обошел Хеншке, заученным, привычным движеньем выбил у него из руки пистолет и сунул себе в карман. Дрожа от ярости, Хеншке обернулся.
— Я имею право, имею право…
— Никто его не оспаривает, — отвечал тот. — Но ты хочешь убить человека, не дав ему даже рта раскрыть. Это глупо.
Тем временем Хильда выпрыгнула из постели, успев накинуть на себя старое пальто. Я должна помочь Лизбет, она же помогла мне… Перепуганная девочка лежала в кровати. Она боялась открыть глаза и только жалобно скулила.
Кособокий приложил два пальца к губам: ш-ш, ш-ш! И вдруг обеими руками стал ощупывать матрац, а потом даже сунул голову под кровать.
— Я бы заглянула еще в ночной горшок, — заметила Лизбет, потирая начинавший пухнуть локоть правой руки.
— Не перегибайте палку, дамочка, — строго сказал гестаповец.
— У меня и палки-то нет, зато вон тот, — Лизбет локтем показала на Хеншке, — только и знает, что лупить палкой всех, кто под руку попадется, все равно — человек или скотина. Ну, что я такого сделала?
— Каждый получает по заслугам, — прохрипел Хеншке-Тяжелая Рука и попытался опять замахнуться палкой. Но гестаповец в кожаном пальто сказал:
— А ну, пропусти-ка меня, друг сердечный, — отодвинул в сторону Хеншке, подцепил носком ботинка кухонный стул и уселся на него, вытянув ноги и засунув руки в карманы. Лизбет стояла напротив него, но в некотором отдалении. Он пристально на нее смотрел снизу вверх.
— Мы сейчас забрали некоего Фольмера. Вам этот тип знаком, дамочка?
Он прищурил глаза. Когда для допроса мало времени, надо сразу же огорошить допрашиваемого. Выстрелить в него неопровержимым фактом. И посмотреть, точно ли твое попаданье. Если жертва побледнеет, начнет кусать губы, с ненавистью на тебя взглядывать, растерянно улыбаться — словом, каждый признак, хоть на мгновенье противоречащий наигранной уверенности, уже равносилен признанию. Посмотрим, как держит себя эта особа…
Лизбет Кале понурила голову, но не перестала потирать руку. Как хорошо, думала она, что так нестерпимо болит рука и что мне можно ее трогать. Что бы я иначе стала делать под взглядом этого человека? Он смотрит на меня, как удав на кролика.
А удав тем временем думал: особенно глубоко этот факт ее не затронул. Она продолжает массировать себе руку. Будь это прямое попадание, она бы не вспомнила о такой ничтожной боли. В такие минуты люди забывают даже о смертном страхе. Или уж очень она прожженная бабенка? Одна из тех рыбешек, что проскальзывают сквозь наши сети? Нет, непохоже. Берлинская вертихвостка. Разбомбленная. Хворая…
— Вы в трауре, дамочка?
Он показал на черные блузку, юбку и чулки, висевшие на соседнем стуле. Потом глянул на свежевыкрашенные вещи на веревке перед окном и покосился на Хильду. Она стояла рядом с Лизбет у плиты. Девочка все еще тихонько ныла.
— Мой муж пал за великую Германию, — сказала Лизбет, не поднимая глаз, — он был награжден золотым Германским крестом.
Для женщины далеко за тридцать, конечно, из рук вон остаться вдовой, подумал гестаповец. Золотой крест не греет. Женщине хочется чего-нибудь теплого, даже если это коммунист. Мужчин на всех не хватает, черт подери!
— Вы, конечно, вели с Фольмером политические разговоры, а?
— Он сложил мне печку и вывел трубу в окно.
— А что он вам при этом рассказывал?
— Что зимой без печки холодно и что можно угореть за милую душу, если в печке нет тяги. И шоколад он нам приносил, шоколадные бомбы…
— Ну?
— Очень вкусные, господин…
Значит, и вправду прожженная особа. С моими примитивными методами допроса я из нее ничего не вытяну. Чтобы разговорить эту патентованную шлюху, нужен патентованный ключ или попросту дубинка. Прежде, ну прежде я бы уж не постеснялся ее стегануть. В Киеве у меня была дубинка с нарезкой. Иван, который эту нарезку делал, на своей шкуре ее и попробовал… А сейчас нервы у меня сдали, да еще девчонка воет — сил моих больше нет.
— Вы знали, что этот Фольмер сидел в воспитательном лагере?
Лизбет вскинула голову.
— Если б и не знала, так догадалась бы. Фольмер был по-настоящему воспитанным человеком, поприличнее многих, которые не сидели в этом… как его?., воспитательном лагере.
Это уже явная издевка. У Хеншке уши пылают от негодованья, а рука сжимает палку. Мне надо только мигнуть ему. Он знаком с командиром кавалерийского корпуса черного рейхсвера. Черт с ней, пусть он ее пристукнет. А кособокий пусть сунет что-нибудь в рот девчонке, носок хотя бы. Но он бесноватый. А я пока покурю.
Хеншке-Тяжелая Рука забрехал, как собака, спущенная с цепи.
— Я тебя прикончу. Слышишь! Я в мундире…
Лизбет заметалась по комнате. За печкой он ее настиг.
— Ах ты скотина, дерьмо… — Каждое бранное слово сопровождалось размашистым ударом палки. Девочка кричала так, что волосы становились дыбом. Кособокий прокрался к двери.
Крик ужаса вырвался у Хильды, она бросилась к Хеншке и кулаками стала дубасить его по спине.
— Ах ты дрянь, — зарычал Хеншке, изо всей силы занес палку и описал ею круг в воздухе. Удар пришелся Хильде по ребрам. У нее перехватило дыханье. Она упала. А тот продолжал избивать Лизбет методично, нещадно.
Когда она уже не сможет защищать руками голову, он ее прикончит, думал гестаповец в кожаном пальто, надо стараться курить, не затягиваясь, моя старуха каждый день мне это твердит…
Хильда подползла к плите и открыла чугунную дверцу топки. Если бы там еще сохранился жар… Господи, сделай так, чтобы там был жар, пусть я голыми руками схвачу его и швырну в глаза этому извергу, я брошусь на него, прежде чем он успеет опомниться.
Ага, девка рыщет в поисках головешки или горячих углей. Она схватит их голыми руками. Бабы, они это могут. В Каттовице одна такая закрыла рукой дуло моего автомата, чтобы я не стрелял в ее пащенка: «Не надо, умоляю вас, не надо!..» Но печка давно погасла. Зола уже холодная, малютка, холодная-прехолодная.
Лизбет больше не ощущала отдельных ударов. Казалось, дикий зверь терзал и рвал ее тело. Вот оно и пришло. Я знала, что скоро так случится. Сегодня, когда я входила с Гитой во двор, я знала, что так будет. Хеншке, стоя у водокачки, избивал русского. Недалек тот день, когда он и меня изобьет, подумалось мне. Я это знала еще в тридцать третьем году, когда отца уволили из трамвайного парка. Двадцать четыре года службы, под конец он уже был контролером и… пожалуйте, за ворота, новый закон о государственной службе, неблагонадежный элемент, социал-демократ. Надо было бы уже тогда распрощаться с жизнью. А теперь у меня Гита. Вон она зовет. Меня зовет. С Гербертом мы бы еще свет увидели. Я же здесь, Гита. Почему ты меня зовешь откуда-то издалека…
— Где мой пистолет? — прохрипел Хеншке. — Я сейчас ее прикончу. — Лицо у него было красно-синее, на багровой шее набрякли желваки. Человек в кожаном пальто оставался безучастным. Если б эта девчонка так не орала! С улицы послышались шаги, голоса, где-то хлопнула дверь. Неужто уже танковая тревога?
— Мой пистолет!
Хильда увидела, что Лизбет вконец обессилела, руки ее упали и простерлись на полу ладонями кверху. Туловище еще как-то держалось, затиснутое в угол комнаты. Голова склонилась на высоко вздернутое плечо. Под подбородком струились черные волосы с блистающими капельками пота. В эту блестящую черную копну стекали две тонкие струйки крови, хлынувшей из носу.
— Мой пистолет!
Гестаповец по-прежнему сидел не шевелясь.
— Хорошо же, я ее и так прикончу!
Палка, набирая силу, уже описала в воздухе широкий полукруг, но не опустилась на Лизбет. Хильда схватила с плиты ведро, до половины еще наполненное краской, и, прежде чем Хеншке успел опомниться, вылила ему на голову черную жижу. Хеншке изрыгнул проклятие. Глаза как перцем ожгло, рот свело от острой горечи. Он ничего не видел. «Соляная кислота!» — пронеслось в его мозгу. Его невестка, поссорившись с мужем, плеснула ему в лицо соляной кислотой. Он остался слепым. Хеншке выронил палку, ощупью сделал несколько шагов ио комнате, потом завопил, как скотина на убое. Черная, до неузнаваемости искаженная физиономия поистине сделала его похожим на черта в образе человеческом. Обхватив руками стропило, он перестал орать и жалобно заныл:
— Глаза! Глазыньки мои! Помогите!
Человек в кожаном пальто тяжело поднялся с места. Хильда все еще держала ведро обеими руками. Ну, этот сейчас прикончит Лизбет, а заодно и меня, пронеслось в се голове. И это будет небольно, совсем небольно… Замолчи ты, ради бога, Гита, Руди вернется и возьмет тебя с собой.»
А, вот ты каков, думал гестаповец, беснуешься, как кабан, покуда тебе ничего не грозит, и труса празднуешь, когда делишки плохи. Эта бражка и довела нас до ручки! Он и сейчас цел и невредим. Но небольшой шок — и наш герой уже визжит и зовет на помощь…
— Ах ты рохля! — крикнул он Хеншке, потом, волоча ноги, пошел к двери и спустился по лестнице. Хеншке, все еще державшийся за стропило, выл ему вслед. Когда внизу заскрипели ворота, Хильда пробудилась от своего оцепенения. Она поставила ведро и подтащила Лизбет к ее тюфяку.
— Вильгельм, — плакался Хеншке, — дай мне руку!
Ответа не было.
Над плитой на проводе болтался электрический выключатель. Фольмер в свое время подсоединил его к лампе и подвел к плите, чтобы Лизбет удобнее было включать утюг и электронагреватель. Хильда рванула провод. Лампочка под потолком погасла. Гита мгновенно перестала плакать. Хильда, склонившаяся над Лизбет, услышала, как девочка соскочила с кровати и подбежала к ней. Лизбет пришла в себя, пыталась заговорить. Но с се губ срывались только нечленораздельные звуки. Хеншке ощупью пробирался к двери.
— Глаза! Глазыньки мои!
Девочка обвила руками шею матери.
— Воды, — уже отчетливо прошептала Лизбет. С лестницы вдруг донеслись какие-то крики, стук, хлопанье дверей. — Воды, — шептала Лизбет, — плесни мне воды в лицо.
Хильда взяла ведро. Внизу у лестницы лежал Хеншке, охая и стеная. Она переступила через пего, тщательно вымыла ведро под водокачкой и затем его наполнила. Возвращаясь, она увидела жену Хеншке, хлопотавшую около мужа.
— Возьми его за ноги, — приказала та своим бранчливым голосом.
Но Хильда вторично переступила через стонущего Хеншке и понесла наверх свежую, прозрачно-холодную воду.
Глава девятая
Сколько времени он идет и идет, Хагедорн не знал. Часов у него теперь не было. Часы он оставил в лазарете, так как, не желая терпеть муки голода, выменял их у одного крестьянина на трехфунтовый кусок ветчинного рулета. Не менее голодные товарищи усердно помогали ему справиться с рулетом. Не мог он роскошествовать, когда другие нищенствуют. Рука дающего не оскудеет, любила говорить мать. И отец, вопреки своему обыкновению, поддакивал ей.
Где-то над туманами уже занималось утро — пора петушиных криков. Молочно-белый свет растекался вверху над туманной бурдой и падал капелью на землю, сопровождая каждый шаг беглеца. Уже запевали птицы, а он все еще не сыскал для себя надежного укрытия.
Он шел по мокрым лугам и по липучей грязи отвалов, пересекал топкие вспаханные ноля, перепрыгивал через канавы, продирался сквозь иссохшие изгороди, везде бежал даже звука человеческого голоса. Ему чудилось, что он проходит через бесчисленное множество одеял, по растянутым в воздухе простыням и, чтобы продвинуться вперед, откидывает одеяло за одеялом. Но вот он лишился и единственного своего ориентира. Смолк орудийный гром и чуть слышный стрекот пулеметов. Вокруг царила гробовая тишина, точно в день поминовенья усопших. Время, драгоценное время утекло у него между пальцев, как зачерпнутая в реке вода, и вместе с ним и чуть забрезжившая надежда и трезвость его рассуждений. С каждым шагом в разгоравшийся день его нагоняла бесконечная усталость, тупая покорность року, которую он едва стряхнул с себя недавно.
На вспаханном поле Хагедорн остановился и вдруг почувствовал, что руки его праздно болтаются вдоль тела, что сапоги тяжелы от налипшей грязи, каска давит голову, шинель весит центнеры и мерзкая корка грязи застывает на лице. Где-то недалеко впереди прошел поезд, локомотив затормозил и спустил пары. В стороне, но тоже поблизости яростным лаем залилась собака. Хагедорн был твердо уверен, что где-то рядом населенный пункт; значит, идя вперед, он очень скоро налетит на часового или патруль.
Тогда он сорвал каску с головы и начал, задыхаясь от спешки и отчаяния, рыть яму. Он решил закопаться. Если растянуть над ямой шинель, с обеих сторон вдеть колышки в петли, да еще подпереть ее двумя-тремя палочками, потом насыпать на нее выкопанной земли, остальную подгрести к краям углубления, затем, уже спрыгнув в яму, осторожно втянуть туда и шинель, то можно, на худой конец, несколько часов продержаться под землей. Лицо надо приложить к внутреннему отверстию рукава, и тогда рукав будет служить воздушным шлангом. Для осуществления этого плана нужны только несколько палочек, ну да уж где-нибудь они сыщутся… Сантиметр за сантиметром закапывает себя беглец, напряженно следит за тем, чтобы светлая песчаная земля, которую он теперь выбрасывает из ямы, не легла бы на пашню. Он ссыпает ее на узкую полоску невспаханной земли. Нельзя, чтобы виднелось светлое пятно. Несколько полных касок песчаной земли придется унести и высыпать в канаву или на дорогу, чтобы не образовался холмик. Как-никак, а телу ведь нужно место. Но сначала надо закопаться на локоть, точно на локоть, от кончиков вытянутых пальцев до сгиба руки. И останавливаться сейчас нельзя, хотя пальцы немеют и пот жжет глаза не хуже чем соляная кислота. Прежде чем рассеется туман и коршун сможет разглядеть его, все должно быть закончено.
Внезапно что-то как магнитом притягивает его взгляд, он поднимает глаза и видит две фигуры так близко, что можно добросить до них комком земли, они стоят и рассматривают его. Он стонет, словно когти уже впились в его затылок, но все-таки видит перед собой человеческие лица, не ружейные дула. Он выпрямляется. Фигуры движутся к нему. Двое мужчин, один постарше, коренастый, с выпяченными губами и темными усиками над ними, другой помоложе, сухопарый, на полголовы выше своего спутника, с узким лицом и большим, задорно торчащим носом. Шея его по-модному повязана шерстяным шарфом. На них бурые, простреленные шинели, застиранные пилотки, через плечо перекинуты вещевые мешки, смахивающие на переметные сумы. Это французы, военнопленные или иностранные рабочие. Они оба улыбаются. Старший на ладони протягивает человеку в яме с черным лицом и сверкающими белками мелко нарезанный табак.
— Закурим, капрал?
Хагедорн выпрямляется в яме, протягивает руку ладонью кверху, на которую тот высыпает табак, пытается улыбнуться. Он не знает, что ему делать с табаком без бумаги, но берет его и говорит «мерси», чтобы те знали— он не враг. Тот, что помоложе, молчаливо ухмыляется и декламирует немецкий стишок, который метит в курильщиков, но на этот раз звучит не насмешливо:
Дружище, дружок — Моя бумага — твой табачок.И при этом протягивает, капралу листок курительной бумаги. Тот говорит:
— Мерси, камрад, — в первый раз в жизни говорит «камрад» французу.
Но пальцы его сведены, как в судороге. Он не в состоянии скрутить сигарету.
— Дай сюда, — говорит молодой француз, делает закрутку и дает немцу лизнуть бумагу.
Французы и себе свертывают закрутки. У старшего неуклюжая зажигалка, которую он смастерил из двадцатимиллиметровой гильзы. Слабый ее огонек сильно коптит.
— Война конец, — говорит старший.
— Германия проиграла, — улыбаясь, вторит ему другой.
Измученный Хагедорн кивает, спрашивает:
— Куда вы держите путь?
— Куда? Наверно, туда же, куда и ты. Ты убежал из своей части?
Хагедорн опять утвердительно кивает.
— Но здесь много, очень много солдат. И СС, oh, dangereux![7]
— А вы? Для вас не dangereux? — спрашивает Хагедорн.
Молодого вдруг прорвало:
— Мы работали в шахте, и там рухнула драга. Одни немцы говорят: «Саботаж! Французы!» Другие немцы говорят: «Нет саботаж! Нет французы!» Рельсы клали на морозе. Теперь весна. Ждать, пока придет гестапо и скажет, кто? Пойдем лучше навестим nos camarades[8] в лагере номер один, в главном то есть. Пропуск нам раздобыли, понял?
Как было ему понять? Хагедорн покачал головой.
— Есть разные немцы, — намекнул старший.
Хагедорн вылез из ямы, рукавом обтер лицо, спросил несколько неуверенно:
— Хотите вы мне помочь?
— Что сделать?
— Засыпать меня вон той землей.
— Mon Dieu![9]
— Куда мне деваться? Вы сами говорите, везде солдаты и эсэсовцы.
— В лагерь с нами ему нельзя, — заметил молодой. Многие наши товарищи ненавидят немцев. Нас-то спрячут…
— Allez, Robert[10],—старший толкнул молодого в Сок и сказал, обернувшись к Хагедорну: — Я знал одного камрада, семь или восемь часов сидел засыпан под Нанси. И опять живет дома с женой. Через семь, восемь часов конец. Allez! Мы помогаем…
Военнопленные, беглые французы, помогли беглому немецкому унтер-офицеру укрыться под землей. Они все сделали обстоятельно и осторожно. Пожилой шилом своего перочинного ножа пробуравил дыры в коробке противогаза Хагедорна, далее они по всем правилам искусства соорудили из него воздушный резервуар и все прикрыли гнилой соломой. Они заставили немца выпить водки, прежде чем он залег в яму, и обвязали его но талин шерстяным шарфом, который снял с себя молодой, чтобы тот не застудил почки. Под конец они разбросали большие комья земли и придали прежний вид развороченной борозде. Когда все было сделано, пожилой крикнул в отдушину Хегедорну, чтобы он думал о девушке, тот, что под Нанси семь или восемь часов пролежал в земле, тоже неотступно думал о своей madame. И еще надо все время шевелить пальцами на руках и ногах для кровообращения…
— И еще, приятель, думай о raison[11] всего этого, — добавил молодой. Затем, пожелав немцу «bonne résurrection»[12], они ушли.
Лежать здесь еще не самое худшее, думал Хагедорн, самое худшее — знать, что ты один как перст, всеми оставленный… Но вот есть же на свете товарищи…
В тот же самый час, когда в третий раз прокричали петухи этого утра, на опушке ольхового леска немцы закопали в землю Герберта Фольмера и еще двадцать семь других немцев, скованных в цепочку ручными кандалами, которые на заре дня своей свободы были расстреляны командой особого назначения.
Они даже не допросили еще раз Герберта Фольмера. Без задержки в Эберштедте он был отвезен в окружную тюрьму. Там они провели его в обитую войлоком комнату, со звуконепроницаемыми дверьми, где на табуретке стоял мощный осветительный прибор из тех, что применяются в театре, но не усадили его на это лобное место. Эсэсовский офицер с бледно-серым прыщавым лицом, до войны игравший героев-любовников в провинциальных театрах самого последнего разбора, бегло заглянув в дело, как Цезарь, опустил книзу большой палец, головой указав на тюремный двор за окном. У этого серо-бледного профоса глаза были красные, как у кролика, а от его черного мундира разило винным перегаром и блевотиной. Вчера в подвале тюрьмы были расстреляны одиннадцать женщин-шпиков, так называемых «носительниц тайн». Среди них была и кокоточка, с которой месяц назад сочетался законным браком этот тип в мундире, украшенном мертвой головой.
Внизу в тюремном дворе конвоиры примкнули Герберта Фольмера за цепочку наручников к последнему человеку в живой цепи. Свободной у него оставалась только левая рука. Когда конвой удалился, его сосед сказал:
— Вынь у меня сигарету изо рта и докури.
Фольмер взял сигарету, затянулся и снова воткнул окурок в рот нового своего товарища.
— Как при перевозке рабов, — сказал он, — но далеко они нас не повезут.
Движенье прошло по живой цепи. В середине ее кто-то упал. Со вздернутыми кверху руками, он повис на цепях своих соседей. Они поставили его на ноги. Тот, что стоял рядом с Фольмером, выплюнул окурок, неторопливо поставил свой башмак на еще тлеющую искорку, растоптал ее и проговорил:
— Конечная станция. Не строй себе иллюзий. Все, кто здесь стоит, — отщепенцы, политические, дезертиры. Я летал на ночном истребителе. Мне приказали таранить тяжелый бомбардировщик, но я отказался, не захотел идти на верную смерть. А сейчас, прежде чем они придут пристрелить нас, я размозжу себе голову об стену.
Помолчав, Герберт Фольмер сказал:
— А зачем это нужно? Кто знает, может, еще будет воздушный налет.
Тот, другой, поднял глаза, глянул через посыпанную битым стеклом верхушку стены.
— Погода летная разве что для вороны, — глухо сказал он.
— Ну что ж, мы одни из последних, — выдавил из себя Фольмер.
Голос его соседа звучал звонче, когда он попросил:
— Товарищ, подыми пожалуйста, мою руку, хочу отереть холод со лба…
Это было между четырьмя и пятью часами утра. Вскоре после пяти подкатила закрытая грузовая машина с командой особого назначения. В шесть палачн закопали живую цепь.
Через несколько минут после девяти на Райнской ратуше пронзительно завыла сирена: танки противника!
Капитану Залигеру еще ни разу не приходилось участвовать в наземном бою. Когда он принял командование батареей и никто еще не думал, что фронт будет проходить через деревню Райна, он, несмотря на свою холодную рассудительность в дневные часы, но ночам тешил себя честолюбивыми грезами: хорошо бы перед огневой позицией батареи создать глубоко эшелонированную систему траншей и усилить ее минными полями. Под руинами деревни в отлично оборудованном мощном блиндаже они будут устраивать выпивки и совещанья с артиллерийскими и пехотными командирами. И те скажут ему: «Если бы не наши бравые зенитчики…» И оборона у Райны будет держаться неделю за неделей, месяц за месяцем. И все же танкам противника однажды удастся прорвать оборону. Все и вся охвачены паникой. Но он, двадцатишестилетний капитан Залигер, стоит как rocher de bronse[13], сохраняет полное спокойствие, противотанковыми снарядами рвет в клочья широкие стальные груди непрерывно подкатывающих шерманов или Т-34. Он, Залигер, уничтожает отборные части танковых армий. Благодаря отважному капитану Залигеру под деревней Райна переворачивается страница истории великого рейха, здесь поджидают врага каталаунские поля[14], здесь наносится ему смертельный удар. Портрет капитана Залигера (да у него совсем штатское лицо) печатается во всех газетах, а позднее и в хрестоматиях. Его вызывают в ставку, и сам фюрер вручает ему Рыцарский крест. Но он будет носить его небрежно, как модный галстук. Воротнички на его рубашках всегда блистают безупречной чистотой. Немецкому герою подобает три раза на дню менять рубашки.
Но получилось все по-другому. Не было ни глубоко эшелонированной системы траншей, ни минных полей, ни господ артиллерийских и пехотных командиров. По улице ковыляли в тыл двое или трое раненых. Враг приблизился невидно и неслышно. А с командного пункта дивизиона требовали точных данных и в первую очередь точное время сопрпкосновенья с противником. Какой негероический метод ведения войны!
Залигер перенес свой командный пункт к орудию «Дора». Иначе говоря, он залег, вооружившись биноклем, у бруствера орудийного окопа и кричал сидящему в блиндаже телефонисту, тому, что вечно попыхивал трубкой, свои наблюдения:
— Слабые взрывы в юго-западном направлении… Шум моторов, видимо, танки, в районе поселка Лангебах… Два самолета противника ведут разведку…
Зенитчики, кроме одного наблюдателя, неподвижно стоявшего у края круглого орудийного окопа, притаились где попало и смахивали на мертвецов в братской могиле. Разведывательным самолетам могло показаться, что все здесь вымерло.
Залигер уже трижды наводил бинокль на большую высоту сзади огневой позиции, шарил взглядом по ее гребню и скатам. Где же люди гауптштурмфюрера? Эсэсовцы ведь обещали прикрыть батарею огнем своих счетверенных установок. Куда же подевались эти герои? Где тот черный хищник? Что сталось с планом отхода в Вотанову пещеру? В дивизионе, казалось, стали туги на ухо и не понимали его вопросов. Боевой приказ командира был передан но телефону, и Залигер продублировал его каждому орудию. Героизм по телефону! У Залигера создалось впечатление, что с боевым духом в батарее обстояло неважно. Корта, как всегда, бесновался и накидывался на «этих типов». Он был назначен ответственным за организацию борьбы с воздушными целями. Странно, что сегодня самолеты противника еще не кружились каруселью над позицией, хотя туман давно рассеялся. Залигер не знал, что на другой стороне у американцев тоже имеются честолюбивые офицеры, которые договорились с air forces[15], что те не будут бомбить ближние цели, чтобы по всем классическим правилам военной науки разрушить их артиллерийским огнем, а затем, стяжая славу, овладеть ими силою танков и пехоты.
Около десяти — к этому времени еще ничего не произошло — прикатил командир дивизиона в своей открытой машине. Она остановилась на шоссе неподалеку от орудия. Но в то же самое мгновенье, точно дьявольская режиссура только и ждала выхода этого актера, первый артиллерийский снаряд разорвался на лугу, на некотором удалении от позиции. Тем не менее командир вылез из машины и с неподвижным лицом размеренным шагом направился к орудию. Залигер ни при каких обстоятельствах не намеревался утратить военную выправку, хотя проклятая история с Хагедорном не шла у него из головы и адъютант, готовивший перемещение штаба и разыскивавший некоего куриного фермера, еще не поставил его в известность о решении командира дивизиона. Держась очень прямо, он зашагал навстречу командиру и молодцевато вскинул вверх руку, готовясь рапортовать. Но прежде чем он успел раскрыть рот, воздух опять наполнился воем. Второй снаряд разорвался метрах в пятидесяти от «Доры», за ним последовал третий, рассыпавший осколки немного левее. Господа офицеры вдруг оказались на земле, ничком друг против друга.
— Во время боевой готовности не рапортуют, господин Залигер, — окрысился майор.
Залигер извинился. Эта ситуация была ему крайне неприятна. В воздухе опять завыл снаряд, пророкотал над позицией и разорвался у подножия высоты, взметнув вверх облако грязи высотою с колокольню.
— Вы должны наблюдать за разрывами и считать; противник пристреливается! — прорычал майор.
Шофер его машины позволил себе дерзнуть — стал сигналить как сумасшедший. Офицеры поднялись с земли. Рассерженный майор сделал знак шоферу прекратить гудки и спросил Залигера, все ли в порядке на батарее.
Так вот он, давно ожидаемый роковой вопрос. Залигер снова отдал честь и заверил начальника, что его батарея будет сражаться точно в соответствии с боевым приказом господина майора. Вдруг они услышали глухой гул, перешедший в негромкий свист. Что-то опять шлепнулось на лугу. На месте шлепка вздыбился столб белого дыма. В центре огневой позиции кто-то яростно заколотил железной палкой по подвешенному на столбе куску рельса. Пьяный голос Корты кричал что есть мочи:
— Химическая тревога! Газы!
Майор вдруг рассмеялся. Солдаты это заметили, стянули с себя противогазы, которые уже начали напяливать, и снова присели у орудий.
— Господину камраду видятся призраки; впрочем, но удивительно. Что этот малый, все еще пьет, как вождь пандуров? Это же пристрелочный снаряд. Судя но звуку, тяжелый миномет. Братишки уже близко. Танцы начинаются. Забирайтесь-ка в свою дыру, господин Залигер!
С хорошо разыгранным спокойствием командир достал черную гавану из портсигара, серебряным ножичком отрезал кончик и подстругал мундштук. Залигер поднес ему зажженную спичку. Старик взял ее у него из рук и с наслаждением закурил.
— Надеюсь, вы не утратите темп, если сейчас начнется, господин Залигер…
— Так точно, господин майор. Я со своей батареей буду драться до… — Залигер запнулся.
Огромная радость захлестнула его. Старик потешается над рвением Корты. Под треклятой историей с Хагедорном, этим предателем, поставлена точка. Но он не мог себе сейчас позволить патетических восклицаний. Майор признавал патетику только на бумаге. К удивлению Залигера, майор сам закончил прерванную фразу на манер, противоречащий всему его поведенью.
— Итак, до почетного финала, камрад Залигер. — И, как гипнотизер, заглянув прямо в глаза капитана, добавил: — Родине мы еще нужны. Держитесь бодро…
Тяжелый снаряд опять провыл над позицией и разорвался в деревне. Оттуда донесся женский крик. Какая-то крыша задымилась и тотчас же запылала. Майор повернулся на каблуках, не хуже рекрута на казарменном плацу, и заторопился к машине. Залигер, словно превратившись в соляной столб, стоял навытяжку до тех пор, покуда машина не отъехала на большой скорости. Когда Залигер неверными шагами возвращался к орудию, горящий дом в Райне и все еще клубящийся столб дыма на лугу показались ему предвестниками счастья. Он опять вооружился биноклем и лег на бруствер. Все свои действия в продолжение последних двенадцати часов он теперь считал разумными и достойными уваженья. А сейчас он на время отставит почетную разумность, которая, но его мнению, смягчила даже непреклонность упорного последователя стратегического девиза «продержаться».
Если смотреть из слухового окна железнодорожного домика, то поле представляется большим черным треугольником. Сзади его ограничивает «мокрая яма», болотистая низина, поросшая чахлымп кустами бузины и бурой прошлогодней полынью. Справа поле упирается в грязную проселочную дорогу, которую местные жители почему-то прозвали «сливовой аллеей», а слева на несколько метров не доходит до невысокой насыпи железнодорожного перегона. Домик стоит на пересечении рельсового пути проселочной дорогой. Молодую женщину, прильнувшую к чердачному оконцу, в которое ей сквозь пропыленную паутину видны насыпь и поле, зовут Анна Слезак. После смерти двух прежних железнодорожных сторожей она живет здесь совсем одна.
Ранним утром к ней зашли два француза, представительные такие, видно, порядочные люди, они очень спешили и успели только сказать ей, что на поле, забросанный комьями земли, лежит живой немецкий солдат, который уже сыт войной по горло. И просили ее присмотреть, чтобы закопанный вовремя вылез из своей ямы, не слишком рано, так как здесь еще бродят немцы, и не слишком поздно, а то очень уж холодно в земле. Тот из французов, что постарше, охотно бы остался у нее. И она бы, конечно, его оставила, он так заразительно смеялся и зубы у него при этом блестели под черными усиками, как начищенная эмаль. Но младший и слышать об этом не хотел. Правда, она им рассказала, что здесь уже давно шатаются отбившиеся от своих частей немецкие солдаты и патрули, которые их вылавливают. Вот оба француза и заторопились уходить. Туман скрыл их от нее уже у забора. Может быть, думала молодая женщина, ладная и черноволосая, они не остались у меня и пошли дальше, потому что я сейчас похожа на старую неряху — шутка ли, две недели сплю, не раздеваясь, не ношу бюстгальтера да еще пахну чесноком и потом. Ну да уж я но опыту знаю, растрепы и неряхи не внушают симпатии чисто выбритым немецким козлам, которые нынче снуют здесь. Опрятную бабенку они мигом толкнут в кровать и сами вскочат за нею. Уж я знаю, прочитай двенадцать раз «Отче наш» — не поможет, а одна-единая головка чеснока спасет от этих козлов.
Она уже два раза лазила на очищенный от всякой завали чердак и смотрела, не виднеется ли посреди поля яма и не вылез ли из нее немецкий солдат, сытый войною по горло. Ее одолевало желание встретиться с человеком, который дал живьем закопать себя, лишь бы остаться в живых. Французы сказали, что он еще молодой.
Здесь война уже кончилась. Уже прошли американцы. Когда она мелко-мелко рубила репу для козы, они подъехали на своих грохочущих грузовиках, до зубов вооруженные и снаряженные, с лицами до того кислыми, словно уксусу напились. Они спрашивали, нет ли здесь этих проклятых немецких «soldiers»[16], несколько раз пальнули из пистолетов в сенях и в сарае, прежде чем обрыскать дом и двор, и, наконец, все с такими же кислыми лицами укатили но «сливовой аллее». Анна Слезак не сразу пошла в поле, думала, что подъедут еще другие американцы. Ей не хотелось, чтобы эти ами нашли у нее немецкого солдата и увезли с собой. Минут через сорок пять мимо ее окна проехала маленькая открытая машина. На железнодорожном переезде она остановилась. Из нее выскочили два негра и стали оглядываться кругом, точно ища чего-то. В руках у них были желтые флажки, насаженные на железные палочки. Негры расхохотались, увидев ее, и по мере сил объяснили, чего они здесь ищут: «убитых soldiers», мертвых солдат. Около каждого мертвеца они должны воткнуть желтый флажок. Но здесь не было мертвецов.
— Никого здесь, никого, капут, — заверила она негров.
Негры ухмылялись и называли ее «мама». В заднем углу машины стоял какой-то металлический ящик с множеством кнопок и переключателей. Один из негров что-то крикнул в него, и ему, как по радио, ответил голос. Но эта штуковина удивила Анну меньше, чем щегольская форма черных солдат. Их шнурованные ботинки, видимо, были из хромовой кожи, штаны и куртки — из тонкого сукна. У них всего много, у этих американцев, подумала она. Второй негр вошел в дом и сразу же хохоча вернулся обратно. На его курчавой голове, лихо сдвинутая набекрень, сидела железнодорожная фуражка старика Робрейта.
— С-с-с-мирно! — рявкнул американец, вытянулся перед дверью, выпятил могучую грудь, поднял руку для гитлеровского приветствия и расхохотался во весь голос.
В уплату за фуражку он сунул ей коробочку, упакованную в станиоль, на которой стояло «Breakfast»[17]. И Анна, во второй раз за этот день, до глубины души устыдилась своего неряшливого вида. Черные искатели мертвых в наилучшем настроении покатили по ухабистой дороге под сливовыми деревьями и до самого поворота махали ей желтыми флажками. Со времени их отъезда, то есть уже более часа, ничего примечательного не произошло. Только вдали, на востоке, в направлении Эберштедта, куда шли железнодорожные пути, время от времени что-то грохало. На разбомбленном местами перегоне уже несколько дней все было мертво. Тишина и одиночество вернулись к Анне, любимые ее компаньоны, к которым, впрочем, после сегодняшнего беспокойного утра она начала относиться с недовернем.
Она покинула свой наблюдательный пост, вылезла через сенной люк и по приставной лестнице спустилась на землю с другой стороны чердака. Пора идти в поле и позвать молодого солдата. В комнатке перед зеркалом она привела в порядок растрепанные черные волосы. Аккуратный прямой пробор переходил на затылке в высокий пучок. Смочив руки, она еще раз пригладила волосы, чтобы не выбивались завитушки. Затем достала из комода красивую бахромчатую шаль, которую девушкой носила у себя на родине. Анне был тридцать один год, и родом она была из Бистрицы в Семиградье. Мать ее была румынка, отец немец. Замуж она тоже вышла за немца, И отец и муж примкнули к нацистам. Муж добровольно пошел в эсэсовцы. Прошлым летом, когда гитлеровцев выбили из тех краев, сторонники нацизма, ухватившись за бабьи юбки, дали дёру. Слезаки тоже, как это тогда называлось, вернулись на родину в рейх. Только мать отказалась тронуться с места. В день их отъезда она повесилась на перекладине в опустелом коровьем хлеву. Отец силой втолкнул Анну в повозку. И всю дорогу она не переставала плакать, даже в поезде, когда они уже ехали но земле третьей империи. Другие женщины-беженки перестали с ней разговаривать, а некоторые даже плевались, завидя ее. Отец грозил ей палкой. В округе Варты каждая семья должна была получить большой земельный надел. Но ничего из этого не вышло. В Позене нм объявили, что мужчины и женщины помоложе должны сначала отправиться в исконно немецкие земли и до конечной победы работать в военной промышленности. Она поехала и опять плакала, плакала. Как случилось, что Анна на полном ходу упала с поезда? Упала или ее столкнули? Этого она и сама не знала. Знала только, что как-то дотащилась до этого блок-поста, что старики Робрейты отнеслись к ней, как к дочери, и выходили ее. На второй день рождества папаша Робрейт был убит осколком при обходе путей. Его жена не справилась с горем. Она стала заговариваться и с красным флажком в руке бегала по деревне и пела. Вскоре матушку Робрейт увезли, а ей, Анне, сказали: пока живи здесь, блок-пост ликвидируется, но работать будешь на Райнской товарной станции, в восемнадцати километрах отсюда. Она и работала, покуда еще ходил «партизанский поезд». Останавливаясь у всех блок-постов, он забирал рабочих из деревень, главным образом, конечно, женщин, и доставлял в Райну.
На ее окрик солдат не вылез из своего укрытия. Она пошла по полю. Место, где он должен был находиться, найти было нетрудно. Она голыми руками выкопала почти уже окоченелого Хагедорна. Он пролежал в земле около шести часов. Тишина, сводившая его с ума, была там под землей, и холод, холод… Он шевелил руками и ногами, но все-таки уснул или потерял сознание. И теперь, когда он открыл глаза и увидел склоненное над собой встревоженное лицо женщины, увидел ее черные волосы, расчесанные на прямой пробор и сколотые в высокий пучок, ему почудилось, что это Лея. Когда она подняла его, у него подкосились ноги. Анна на спине притащила его в дом. Только уже в доме до его сознания дошло, что это не Лея. Она сказала:
— Я сейчас принесу большую лохань и согрею воды, вам надо вымыться…
Комнатка была недавно побелена. Это сразу бросалось в глаза. Стены и потолок светились теплой белизной. А раньше стены здесь были кофейного цвета и только потолок белый. Но старая краска очень уж потемнела. После смерти хозяев из нее ушло все домашнее, уютное, и сменилось тоскливой буростью. Анна ничего не меняла в будке, только вот комнату побелила. Нет, все-таки над длинной скамейкой, некогда стоявшей в зале ожиданья на станции, висел полированный крестик, а под ним — выдолбленный кусочек вербного ствола, наполненный мягким мохом. Во мху сверкало красное стеклянное сердечко. Эта вещь тоже принадлежала Анне. На скамейке, служившей ей кроватью, на которую старики Робрейты положили для нее матрац из полосатого тика, набитый морской травой, теперь лежал солдат. Весь залепленный грязью, он, как призрак, уставился на нее большими зеленоватыми глазами. Анне было страшно под этим взглядом, переносившим ее в потусторонний мир и одновременно возвращавшим к смутной и страшной действительности.
— Вы должны помыться, выкупаться, — еще раз повторила она.
— Хорошо, — отозвался он.
Скамейка стояла вдоль длинной стены, выходившей во двор. Изголовье ее упиралось в умывальник, изножье — з переднюю стену. Окон в комнате было два, собственно, даже три. Одно в ногах кровати, одно посредине передней стены и третье, совсем маленькое, прорубленное в дверной филенке. Перед средним окном стоял стол. Тот, кто садился за него спиной к комнате, видел через окно большой кусок железнодорожной насыпи над «мокрой ямой», через среднее — переезд, а летом, когда входная дверь оставалась открытой, сквозь окошечко в ней видны были поезда, приближающиеся или уходящие в направлении Эберштедта. За столом старой плотницкой работы протекала большая часть мирной домашней жизни Робрейтов. За долгие годы ясеневая столешница сделалась совсем темной. След от горячего утюга, царапины, оставленные неуклюжим прадедовским телефоном, который, правда, стоял на окне, но Робрейт, начиная служебный разговор, неизменно переставлял его на стол: ему казалось, что так он лучше слышит, чернильные пятна после школьных работ сына — таковы были руны их жизни. У каждого члена семьи было свое постоянное место за столом. Робрейт сидел вдоль длинной его стороны, спиной к комнате, сын, покуда жил в родительском доме, на скамейке, мать — на стуле возле двери. Позднее на скамейке сидела Анна. Портрет сына висел в углу между окон, фотография в рамке, повешенная с наклоном, точно икона, и раскрашенная не в меру яркими красками. Загорелый матрос стоял на носу корабля, прислонившись к поручням, и махал своей бескозыркой, весело и вольно, как подобает юному моряку, для которого разлука ровно ничего не составляет. В левом углу карточки, в небесно-голубом воздухе над ядовито-зеленым морем парила чайка. Внизу имелась надпись: «Вперед на Англию!» Правый угол рамки был увит траурным крепом. Прадедовский телефон все еще стоял на подоконнике. Со дня смерти Робрейта он не звонил ни разу. Рядом с телефоном лежали тетради, куда заносились сведении о состоянии дистанции. На них стояла чернильница, в которой торчала ручка. В оконной нише круглый барометр в любую погоду показывал «переменно». Зато служебный регулятор, висевший между средним окном и дверью, прежде и теперь отсчитывал время посредством двух больших гирь и одной маленькой между ними, цепь же, движущаяся по медному колечку, сбегала в коробку регулятора, словно в бездонную бочку времени. Гардин в комнате не было, только покосившиеся ламбрекены, прибитые чуть ли не под самым потолком.
От белой плиты у задней стены комнаты в дымоход шла посеребренная труба. Пестрые пузатые чашки висели на ввинченных в кафель крючках. А над ними — вышитое по холщовой дорожке благочестивое изречение: «Без бога не от порога». В угольном ящике под плитой обитала кошка, а уголь лежал в ведре. Дверца рядом с плитой вела в спальню — однооконную узкую комнатушку, в которой едва помещались две кровати вдоль одной стены и маленький шкаф. По второй длинной стене общей комнаты тянулась длинная, высоко прибитая полка, уставленная фонарями и сигнальными лампами. Под нею в рамке висела грамота, выданная Францу Робрейту за двадцатипятилетнюю безупречную службу на железной дороге…
Таков был тихий мирок железнодорожных сторожен Робрейтов, работящих, скромных, добродушных людей, всей семьей слепо угодивших в пасть Молоха. Только домашние животные Робрейтов — кошка, коза и собака — перехитрили Молоха и остались в живых. Правда, собака Принц, умное животное, сделалась неслухом. Днем его и видно-то не было, ночью Принц носился вокруг дома и бросался на каждого, кто осмеливался войти во двор. Анна каждое утро выносила миску еды и ставила се за сараем, словно не собаке, а кобольду. Конечно, глупые куры накидывались на нее, клевали, хлопали крыльями, за что и подвергались жестокому гонению со стороны Принца… Солдат Руди Хагедорн сразу почувствовал себя как дома в этом тихом мирке. Анна, всеми отвергнутая, хранила и холила этот уголок, словно маленький музей мирных времен. Вот и сейчас она деловито снует но комнате, достает со шкафа в спаленке большой бак, спешит к колодцу, ставит бак, до краев наполненный водой, на плиту, кладет растопки на еще тлеющую золу и сверху насыпает уголь, бегом бежит во двор, с трудом тащит оттуда тяжелую деревянную лохань, опять бежит в спаленку — достать чистые полотенца и посмотреть, не сохранился ли еще кусок туалетного мыла.
Роясь в полотняных рубашках матушки Робрейт, Анна обнаружила кусок туалетного мыла. «Parfum d’amour»[18] — было написано на обертке. Солдат лежа сбросил с себя сапоги. Слышно было, как на пол упал сначала один, потом другой. Анна, растерянная и нерешительная, стояла с куском мыла в руке. Мягкий ласкающий его аромат пробудил в ней воспоминанье о самом страшном грехе, совершенном ею в жизни. В ту ночь после серого февральского дня, когда люди в серых фуражках увезли матушку Робрейт в машине с железными решетками, в ту горькую ночь ярость, безгласная, бездейственная ярость вдруг овладела Анной, та ярость, что презирает слезы и страдания, что, словно ангел, слетевший с небес, нежданно настигла Анну, склонилась над нею и зашептала: «Встань, с прежней Анной покончено; в тебя вселился разум, целительный, безболезненный разум. Знай: разум мира велит — добыть и пожрать добычу!» Анна поднялась, налила полный таз ледяной воды и вымылась вся с головы до пят. Она взяла с умывальника давно уже лежавший там кусок мыла «Parfum d’amour», к которому никто не притрагивался. Утро уже посылало блеклый свет в комнату сквозь щели ставен, когда Анна бросилась на скамью, ту самую, на которой теперь лежал солдат. Ей хотелось спать, спать без сновидений, как рыжая полосатая кошка, всегда спавшая у нее в ногах. Но над нею висел крест и выдолбленный стволик вербы, наполненный мохом, а красное стеклянное сердечко, казалось, освещало всю комнату. Она подняла руку — сорвать со стены этот старый хлам. Но рука, ее рука не смогла сделать этого. Рука упала на грудь, в которой сердце стучало, как веселый сапожник. Вне себя от ярости, она вскочила, сбросила с кровати рыжую кошку. На столе еще лежали носки, которые матушка Робрейт вчера вечером штопала для своего мужа, но ему уже не нужны были штопаные носки. А иголка еще торчала в клубке. Анна схватила иголку, встала на колени на скамье и бессмысленно, оцепенев душою, иголкой колола в мох, колола вкруг нестерпимо сверкающего сердца. Она ощущала грешное сладострастие этого мгновенья так же, как ощущала ледяную воду, пропитанную волнующим ароматом мыла. И ей казалось, что она чувствует облегчение. Улегшись снова, она почувствовала, как кошка просунула ей под мышку свой теплый носик. И вдруг ее осенило: так вот что влечет к ней это животное — ее человеческий запах! Анна вскочила и распахнула ставни, впуская белесое утро, начинавшее день новых страданий. А потом, сидя на своем ложе, долго, долго гладила шелковистую рыжую шерстку, покуда милосердные слезы не потекли из ее глаз, не вернули ее обратно в ее горе.
Анна берет кусок мыла, два чистых полотенца и спешит обратно в комнату и кладет все это на табуретку.
— Если сюда заявятся американцы, ты скажешь, что я твой брат. Мне говорил один парень, что существует закон: если безоружный солдат переступил порог своего дома, его не берут в плен. Ты скажешь так?
— Да, — отвечает Анна.
— Тогда сожги вот эту штуку, — просит солдат и протягивает ей солдатскую книжку. Анна, не колеблясь, бросает в огонь засаленную книжонку.
— В кармане шинели у меня пистолет. Забрось его куда-нибудь, хоть в колодец.
Анна берет со стула шинель и подает ее солдату, пусть сам достанет. Он вынимает из кармана пистолет и два магазина к нему, разряжает их.
— А вот и собачий жетон, — говорит он, снимая через голову шнурок с личным номером. — Погоди, еще вот эти жестянки! — И торопливо отвинчивает от гимнастерки Железный крест, значок за ранение. Анна все кладет в фартук и выходит из дома.
С этими звенящими страшными штуками в фартуке она бежит по «мокрой яме», далеко, к заросшему илом пруду. Ольха и вербы окружают его. Неловко замахиваясь, сплеча, она бросает все эти вещи, одну за одной, в грязную воду. Ветер весело шуршит среди сухих камышей, торчащих из воды, как копья.
Обратно Анна часть пути идет босиком по холодной граве. Тем не менее ноги у нее пылают. И всю дорогу она поет:
Поплачь, поплачь, Плакучая ива, Слезами меня помяни, К землице моей прильни, Прохладно в твоей тени.Пела она эту песенку своей юности блаженно легко — так резвые девчонки с блаженной легкостью поют грустные песни.
Когда она вошла в дом, солдат, видимо, уже собирался залезть в лохань.
— Коли ты сын божий, так помоги себе сам, — сказал он.
Лицо он уже отмыл и даже побрился. На умывальнике лежали бритвенные принадлежности папаши Робрейта. Он поймал удивленный взгляд Анны, который она на них бросила.
— Кто хорошо побрит, уже наполовину победитель, — снова пошутил он.
Анна смотрит на него. Он не хорош и не дурен, думает она. Только его зеленые глаза что-то напоминают мне. Знаю, у него глаза Мартина…
— Я дам вам белье папаши Робрейта, — говорит она. Он отказывается.
— Ты говоришь со мной, как с императором Фридрихом. — А когда она тем не менее приносит белье из спальни, пристальный взгляд зеленых глаз останавливает ее на пороге.
— Тебя зовут Лея, верно?
— Анной меня зовут.
— Нет, Леей, не отнимай у меня этого имени.
— Меня крестили Анной.
— Ты замужем?
— Да.
— Где твой муж?
— Он эсэсовец. Мы приехали в рейх из Трансильвании. Если он еще жив, то считает, что я давно погибла. Я упала с поезда. Но для него это лучше. У меня мать не была немкой.
Его глаза пылали, зеленый камень плавился в них.
— Нет, я уверен, что ты Лея… да, Лея…
Она отступила назад в спаленку. Он двинулся за ней, но остановился на пороге. Она спряталась за открытой дверцей шкафа и стала бесцельно рыться в белье. Так, верно, зовут его девушку. Возможно, я похожа на нее. Но ведь это грех, если он на меня переносит свои чувства к другой. Да я и старше его…
— Знаешь ты, что значит имя Лея? — слышит она его голос.
Солдат не ждет ответа.
— Лея — значит вечно деятельная, если меня не обманывает моя школьная премудрость. Но это неважно. Такое имя тебе к лицу. Ты вечно деятельная Лея. А настоящей больше нет, нет ее во времени…
Анна слышит: он воротился в комнату. Руки ее перестают шарить в шкафу. Она прильнула лбом к стопке прохладных полотняных рубах, бывших гордостью и богатством матушки Робрейт. Под низом лежала лучшая из них, батистовая, ненадеванная, матушка Робрейт сама сшила ее себе «на смерть». Анна вдруг почувствовала, что в голове у нее мутится и ноги ее подкашиваются. Сын Робрейтов, матрос, прислал это мыло из Франции много лет назад. В левом верхнем углу на его портрете парит чайка. Чайка, может быть, еще жива…
А тот парень в комнате, видать, ученый. Знает, что какое имя значит. Когда я в городе нанялась работать к благородным господам, мать мне сказала: «Только с учеными не вяжись. Свиньи они все». Анне стало стыдно, что она стоит здесь у шкафа и даже ничего не ищет. Прежде чем пойти обратно в комнату, она взяла белье старика Робрейта, его старые форменные брюки и поношенный синий мундир железнодорожника. Она охотно взяла бы и его новую форму, но в ней старик лежит в земле. Ничего-то они не понимают, эти старые люди…
Когда она вошла, солдат только что стянул с себя серо-зеленую рубаху. Он стоял голый до пояса и старался снять повязку, приклеенную широкими полосами пластыря на животе и на спине. Он попросил ее отклеить пластырь на спине. Анна сделала это горячими руками, стараясь, чтобы ее дыханье не коснулось его кожи. Между ребер у солдата была гниющая рваная рана. От грязной повязки шел сладковато-гнилостный запах.
— А ну-ка, иди отсюда, — грубо приказал он.
Она пошла в хлев и подоила козу. Покуда ведерко медленно наполнялось, Анна думала: будь у меня маисовая мука, я сварила бы ему кашу с ягодами. В погребе еще есть несколько банок консервированных ягод. Но маисовой муки нет. Дома у них считалось бы позором не иметь маисовой муки. Но здесь, в рейхе, и но поймешь, что позор, а что нет…
Вещи старого Робрейта пришлись более или менее по фигуре солдата. Свою военную форму он снес за сарай, облил керосином из стоявшего здесь фонаря и поджег эти грязные лохмотья. Золу он разбросал лопатой и сверху присыпал гнилой соломой. Потом он спросил Лину, что, собственно, делает железнодорожный обходчик. Вместо ответа она дала ему ключ от большого ящика, покрытого толем, который стоял во дворе за домом. Он отпер его и стал внимательно рассматривать инструменты и какие-то металлические предметы, там лежавшие, словно что-то смыслил в них. В ящике лежали кирки-мотыги, шпалоподбойки, ломы, диковинные щипцы, громадные гаечные ключи, рельсовые подкладки, болты, гайки, путевые костыли. Анна сказала, что в распоряжении Робрейта несколько месяцев находился «летучий отряд» железнодорожных рабочих, вернее, трое русских военнопленных. Он сажал их за стол вместе с собой, и русские в благодарность за сытную еду затягивали песни.
— У нас иной раз слезы на глаза наворачивались, когда они пели. Такие замученные и оборванные, а как ноют! Робрейт даже запомнил несколько мелодий. Когда он их слышал, он втягивал голову в плечи и кулаком отбивал такт на стене или барабанил себя но коленке. Как-то раз он даже подпевал им. Но тут конвоир, тоже пожилой человек, взбесился и как заорет: «Давай, работай, работай, псы проклятые!..» С тех пор русские больше но пели. И Робрейт больше не впускал их в дом, он с того времени заболел и охал, жаловался с утра до ночи. «Меня уже точит могильный червь», — говорил он. По-моему, он хотел умереть. Его нашли на путях, а в нескольких метрах от него, в насыпи был водоотводный туннель. Он мог заползти в него, прежде чем начали падать бомбы, их ведь задолго слыхать…
Но солдат, видимо, ее не слушал. Он достал из ящика кирку, попробовал, крепко ли она сидит на рукоятке, и сказал:
— За нашим домом стоит такой же ящик. Мой отец дорожный смотритель. Человек этой профессии на каждую вещь смотрит — авось пригодится. И если ты мне покажешь косу, я сразу пойму, что ею ревень в огороде режут. — Он расхохотался. — Ты же из сельской местности, должна знать…
Анна за словом в карман не полезла. Указав рукой на расставленные вдоль пути снегозаградительные щиты, и по его пору еще не убранные, она сказала:
— Bon, видишь забор, на нем глупые вопросы развешивают для просушки.
Но солдат не поблагодарил ее за находчивость. Глядя на щиты, он сказал:
— Беда, беда, да и только…
Аппа не поняла, что он имеет в виду. Да и откуда ей было знать, что при виде этих бесконечных щитов ему вспомнилась девушка по имени Хильда и что сейчас ему видятся мягкие светлые завитки на стройной шее… Опять его взор сковал ее.
Вечером, когда они оба сидели за ужином, Анна сказала:
— Надо вам знать, что у меня никого нет на целом свете и никого-то я не хочу. Здесь, в глуши, мне всего лучше. Вы скоро отсюда уйдете… Я ведь не знаю, может, вы ученый. А знаю только, что-то вас мучает, словно кость в горле. Но мне ее не вытащить, даже если бы я и хотела…
Солдат, с ног до головы одетый в вещи старика Робрейта — синие штаны с красным кантом и фланелевую рубашку с галстуком, — полил еще немножко лукового соуса на мятую картошку.
— Сколько тебе лет, Анна?
— Скоро тридцать.
— Ну, значит ты имеешь право рассуждать.
— А вы умны не по годам.
— Что ты имеешь в виду? Я старше своего разума или еще не дорос до него?
Находчивой Анна не была. Да и не доверяла она речам ученых людей. У них всегда какие-то задние мысли. Поэтому она упорно отмалчивалась. Хагедорн заметил, что причинил ей боль, и завел другую песню:
— Я расскажу тебе историю, которая мучает меня, словно кость в горле. Настоящая Лея и я… мы поженились, совсем еще детьми. В свадебное путешествие мы поехали на машине, спортивном кабриолете. Все на юг и на юг, через Лауфен, Урах, Глатфельден, Калов, а потом через перевал Юльир. На этом самом перевале стоят две полуразрушенные колонны римских времен. Они размыты дождями наверху полые, как крестильная купель. Там собирается дождевая вода и роса тоже. Лея пошла к ним, чтобы омыть лицо небесной росою, как она выразилась. Такая уж она была придумщица и выдумщица, любила вплетать в волосы красные кораллы. У нее были мягкие черные волосы; твои жестче. Луковую подливку она бы не сготовила так вкусно, как ты, где уж ей. Но протянуть мне руки, прекрасную мраморную чашу, и сказать: любимый, испей из этой чаши небесной росы, она моя кровь, — это она умела. За это я и любил ее. Мы и в Вероне побывали с ней, въехали на машине через ворота Сан-Микеле, а затем пешком пошли к гробнице Джульетты. Она неподалеку от францисканского аббатства. Мне все это было скучновато, но Леей овладела такая печаль, что опа места себе не находила. Рано утром в номере гостиницы она разбудила меня и сказала — лицо у нее в ту минуту было как у ангела: «Слышишь, это соловей, а не жаворонок…» Опять что-то новое! Но в Венеции случилась беда. Там нам повстречался некий музыкант, джентльмен по имени Яго. О, этот был мастер бахвалиться! Я уже был отодвинут на второй план. А второго плана не существует ни в любви, ни в игре в кости. И случилось то, что должно было случиться. Она сбежала от меня с этим мошенником. А потом он бросил ее. Думается мне, он был слишком труслив, чтобы пить кровь из мраморной чаши. Из-за него она и погибла, Лея, зачахла и умерла…
— Когда же это было? — доверчиво спросила она.
Хагедорн ответил ей серьезно, так же как рассказал всю эту историю, только что с некоторой досадой:
— Ты меня отрыла. А я был с Леей в подземном царстве, в Гадесе. Не вырой ты меня, мы бы уж помирились. Но третьей смерти мне не преодолеть. Что-нибудь непременно помешает…
Анна видела, как опять потухли его зеленые глаза. Безутешное горе солдата тронуло ее сердце.
— Какой же ты несчастный человек, — сказала Анна.
— Так я тебя растрогал, что ты уже не говоришь со мною, как с императором Фридрихом? Что ж, и то хорошо…
Что, собственно, хорошо, ни один из них толком не знал. Молча, смущенно ели они свою картошку. Наконец Анна подняла глаза:
— Значит, верно я чувствовала. Смолоду тебя крепко стукнули, так что ты и сейчас еще хромаешь. Ты добиваешься чего-то, что тебе не подобает. Ты и лиса, и голубь. Для лисы виноград висит слишком высоко, для голубя, когда он садится на лозу, слишком низко.
— Откуда ты можешь знать то, чего даже моя родная мать не знает?
— Я вижу это по твоим глазам, Мартин…
— Мартин? Меня Руди зовут.
Анна умолкла и потупилась. Лоб ее залился краской. Хагедорн видел это и видел прямой, как ниточка, пробор, от пылающего лба взбегавший к высоко заколотому пучку и сейчас раздражавший его своей ровностью. Он вдруг злобно сказал:
— А знаешь, что у женщин, которые все знают, не родятся дети…
Нет, так больно он ее задеть не хотел. Анна вздрогнула от этих слов, как будто ей всадили в тело иглу. Вся кровь мгновенно отлила от ее лица. Она сидела, окаменев и не в силах даже пошевелить губами.
— Анна! Что с тобой! Это же… это же только глупая шутка…
Он хотел дотронуться до ее руки, но она торопливо ее отдернула.
— Ты вообще играешь со мной дурную шутку, ученый ты человек…
— Нет, Анна, уверяю тебя, ты ошибаешься.
— Хочешь еще есть?
— Да, Анна, дай мне еще чего-нибудь.
Она пошла к буфету, который стоял в тесных сенях рядом с дверью в спаленку. Когда она вернулась с хлебом и колбасой в стеклянной банке и прошла мимо него, он почувствовал неукротимое желанье прижать ее к себе, на старый извечный мужской манер добиться, чтобы она простила его, ибо мужчина привык всегда и во всем подчинять себе женщину. Может быть, он этого не сделал, потому что боялся разбить стеклянную банку, а может быть, потому, что в нем еще сохранился какой-то остаток мужского великодушия.
Руди отрезал кусок хлеба. Анна опять села на скамейку, сложила руки на коленях и начала говорить:
— Я тоже хочу рассказать тебе печальную историю, раз уж ты рассказал мне о себе. Мой отец был богатый хуторянин. Деньги, нажива — вот были его боги. Командовала батраками у него моя мать. Она умела работать за троих. В наших краях не в обычае было саксонцу жениться на румынской или венгерской батрачке. Саксонцы брали за себя саксонок. Но мой отец женился на румынке, потому что она ворочала за троих. Жене не надо было платить жалованья и нечего было бояться, что она уйдет к другому хозяину. А на обычай он плевать хотел. Деньги и нажива — других богов он но знал. Мать слишком поздно это поняла. Она молила господа бога не даровать ей детей. Этим она хотела отомстить мужу. Господь бог сжалился над нею и даровал ей одного только ребенка — меня. Единственной я и осталась. Отец жаждал сыновей, чтобы батрачили на него. Но тщетно. Раз у него не родились батраки, значит, надо было их нанимать. И в этом виновата была его жена. Когда я выросла, отец подыскал мне мужа. По старым правилам, небогатого, но зато усердного. Денег у него самого было довольно. Самого усердного на деревне звали Мартином, он тоже был из семьи хуторян, бедных по сравнению с нами. Когда старики в первый раз оставили нас вдвоем, Мартин сказал: «Почему он берет меня в зятья, мне попятно, но почему ты согласилась взять меня в мужья, я не знаю». Я отвечала: «Старики не вечны, я хочу перед тобой загладить то, чем он прегрешил перед моей матерью». Тут Мартин в первый раз поцеловал меня. От радости он стал смелым. На следующее утро у нас возле овина стоял воз дров: телега, груженная поленьями, — груз, который бы двум волам везти.
Мартин привел с собой из дома кобылу рыжей масти. Ах, что это была за лошадь! Шея длинная, как у рысака, глаза огненные, стройная, поджарая, шкура блестит, точь-в-точь павлин, только что без павлиньего хвоста. Мартин звал ее Корбея. Он сам ее объездил. Мы с ним договорились, что Корбея его собственность навсегда. Вот он и говорил: Корбея — пробный камень, по ней я узнаю, честна ли ты со мной. Я была помешана на лошадях, как черт на людских душах, и все бы отдала, чтобы проехаться на Корбее. Но я поняла Мартина и поклялась ему никогда но ездить на этой лошади. Свадьбу сыграли в декабре тридцать девятого года, в третье воскресенье.
— Как раз в это время они вышвырнули меня из гимназии, — перебил ее Руди…
— День был ясный, морозный, снег лежал фута в два вышиной. В церковь мы поехали в санях. А потом был пир горой. Когда можно было выставить напоказ свое богатство, отец не скупился. Шум, крик, в доме все ходуном ходит. Крепкая наливка и мускат всем головы вскружили. Мартин меня ругал за то, что я слишком много пью. Только подумать, что муж тебя ругает уже в день свадьбы! Ну и озлилась же я. Мартин веселился в мужской компании, а я улучила минуту, выскочила во двор, запрягла Корбею в сани и усадила на них целую ораву женщин. Вот мы и покатили со взгорья, на котором стоял наш двор, вниз и по деревне с визгом и щелканьем бича. Корбея мчалась как паровозик. За деревней дорога шла под гору к реке. Вот тут-то оно и случилось. Корбея испугалась полузамерзшего воробья, который трепыхал крылышками на снегу, рванулась в сторону, на поле. Сани опрокинулись. Но страшного ничего не случилось. Женщины вывалились в снег и визжали еще громче. Корбея остановилась, дрожа всем телом, пар так и валил от нее. Подпруга у нее ослабела. Я подошла, говорю: «Корбея, лошадушка моя» — и хочу подтянуть подпругу. Может, бабий визг ее напугал, но она вдруг понесла и копытом ударила меня в живот.
До самого лета я провалялась в больнице. Никто меня не навещал, кроме матери. Когда меня выписали, Мартин приехал за мной на повозке, в которую была запряжена Корбея. Он переговорил с врачом. Я заранее знала, что скажет ему врач. Надежда на материнство была для меня потеряна навеки. По пути домой Мартин мне сказал: «Кто один раз предал человека, предаст его и тысячу раз». Мы стали жить мирком да ладком. Ни единого бранного слова между собой не обронили. Но никогда он не взял меня как жену, ни разу. И со временем взгляд у него сделался каменный и глаза каменные, как у тебя. Когда гитлеровцы пришли к власти и объявили набор в армию, он ушел. Но прежде застрелил рыжую кобылу. Выстрел еще висел в воздухе, когда он выходил из ворот, успев напялить на себя черную эсэсовскую форму… Этот выстрел еще и сегодня висит в воздухе…
Из коробки регулятора слышались удары маятника, глухие и мягкие, словно кто-то теребил самую толстую струну контрабаса.
— Вот я и говорю… — начал Хагедорн и тут же умолк.
— Что? Что ты говоришь?
— Полузамерзший воробей испоганил тебе всю жизнь, Анна.
— Нет, Руди, это не воробей!
— Конечно, нет, я и сам понимаю. Но что же тогда? Что ведет нас и нами руководит? Какой ветер сдувает в кучу наши жизни, много жизней, а потом снова раздувает их?
Анна собрала грязную посуду и сказала:
— Я сейчас все вымою. Говорят, в грязной посуде черви заводятся.
Она зачерпнула теплой воды в баке, поставила миску на стол и занялась мытьем посуды. Хагедорн сидел, опершись локтями на стол…
— От вопроса, на который нет ответа, тоже заводятся черви — в мозгу, — пробормотал он.
— Хочешь знать, что я думаю?
— Я все хочу знать и, по возможности, без прикрас.
Готовясь к ответу, она перестала мыть посуду.
— Мне думается, нашей жизнью руководит грех. Грехи наших отцов и дедов застряли в нас, они вертят нами, толкают нас на новые грехи. «Но грех, когда он совершен, рождает смерть», — говорится в библии…
— Ах брось, Анна! На эту удочку ты меня не поймаешь; это и моей матери не удалось. Война кончена, лохмотья мои сожжены, собачий жетон больше не болтается у меня на шее. Сейчас каждая секунда стоит добрый пфенниг. Потому что на такую секунду опять можно получить проценты. Я, во всяком случае, хочу еще сделать в жизни что-нибудь толковое и доброе. Так я себе поклялся, еще лежа в этой злосчастной яме. С этой минуты я всем буду говорить правду в глаза, все буду говорить, что думаю и чувствую. И начну я с тебя, Анна. Эту ночь я хочу спать с тобой. И хочу потому, что ты мне сказала правду насчет лошади и голубя.
— Хорошо, — отвечала Анна почти без колебанья.
Что они понимают, эти старые люди… Анна надела батистовую рубашку матушки Робрейт, поджидая Руди в спаленке. Он ее сорвал, придя туда.
— Я бы и с Леей обошелся не иначе…
— Накрути мои волосы на свой кулак, я бы и Мартина заставила так сделать…
Утро настало белесое и греховное. Они могли и не признаваться друг другу, что в эту ночь не принадлежали друг другу. Руди чувствовал рядом с собой Лею, Анна — Мартина, каждый свое несбывшееся прошлое. Анна первая заговорила об этом:
— Мы были каждый сам по себе. Это и есть правда. Вторую такую ночь я бы не выдержала.
— Я ухожу, — сказал Руди.
Покуда он зашнуровывал башмаки старого Робрейта, Анна уложила и завязала рюкзак старика, словно он и в самом деле уходил всего на час-другой, чтобы обойти свой участок. Вложила в него только несколько кусков хлеба да кофейник с кофе.
— Сапоги я оставлю тебе, Анна. Железнодорожник в таких сапогах может вызвать подозренье. И шерстяной шарф француза тоже останется тебе в наследство. Товарищ должен наследовать товарищу, верно ведь? Хотя бы этот красивый мягкий шарф.
Руди надел шарф Анне на шею, один конец перебросил за спину, другой на грудь. Ему очень хотелось снова ее обнять. Анна сказала:
— Возьми мое служебное удостоверенье с товарной станции в Райне.
— Что? — Руди рассмеялся. — Удостоверение на имя Анны Слезак? Вот это придумала!
Анна открыла ему свою затею.
— Подпишешь к имени букву С, и будет уже не Анна, а Аннас. Моего отца звали Анастазиус. Аннас похоже на сокращение. Американцы решат, что это от ананаса.
Они оба рассмеялись. Хагедорн почесал в голове. Чертовски умная бабенка эта Анна!
Он взял перо, лежавшее на подоконнике, поплевал на пересохшие чернила, и лишняя буква на удостоверении стала под стать другим. Чернила-то в конце концов во всем рейхе одинаковые.
Покуда Руди занимался этим темным делом, что, впрочем, продолжалось недолго, Анна вложила в рюкзак еще тот пакетик, на котором стояло «Breakfast». Потом заглянула через плечо Руди. Когда он уже с удовлетворением рассматривал дело своих рук, она прижалась щекой к его щеке. Руди все же ощутил укол в сердце. Горький опыт прошлой ночи, сознание, что их отношения были всего лишь народней на любовь и пародией же остались бы, заставило его содрогнуться. Или Анна не хочет больше чувствовать на губах горький вкус правды? Или она старается выплюнуть со, потому что чувства уже сдавили ей горло? Может быть, подумалось Хагедорну, мы бы и сжились со временем, хотя она и на шесть лет старше. Но она не может иметь детей, а значит, проникнется ко мне материнскими чувствами. Нет, этого я не выдержу.
Он отодвигает стул и встает. Отстраняет Анну. Без единого слова. То, что он сейчас думал, он высказать но решается. Потрясенный, он понимает, что успел уже нарушить клятву, которой всего одни день от роду. Нет, он не скажет того, что думает.
— Прощай, Анна, добрый ты человек, — говорит он и пожимает ей руку.
Потом вскидывает на спину рюкзак и идет к двери. Стоя под деревом, она кивает ему, покуда он не скрывается за поворотом «сливовой аллеи».
Поплачь, поплачь, Плакучая ива…Где-то звонит звонок. Она его слышит, но это не доходит до ее сознанья…
Слезами меня помяни, К землице моей прильни…А звонок так и заливается. Где же это? Где? Вдруг ее осенило: это же телефон звонит. Служебный телефон! Впервые со дня смерти Робрейта! Боже милостивый!
— Фрау Слезак? Это вы? Слушайте, фрау Слезак. У телефона Вагнер, да, да, ваш шеф, смотритель пакгаузов товарной станции Райна. Мы избрали комитет содействия… Что это значит? Значит, что мы уволили господина начальника станции и еще нескольких из того же сорта… да, да, уволили. Нет, это было совсем не просто… Правильно, мы теперь все взяли в свои руки. Для вас найдется немало дела, фрау Слезак. Когда вы думаете выйти на работу?
— С завтрашнего дня я начну работать, — говорит Анна.
Проселочная дорога у самого конца вытянутого в одну линию населенного пункта впадала в узкую асфальтовую ленту шоссе. Желтая стрелка показывала, что отсюда до Райны еще двенадцать километров. Хагедорн вышел на ту самую дорогу, по которой он сбежал с батареи. Недалеко отсюда, видимо, находится и поле, где он лежал в склизкой яме. А протяженная деревня, Лангсбах, как он сейчас прочитал на указателе, и есть то самое опасное место, где грузовик обогнал обозную колонну и ездовой ткнул его в бок кнутовищем: «Смотри, свою смерть не проспи!», где полевые жандармы подстерегали очередную жертву на перекрестке и, ничего не заподозрив, дали знак колонне: «Проезжай!» Сейчас перекресток был занят американцами. Часовой, сидя на раскладном стульчике, развлекался тем, что, зажав карабин между ног, раскачивал ствол руками. Так вот, значит, как американцы несут службу. Попробовали бы они эдак вести себя у пруссаков! И Хагедорн, исполненный весьма и весьма его взбодрившего чувства превосходства над этим расхлябанным малым, пошел прямо на него. Для полнейшего ощущения безопасности ему не хватало одного — фуражки. Он был в форме железнодорожника, но без фуражки. Фуражку, сказала ему Анна, нахлобучил на свою курчавую голову весельчак негр. Нот, нельзя проходить мимо часового с таким видом, словно ты что-то задолжал здесь…
Но американец небрежным движением руки уже подозвал его к себе.
— Хэлло, Фриц!
Ами недоверчиво, до черта недоверчиво смотрит на его удостоверенье, потом цедит сквозь зубы какое-то ругательство и говорит:
— Скотина чертова!
Хагедорн подумал: здесь выход один — идти напролом. Собрав последние крохи своих школьных познаний, он парировал:
— Fiddlesticks![19] Да ты малость спятил, старина! Я уж полгода как демобилизован. Six months ago, госпиталь, hospital, you understand?[20]
Он распахнул куртку, показал повязку, которую Анна хотела сменить на чистую. Часовой глянул на нее весьма скептически. Хагедорн втянул воздух носом.
— Понюхай-ка, старина!
Часовой и впрямь сунул нос ему под полу и, скорчив брезгливую гримасу, понюхал гной.
— Show your arms![21]
Хагедорн волей-неволей снял куртку, рубаху и поднял руки вверх. Часовой посмотрел, не вытатуирована ли у него на теле группа крови, как это принято в эсэсовских частях.
— Ничего ты там не найдешь, старина, ровно ничего. Я никогда не был эсэсовцем, nix bloody hound, you understand?[22]
Ами опять пробормотал какое-то проклятие, опять обозвал Хагедорна свиньей и плюхнулся на свой стульчик. Прислонившись к борту бронетранспортера, несколько американских солдат нежились на солнышке и курили. Весь этот спектакль они наблюдали достаточно безучастно. Когда же немец прошел мимо, кто-то из них бросил ему под ноги только что закуренную сигарету. У Хагедорна пальцы сами собой потянулись поднять ее. Он не был завзятым курильщиком, но стоило ему одолеть какую-нибудь трудность пли справиться с опасностью, как все его существо жаждало никотина. Так было и сейчас. Но он совладал с собой. Злорадство от того, что ему все же удалось провести часового, ярость из-за только что пережитого унижения помогли ему. Он растоптал чудесный длинный окурок. «Эй!» — послышалось где-то рядом, и к его ногам полетела надорванная пачка сигарет «Лаки страйк». Ее он поднял и вытащил аппетитную сигарету. Но спичек у него не было. И в него точно черт вселился. Он направился к первому попавшемуся американцу и жестом попросил огня. Этот первый попавшийся — невысокий парень с добродушно простецким лицом — взял Хагедорна за плечи, повернул его, как куклу, и, прежде чем тот сообразил, что это должно значить, дал ему несильный, но достаточно основательный пинок в мягкое место. При этом он произнес, вернее, гортанным голосом выкрикнул одно только слово:
— Fire![23]
А статисты снова проквакали свое «Эй!» Хагедорну пришлось ограничиться внутренним монологом, который звучал приблизительно так: «Ну, погодите, придет времечко, еще поговорим с вами». Мысленно произнеся это, он удалился.
На окраине деревни, немного в сторонке, на лугу перед длинным бараком собралась толпа народу — переругивающиеся, суетливые женщины, старики, ребятишки, и все что-то тащили из барака или кулаками и локтями прокладывали себе дорогу к нему. В бараке, видимо, находился армейский склад вещевого имущества. Люди тащили охапки носков, подштанников, рубах, портянок, галстуков, даже кастрюли, лопаты, противогазы, противоипритные ракеты. Поперек дороги перед бараком стоял джип. На его заднее сиденье вскочил желтолицый человечек в стальной каске с белым ремешком. Дико жестикулируя, он начал выкрикивать что-то нечленораздельное с таким видом, словно ему доставляет удовольствие этот крик и жестикуляция. Какая-то запыхавшаяся старуха приковыляла с детской колясочкой. Человек в джипе сразу заорал на нее, так что та с испугу выпустила из рук коляску и только рот открыла. Желтолицый соскочил со своей кафедры, отшвырнул колясочку на дорогу и сделал знак шоферу, тот включил мотор и на третьей скорости раздавил «транспортную единицу» старухи. Дело в том, что существовало запрещенье — в Германии ведь что-то обязательно должно запрещаться — транспортировать добычу на колесах. Хагедорну претила эта картина, он повернулся и зашагал но шоссе, ведущему в Райну… Вот она, разбитая и покинутая батарея. Из окопов на него уставились стволы четырех передних орудий, поднятые на 85 градусов. Вбитые в жерла деревянные пыжи свидетельствовали, что ни один ствол не был взорван. Хагедорн остановился, чтобы получше все рассмотреть. На стволе «Доры» болталась белая тряпка. Орудие, видимо, было окончательно выведено из строя. Судя по тому, что на лугу виднелись всего две или три свежие воронки, Залигер сдался без боя. Хагедорн подумал: я бы на его месте тоже не устраивал здесь сумерки богов, но все-таки взорвал бы эти штуковины, как-никак дело чести. Господин капитан, верно, думал, что американцы поставят ему в упрек уничтожение орудий, трус проклятый…
— Эй! — громко и досадливо крякнуло где-то.
За бруствером «Цезаря» Хагедорн увидел американские пилотки и под ними мясистые физиономии. Он поспешил ретироваться.
Возле Райны — контрольный пункт, и часовой разыгрывает тот же спектакль, что и его собрат в Лангсбахе. Только на этот раз Аагедорна выручила не вонь загнивающей раны, а надорванная пачка «Лаки страйк» и коробочка с надписью «Breakfast» и рюкзаке.
— Souvenirs from your camrades[24]. В Лангсбахе, — пояснил Хагедорн обиженным, даже плаксивым голосом.
В ответ часовой послал его ко всем чертям, за что Хагедорн от души его поблагодарил.
Рыночная площадь в Райне, когда здесь никто еще не думал об открытых разработках бурого угля, была идиллической поляной с заросшим прудом. Когда деревня сделалась центром индустриального округа, пруд засыпали и позднее покрыли асфальтом. Только ивы, некогда окружавшие его, стояли на месте, образуя большую ротонду вокруг почти правильного овала рынка, да еще пивная при рынке претенциозно называлась «Ивовый двор».
Но теперь от дерева к дереву тянулся проволочный забор в рост человека. Ротонда сейчас представляла собой нечто вроде временного (на три-четыре дня) пункта сбора для военнопленных и была набита битком. У Хагедорна еще оставалась возможность обойти это место, в котором по справедливости и ему следовало находиться. Но он этого не пожелал. Прочно усвоенная мудрость — лучше идти навстречу опасности, чем бежать от нее — погнала его вперед. Вдобавок — и это, пожалуй, было самое главное — его подстегивало страстное желанье увидеть, как капитан Залигер, этот подлец и пройдоха, ворошится за колючей проволокой, показать ему язык, сделать наконец что-то такое, что свалит его с ног. Жажда мести, возникшая из застарелой ревности и анархического представления о справедливости, погнала туда Хагедорна.
'По проезжей части, между колючей проволокой и тротуаром, обегающим площадь, прохаживались часовые с автоматами в положении «на ремень». Из многих окон, выходящих на рыночную площадь, еще свешивались белые простыни. Все окна, однако, были закрыты, видимо по предписанью начальства. Там же, где они стояли настежь, в ратуше, например, или в квартирах чиновников, в них мелькали фигуры американцев. На третьем этаже ратуши двое рыжих парней в рубашках с галстуками и длинных брюках сидели на подоконнике, свесив поги наружу. К открытым окнам следовало, конечно, причислить и зияющие проемы трех соседних выгоревших домов.
Гражданскому населению было запрещено ходить по проезжей части. Сейчас это гражданское население выстроилось в громаднейшую очередь перед продуктовой лавкой на углу. Очередь, кряхтя, проталкивалась в дверь, но не становилась короче. Хагедорн прошел мимо мясной лавки и заглянул через окно, но ничего не увидел, кроме бело-голубого кафеля, пустых крючьев, пустых мисок, пустых подносов. К глиняной свинке в окне была прицеплена записочка: «Торговля от 16 до 17 часов при наличии товара (но талонам)». Не иначе выглядела и соседняя булочная: бумажные салфетки в окне, пустые корзины, пустые полки, записка того же содержания. Хагедорн встал в конец очереди перед продуктовой лавкой, узнал, что сегодня выдается «особый паек» — консервы из запасов вермахта, раздобытые «гражданским антифашистским комитетом», и вместе со всеми медленно, шаг за шагом, продвигался вперед. На то, чтобы дойти до прилавка, надо было не менее двух часов. Целых два часа мог Хагедорн упиваться своей свободой перед лицом былых товарищей за колючей проволокой, вернее, перед лицом Залигера.
— Ами со вчерашнего дня не дали им ни куска хлеба, ни даже глотка горячего кофе, — сказала какая-то сердобольная женщина в очереди.
— Невелика беда, пять лет они слизывали у нас все масло с хлеба, эти молодчики, — отозвалась другая, безжалостная.
— А если бы среди них был ваш муж! — воскликнула третья, настроенная примирительно.
— Мой муж в Голландии, снизу смотрит, как растет картошка, — срезала ее безжалостная. — А у меня трое ребятишек на шее, вам хорошо говорить…
Настроенная примирительно обиделась и стала язвить:
— Все валить на детей — это дело нетрудное. Вы только и ждете, чтобы какой-нибудь ами залез к вам в кровать, а на стол поставил банку тушенки. По лицу видно.
Безжалостная вздернула нос кверху.
— Могу войти с вами в долю, если вы мне пришлете вашего полюбовника…
Очередь прошипела:
— Свинья…
Настроенная примирительно начала уже впадать в истерику. Но тут как раз впустили следующую партию, и опа, воспользовавшись заварухой, протиснулась на несколько человек вперед.
Хагедорн заметил, что за колючей проволокой кучка офицеров держится отдельно от солдат и унтер-офицеров. Основная масса пленных либо придумывала себе какое-то занятие, либо предавалась тупому бездействию, еще более коварному, чем скука. Офицеры стояли в сторонке, изредка перебрасываясь словами. Многие солдаты, сидя на скатанных шинелях, спина к спине, мирно дремали на солнышке. Другие искали вшей, подсушивали хлеб на костерчиках из обрывков бумаги, третьи счищали медными монетками грязь, налипшую на сапоги, играли в кости пли меняли хлеб на табак. Два американских санитара с инструментом, похожим на кузнечный мех, медленно двигались вдоль колючей проволоки, останавливались через каждые два-три метра и распыляли желтые тучи порошка против вшей над головами побежденных. С лип была содрана кора. Казалось, дикие звери обглодали их стволы. Нет, тогда еще не ели коры в американском лагере для военнопленных. Это пришло позднее, когда в крупных лагерях люди неделями питались корой и травой. Сейчас кора еще служила для поддержания маленьких костров.
На бравых вояк вы не слишком похожи, в душе злорадствовал Хагедорн. Наконец он увидел Залигера. Капитан стоял в кучке офицеров, небрежно прислонившись плечом к дереву. Указательным пальцем он чертил в воздухе фигуры, раз за разом, все одни и те же: треугольники, четырехугольники. Когда Залигер повторил свое упражнение вторично, Хагедорн смекнул, в чем дело. Ей-богу, весь Залигер был в этой игре: умный и ироничный. Он чертил доказательство Пифагоровой теоремы — квадрат гипотенузы равен сумме квадратов катетов…
Хагедорн не слышал его голоса и все же слышал: предположение, выводы, ответ; все те слова, что, словно блохи, прыгали с языка Залигера, а его, гимназиста Хагедорна, замучивали до полусмерти. Как ты умеешь применяться к любой ситуации, Залигер! И если бы меня отправили на тот свет с твоей дружеской помощью, ты бы так же стоял здесь и чертил в воздухе теорему Пифагора. Это я знаю наверняка. И понимаю, как ты думаешь о будущем: как кошка, у которой одна-единственная забота — если уж падать, то на все четыре лапы. Для полного великолепия тебе только одного недостает: отваги. Ты трус. Поэтому ты сейчас по ту сторону колючей проволоки, а я по эту…
Мстительное желание показаться Залигеру, позлее подшутить над ним заставило Хагедорна выйти из очереди. Ревность, фыркающая, разозленная ревность взяла его за ошейник и повела вдоль стен к той точке, где расстояние между ним и Залигером было наименьшим.
Два тяжелых грузовика прогромыхали по улочке, ведущей к рынку, описали положенный круг но площади и медленно поехали вдоль колючей проволоки.
Какая издевка судьбы! В серо-зеленых машинах с белыми звездами на бортах впритирку стояли бывшие военнопленные прежних победителей, пели, орали, махали флагами — трехцветными, звездными, красными с наспех нарисованными серпом и молотом. Какая издевка! Они медленно-медленно объезжали побежденных, хлопали в ладоши, кидали в воздух полосатые бескозырки и не переставая кричали: «Ми-ир, ми-ир!» — Вот они остановились у ратуши, оттуда тотчас же выскочил офицер, американский, конечно, он что-то кричит шоферам, те опять включают газ, слава тебе господи! Внезапно Хагедорн вздрагивает. Кто-то его окликает, из дали времен доносится имя, которое в эту секунду, словно камнем, ударяет его.
— Амос, — слышит он, — передай привет родным краям, Амос…
За колючей проволокой стоит Армии и ухмыляется, как в те злосчастные времена. Оголенный липовый ствол рядом с ним вдруг превращается в старый каштан перед домиком Хагсдорпов. Руди сидит наверху в «крепости» и уже собирается сказать: «Эх ты, верхолаз, я сейчас спущу тебе веревочную лестницу». Но вдруг он чувствует спиной стену сгоревшего дома и сразу трезвеет, он ждет, чтобы черная желчь скопилась у него во рту, он выплюнет ее под ноги тому, кто стоит внизу… Но Руди только подсовывает большие пальцы под ремни своего рюкзака и уходит с таким видом, точно это он обездоленный, и торопится завернуть за угол, чтобы не видеть больше этого ада кромешного…
И опять он идет по бесконечно длинному, прямому, как стрела, шоссе, потом, никем не замечаемый, сворачивает на проселочную дорогу к деревне Рорен, где он оставил Хильду. На холме перед деревней, в углублении песчаного карьера, он садится передохнуть, думает, что нельзя ему принимать поспешных решений и что он был бы подлецом, если бы сошелся с Хильдой и йотом не взял ее в жены. Покуда он жует хлеб Анны, в нем согревает решенье. Хильда — чистая душой, добран девушка. Мы отлично с ней уживемся. У меня руки, жадные до работы, и в любви я тоже не рохля. А когда воздух очистится, мы пустимся в путь — домой.
Глава десятая
Кинозвезда, пустенькое артистическое дарованьице, все свои роли на экране и в жизни исполнявшая с беззаветным самоотречением и за это получившая в дар от высших сановников рейха небольшую виллу, в. приступе страха и подхалимства пожертвовала расположенной поблизости католической больнице, в которой теперь находились на излечении многие бывшие узницы женского концентрационного лагеря, несколько сундуков, набитых платьями и другой одеждой. Себя она тоже предложила «для любых услуг», и ее взяли в больничную кухню. Там она помогала кухаркам и совала за пазуху все, что удавалось подцепить. Вилла ее была занята английским центром дешифрирования аэрофотоснимков. Хозяйку учтиво и корректно (о, стройных сынов Альбиона всегда отличали прекрасные манеры!) спровадили в садовый павильон, где ее изощренное искусство самоотречения покуда шло на потребу шоферам. Но даже когда эта дама в кухонном халате и кухонном же колпачке усердно чистила картошку, она умела «подать» свою фигуру и мордочку. Весь ее облик излучал одухотворенную надежду: при моей-то сексапильности какой-нибудь элегантный лейтенант (а может, и чином повыше) пожалеет бедную золушку военной годины и возьмет меня к себе в кровать, где я буду лепетать по-английски и чувствовать себя как дома…
Из великодушного дара артистки обеим девушкам, Лее и Франциске, досталось по шелковому халату. Лее — стеганый, небесно-голубой, с огромным пушистым воротником, Франциске — черный, на огненно-красной подкладке, с такими же отворотами. Кинозвезда, которой нельзя было отказать в изысканной фантазии, голубую модель нарекла «Офелией», черно-красную — «Вальпургией». Новые владелицы об этом, конечно, не подозревали. В шуршащих шелках они чувствовали себя ряжеными. Франциска, когда они оставались одни, вывернув халат, изображала кардинала. Она открывала двери почти пустого гардероба, входила и выходила из него, словом, прогуливалась, как его преосвященство по своему прекрасному дворцу на Градчанах за собором св. Витта. Надев халат на черную сторону, Франциска превращалась в подраненную галку или, используя в качестве добавочного аксессуара пояс от ночной рубашки, — в вороватую сороку. Но чтобы развеселить Лею, заставить ее от души рассмеяться, Франциске все еще недоставало сил и жизнерадостности. К концу представления ей всегда хотелось освистать свою единственную зрительницу. Боясь поддаться дурному настроению, Франциска без умолку болтала о том, сколько юбок и кофточек можно будет выкроить из верха и подкладки халата.
К Лее Фюслер пришел посетитель.
— Господин из «Каритас»[25]. Он дожидается внизу на крытой террасе. Вот и пригодилась вам эта роскошь, — объявила сестра Клементия, облачая Лею, хотя та и сопротивлялась, в голубой халат.
Лея, чуть не плача, говорила, что ни за что, ни за какие блага мира не хочет видеться с незнакомым человеком. Но сестра Клементия была женщиной решительной. И никаких церемоний с хныкающей Леей разводить не стала, одела ее, подняла с кровати, как перышко, посадила в кресло на колесах и укутала ей ноги одеялом. Когда к ней приступали с такой энергией, больная воля Леи подчинялась воле другого, более сильного человека. Сейчас она даже сказала «спасибо» сестре. Клементия запротестовала, ее сердило, что Лея готова говорить «спасибо» даже тому, кто задумал ее убить.
— Вы не должны благодарить меня за каждый шаг, Лея. Я хожу за больными не для благодарностей, а во имя господа нашего Иисуса Христа. Тот, кто требует от человека благодарности, требует и вознаграждения. Знаете, Лея, когда у нас был военный госпиталь, многие раненые, едва избавившись от страха смерти, насмешливо поглядывали на нас, сестер, а иной раз сопровождали эти взгляды совсем неподобающими речами. Но разве хоть одна из нас осмелилась ухаживать за этими (зольными хуже, чем за теми, которые осыпали нас благодарностями? Мы несем свою службу, Лея, и мы ничто перед великим служением любви. Да и разве дано нам знать, что означают насмешки и непристойности в устах больного? Некоторым, издевавшимся над нами, да так, что ржала вся палата, это заменяло переливание крови. Они не ведают, что творят… При вашем состоянии, Лея, я бы предпочла, чтоб вы называли меня не иначе как старой дурой и швыряли в меня бананами, словно злая мартышка… Вам удобно, Лея? И не холодно?
Лея молча кивнула. Но проказница Франциска уже успела ответить ее тихим и тонким голоском: «Спасибо, сестра Клементия».
— Ох уж эта мне Франциска, — притворно рассердилась та. — У вас натура просто лошадиная, вы как молодая кобылица, что резвится в садах господа бога. Подумать только, год пролежала без движенья, нищи ей давали не больше, чем воробью, а опять уже дурачится! Я верю, что у вас будет еще куча детей и домашний очаг, даже счастливый очаг, хотя вы и думаете прожить без веры.
Сестра Клементия взялась за кресло и огорченно отвернулась от Франциски.
— Не знаю, не ведаю, как распределяется милость господня. На это моего земного разума не хватает. Знаю только, что и неверующие живут милостью божьей… — и она покатила кресло, в котором сидела Лея, прочь из комнаты.
Она говорит и поступает в согласии со своей верой, подумала Франциска, но фанатизма в ней нет. Она хорошая католичка. Если бы они все были такие… И если она замолвит за меня словечко перед пресвятой девон — ora pro nobis, — чтобы мне найти своего Карела, я в душе буду очень ей благодарна.
По договоренности со старшей сестрой и врачом сестра Клементия позволила себе «ложь во спасение», сказав Лее, что ее спрашивает кто-то из «Каритас». Посетитель, дожидавшийся Лею, работал не в «Каритас», а в какой-то английской газете. Впрочем, в данном случае это значенья не имело. Газетчик не собирался брать интервью у Леи. Он прочитал в списках освобожденных из лагеря имя Леи Фюслер, своей дочери. Эмигрант, по имени Карл ван Буден, некогда живший в Дюссельдорфе и потом во Франкфурте, он сейчас возвратился на родину. Старшая сестра вела с ним долгий разговор, прежде чем разрешить ему свиданье с Леей. Разные фамилии у отца и дочери дали ей повод для подозрений как чисто делового, так и нравственного характера. Сестра, по праву считавшаяся знатоком человеческих душ, в вопросах церковной морали, и прежде всего во всем, что касалось брака, была абсолютно непримиримой. Тем не менее посетитель завоевал ее доверие. Ребенок, сказал он, родился у двух любящих, серьезно и твердо намеревавшихся вступить в брак.
Правда, его семья энергичнейшим образом протестовала против этого брака с актрисой, да еще неимущей. Отчасти из-за своей преданности иудейской вере, от которой он, старший сын, намеревался отречься в случае вступления в брак, отчасти же и из чисто мирских соображении. Ван Будены, банкиры уже во многих поколениях, из-за неудачных коммерческих операций, предпринятых во время инфляции старшим в роде, оказались на краю банкротства. Когда сын объявил о своем намерении жениться на бедной актрисе, отец, выражаясь фигурально, облачился в рубище, посыпал главу пеплом и во всеуслышанье объявил о своем намерении покончить с собой. Он посвятил сына в тяжелое положение семьи и признался, что разрешил ему изучать историю искусства и философию — вопреки всем семейным традициям — потому, что прочил его в женихи дочери близкого друга, видного торговца предметами искусства, который был согласен своим драгоценным товаром поддержать пошатнувшееся предприятие ван Буденов. Для отцов дело это было уже решенное, дочь тоже дала свое согласие. Во имя семьи сын расстался с неимущей актрисой, но обоюдному согласию, стоившему обоим немалых страданий. От денежного возмещения Фелицита Фюслер отказалась, приняв только скромную ежемесячную ренту на ребенка. Он и из Англии высылал ей деньги, но нацистские власти лишили мать и этого вспомоществования. — В 1936 году Фелицита умерла от туберкулеза. Ее брат, педагог, взял к себе ребенка. Я никогда не видел девочку. Мать этого потребовала. Что ж, это было ее неоспоримое право! Мои родители погибли, так же как и семья моей жены. Пароход, везший эмигрантов, потерпел крушенье у берегов Ньюфаундленда. Темная, непостижимая история. Я тоже был на этом пароходе, но заболел желтухой и в Портсмуте меня свезли на берег. Узнав о катастрофе, я не хотел больше жить. Но я находился в госпитале. Там меня исцелили. С того времени я стал писать для журналов, проводить время в литературных клубах и колледжах. Ну, а теперь я опять на родине и единственное мое желанье — жить под одним кровом с моей дочерью, забыть прошлое, остаток своей жизни посвятить установлению мира на земле. Вот вся моя правда, госпожа старшая сестра…
Врач тоже не возражала против его свиданья с дочерью. Душевное состояние Леи Фюслер, се апатию и страх перед людьми, она считала не менее серьезным, чем ее физическую слабость.
— Активизирующее волнение, пусть даже небольшой шок, не повредит ей. Нельзя только, чтобы все это свалилось на нее как снег на голову, — сказала она.
Сестра Клементия везла свою подопечную по длинным коридорам и в то же время продолжала энергично подготовлять ее к предстоящей встрече.
— Сердце, которое бьется только для себя одного, но исторгнет из груди ни песни, ни вздоха, оно не ведает пи горя, пи радости. А человек нуждается и в том и в другом.
Лея покорно ее слушала, но сестра Клементия сомневалась, дошло ли до нее хоть одно слово. Посему она переменила тон и даже позволила себе некоторую игривость.
— Мы разрешили этому господину побеседовать с вами пять минут, ни секундой больше. Если же он не будет вести себя, как джентльмен, то мы обе сразу дадим ему коленкой в зад…
С этими словами она открыла стеклянную дверь на террасу. Апрельское солнце, сквозь стекло теплое, как летом, встретило Лею. Сестра Клементия поставила кресло боком к солнцу, так что Лея оказалась прямо напротив гостя. Этот последний, сидя на белом стуле у круглого, тоже белого стола, торжественно и несколько комично жмурился, подставляя лицо под лучи солнца. Лее показалось, что он ее не видит, прежде чем он — на мгновенье позже, чем положено вежливому человеку, — поднялся и склонился перед нею. И как склонился! Правая рука на лацкане пиджака, левая опущена вдоль туловища — точь-в-точь старый актер, раскланивающийся с публикой на авансцене. Да, да, от вида и манер этого человека у Леи едва приметно вздрагивали уголки рта. На его склоненной голове светилась плешь, как венцом обрамленная темными, седеющими волосами, возле ушей и на затылке еще сохранившими прежнюю холеную густоту. Когда гость выпрямился, Лея заметила, что он довольно высок и хорошо одет: однобортный пиджак из тонкой темно-серой шерсти, расстегнутый так, что виден жилет, мягкий воротник рубашки и светло-серый шелковый галстук, заколотый жемчужной булавкой. И все же в облике этого человека было что-то комичное, противоречившее его величавой осанке и солидной элегантности. Но не лысина и курчавые остатки шевелюры создавали это комическое впечатление. Скорее оно исходило от маленького, по-детски припухлого рта незнакомца, старательно артикулировавшего, в особенности при звуке «а», растягивавшегося с явным мускульным усилием.
— Я потревожил вас, фрейлейн, хотя знаю, что вы больны, но моя несказанная благодарность…
Странны были и глаза этого человека: коричневые и блестящие, как свежеочищенные каштаны, с большими зрачками, беспокойные, то и дело вспыхивающие и снова гаснущие, и опять по-детски сияющие. Кожа под этими глазами собиралась в дряблые складки: меты прожитой жизни. Единственно мужественными в его лице, подумала Лея, были брови — черные, изогнутые и почти сросшиеся на переносице. Но более всего лицо и весь облик этого человека напоминали тех никогда не смеющихся комиков, которые и без грима выглядят настолько меланхолическими, что публика при первом же их появлении, при первом же сугубо индивидуальном жесте начинает покатываться со смеху.
Даже Лея слегка повеселела, более того, немного подыграла ему, стараясь изобразить светскую даму. Ее красивые, хотя и изможденные руки изящно двигались но подлокотникам кресла. Ожидая дальнейшего развития событий, она щурилась на солнце, заранее потешаясь над звуками, которые готовились вот-вот слететь с этих пухлых, невообразимо подвижных губ.
— В мои намерения входило, — начал посетитель, снова садясь на белый стул, — сообщить вам кое-что о вашем досточтимом дядюшке, докторе Тео Фюслере…
Лея выказала вполне светский интерес к его словам:
— Ах так! Вы знаете моего дядю?..
— Не в лицо, уважаемая фрейлейн, но знаю очень хорошо… Я Карл ван Буден…
— Вы… — у Леи сорвался голос, язык, гортань больше не повиновались ей.
— Да, фрейлейн Лея, да… — стон вырвался из его припухлого рта.
Статно-ребяческая комичная фигура стала расплываться перед глазами Леи. Белый стол, белый стул, на котором он сидел, закружились стремительно, как чертово колесо. Ах, если бы этим вихрем его унесло отсюда, с террасы, во вселенную, в ничто… Она чувствовала на своих висках прохладную руку сестры Клементии и нюхала что-то зеленое, остро пахнущее, ментол или злобу, собственную злобу… Зачем, сестра Клементия, ты поднесла к моим губам эту чашу, зачем вытравила во мне образ моего отца!.. И на его место подсунула образ этого человека! Я не хочу, не могу больше смотреть на него…
Лея со стоном закрыла лицо руками.
— Я знаю, — донесся до нее прерывающийся голос, исходивший из круглого, как у карпа, рта, — знаю, что не имею права называть вас своим дитятей, я не так самонадеян…
— Уходите, — простонала Лея.
— Иду, иду, — прохрипел посетитель.
Лея слышала, что он поднялся, дыханье после этих слов вырывалось у него с астматическим свистом.
— Вспомните только, фрейлейн Лея, что здесь был человек, для которого в жизни нет желанья дороже, милее, прекраснее, чем помочь вам, помочь вам, помочь…
— Уходите, я хочу домой, — рыдала Лея.
Шаги посетителя зашаркали по каменным плитам к выходу. Надорванный голос проговорил:
— Химера… Химера все, что мы говорили… Наши слова запятнали себя…
Стекла осторожно прикрытой двери, расшатавшиеся после многих взрывных волн, задребезжали, как бы вторя муке ушедшего…
— Вы знали, сестра, знали? — плакала Лея.
— Да, дитя мое, знали. Разве ваша мать плохо говорила об этом человеке?
— О нет, сестра, совсем по-другому мать говорила о нем, совсем по-другому…
— Смотрите, Лея, от волнения он забыл отдать вам букет. Какое внимание! — Сестра Клементия взяла букет, брошенный на стуле у круглого стола, и развернула шелковистую бумагу.
— Нарциссы и березовая веточка, какая прелесть. Сейчас больше ничего и не достанешь. У цветоводов нет угля для теплиц. — Она положила букет на колени Леи, — Я оставлю вас на несколько минут, дитя мое, вам хорошо посидеть на солнышке…
Когда через четверть часа сестра Клементия вернулась, Лея спала, а цветы валялись на полу возле кресла. Лее снился сон: они с матерью идут по саду, мать держит ее за руку. Лея — школьница, ей одиннадцать лет. Сегодня день ее рожденья, 23 августа 1933 года. Рука у матери теплая и, как всегда, чуть-чуть влажная, словно она только что утерла ею слезы. Девочка старается идти так же, как мать, легко, царственно, быстро, и осанку хочет перенять у матери, и манеру кланяться при встрече со знакомыми, когда так изящно и величественно склоняется ее обычно высоко поднятая голова с перехваченными лентой полосами, которые привольно и красиво рассыпаются по плечам. У фонтана девочка останавливается и бросает в него камешек. Я, маленькая принцесса, бросаю в фонтан свой золотой мячик. Сказку-то я помню: король лягушек приносит мне его назад. Знаю и то, что король лягушек — это заколдованный принц, пусть не богатый, зато добрый. Он придет, отдаст мне золотой мячик и скажет: вот и я, твой верный Гиперион… Но откуда я знаю, что он придет? Он может и не прийти. И лягушки гибнут в воде, а солдаты в огне… Мать берет меня за руку и тянет вперед. На универсальном магазине развевается флаг, длинный, как флаги на церковных башнях. Флаг светло-красный, точно кровавая пена, на нем белый коровий глаз и черный крест с закругленными балками… Рука матери тянет меня вперед: идем, доченька! Под Нейссерским мостом идет пароход, конечно, же в Кайзерсверт. И на пароходе развевается кроваво-пенный флаг с коровьим глазом. На палубе сидят мужчины в черных и коричневых рубашках, в руках у них бутылки с пивом, они пьют, горланят поспи, ветер доносит обрывки их песен: «…Сегодня наша Германия… а завтра — весь мир». Гука матери тянет меня вперед: мимо памятника всаднику-копьеносцу. Конь под ним вздыбился. «Левада», это называется «левада», говорит мать. Мы идем дальше, к Шнелленбургу. Какие-то люди попадаются нам навстречу. Отец, мать, ребенок. Ребенок скачет на одной ножке, держась за руки отца и матери. «Мама, почему я никогда не прыгала, как вон та девочка? Почему я держусь только за твою руку? Где мой отец?» — «Ах, дочурка, отцу бы очень хотелось, чтобы ты попрыгала, держась и за его руку. По, девочка моя, на свете много…» Рука матери тянет меня вперед. На лужайке в Штокуне растут бело-желтые цветы. Я набираю целый букет. «Для папы», — говорю я. Мать смотрит на пароход, который уже добрался до излучины реки: «Ты не должна говорить о нем, Лея, я этого не хочу».
Ветер подхватывает ее слова, через Рейн, через море доносит их до него, и они ранят его сердце. Не говори о нем, только думай… А как он выглядит, мама? Сейчас мать видит его за Рейном, за морем. И она, Лея, тоже видит. Он прекрасен… Но почему, мама, почему, почему? Рука матери тянет меня вперед. Цветы я бросаю на дорогу…
— Такие чудесные нарциссы, — говорит сестра Клементия. И дает мне в руки букет.
— Я возьму их домой, сестра. Я хочу домой, скорее домой…
— Для этого нужны здоровые, сильные ноги, — говорит сестра.
Почему и она произносит такие нежные, такие приторные слова, как моя мать, как этот человек, как Франциска, как верный Гиперион…
ЧАСТЬ ВТОРАЯ Совиные сумерки
Глава одиннадцатая
Между станциями Эрла и Рашбах поезд снопа остановился прямо посреди поля. Он уже не раз останавливался. И всегда приходилось ждать, пока паровозик наберет силу. Кочегар буквально но разгибал спины и был похож на черта. Но если на сто килограммов угля приходится тысяча килограммов грязи, жар проваливается через колосники и снопами искр вылетает в трубу, то дым день и ночь стоит над насыпью. По полям вдоль железнодорожного полотна, как раки, расползлись горелые плеши. Время от времени факелом вспыхивают высохшие сосны. И стоит паровозу остановиться на этом подъеме одноколейки, как у машиниста улетучивается последняя надежда прийти но расписанию.
В набитых до отказа купе люди чесали языки, ругались, жаловались. Седоголовый пожилой господин изрек:
— Русские демонтируют железные дороги. Вы, мои дорогие современники и соотечественники, быть может, в последний раз едете в поезде. Так что наслаждайтесь! Наслаждайтесь вовсю! — Вдруг он дотронулся до своей ухоженной серебристой шевелюры и вскочил: — Да что же это за кошмар такой…
Все взглянули по направлению его поднятой руки и безжалостно расхохотались. В багажной сетке перевернулся чей-то кувшин с сиропом. Господин был явно растерян. На него со всех сторон посыпались добрые советы:
— Может, кто-нибудь везет бидон керосину, сядьте-ка под него…
Вдруг все двери распахнулись. Людские волны покатились сквозь образовавшиеся шлюзы. Соскочили и пассажиры с буферов. Все гурьбой повалили к паровозу, и там уж дали волю своей ярости. Стоял жаркий июньский день. У людей кровь стучала и висках. Вымазанный как черт кочегар грозил короткой лопатой из паровозного окошечка:
— Сухая ложка рот дерет. Это и к паровозам относится. А ну, отступи!
— Неслыханно! — кричал какой-то холерический толстяк.
— Залезай сюда, — кричал в ответ кочегар, — супь свою злость в котел, деревянная твоя башка…
Смех, крики, взрывы ярости. Машинист, не менее черный от сажи, чем кочегар, спокойно чистит манометр.
— Эй, ты, пролетарий в воротничке, езжай, да поживее! — рычит толпа.
Теперь мишенью их ярости служит машинист.
— Небось, уголь русским сбыл?
Люди горланят вовсю. Тут машинист дает свисток. Вся долина полнится жутким воем. Он длится минуту, другую. Какой-то тощий и длинный как жердь человек, в обмотках и зеленой охотничьей шляпе, пытается взобраться по железной лесенке в кабину к машинисту. Но тут же летит вниз. Кочегар двинул его лопатой по зеленой шляпе. Жуткий вой вдруг оборвался. Во внезапно наступившей гулкой тишине раздается голос машиниста:
— Образумьтесь же, люди! Через час-два мы тронемся. Эти проклятые лентяи из Рашбаха должны были подать нам уголь, да, видно, решили средь белого дня подогреть себе на нем эрзацкофеек.
И правда, крикуны образумились, найден новый козел отпущения — проклятые лентяи из Рашбаха. Они с наслаждением поколотили бы этих проклятых лентяев, но до Рашбаха добрых полчаса ходьбы, а это не по силам их крикливой злобе. Машинист же хорошо знает: шахтеры из Рашбаха ни в чем не виноваты! На этой крошечной станции вообще не запасаются углем, только водою. Но нынче утром в Рашбахе сгрузили вагон брикетов для населения. Вот бы шахтерам конфисковать часть этого угля и на дрезине подкатить к паровозу; шутка ли, этот затор остановил движение на всем участке дороги, а ведь теперь колеса должны крутиться для нашей победы.
Кочегар слезает с паровоза, прижимая к груди лопату, и по шпалам направляется к станции. А тот, длинный, в обмотках, потерял где-то свою зеленую шляпу и прикладывает ко лбу носовой платок. Никто им больше не интересуется. Все крикуны ушли в тень. Несколько человек присоли на траву и начали партию в скат.
Купе проветриваются. В них никого не осталось. Невдалеке, на лугу, на треногах развешано свежескошенное сено. Мужчины и женщины забираются под треноги. Другие расположились на тенистой стороне железнодорожного полотна перед раскрытыми дверьми купе и приглядывают за своими вещами. Дети ловят коричневых и белых бабочек.
— А сколько ходьбы до Рейффенберга, Руди? — спрашивает Хильда.
— Часа два с половиной — три.
— Тогда пошли! — предлагает она.
— С нашими-то тяжеленными рюкзаками?
— Неважно. Я свой запросто снесу.
— Смотри, обессилеешь в дороге!
— А ты замечал за мной такое?
Руди идет в вагон и достает битком набитые рюкзаки. Хильда сшила свой из попоны, а он «организовал» себе почти совсем новенький, синий, из имущества бывших военно-воздушных сил. Руди очень рад предложению Хильды. Ожидание всегда для него мука, так было и в армии, но там он тупо покорялся необходимости. Теперь эту тупую покорность с него как ветром сдуло. Хагедорн этому и сам не рад. Что-то я стал нервным, думает он, совсем по штатски нервным, это не годится. А Хильда думает: его надо немного подбодрить. Лизбет сказала, что я должна его подбодрить. Она права. Когда он без дела сидит в углу, уставившись в одну точку, и на глазах с лица спадает, прямо жуть берет.
— Твой пиджак мы сунем под клапан рюкзака. Пошли. Руди: «Брожу я по луга-ам…»
— Хильда, мы пойдем не по шоссе, а по старой дороге.
Руди и Хильда провели в Рорене около двух месяцев, жили как молодая супружеская чета сельскохозяйственных рабочих на чердаке над конюшней Хеншке. А Лизбет Кале с ребенком переехала к старой матери Фольмера в крошечный домик с двумя моргенами земли. Жена Хеншке-Тяжелой Руки, бранчливая жадоба, после капитуляции и ареста своего старика вдруг стала елейно-ласковой и не раз и не два заклинала Руди и Хильду начать новую жизнь работниками на ее хуторе. Но нынешним нелегким временам, убеждала она их, жалованье четырнадцать марок в неделю Руди и десять с половиной марок Хильде, да на всем готовом, да кое-что натурой, — очень и очень неплохо. Она отведет им приличную комнату в доме. И обвенчаться им следует, вот ведь и пастор к ней уже наведывался, да и деревенских смущает их «свободная» любовь. Она высказала все эти доводы Хильде, благо та целый день была у нее на глазах — в хлеву и на кухне. (Заикнулась даже о возмещении.) Но Хильда ответила хозяйке то же самое, что и Руди:
— Мы работаем у вас, чтобы прокормиться. Но при первой же возможности вернемся домой, в русскую зону, в Рейффенберг.
Когда хозяйка заметила, что Руди разбирается в моторах, она передала ему тягач. До сих пор на нем сидел новый работник, хваставшийся, что он дальний родственник семейства Хеншке, а на деле — темная личность по фамилии Шолте; хозяйке он позволял называть себя Шолли. Ветрогон и пенкосниматель, он раздобыл для арестованного Хеншке адвоката, продувную бестию, и не слишком утруждал себя работой.
Да, американцы дали ход заявлению Германа Хенне и посадили бывшего ортсбауернфюрера в следственную тюрьму по подозрению в преступлении против человечности. Но Хеншке, падая с лестницы, сломал ногу, и теперь лежал в тюремной больнице; адвокату разрешалось его посещать столько, сколько он находил нужным. Хозяйка могла бы, конечно, нанять и других работников. В ту пору бездомных шаталось хоть отбавляй, они бы рады-радешеньки были работать у нее. Однако в ее попытках оставить у себя Хильду и Руди заключался глубокий смысл: Хильда могла бы выступить на процессе в пользу Хеншке. Конечно, хозяйка не собиралась раскрывать карты до поры до времени. Но будь она похитрее, то догадалась бы, что этот ее замысел давно разгадан Лизбет Кале и что ее работники тоже давным-давно все знают. Не зря же они целыми вечерами просиживают у этой «берлинской болтуньи», у «коммунистки Фольмерши».
Как ни хотелось Руди поскорее попасть домой, он опасался, что по дороге его схватят американцы и отправят и лагерь для военнопленных. У него не было необходимого certificate of discharge[26], требовавшегося для перехода демаркационной линии. Он был обладателем всего лишь обтрепанного, написанного от руки вида на жительство, выданного в роренской ратуше, на штампе которого явно соскребли орла со свастикой. Служебный пропуск Анны ему тоже но помог бы. Контрольные посты научились разбираться в этих фокусах.
Газет в Рорене не было. Однако гигантский людской поток возвращенцев, переселенцев, просто бродяг, мешочников, колоссальная волна человеческого горя, разлившаяся в ту пору по всей Германии и захлестнувшая деревню Рорен, что ни день приносила с собой кучу новостей. Какая-то женщина из-под Лейпцига, менявшая плауенские кружева на муку, рассказывала, что ее сноху поколотили в первые дни оккупации. Это звучало вполне правдоподобно.
Но Хильда спокойнейшим образом отрезала: нынче такого и в помине нет. Если это и случалось, то лишь в первые дни. И откуда у нее бралась уверенность? Верно, ее внушила Хильде Фольмерова мать, или Лизбет, или Герман Хенне с женой, которые часто приходили к ним в гости.
— Ветер, который оттуда дует, — сказал он Хильде по пути домой, — дует прямиком из Москвы. Я ничего но имею против русских. Я их знаю. Не раз и не два стоял у русских на квартире. Они мне, во всяком случае, больше нравятся, чем американцы, у которых от жира и ноги-то не идут. Но что тебя, Хильда, этот ветер выкрасил в красный цвет, это мне не по вкусу.
Хильда в ответ промолчала.
Одно странное обстоятельство пробудило в подсознании Руди смутное впечатление детства. Дело в том, что над диваном в каморке матушки Фольмер висел стенной ковор, который в гитлеровские времена она прятала между перекрытием и черепицей и спасла от двух домашних обысков. Ковер был плюшевый, на нем в ярких броских топах был изображен восход солнца на море, подводная лодка и матрос. Матрос, настоящий исполин, стоя на баке, взмахивал красным знаменем с серпом и молотом, а над его головой во всю двухметровую длину ковра тянулась надпись: «Вставай, проклятьем заклейменный!»
Больше двенадцати лет назад такой же точно копер он видел в Рейффенберге у Эрнста Ротлуфа. Его отец работал имеете с Эрнстом Ротлуфом на фабрике Хенеля, вместе они ходили на биржу труда, вместе дробили камни, вместе запасали на зиму дров в соседнем лесу. А потом вышла какая-то странная история с доктором Хольцманом, которую он, тогда еще маленький парнишка, никак не мог понять. С тех самых пор, с конца тридцать второго года, дружба между его отцом и Ротлуфом пошла врозь. Отец честил старого друга загибщиком и пустозвоном, крикуном, который решительно не желает помнить, что человеку нужны не только лозунги, но и хлеб. Отцовская неприязнь передалась во многом и сыну. В тридцать третьем Ротлуф исчез. Его забрали штурмовики.
Когда Руди увидел на стене у Фольмеровой матери этот ковер, перед его глазами, словно вызванный некой магической силой, вырос образ Эрнста Ротлуфа, образ человека, с которым ему запретили здороваться и с которым он и вправду ни разу больше не поздоровался. Было ведь что-то волнующее и лестное в том, что он сделался соучастником распри взрослых.
Руди никому ничего об этом не рассказывал, даже Хильде. По сравнению с ней он временами казался себе совсем старым. Со стороны Германа Хенне он чувствовал некоторый холодок. Хенне упорно разыскивал предателя, выдавшего Фольмера. Может, он злится, сбитая, что Хагедорн знает про Залигера больше, чем говорит? С Хильдой Хенне был много сердечнее. И псе же именно Хенне подал ему хорошую мысль. Однажды, браня на чем свет стоит американцев за то, что они посадили в Эберштедте бургомистром «реакционера-веймарца» и восстановили на работе начальника станции Райна, снятого решением всех служащих, он сказал, что ами, охраняя, как заправские овчарки, демаркационную линию у Фрейберговой лощины, никакого внимания не обращают на дорогу через Цвикауерскую мульду. Так оно и было. По этой дороге Руди и Хильда, минуя все посты, перешли в советскую зону да еще пересекли район, где не было ни американцев, ни русских; победители просто-напросто забыли его оккупировать.
И вот они уже в двух часах пути от дома! Руди ничего не знает о своих, а они, конечно же, ничего не знают о нем. Письма, которые он писал, оставались без ответа — надо думать, пропадали. Вот я и возвращаюсь с войны домой, думал он, — с тяжелым рюкзаком за плечами и с невестой на шее. Пять лет жизни я потерял, но жизнь все-таки выиграл, а это что-нибудь да значит.
В горах дороги, тропки вьются, теряются, снова вьются через вершины и хребты, спускаются под мосты и скалистые выступы в долинах, становятся невидимками в зеленой сумрачной теин ельника. И перед глазами открывается в сто раз больше быстро меняющихся картин, чем внизу на равнине, где все словно растягивается в длину и дороги уходят к далекому горизонту, будто ленивые ленты конвейера, зацепившиеся за край земли.
Хильду разбирало любопытство, и она все время шла на два-три шага впереди Руди. Он не протестовал и вдвойне наслаждался — давно не виданным ландшафтом и заодно девушкой, маячившей перед ним. Они шли по старой заброшенной дороге, которая брала свое начало в Богемии и подымалась в горы не крутыми спиралями, а почти неприметно вилась меж склонов, вверху поросших орешником, жасмином и бузиной, а пониже — кудрявыми рябинами и скрюченными ветлами; в гальке, которой она была посыпана, казалось, навек запечатлелись скрип колес, свист кнутов, ругань возчиков, приветствия рудокопов и пересуды встречных и поперечных. Мейсенские бургграфы понастроили вдоль этой дороги маленькие укрепленные замки, монастыри и сторожевые башни. Почти все они разрушились и исчезли с лица земли. Самыми жизнеспособными оказались придорожные трактиры.
Хильда шла легко, широким шагом, хотя ее рюкзак и весил ни много ни мало семнадцать с половиной килограммов. В нем лежала пшеница и круглый хлеб — последняя получка натурой от хозяйки. А Лизбет еще набила его доверху морковью и капустой кольраби. У Руди груз был еще тяжелее. Он настоял, чтобы Хеншке выплатила ему Деньгами только за две недели, а за шесть — натурой: мукой, сахаром и салом. Старуха бранилась, но он знал, чем ее умаслить. Он сказал ей, что на ее хуторе к ним относились очень человечно и порядочно, неужели она испортит это хорошее впечатление и напоследок обойдется с ними бесчеловечно. Она же знает, что у русских в зоне еще хуже с едой, чем здесь. При слове «бесчеловечно» хозяйку охватил ужас. Она надавала им продуктов, на которые в другое время никогда бы не расщедрилась. Матушка Фольмер на прощанье подарила ему откормленного кролика, который теперь, освежеванный, выпотрошенный, аккуратно упакованный, лежит в рюкзаке. Матушка Фольмер очень почитала Руди. Он частенько помогал ей на крошечном ноле и чистил кроличьи клетки.
— У тебя золотые руки, Руди, — говорила она. — Надо, чтобы и разум был золотой. Смотри, не очень-то расстраивай Хильду. Слышишь?
— Да я и не собираюсь…
— Помолчи, Руди, ты еще молод и знаешь только, чего нынче хочешь, не больше…
Вздор, подумал Руди. Вечно эти бабы поучают нашего брата. Если и Хильда примется за это, я просто сбегу от нее. Я отлично знаю, чего хочу.
По когда однажды матушка Фольмер достала из шкафа лучший костюм Герберта, коричневый, однобортный, из хорошей шерсти, а Хильда и Лизбет принялись обмерять его со всех сторон сантиметром, чтобы подогнать костюм по фигуре, он охотно разрешил им себя «поучать». Кроме конфирмационного, у него в жизни не было «выходного» костюма. Теперь он шел в новых брюках и белой рубашке Герберта Фольмера, а пиджак, заботливо сложенный Хильдой, лежал под клапаном рюкзака. Руди охотно захватил бы с собой одежонку старого Робрейта в качестве рабочего костюма, но Хильда решила, что это тряпье уже достаточно послужило. По правде говоря, она просто ревновала к подарку Анньт. Ведь Руди в первый же день безжалостно исповедался ей о ночи, проведенной с Анной. Тем самым вопрос был исчерпан. Он понимал, что Хильда не желает, чтобы даже такие пустяки напоминали ей об его измене. Впрочем, о своей любви к Лее новоявленный правдолюбец Руди Хагедорн ни словом не обмолвился. Об эту деликатную тему полностью разбились его добрые намерения. Каждый раз, когда он собирался заговорить, ему чудилось, что мертвая оживает. Нет, с этой детской историей, видно, еще не покончено. А говорить можно только о том, с чем ты покончил навсегда. Настанет день, думал Руди, и я все расскажу Хильде. Я расскажу ей это в Рейффенберге, когда буду окончательно убежден, что все так и есть и что Лея никогда не попадется мне навстречу на Дрейбрудерштрассе. Я расскажу Хильде обо всем еще до свадьбы. Она это заслужила. Она ведь тоже была до конца откровенна со мной, и ей случилось пережить тяжелое разочарование и еще много всякой всячины. Но как же это так? Когда мы ночью лежим рядом и она прижимает мою голову к своей груди и шепчет мне «Амос», у меня на сердце легко и радостно и я люблю ее крепко и честно. По когда наступает утро, меня каждый раз грызет мысль, что ведь это Лея должна была бы лежать рядом со мной и вот тогда действительно все было бы хорошо, псе… Нет, я справлюсь с этой чертовщиной, на сегодня, на завтра, на послезавтра и навсегда. Как это говорил доктор Фюслер? «Кто одолеет льва? Кто одолеет великана? Это совершит тот, кто справится с самим собой». Он еще почему-то говорил это по-средневерхненемецки. Нет, мне этого не осилить…
Хильда повязала на голову зеленый платок. Платье, чулки, ботинки на ней все еще черные. Она сказала, что снимет траур после свадьбы. Как подумаю, сколько нам еще всего нужно… Надеюсь, что с матерью она подружится. Хильда ведь иной раз как заупрямится. Ну, да со мной такие штучки не пройдут; это я ей сразу дал понять. Впрочем, когда я прав, она уступает, а большего я и не требую. Но и мать тоже упряма при всей своей доброте. Хочет, чтобы ей всегда уступали, даже если она неправа. Вот и найдет коса на камень. А станут они браниться, нам ничего не получить от матери — ни простыни, ни щепотки соли, ни доброго слова…
Интересно, смогла бы Лея тащить такой тяжелый рюкзак? Может, и смогла бы. В нынешние времена, когда все только и знают, что рыскать за хлебом, даже самые избалованные дамочки тащут на собственном горбу то, что раздобудут. А Хильда-то старается показать, будто и ноша и долгий путь ей нипочем. Вон как голову высоко держит, любуется лесами на склонах гор, так и пожирает глазами наш бурный Рашбах — недаром он здесь бьет, точно пожарная струя, — и кажется, еще собирается затянуть песню…
— Руди, что это там за развалины на лугу? От них веет романтикой.
— Твоя правда, Хильда, но я бы сказал, что от них веет древней романтикой, но новой, не той, которой вест от развалин этой войны, от обгорелой лесопилки, к примеру, мимо которой мы шли…
— Она похожа не то на церквушку, не то на часовенку.
— Верно. Это и была когда-то часовенка. О ней даже легенда сложена. Впрочем, у нас в горах о каждой развалине складывают легенды. Это выгодное дело. Иностранцы охочи до развалин и оставляют у нас свои денежки. А так как здесь, наверху, вечная нищета и старых развалин уже немного осталось, их стали создавать искусственно: руками безработных. Что правда, то правда. Потом, когда мы увидим Рейффенберг, я покажу тебе такие искусственные руины. Глаз отдохнет, глядя на них, после всех настоящих…
— А эти, вон там?
— Эти, Хильда, старые-престарые. Рассказывают, будто богатый хозяин шахт Каспар Шрек выстроил эту часовенку для себя и своих горнорабочих. Он был известный скупердяй и живодер, этот богач Каспар Шрек, да вот захотел успокоить свою совесть и задобрить господа бога благочестивым пожертвованием. Но когда дело дошло до торжественного освящения в день святого Иоанна и все обитатели гор были созваны на великое торжество, разразился скандал. Большинство приглашенных не явились. Богач Каспар Шрек оказался в своей часовенке одни с кучкой подхалимов и лизоблюдов. И вот, едва заиграл орган, он будто бы изрыгнул отвратительное, богохульное проклятье. Господь бог этого ему не простил. Не успел еще умолкнуть орган, страшная молния ударила в часовню, убила Каспара Шрека, и всех его приспешников, и священника, и служку и спалила дотла часовню. С тех пор эти развалины называют часовней нечестивцев. Красивая легенда, правда?
— Ты складно рассказываешь, Руди. Я этого за тобой не знала. Но чем же так хороша эта легенда?
— Тебе она не нравится?
— Не знаю, лучше бы в ней не упоминался господь бог.
— Ну и упорная же ты, Хильда. И что тебе господь бог дался! А главное, не связывайся с моей матерью в этом вопросе. Говорю тебе еще раз. Поругаетесь — мира в семье не сохранить, лопнет, как мыльный пузырь. И тебе у матери житья не будет…
Хильда ответила, что ни с кем не ищет ссоры, пока с пей никто ссоры не ищет. Но Руди подразумевал нечто вполне определенное.
— Если мы не обвенчаемся в церкви, мать выкинет нас из дому, голову готов прозакладывать.
Но Хильде сейчас совсем не хотелось пускаться в разговор об этом вопросе, так до сих пор и не решенном. Она попыталась отшутиться.
— Ты делаешь вид, будто наверняка знаешь, что я за тебя выйду.
Руди подхватил ее тон и попытался даже перещеголять ее:
— Верно, где сыщешь такого легкомысленного парня, как я. Бегаю за девицей, а у ней только и богатства, что платьишко да рюкзак. Придется, пожалуй, подумать…
Хильда, которая все еще шла на шаг впереди, вдруг остановилась, обернулась и, сверкнув глазами, спросила:
— Сколько километров ты уже бежишь за мной, бедняга. И с чего бы это, а? — Она рассмеялась.
— А ну, но очень-то задавайся, злюка! — огрызнулся и Руди, полушутя-полусерьезно.
Когда ему не приходил в голову подходящий ответ, он злился. Руди и думать не хотел, что окажется в положении своего отца, который целиком и полностью подчинился любовно-ласковой диктатуре жены. Отец и сам любил поворчать, но на мать никогда не ополчался, а если она очень уж расходилась, он только как дальний гром погрохатывал после молний, которые она метала. Но оба быстро успокаивались.
Да, Лее верный Гиперион-Руди подчинился бы охотно. Она была так величественно, так таинственно прекрасна. Быть ее преданным вассалом — значило в известной мере приобщаться к высшей культуре. Было ли и в Хильде что-то от женственной величавости и женственной таинственности? В ней сильно материнское начало, это верно. Но ведь детей можно заводить, лишь имея твердую почву под ногами. Хильда согласилась с ним, и, как ему казалось, слишком быстро. Сильная, рослая девушка, с покладистым характером и очень работящая. А на большее она и не претендовала. Высокие чувства ей недоступны. Чтобы брак оказался счастливым, он должен будет внушить ей библейскую заповедь: жена да прилепится к мужу своему. Что ж, это нормально, а все нормальное, вероятно, и есть самое лучшее. И Руди недвусмысленно дал ей ото понять.
Однажды, примерно на четвертой неделе их пребывания в Рорене, они сильно поссорились, причем на карту было поставлено все: их любовь, их будущая совместная жизнь. Но Руди именно этого и хотел: чтобы все было поставлено на карту, пусть Хильда раз и навсегда узнает границы его любви.
Спор разгорелся но пустяковому поводу. Как-то субботним вечером Хильда решила постирать белье и попросила его развести огонь в печи. Руди принялся за дело, но ни чего у него не получалось. Печь отчаянно дымила, и Хильда приоткрыла дверцу топки. Он снова захлопнул ее, за явив, что эта дверца у всякой печи должна быть закрыта. Хильда ответила, что, разжигая такую печь — без настоящей дымовой трубы, а только с вытяжкой, — дверцу топки надо оставлять приоткрытой. Руди, и без того злой из-за своей неловкости, разъярился:
— Печь есть печь! — заорал он.
По Хильда торопливо ответила:
— Нет, Лизбет говорит, что эта печь…
Тут его терпенье лопнуло, и Руди, этот, так сказать, «предварительный супруг», прошипел:
— Лизбет говорит! Фрау Фольмер говорит! Хенне говорит! Все, что они говорят, для тебя свято! Все, что говорю я, — гроша ломаного не стоит! Ничего себе рассуждения! Тогда отправляйся к своей Лизбет! Организуйте с ней союз разумных идиоток!..
Возмущенная и испуганная Хильда убежала, не вернулась ни к вечеру, ни к ночи. Сердясь и рыдая, она рас сказала все Лизбет и матушке Фольмер, и те оставили ее у себя. Всю ночь Хильда, не смыкая глаз, ворочалась рядом с Лизбет. Когда в каморке забрезжил рассвет, Хильда встала. Она хотела, сделав свою работу в хлеву, вернуться домой. Но Лизбет ее предупредила — если уж вернешься, значит навсегда. Нечего сновать туда-сюда, ничего из этого хорошего не выйдет. И добавила:
— Ты должна уважать себя, Хильда. Вы еще не поженились. Дай ему сразу почувствовать, кто ты есть, он еще себе локти кусать будет за то, что тебя обидел. Довольно уж ты мыкала горе. Ты и без пего пробьешься в жизни. Нынче немало женщин живут самостоятельно, и беда дли них оборачивается добром, то есть самостоятельностью. Ты вот разве что вспылишь, когда замечаешь, что он хочет тебя к рукам прибрать. А потом хнычешь ночь напролет. Что ж это значит… — Лизбет натянула чулок, — …да, что это, спрашивается, значит! Это значит — любовь, а любовь у нас, женщин, от самостоятельности не проходит. Вот что я хочу тебе сказать: некоторые щепки желают, чтобы их уважали как мужчин. Твой Руди к примеру. Раз ты его любишь, то беда невелика, если ты будешь малость поразумнее, чем твой господин и повелитель. Сунь ему в руки его скипетр, но придумай способ сделать так, чтобы он сам себя но башке стукнул, если вздумает поднять на тебя руку…
Подоив коров, Хильда поднялась к себе, включила кипятильник, заварила кофе, накрыла на стол, положила рядом с чашкой Руди три сигареты и все это тихонько, словно боясь его разбудить. А он делал вид, что спит сном праведника, потом встал и нехотя пошел за водой. Но уже по тому, как он отдувался и сопел умываясь, она чувствовала, что он до смерти рад ее возвращению. Ну, а затем взгляды их встретились. Сперва как будто и невзначай, будто равнодушно, но потом… потом наступило безумно счастливое воскресное утро. И если в это утро черная кошка перебежала дорогу деревенскому пастору, весьма строгому в вопросах морали, то уж, конечно, не даром.
Руди, который стоял сейчас рядом с Хильдой на старой дороге, Руди, который только что вместе с нею смеялся, вдруг поглядел на нее словно из дальней дали. Эти частые смены его настроений всегда пугали Хильду. Она подумала: кажется, я зашла слишком далеко, очень уж неловко выразилась; не надо было говорить, что он за мной бегает. Он ведь никогда и не прибежал бы. Он никогда не пришел бы к Лизбет извиниться передо мной. Всегда я первая возвращаюсь. А он считает, что это в порядке вещей, и когда я веду себя так, становится ручным. Но мне не надо ручного, мне не надо молокососа, разыгрывающего из себя мужчину…
— Ей-богу, незачем из-за таких пустяков сердиться друг на друга, — сказала Хильда. — Я же знаю, что ты никогда не бегал за мной, никогда и не побежишь, а я…
— Что ты?
— А я и не хочу мужа, который бы за мной бегал. Все равно как кобель за сукой… Далеко нам еще, Руди? Что-то ремни стали мне плечи давить. И пить я хочу до смерти…
— Скажи, ты такая умная или только прикидываешься умной?
— Ум мне, господин Хагедорн, в наследство от тетушки достался.
— Ты хочешь сказать, от тетушки Лизбет…
— Нет, от моей собственной тетки, — Хильда рассмеялась.
Но тут Руди сказал нечто совершенно неожиданное:
— Да, видно, твоя взяла.
Хильда растерялась. Она обеими руками сжала его голову.
— Нет, Руди, нет! Как это может быть, да мне бы этого и не хотелось… Руди…
Они потерлись лбами, как овцы. И дальше пошли уже рядом.
Руди знал, что на полпути между Рашбахом и Рейффенбергом есть старинный трактир «Веселый чиж». Он предложил завернуть туда и немножко передохнуть. Он знаком с хозяевами, может, те и без талончиков дадут им что-нибудь поесть. Но так как Хильду мучила жажда, он прежде всего повел ее к ключу в нескольких шагах от дороги под развесистой ивой. Хильда сбросила рюкзак, подставила лицо и затылок под прохладную струю и набрала полную пригоршню воды.
— Не угодно ли вот этого винца? — предложила она Руди.
Руди пил из ее рук и вспоминал о той путаной истории, которую рассказывал Анне… и пустые руки могла она протянуть мне, как прекрасную мраморную чашу; могла сказать: отведан, возлюбленный мой, небесной росы… А Хильда говорит: не угодно ли вот этого винца…
Хильда, сдерживая улыбку, сказала:
— Даже стаканчика нет у невесты, даже жестяной кружки — и той нету. Кто же такую возьмет?
Она рассмеялась. Но напившись, испытующе взглянула на него. Руди оставался серьезен. Его рот, выражение его лица, думала Хильда, могут многое сказать мне. В разговоре он способен солгать, но глаза его, игра мускулов на щеках, его губы лгать не могут. Вот сейчас у него рот чуть приоткрыт, он раздумывает, что лучше ответить, и опять глядит на меня из дальней дали. Как же, однако, это часто случается, как часто замыкается он в себе, как часто я не знаю, о чем он думает. Если он останется таким, не будет нам счастья, не будет у нас ни любви, ни брака. Ведь соединиться душой и телом можно, лишь соединив свои мысли. Придется мне запастись терпением…
— Руди!
— Известно ли тебе, что ты пьешь из королевского источника, Хильда?
— Я прочла об этом, Руди. От благоговенья у меня даже в животе похолодело…
Выражение отчужденности исчезло из его глаз. Оба они смотрели на бронзовую, уже позеленевшую табличку над источником, на которой стояло: «Здесь Е. В. король Фридрих Август Саксонский испил воды во время осенних маневров в год 1913 от P. X.» Тоненькая струйка текла из скалы, искусно сооруженной на высоте человеческого роста, в небольшую, тоже искусственную, каменную чашу. На обратной стороне этого пышного сооружения красовалась еще одна бронзовая дощечка с надписью помельче: «Народу и отечеству принес в дар Готлиб Бруно Хенель, фабрикант. Год 1928 от P. X.»
— Только благородные господа называют этот ключ Королевским источником, полублагородные зовут его Холодным компрессом, а простолюдины и просто — водопоем.
— Но ведь в двадцать восьмом году никаких королей уже не было? — удивилась Хильда.
Руди ответил, что хорошо помнит день торжественного открытия источника.
— Я был совсем маленький и убежал из дому. Было прелестное летнее утро, да еще воскресенье вдобавок. Отстояв раннюю обедню в церкви, мы с оравой мальчишек побежали за отрядом стрелков, за меховыми шапками, за зелеными шляпами с перышками, за серебряными топориками, барабанщиками и волынщиками. А господин Готлиб Бруно Хенель был капитаном стрелков. Он гарцевал впереди на белом коне, на его шляпе колыхался плюмаж, через плечо шла серебристо-зеленая перевязь, на боку блестела сабля, подбородок украшала окладистая борода, точь-в-точь как у кайзера Вильгельма. Не слезая с коня, он произнес речь, вызвавшую троекратное ура. Мы тоже дружно прокричали — ур-ра! А зеленые шляпы трижды выпалили в воздух из своих длинных ружей. То-то была красота. Но когда я явился домой, отец отдубасил меня за милую душу. Впрочем, на другой день и ему самому пришлось не сладко. Он в ту пору был мастером-чулочником на фабрике Хенеля, так вот его чуть не вышвырнули за то, что он не явился на празднество. Но он был не в одиночестве, многие рабочие фабрики не почтили своего работодателя. Их всех собирались уволить. Тут некий Ротлуф, коммунист, организовал сидячую забастовку на фабричном дворе. По меньшей мере половина первой смены приняла в ней участие, да еще подошел кое-кто из второй. Не прошло и часу, как господин Хенель рявкнул из окна, пусть-де люди занимают свои рабочие места. Вот как было дело, Хильда…
Руди забыл упомянуть, а может, он и не знал, что бравому национально мыслящему Готлибу Бруно Хенелю в результате сего верноподданнического деяния было присуждено звание почетного гражданина города Рейффенберга и вручен мандат в саксонский ландтаг. Сын же его стал фюрером первого отряда штурмовиков в их округе.
Что касается существа этой достопримечательной истории. то бронзовая дощечка лгала. Во время королевского привала все происходило весьма не по-королевски. Несколько саксонских гренадеров, очевидцев этой сцены, единогласно заявили: его величество, будучи пьян в стельку, свалился неподалеку о. т источника со своего коня. Под гром холостых выстрелов многих орудий господа из свиты подтащили его к бывшему водопою, где ключевая холодная влага, оросив затуманенное винными парами чело государя, привела его в чувство, и он ужо был в состоянии держаться на ногах. Подпираемый двумя адъютантами, король вознес хвалу прохладным струям как «истой усладе сердца» и при этом не замедлил добавить собственной «королевской водицы» в деревянный сток.
Руди рассказал Хильде и об этом; он удивился, что русские до сих пор не сняли таблички. В Рашбахе, проходя мимо взорванного памятника первой мировой войны, Руди разволновался. А теперь он разволновался из-за дощечки и заявил, что это не что иное, как равнодушие русских. Хильда предположила, что русские, возможно, только посмеялись над «хмельным ключом». Но Руди упрямо стоял на своем.
И пока Хильда взваливала на плечи свой рюкзак, он схватил камень и разбил обе дощечки. Он успокоился, только когда металлические осколки попадали на землю.
Хильда при этом вспомнила слова Германа Хенне: «Этого парня я в толк не возьму. Нынче он кричит — да здравствует! завтра — долой! Он проклинает капитана Залигера, бывшего своего друга. Но, поверь мне, в любую минуту за него заступится. А я готов поклясться, что наш Фольмер на совести у этого Залигера. Но нам никак этого не установить. Нет у нас доказательств. Гестаповский следователь покончил с собой, те двое, что увели Фольмера, исчезли. Бывший бургомистр Рорена что-то толковал насчет пушек, на которые хотел наложить руку Фольмер. Вот тут-то и надо искать связи. А Руди знает больше, чем говорит нам. Из ложно понятого чувства чести он покрывает старых соратников. Вытрави из него это ложное чувство, Хильда. Я даже так скажу: товарищ Хильда».
Это обращение, впервые в жизни адресованное ей, испугало Хильду. Хенне, его жена, мамаша Фольмер и Лизбет относились к ней в последние педели так, словно бы она уже окончательно примкнула к ним, к их партии. Нет, Герман Хенне, ты несправедлив к Руди. Он честно хочет начать порядочную жизнь. Я же вижу. Но ты несправедлив и ко мне. Я хочу целиком владеть им, а не отдавать ого твоей партии. Мне уже двадцать первый год пошел, пора к чему-нибудь притулиться в наши тяжелые времена. Я ведь совсем, совсем одна на свете… Я знаю, Руди человек ненадежный, у него все то так, то эдак. И он меня любит меньше, чем я его люблю. Но это уж другое дело. Наших мальчиков война ожесточила. Они заморозили свои сердца и стыдятся всякого проявления добрых чувств…
— Хильда! Ты всегда говоришь, что я того и гляди пробуравлю кого-нибудь взглядом.
— Я просто радуюсь, Руди, что тебе тоже осточертела вся эта прежняя морока…
Подходя к «Чижу», Хильда и Руди уже издалека услышали детские крики и смех. Трактира еще не было видно. Он прятался за живой изгородью белого шиповника и кустами сирени. По шуму и гаму можно было подумать, что там бассейн для плаванья. Правда, в «Чиже» и раньше всегда было шумно и весело, особенно по воскресеньям, когда туда приходили целыми семьями. Гутшмид, хозяин, был человеком с выдумкой, да и детей любил. В саду при трактире он устроил карусель и гигантские шаги. За эти развлечения ничего платить не приходилось, платили здесь только за еду. А взрослых он умел заманивать отличным овечьим сыром собственного изготовления и первосортным пивом. В хорошие воскресные дни в трактире было оживленно, как на маленькой ярмарке, и, случалось, разносчики даже предлагали здесь свой товар.
Но нынче была середина недели. Хильде и Руди по дороге попадались повозки, запряженные быками или коровами. Крестьяне ехали на покос или развозили по дворам солому.
Причина шума довольно быстро обнаружилась. Речонку Рашбах, протекающую за трактиром, перегородили чем-то вроде плотины из дерна, так что там образовался небольшой пруд. В этом пруду и вокруг него резвилась уйма детей, школьники всех классов. Среди них попадались и старшие ребята: пятнадцати- и шестнадцатилетние. Мальчишки постарше, нечесаные, с длинными гривами, скучливо сидели на лугу или загоняли в пруд тощих девчонок, своих сверстниц, а не то шлепками и руганью улаживали споры между малышами.
Пестрой вывески над дверьми трактира уже и в помине не было. По обе стороны входа были вкопаны два высоченных — выше конька на крыше — сосновых шеста, на которых развевались красные флаги. Их видно было уже издалека. Ничего особенно примечательного в этом не было. Красные флаги висели повсюду. Примечательна была надпись на новой вывеске, прибитой к шестам на высоте дверного косяка. Красными буквами по голубому фону на ней было выведено: «Детский дом имени Альберта Поля». На тех же шестах был прибит портрет в метр высотой, выполненный очень и очень по-дилетантски: портрет человека, именем которого был назван этот дом, и под ним следующая подпись: «Альберт Поль, с 1927 по 1931 год — учитель в Рашбахе, депутат ландтага, коммунист. За участие в движении Сопротивления фашизму казней 28 августа 1944 года».
Руди вспомнил, что мать писала ему на фронт о судьбе этого Альберта Поля. Воспоминания детства, давно позабытые, нежданно-негаданно всплыли в его сознании и завладели им. Когда отец еще был в дружбе с Эрнстом Ротлуфом, в их беседах часто упоминалось имя Альберта Поля. Они говорили о необходимости устроить дома отдыха для ребят из народных школ и о том, что пришло время начать кампанию за организованный отдых детей во время летних каникул. Альберт Поль пытался подвести законодательную основу под эти планы. Но это его франции не удалось. Призыв к социал-демократам и профсоюзам Рейффенберга совместно и на собственные средства создать детский дом отдыха также потерпел крах. Отец Руди сам высказался против этого предложения.
— Начнем с того, что в исключительных случаях можно обращаться в отдел социального обеспечения, но главное — школьникам пойдет только на пользу, если во время летних каникул они поживут в крестьянских семьях. Там они учатся работать, обеспечены питанием и вдобавок зарабатывают себе на зимнюю обувку, а осенью — еще и картофель на зиму.
На что Эрнст Ротлуф, горячась, возражал:
— От работы на хозяев, вареной картошки и снятого молока наши дети ни здоровья, ни ума не наберутся…
Но отца невозможно было переубедить.
Руди и Хильда присели на ветхую скамью у такого же ветхого столика на лугу против входа в дом и шестов с флагами. Они хотели хоть немножко передохнуть. Скамьи и стол сохранились еще с прежних времен и предназначались для путников, которым нельзя было задерживаться. Хильда вытащила из рюкзака несколько морковок, а Руди очистил их перочинным ножом.
Неожиданно, словно по чьему-то знаку, из леса показалась орава мальчишек. У всех рубашки навыпуск, подвязанные куском бечевки или шпагата. С криками и гиканьем волокли они огромные охапки хвороста, обмотанные телефонным проводом, и, добежав до дороги, припустились галопом, поднимая густые темные тучи пыли. Они приближались, крича, описывая круги и спирали, почти скрытые за клубами взметнувшейся ныли. По всей видимости, нм хотелось досадить чужакам, расположившимся в их владениях, или даже заставить их ретироваться. Ибо свой дикий танец они исполнили с особым усердием в непосредственной близости от Хильды и Руди. А какой-то парнишка из этой горланящей оравы смешно завопил ломающимся отроческим баском:
— Танки Роммеля в пустыне под Тобруком! Катитесь отсюда, шакалы вонючие!
Какая-то длинноногая и длиннорукая девчонка, тщедушная, но с дерзко-всезнающим взглядом примчалась с пруда в одном купальнике, бросилась животом на вязанку, завизжала:
— Хоп, хоп, а по то хлоп-хлоп.
Мальчишки сразу же ухватили ее за ноги и с ликующими криками принялись таскать взад и вперед по грязи, а один из них, подражая стону смертельно районного, вопил мальчишеским фальцетом:
— Санитары! Санитары! О-о-о, мне брюхо разворотило…
При этом они щелкали языком и молотили палками по земле, что должно было изображать канонаду.
Хильда, испугавшись, что белая рубашка Руди превратится в грязную тряпку, схватила его за руку и оттащила в сторону. Он покорно последовал за пей. По ее судорожно сжатым пальцам Руди понял, в какой ужас ввергли ее юные дьяволы. Он попытался успокоить Хильду:
— Мальчуганов интересуют только наши рюкзаки. Приглядывай хорошенько за вещами!
Но при этих словах он, точно так же как и Хильда, сосредоточил свои впечатления на чем-то чисто внешнем, несущественном, в главном же не сумел разобраться. Ему хотелось ворваться в эту ораву, надавать оплеух и кричать, кричать: вы же ни в чем не виноваты, птенцы желторотые, испорченные, невинные и несчастные…
Бегство чужаков вызвало взрыв насмешливого хохота. Ребята своего добились и теперь потащили хворост за дом, откуда доносился слабый мужской голос, на чем свет бранивший их, затем послышался звук, словно кто-то швырнул об стену тяжелым поленом, и снова взорвался грубый, безжалостный хохот.
— Бранится-то, кажется, хозяин, старик Гутшмид, — заметил Руди.
Хильда, все еще крепко держа его за руку, сказала:
— Они такие же, как и я, сироты войны. Я всегда думаю, что вот и Рейнгард мог быть среди них…
— Эти еще малы, — отвечал Руди. — Они не валялись в окопах, они непорчены немецкой кинохроникой.
Теперь вся орава снова сошлась возле шестов перед дверью. У всех в руках были дубинки, украшенные резьбой или выжженным орнаментом. Кое-кто из ребят курил. Они что-то обсуждали, косясь на рюкзаки, лежавшие у ног путников. Потом от них отделились трое самых старших и сильных. Зажав палки под мышкой и миролюбиво улыбаясь, они пошли через луг к Хильде и Руди.
— Будь с ними помягче, — умоляла Хильда.
Руди глядел поверх голов приближавшихся мальчиков глядел на облако пыли, повисшее над изгородью из белого шиповника, над кустами сирени и постепенно рассеивающееся. Но видел он нечто совсем, совсем другое. Он видел, как одна из колонн немецких самоходных орудий остановилась под палящим русским небом где-то между Бугом и Окой. Видел густое облако пыли, покрывавшее продвигающуюся на восток колонну и постепенно редевшее над березовой рощицей. Видел себя и своих товарищей. Кто разминал ноги, кто заливал бензин в машины, кто щелкал затвором или вспоминал вчера еще живых приятелей; все ждали обеда, все устали — чертовски устали. А потом — что за чертовщина! — откуда ни возьмись кинорепортеры из хроники. Камрады, отечество желает видеть своих героев! И тотчас усталые, грязные лица словно свело судорогой, судорогой героизма. Да и сам он почувствовал, как неожиданно разгладились у него морщины на лбу, посветлели глаза, подтянулась челюсть и сжался рот. Рядом с ним, прислонясь к гусенице самоходки, стоял Отто Зибельт, этот чудак в никелированных очках с вечно небритым подбородком, смахивающий на лешего. Отто сплюнул в развороченный песок и пробормотал:
— Ну, мой мальчик, вот и в тебе взыграл настоящий мужской задор, а? Эх, черт побери…
А когда объектив кинокамеры нацелился на них, Отто повернулся к нему задом, снял с самоходки лопату и спокойно отправился в рощицу…
Трое мальчишек тем временем остановились в непринужденной позе, похихикали и сказали:
— Дяденька и тетенька, мы бедные, несчастные сиротки, подайте чего-нибудь из рюкзачков…
А долговязый, узкогрудый паренек, со странно горящими глазами, добавил:
— Здесь пост таможенного досмотра справедливости.
Ситуация начинала забавлять Руди. Он сунул руки в карманы и шагнул к мальчикам.
— Видать, думаете, что вы чертовски сильные, а, сопляки?
— А вот заработаешь по роже, — ответил ему коренастый белобрысый мальчишка, у которого не было брови над правым глазом.
При этом он улыбался гнусно и хладнокровно, как завзятый хулиган. Минуту назад Руди готов был дать ребятам чего-нибудь съестного. Голодными они, правда, не выглядели, но в их возрасте всегда хочется есть. Теперь же этой готовности как но бывало. Нахальный ответ белобрысого взбесил его. И вообще, из парней с эдакими физиономиями в Пруссии штамповали военных юнкеров. Руди хотелось как следует вправить ему мозги. Но для этого надо оставаться спокойным.
— Эх ты, — сказал он, — хочешь дать в морду старому самоходчику, погоняла несчастный?
Простодушно улыбаясь и не вынимая рук из карманов, он подошел к белобрысому, неожиданно быстрым движением выхватил у него палку, воткнул ее в землю за спиной мальчишки и легонько двинул его рукой в грудь, да так, что тот, споткнувшись о палку, сел на землю. Двое других схватились было за свое «оружие», но громкий хохот Руди и плачевный вид шлепнувшегося приятеля сбили их с толку и заставили упустить подходящий момент. Правда, к ним уже подтягивались остальные, около десятка мальчишек, вооруженных палками, босоногих, в рубашках навыпуск. Белобрысый поднялся, бубня что-то про позор, который взывает к мщенью. Но долговязый узкогрудый парень, указывая на Руди палкой, сказал:
— Он старый самоходчик, — и тем смягчил враждебный блеск в глазах мальчишек.
— А мы «Банда Тобрук», — горделиво представился какой-то верзила.
Руди вспомнил о трех бутылках водки, о расчете орудия «Дора» и подумал: если им дать поесть, они, пожалуй, примут это за вступительный взнос и, того гляди, сделают меня атаманом. А там висит портрет Альберта Поля. Это же все чистое сумасшествие.
— Послушайте-ка, ребята, — сказал Руди. — Оставим «самоходчика» в покое. Это дело прошлое. Белая рубашка мне сейчас дороже, чем черная форменная куртка былых времен, можете мне поверить.
А Хильда, стоявшая рядом, добавила:
— Я тоже потеряла на войне родителей и брата. Я…
Она не успела кончить. Белобрысый прервал ее яростным криком:
— Мерзкие твари! Предатели!
Это слово мгновенно облетело всех. Лица ребят снова помрачнели, но за мрачными минами у многих притаилась растерянность.
— А ну, убирайтесь! — заорал Руди, не в силах больше совладать с душившим его гневом. — Убирайтесь, или я вам покажу где раки зимуют! — и он угрожающе поднял палку.
Белобрысый, явно вожак всей шайки, не остался в долгу:
— Окружить предателей! Отобрать продовольствие!
Орава мгновенно пошла в наступление со всех сторон, как стая волков. Руди крепче сжал палку, сердце у него бешено колотилось. Хильда опять вцепилась ему в руку.
— Не бей их, Руди. Отдай им рюкзаки. Мы получим их обратно через полицию…
По Руди только гаркнул на нее:
— А ну, садись на рюкзаки! С этими сопляками я и один справлюсь…
Белобрысый сунул два пальца в рот, пронзительно свистнул и высокопарно заявил:
— Даме предоставляется свободный проход!
Подкрадывавшиеся волки застыли на месте — видно, решили поглядеть, чем кончится дело.
Хильда, однако, не села на рюкзаки и не вышла из окружения. Она встала спиной к спине Руди. Перед ней, в десяти шагах, замер узкогрудый долговязый парень. Она начала говорить, запинаясь, сердясь, всхлипывая:
— Кто ж это вас предал?.. Вас… нас! Кто? Кто же…
— Ах ты, господи, — пробормотал долговязый, — женские слезы, только этого еще не хватало. Не выношу женских слез…
— В атаку, вперед! — скомандовал белобрысый.
Но, не имея палки, сам от «атаки» воздержался, а посему и другие остались на своих местах.
— Я выбываю из игры, — заявил долговязый, сунул палку под мышку и зашагал по лугу.
— Дед выбыл, — сказал один, — в таком случае и я ухожу.
Сбивая палкой верхушки полыни, он пошел вслед за долговязым, которого в шайке прозвали Дед Архип. За ним последовал второй, третий, четвертый, пока, наконец, вся разъяренная орава дружно не отвернулась от белобрысого и не убралась по направлению к пруду, где тем временем все стихло. Когда белобрысый понял, что банда впервые отказалась повиноваться ему, Белому тигру, он и сам убежал, разрыдавшись от злости. Ясно, «Банда Тобрук» изберет теперь нового вожака: того самого Деда Архипа, который запоем глотал книги Горького и пересказывал их ребятам на лесной поляне. Это он завел идиотский обычай носить рубаху поверх штанов и подвязываться бечевкой. Вот они и посадят во главе шайки Деда Архипа, апостола справедливости, и этот хилый пролетарий настоит на своем предложении: с завтрашнего дня они станут называться «Шайка босоногих». Бесчисленное множество предателей обнаружится в их банде, гордость и честь будут забыты. Ему, знаменосцу Дитеру Захвитцу, сыну погибшего под Тобруком офицера и крейслейтера, остается только покинуть это болото и в другом месте организовать «Банду Тобрука», чтобы по-прежнему высоко нести факел ненависти.
Гутшмид, хозяин трактира, колол во дворе сучковатые дрова. Работа была ему не по силам, у него дрожали ноги, да и глаза уже давно стали плохо видеть. В начале войны пышущий здоровьем шестидесятилетний мужчина был теперь сам на себя не похож. Куда девались его живой юмор, его находчивость. На вопрос Руди, как идут дела, он проворчал, что несколько иначе представлял себе свою старость. Его сын и наследник Артур погиб в Норвегии, а у него новые власти отобрали дом в Рейффенберге, большой зал здесь, в трактире, и маленький (даже маленький!), чтобы битком набить его этими сопляками. Среди них немало настоящих бандитов и таких, которые не сегодня-завтра станут бандитами. В один прекрасный день им со старухой останется только один выход — повеситься. Только вот пчел ему жаль, шутка ли, восемнадцать ульев, со дня на день могут начать роиться. Да… с овечьего сыра он переключился на мед, к тому же разводит маток. Неизвестно, конечно, как пчелы эту зиму перезимуют; имперское общество пчеловодов распущено, о сахаре, зимнем корме, никто не заботится, а меда хотят все… Причитаниям старика не видно было копца. Скрипучим стариковским голосом, театрально закатив глаза к небу, он стал пророчествовать:
— Если вы думаете, что война и военная истерия кончились, вы ошибаетесь, ох как ошибаетесь. Теперь начнется голодуха да стужа, а против них никакое бомбоубежище не поможет, эти и до ребенка в материнской утробе доберутся, все полетит вверх тормашками…
Бессильно тяпнув еще раз по суковатому пню, он захихикал, как гном.
— Моя-то жена думает, что удачно выбралась из заварухи, она-де избранница господня, из тех, что на горних вершинах восседать будут, когда весь мир рухнет в долине Армагедона и люди захлебнутся в потоках крови… хе-хе, я подарю ей удочку, может, она меня, как дохлую рыбину, вытащит… Все, все полетит вверх тормашками…
Руди взял из рук старика топор, проверил пальцем острие.
— Ну, этим топором только воду рубить. Сучки и тупой топор — что худая подметка на каменистой дороге, — сказал он. Подобные изречения Руди усвоил от отца.
И все же пень разлетелся, когда Руди изо всех сил тяпнул по нему. Старик присел на чурбан и сунул себе в рот незажженную трубку.
— Ты красивая девушка, — сказал он Хильде, — вы оба еще глупы, и это ваше счастье.
Хильда спросила, где же «персонал» детского дома, похоже, что дети предоставлены самим себе.
— Чтобы этих уродов воспитывать, надо сердце иметь как зал ожидания на большом вокзале. А у кого такое найдется! Все ведь к чертям полетело…
Здесь две женщины работают. Поначалу их три было. Да одна малость свихнулась и удрала отсюда без оглядки. Сам он дворником, а его жена поварихой. И с явной издевкой Гутшмид добавил:
— Чего-чего, а титулов у нас хоть отбавляй: есть у нас и фрау директор, и фрау заместительница директора, этой главное подавай «гигиену», готова своим соплякам задницы песком да содой чистить, хе-хе… а сама ни одного слова по-французски правильно сказать не может. Нет уж, доложу я вам — всяк сверчок знай свой шесток. Вот фрау директор, ученая, так она пешком отправилась в Рейффенберг в комендатуру. Пешком, фрейлейн! Если уж фрау директор вынуждена ходить пешком, если у нее нет далее велосипеда, значит, дела плохи, совсем плохи, да-а…
Оп безнадежно махнул рукой и стал набивать свою трубку. Со стороны пруда снова донесся отчаянный шум.
Из дверей дома вышла рослая пожилая женщина. Поверх темного ситцевого платья на ней был полосатый, свежевыстиранный передник, а на тускло-желтых волосах — белая наколка. Хильде подобный туалет, напоминающий официанток из кафе, показался весьма странным и почти комичным. Но лицо этой женщины не давало повода для улыбки — круглое, уже увядшее, под очень выпуклым лбом, доброе крестьянское лицо с хитринкой, к которому никак не шла эта накрахмаленная наколка. Хильда поглядела в ее живые глаза и поняла, что язык у женщины, может, и не злой, но хорошо подвешенный.
А старый Гутшмид продолжал брюзжать:
— Вот и заместительница директора, фрау Цингрефе, Ханна-Плетелыцица из Раушбаха…
Руди положил топор и поднял глаза. Женщина, видно, нимало не заботилась о том, что о ней говорили. Она подошла к открытому окну, откуда доносился звон посуды, и крикнула:
— Компрессы помогли. Температура у малышки упала до тридцати восьми. Вот посмотришь, доктор еще прийти! не успеет, а девчушка уже будет на ногах…
Не дожидаясь ответа, она быстро, вперевалку, побежала через двор к пруду. Гутшмиду это пришлось не по вкусу. Он еще раз попытался поддеть ее:
— Эй, эй! На других и глаз не подымаешь?
Она оглянулась и на ходу сердито бросила:
— Ах ты, старый козел!
Гутшмид испытующе посмотрел на Руди. Он знал, что Ханна Цингрефе приходится ему теткой, что она сестра его матери. И знал еще, что семьи Цингрефе и Хагедорн враждуют с незапамятных времен. Вдруг Ханна остановилась, пристально посмотрела на высокого сильного парня, который неподвижно стоял возле плашки и неуверенно поглядывал на нее. Ей понадобилось несколько секунд, чтобы узнать его, а Руди уже догадался, кто она. Он слышал, как Гутшмид сказал: Ханна-Плетельщица. Под этим именем ее знала вся округа. Тетка всю свою жизнь плела корзины из стружки или из ивняка и сдавала их лавочнику, а также вязала метлы, которыми сама торговала на рынке. Ее муж, дядя Карл, умер незадолго до войны. Он был каменотесом и заработал себе силикоз. Тетке пришлось одной растить троих детей. И все же семьи не помирились. На похоронах была только мать Руди. Вражда началась с того спора, который завязался у отца с Ротлуфом. Дядя Карл поддерживал Эрнста Ротлуфа, вот отец его и «знать не хотел».
Тетка, громко вскрикнув, подбежала к Руди. И не успел он опомниться, как почувствовал, что его прижали к пышной груди,' почувствовал поцелуй, который она влепила ему в нос, и мокрую от внезапных слез теткину щеку у своей щеки.
— Вернулся, хоть один вернулся, — всхлипывала счастливая Ханна. — Тебя и не узнать, Руди. Каким ты стал крепким да сильным. Я только по макушке тебя и узнала, вечно у тебя на макушке волосы торчком стояли, никак пробора, бывало, не сделаешь… Вот мать-то обрадуется… Рада я за нее…
Она выпустила его наконец из объятий, чтобы разглядеть получше. Кровь прилила к лицу Руди. Он спросил о ее сыновьях. Тетка ответила не сразу, словно припоминая. Старый Гутшмид снова взялся за топор, выбрал из кучи наколотых поленьев одно полено и начал его разделывать. При этом он не переставал ворчать, что «все летит вверх тормашками», видимо, это должно было означать: все гибнет, все разваливается, а вы тут разболтались.
К ним подбежал бледный большеглазый мальчонка с худеньким личиком, один из младших обитателей дома, и потянул Ханну за фартук. Но она дотронулась до его ручонки, и он стал терпеливо ждать.
— Вернер наш ужо полгода как дома, — говорила Ханна, — да вот беда: с одной ногой остался и на той полступни. А раньше был непоседа, к корзинам сердце не лежало. Теперь хочешь не хочешь — пришлось плести. Женился он тут на одной, фюрершей была в местной организации Союза немецких девушек. Я чуть его не избила. Но ничего, наладилось у них кое-как. Она ему в глаза смотрит, и сама шитьем хорошо зарабатывает. От Роланда на этой неделе открытку получили, из русского плена. Там он, думается мне, пока что неплохо устроен.
Ханна замолчала и притянула малыша к себе поближе.
— Вот только мой Микерле никогда не вернется. Они забрали его в марте, преступники проклятые, а на ученьи в ледяную воду погнали… и конец… воспаление легких.
Руди не поднимал глаз. Только Хильда заметила, как исчезло добродушное выражение с лица несчастной матери, как оно сразу заострилось от ненависти, а рука ее сильнее сжала ручку малыша. Своего Микерле, слабенького последыша, она выходила из десятка тяжелых детских болезней, спасла воистину только силой материнской любви. А потом все равно ничем не смогла ему помочь. Опа пыталась его спрятать. Кто-нибудь его бы наверняка принял в дом. Торгуя по деревням своими метлами, она поддерживала старые дружеские связи, устанавливала новые приятельские отношения со многими людьми и приносила кое-какие сведения, за которые нацисты огрубили бы ей голову, узнай они об этом. Ей предлагали много надежных убежищ для мальчика, но он не хотел, боялся прослыть трусом. А целиком довериться она не могла даже собственному любимому ребенку…
Ханна взяла себя в руки и обратилась к Хильде:
— Вы его жена?
Руди понял, что допустил бестактность, не представив до сих пор Хильду. Он быстро ответил:
— Нет еще, тетя Ханна. Мы помолвлены. Хильда моя невеста, родных у нее никого нет…
Ханна прервала его:
— Какая ты красивая, цветущая девушка, Хильда. Но кого это ты мне напоминаешь? Не могу вспомнить…
Как раньше она обнимала Руди, так теперь обняла Хильду и крепко прижала к себе.
— Хорошо, что ты сохранила здоровье, девочка. Многое еще можешь сделать. И на кисейную барышню ты не похожа, сумеешь Руди мозги вправить, если он на сторону закинется. А Хагедорны до этого охотники…
Последние слова Ханна произнесла шутливым тоном, но Руди и Хильда приняли их всерьез. И каждый при этом думал о своем. Руди думал: не могла не подпустить шпильки, она, конечно, предназначалась отцу, из-за старой ссоры. А Хильда думала: я уж Руди знаю, ты мне ничего нового не открыла. Вслух же она сказала:
— У меня на это есть свой рецепт, тетя Ханна.
Все рассмеялись. Но Ханне было не до смеха. Несколько дней назад в Рейффенберге она встретила свою сестру Дору, мать Руди. Дора рассказала ей, что приемную дочь бывшего учителя Руди, доктора Фюслера, привезли недавно на английской санитарной машине в Рейффенберг. Нет, о Руди эта девушка не справлялась. Если Руди вернется, сказала Дора, опять пойдут прежние фокусы, как в ту пору, когда он ходил в гимназию, — бесконечные письма, заумные разговоры, словом, ерунда. Руди умоет такое накрутить со своей любовью, как никто в их семье. Но об этом Ханна ничего не сказала.
Руди поинтересовался, известно ли тетке что-нибудь о «Банде Тобрук». Эти огольцы их едва не линчевали.
— Да, знаю, — вздохнула Ханна. — Старшие ребята доставляют нам много огорчений. Никого они не уважают, кроме, пожалуй, Эльзбет Поль, жены Альберта Поля, которая здесь директором. Но сегодня ей надо было сходить в комендатуру. Ну, а известное дело, кошка из дома — мышкам раздолье. Мы пытаемся устроить старших в ученики к…
— Тетя Ханна! Тетя Ханпа! — донеслось со стороны пруда.
— Надо бежать, поглядеть, что там мои сорванцы творят, — сказала Ханна. — А вы приходите-ка поскорей снова сюда или в Рашбах. Не знаю только, когда у меня свободный день будет.
Хильда сразу же обещала прийти. А Руди спросил, все ли у него дома здоровы.
— Ваши все, кажется, счастливо прошли военные годы, — ответила Ханна. — Теперь принимайтесь дружно за дело, иначе не проживешь.
— А я и шить умею, — сказала Хильда.
Ханна подала Руди руку и при этом зашептала ему что-то на ухо, да так громко, что Хильда услышала:
— Я бы на твоем месте ее обеими руками держала, Руди…
Дойдя до леса, Руди и Хильда еще раз оглянулись на бывший трактир «Веселый чиж». Красные флажки бодро развевались на ветру.
Еще через полчаса они оказались на вершине Катценштейна, а перед ними раскинулся старинный городок Рейффенберг. На протяжении своей пятисотлетней истории он мало-помалу поднимался из глубокой долины реки Нель до приплюснутой, густо поросшей лесом вершины Рейффен. Эту странпую вершину, казалось, выложили из огромной пирожной формы на цоколь горы, а по бокам ее прорезали плеши, обнажавшие огромные рифленые слои базальта вулканического происхождения.
Руди не отрываясь следил за вереницей величавых белых облаков, как корабли, плывущих над ощетинившейся елями вершиной, за этим безмолвным странствием из одной бесконечно дальней дали в другую. Когда ребенком он пас коров, как часто задумывался он, провожая взглядом облака, медленно тянущиеся над вершиной.
Хильда проследила за его взглядом. Ей, сказала она, всегда очень нравится в фильмах, когда над горными кряжами плывут облака. Но в жизни все еще прекраснее, спокойнее и величественнее…
А Руди Хагедорну эти облака несли тягчайший груз воспоминаний; все, что некогда они заволокли, теперь вместе с ними возвращалось обратно: детство, юность, страшное чувство отчуждения от этого клочка земли и клочка неба. Слишком сильно это чувство, чтобы отделить от него единичные понятия, такие, как добро и зло, красота и уродство. Теперь Руди вдыхал его, как воздух, сознательно и бессознательно. Даже мысль «Я здесь родился» не посетила его. Он был захвачен чувством, которое и сформулировать-то был не в состоянии, ибо оно было больше, чем возвращение на родину. Он оказался лицом к лицу с самой родной, самой первозданной картиной, в которой живыми сохранились его воспоминания. И простое сознание, что он сейчас пойдет дальше по этой дороге, что ноги его будут ступать по этому, казалось бы, воображаемому миру, вдруг представилось ему едва ли не чудом. Может быть, лишь в эту минуту он понял, сколь великий дар им получен — остаться в живых после всего, что было! И ему только двадцать четыре года! Скорее себе самому, чем Хильде, он сказал:
— А сколько из тех, кого я знал, никогда больше не увидят, как плывут над вершинами облака…
Хильда, тоже захваченная извечным зрелищем медленно тянущихся вдаль облаков, не в состоянии была отвечать Руди. Искра сильнейшего душевного напряжения, завладевшего им и читавшегося на его лице, теперь разгоралась и в ней. Ей суждено было счастье благодаря другому постичь нечто и чуждое, и далекое. Кроме «да-да», она ничего не могла из себя выдавить. Но и это слово с трудом пробилось сквозь толщу ее чувств. А Руди, которого потрясение сделало эгоистом, подумал: «Она не понимает меня, да и что с нее взять, Хильда совсем простая девушка». И как всегда, когда он считал, что открыл в Хильде то или иное несовершенство, из автомата его воображения выскочил совершенный образ Леи. Злоба и тоска охватили его от сознания, что в его руках синица вместо прекрасного журавля, воспарившего в смерть. По правде сказать, он давно понял, что неразумно роптать на судьбу, пославшую ему синицу в руки. Но он принадлежал к тем людям, что инстинктивно презирают уже познанное, реальное, ибо привыкли страдать от него и добропорядочнейшим образом бегать за горячо желаемым, чистым идеалом.
И снова вступая в борьбу с внутренними противоречиями, Хагедорн затянул в ответ на глупое, как ему казалось, молчание Хильды песню о плывущих в небе облаках. Ее пели когда-то немецкие солдаты в пыли, в грязи и в холоде, но чаще всего тогда, когда не оставалось уже ни сил, ни надежды, когда они пытались возвести непонятную им действительность, человеконенавистническую власть тех, кто повелевал ими, и тех, кому они так послушно подчинялись, в категорию всесильного рока, когда они искали примиренья со своей неумолимо испакощенной участью.
Руди пел:
Облака уплывают — в далекий путь, Над морем поплыли в далекий путь, Что прожито нами — того не вернуть…Хильде эта песня причиняла боль. Но она его не прерывала. Она вспомнила неожиданную бесчувственность Рейнхарда в ту пору, когда они еще оставались в разбомбленном Дрездене и пели старинные песни.
С насмешливым, обидным упрямством допел Руди свою песнь до конца. А допев, рассмеялся, словно после соленой шутки, и стал обстоятельно, как школьный учитель, показывать ей хорошо видный отсюда город и заодно рассказывать его историю. Начало городу Рейффенбергу положила древняя, но хорошо сохранившаяся и даже отсюда видимая толчея, крытая дранью крыша которой спускалась почти до земли. В позднейшие времена, в нору расцвета эпохи накопления, под этой крышей чеканили звонкие серебряные талеры. Но людям, которых влекла сюда жажда наживы, узкая долина не позволяла расселиться. Волей-неволей пришлось строить город по широкому волнистому склону горы Рейффен. В новейшее время в долине были взорваны холмы и таким образом за толчеей очищено место для вокзала и электростанция. Но теперь тускло поблескивавшие рельсы словно замерли. Ни единого облачка дыма не поднималось из паровозной трубы. На путях товарной станции стояло несколько пустых платформ и на гонов, а на тупиковом пути, за зданием вокзала, где обычно разгружали и загружали почтовые вагоны, подобно издохшему допотопному чудовищу с отвратительно длинным хоботом, на боку лежало огромное железнодорожное орудие. Высокие окна электростанции, замазанные серо-зеленой краской, слепо таращились на мир. Еле заметный дымок поднимался над одной из трех ее труб.
Отсюда видно, что основание горы образует несколько естественных террас, на которых строители разместили основные точки города: прямоугольный рынок и неуклюжую островерхую ратушу с крошечными оконцами, несколько выше — церковную площадь, на которой вздымается громоздкий собор святой Катарины с четырехугольной башней. Все улицы городка, похожие на широкие лестницы, устремляются вверх. Отблески позднего вечернего солнца сверкают на окнах домов и небольших фабрик. Но сверху видно, что улицы и переулки почти пустынны. И бульвар у древней городской стены выглядит заброшенным и безутешно одиноким. Только уже за городом, у асфальтированного шоссе, ведущего к новому кладбищу, где перед войной выстроили четырехэтажное желтое здание управления призывного района, царит оживление. Там под зеленую арку, до странности не сочетающуюся со старыми воротами, то и дело въезжают грузовики и джипы. Арка украшена большой ярко-красной звездой в центре, а по краям — огромными портретами. На стене здания что-то написано, но что — отсюда не разберешь. Советские солдаты в пилотках и фуражках, в гимнастерках песочного и темно-зеленого цвета снуют по двору. На дороге то и дело поднимается и опускается шлагбаум. А когда дует ветер, по городку вплоть до самого Катценштейна разносятся звуки музыки или обрывки слов из громкоговорителей.
Хильда взглянула на часы:
— Нам надо торопиться, Руди. С восьми комендантский час.
— Но солнце еще высоко над лесом. Разве уже так поздно? — обернулся к ней Руди.
— Ты забыл, Руди. Время здесь передвинуто на два часа вперед. Здесь живут по московскому времени…
Во что превратились те облака, неведомые корабли, несущие отчужденность?
— Охотнее всего я повернул бы назад, — сказал Руди.
Глава двенадцатая
Тяжкие месяцы плена остались для Залигера позади. Он надеялся, что и все самое горькое. Теперь он был уже в третьем по счету лагере. И оказался в числе той тысячи счастливцев среди сорока тысяч согнанных сюда побежденных, у которых была крыша над головой. Три старых корпуса казармы «Барбара», обветшалые кирпичные здания, с незапамятных времен прозванные «рекрутскими дворцами», из которых теперь было вынесено все до последней койки, до последнего шкафчика, были отданы американцами под бараки для пленных. Изголодавшимся, измерзшим, измученным людям эти помещения показались царскими покоями. Но тридцать девять тысяч остались на улице, под открытым небом, расположившись лагерем позади «рекрутских дворцов», на не защищенном от ветра учебном плацу, называемом «кровавым полем». Там они отрыли ровики и, скучившись в них, в дождь и в холод обогревали себя проклятьями по адресу счастливчиков, размещенных в казарме. Немецкое лагерное самоуправление действовало по принципу — не обделить своих. Один корпус достался офицерам, а в двух остальных томились от безделья родственники и приятели штабных фельдфебелей, а также солдаты и унтер-офицеры нескольких батарей и рот, сдавшихся в плен в полном составе. К ним присоединились и недавно прибывшие: повара, кухонные рабочие, писаря, грузчики, слесари, переводчики. Переводчиков американцы подбирали, как правило, среди совсем молоденьких пареньков. Только первый этаж третьего корпуса, где полы были застланы соломой, был отведен для больных, в первую очередь желудочных, которых в лагере было великое множество.
И все-таки даже «бездомные» прозвали этот лагерь «лагерем надежды». Ибо отсюда с недавнего времени, а именно с конца июня, начали понемногу выпускать на волю.
Три первые недели после пленения под Райной, то есть до восьмого мая, Залигер провел в так называемом «малом луговом лагере». Там имелись палатки и регулярное, хотя и весьма скудное питание. Отрезанные от внешнего мира пленные не слышали ничего, кроме сводок американского военного командования, переданных по-немецки. Но вот настал день, неизбежный день, когда автомашина с громкоговорителем не остановилась у ворот, а раз десять объехала вокруг лагеря и между английскими маршами и джазовыми завываниями Армстронга раз десять подряд передала за колючую проволоку заявление немецкого командования о полной и безоговорочной капитуляции. Когда машина опять появилась через несколько часов, когда всем немцам в лагере было приказано, обнажив головы, выстроиться на плацу, когда, уже без маршей и джаза, были переданы сообщения о концентрационных лагерях Бухенвальд, Берген-Бельзен и Освенцим, к черту полетел весь строгий распорядок лагеря. Охрана бросилась срывать палатки или поджигать их, кулаками и прикладами тыча в разбитые и неразбитые физиономии, никто не вспомнил о раздаче пищи, из толпы произвольно выхватывали то одного, то другого пленного и выбривали ему полголовы пли крест в волосах. Те, у кого еще оставались часы или кольцо, «добровольно» отдавали их.
Волна ненависти, дикой, честной, глубокой ненависти против всякого проявления фашизма обрушилась на побежденных. Но, увы, немногие из них сознавали, что ненависть эта справедлива. Напротив, некоторые разыгрывали обиду, возмущались, заявляли, что не желают носить каинову печать на лбу, они-де были бравыми солдатами и пи о чем знать не знали. Все, кто помогал сеять бурю, надеялись теперь, укрывшись в общей массе, укрыться от ветра.
После капитуляции в лагерь лавиной хлынули пленные из сдающихся армий. «Малый луговой лагерь» был ликвидирован, и в нескольких километрах от него, на пастбище, заложен новый, еще более мрачный и намного больший. Солдаты и офицеры валялись здесь в грязи и навозе, жевали траву, пока ее еще можно было надергать, пили солоноватую воду, голодали дня по четыре, а на пятый получали полукилограммовую банку жирной консервированной свинины. Большинство в один присест уничтожали свою порцию, а затем корчились на земле в судорогах, часами, словно прикованные, сидели в отхожих местах, пачками глотали таблетки карболена — единственное лекарство, имевшееся в лагере. Зарегистрировано было несколько смертных случаев.
И только когда понос перешел в дизентерию и тиф и смертность стала возрастать скачками, вмешалась санитарная служба. Полумертвецов переправили в один из еще существующих немецких госпиталей. Некоторые изменения претерпела и губительная пища. Отныне изо дня в день пленные стали получать «синего Генрнха» — жидкую, подслащенную, а то и не подслащенную, перловую кашицу, сваренную на воде, пол-литра или полконсервной банки на человека. В лагере не было никого, кто бы постоянно не носил с собой старой консервной банки или миски, привязанной к поясу. Нельзя было знать, когда начнут раздавать эту кашицу, в пять утра или в одиннадцать вечера. Кто проспал раздачу в своей группе или опоздал, шатаясь по лагерю, оставался с носом. Попытка втереться в чужую группу могла стоить смельчаку жизни.
В больших палатках вне черты лагеря происходила регистрация и первый отсев. Те, что перед регистрацией уничтожили солдатскую книжку, попадали в лагерь с особой изоляцией и находились там вместе с эсэсовцами и военнослужащими некоторых войсковых частей, замаранных разными преступлениями. В этом лагере рационы были еще много скуднее и все еще практиковались зуботычины. Отсюда ежедневно отправлялись транспорты с военнопленными во Францию — на расчистку минных полей, в угольные шахты, в Иностранный легион…
Пленные в главном лагере оставались к этому равнодушны. Даже тот, кто знал, что с эшелоном, отбывающим в неизвестность, уезжает старый друг, не махал на прощанье платком, а старался поглубже засунуть руки в карманы, даже не сжав их в кулаки…
Когда Залигер думал о тяжком времени в «большом луговом лагере», ему настойчиво приходило на ум воспоминание об опасном и триумфально закончившемся приключении, которое он хотел бы забыть, с корнем вырвать из памяти, но забыть был не в состоянии.
Однажды в «большом луговом» репродуктор вызвал ого в палатку номер пять. Залигер струсил. Человек, которого вызывали в палатку номер пять, знал, что о нем прошел нехороший слушок и ему надо держать ухо востро, там уж постараются из него кое-что выжать. Палатка номер пять, расположенная в палаточном городке вне лагеря, относилась к сектору, в котором работали специальные отделы американской военной полиции. Вызов в этот сектор мог предвещать исчезновение на веки вечные. Но Залигера он отнюдь не застал врасплох. С тех пор как стало известно о зверствах в концлагерях, американцы с поистине линкольновской страстью к справедливости расследовали дела военнопленных, связанные с преступлениями против человечности и требовавшие наказания. А у него, у Залигера, совесть была нечиста. Если они пронюхали о деле с этим Фольмером, то его дело дрянь. И особенно если Фольмеру удалось выбраться живым из когтей гестапо. Не одну ночь провел Залигер без сна, пытаясь отделаться от своего страха, пытаясь внушить себе, будто он вовсе и не намеревался выдавать этого человека. Да мог ли вообще кто-нибудь предъявить ему хоть какие-то доказательства? Никто!
Он подробно и тщательно реконструировал все происшедшее. Даже Мали, его бывший ординарец, не может приниматься в расчет как свидетель. Его не было в комнате, когда Залигер позвонил в гестапо. И связисты тоже ничего не знали. Разговор происходил по прямому проводу, помимо батарейного коммутатора. Кроме того, Залигер ценил этого Мали как надежного и преданного парня, который сумел втереться в кухонную команду и теперь по мере возможности подкармливал его. Конечно же, он будет держаться за спасительную версию, почитая ее за правду… А может, все его страхи безосновательны? Может, его вызывают, узнав о его специальности зенитчика?
В деле Залигера, кроме копии регистрационной карточки, было всего несколько страничек. Верхний листок — заявление в американскую военную администрацию Эберштедта служило основанием для ведения дела.
«Касается: расстрела двадцати восьми антифашистов-заключенных в лесничестве Гросволен 14 апреля 1945 года.
Уточнение: Предположительный донос на Герберта Фольмера, проживавшего в Рорене, округ Эберштедт, жертву массового фашистского террора в Гросволене».
Под заявлением, занимавшим полстраницы машинописного текста, первой стояла подпись Германа Хенне, члена гражданского антифашистского комитета в Эберштедте. За нею следовали пять других подписей с адресами лиц, готовых под присягой подтвердить то главное, что содержал документ: посещение Фольмером капитана Залигера. Но так как Фольмер никому не рассказал о разговоре с Залигером, то Герман Хенне мог написать в заявлении лишь следующее: «Вполне возможно, что Фольмер, взывая к совести командира батареи, пытался уговорить его прекратить огонь во избежание бессмысленных жертв. Капитан Залигер действительно капитулировал без боя. Но этот факт не снимает подозрения, что капитан Залигер решил вдвойне перестраховаться и донес на Герберта Фольмера либо непосредственно в гестапо, либо через подотдел, обслуживающий зенитную артиллерию…»
В качестве свидетелей назывались: мать Фольмера, Лизбет Кале, находящийся в заключении Хеншке, а также бывший бургомистр Рорена и женщина из Райны, видевшая, как Фольмер входил в дом.
На втором листке коротко, по-английски, значилось, что отвечающий за это дело гестаповский офицер покончил с собой, а гестаповца, арестовавшего Фольмера, разыскать не удалось — по всей вероятности, он укрылся под чужим именем.
Третий листок был исписан энергичным почерком бывшего командира зенитного дивизиона, ныне находящегося в специальном лагере для старших офицеров. Майор клятвенно заверял, что господин Залигер никогда ни о чем подобном ему не сообщал. Далее господин майор присовокуплял характеристику Залигера: «…абсолютная честность… примечательная в наше время склонность к либерализму… в партии национал-социалистов не состоял… Образованный офицер, призванный из запаса… до мозга костей пронизан пониманием солдатской чести и благородства, какового я требовал от своих солдат и офицеров… Сдача боевых позиций последовала по моему косвенному указанию…»
Текст четвертого и пятого листков в основном совпадал. Это были полицейские справки касательно Герберта Фольмера и Германа Хенне: «Осужден за антигосударственную деятельность в 1921 и 1923 годах… Осужден за противозаконную организацию забастовки… Осужден за коммунистическую пропаганду в 1933 году…» Язык этих бумаг некритически воспроизводил язык прусско-нацистских приказов об арестах.
Таким вот — небольшим и основанным на скудных сведениях — дело Залигера было передано на доследование капитану Джону Корнхаупту. Лейтенант Сендхерст, который до сих пор вел следствие, хихикнул, вручая бумаги:
— Рекомендую вам, Сен-Джон, разделывать этот случай не иначе, как десертным ножичком…
Довольно дерзкое заявление со стороны лейтенанта. По этот молодой человек мог позволить себе фривольный топ. У него в кармане лежало назначение, равное представлению к награде: перевод в отдел, занимавшийся птицами поважнее — гитлеровскими старшими офицерами и генералами. Для этой цели избрали именно его, Сендхерста, этого homme du jour[27], умеющего держать нос по ветру, а не капитана Джона Корнхаупта, которого они прозвали Сен-Джоном за то, что он читал немцам проповеди, призывающие к покаянию, пока даже у самых упорных из них от страха и раскаяния не разверзались уста. Корнхаупт вполне серьезно относился к идеалам демократии и гуманизма. Прозвище прилипло к нему уже давно, с тех самых пор, когда он в Штатах организовывал лагеря для немецких военнопленных и потом руководил ими. Он чувствовал себя всегда польщенным, когда его называли «Сен-Джон» или «Honest John[28]». Но с некоторых пор, возможно с того дня, когда Сендхерст вручил ему это тощее дело, он и вправду возомнил себя святым, вернее столпником, которого чтут днем, а ночью оплевывают. Корнхаупт чувствовал, что над ним уже начинают посмеиваться, что повеяло новым ветром — ив отношении к немцам — и что Сендхерст не только почуял это «верхним» чутьем, но и принял как руководство к действию. В дивизии всегда точно знали, кто первым находит ключи для расшифровки тактических кодов. «Хэлло, Сен-Джон, старый пожиратель немцев!» — приветствовал его вчера в казино один такой молодчик типа Сендхерста. Безобидно как будто. Но Сендхерсты были всегда up to date[29], им поручали сложную и топкую работу, тогда как Корнхауптам предоставлялось вылавливать различную фашистскую мелюзгу и выпытывать из нее признания. Но кто тебе подскажет, над кем надо усердствовать, а кого и вовсе не касаться.
Капитан Корнхаупт, который так серьезно относился к идеалам демократии и гуманизма, решил отныне быть начеку.
Корнхаупт пополнил дело Залигера, получив запись показаний пяти свидетелей, названных Хенне. Однако ему удалось добыть лишь косвенные улики, которые никого не могли изобличить. Чуткий Сендхерст подчеркнул кое-что в его материалах красным карандашом, а кое-что отметил на полях. На первом листе вопросительным и восклицательным знаками были отмечены слова Хенне о самом себе: «член гражданского антифашистского комитета». Служебная аттестация, данная майором, была целиком заключена в красную рамку, некоторые его оценки, вроде «склонность к либерализму» и «в национал-социалистской партии не состоит», были подчеркнуты дважды. Дважды подчеркнутым оказалось в полицейских справках о Хенне и Фольмере выражение «коммунистическая пропаганда». Учтя все это, Корнхаупт понял намек на «десертный ножичек», но отнюдь не собирался этим намеком руководствоваться. Справедливость есть справедливость…
Он затаил против нацистов искренний гнев, восходивший еще к тем временам, когда Джон Корнхаупт звался Иоганнесом Корнхауптом и владел небольшим фотоателье в Мюнхене, неподалеку от Мариенплац. Это был ярый и высоконравственный гнев, причиной его явилась измена Лени, той прекрасной Лени, которую он некогда подобрал в грязи, сделал своей моделью, своей музой и своей возлюбленной. А она взяла и удрала с портновским подмастерьем, который, оставив иглы и ножницы, сам бросился в объятия пресловутого Шикльгрубера. Один из шикльгруберовских обер-бонз взял его в свою личную охрану и сверх меры осыпал милостями. Однажды сей телохранитель подбил Лени на связь, после чего она занялась своим прежним ремеслом. Корнхаупт в открытую обозвал ее «нацистской шлюхой». Телохранитель поклялся свести с ним счеты. И свел в сентябре 1930 года, сразу же после выборов в рейхстаг, когда сторонники Шикльгрубера получили 107 мест. Ночью прокрались они в одних носках в дом и поднялись вверх по лестнице. Ключи, которые Лени, несмотря на обещание, так и не забросила в Изар, открыли им двери. Возможно, именно ее шелковым чулком Иоганнесу заткнули рот. А потом погнали его на коричневую Голгофу. Двое уселись ему на руки и на ноги, десять остальных стегали его ремнями.
— Сто семь единым махом! — крикнул храбрый портняжка.
Голова Иоганнеса беспомощно свесилась со скамьи пыток. Они силой подняли ему веки. И тут он увидел: на полу, испуская животные стоны, извивается длинноногая острогрудая Лени.
— Скажи, что она ангел! Живей, говори!
Иоганнес Корнхаупт сказал.
— Громче!
Иоганнес Корнхаупт сказал громче.
— Пой! Три, четыре!
Ремнями они проиграли на нем мелодию известной песенки: «Мы голодны, голодны, голодны…» Только слова теперь звучали иначе: «Она у нас ангел, ангел, ангел, — ангел, ангел штурмовой…»
— Ты что же это не поешь?
Иоганнес Корнхаупт не пел, ибо природа сжалилась над ним, и он потерял сознание. Молодчики ушли, оставив ому на память свою визитную карточку — кучу экскрементов… А на двери листок, приколотый ножом. На листке был нарисован человечек, живот которого пропарывал этот нож. А под рисунком подпись: «Твоя участь, если вздумаешь болтать… Завтра Германия будет наша…))
Иоганнес не болтал. Он взял последние деньги из сберегательной кассы и третьим классом поехал в гости к своему дяде в Спрингфилд, штат Иллинойс. Дядюшка решил, что племянник может быть ему полезен, ибо тот преотлично отснял для его мебельной фабрики «Корнхаупт-Фэрничер» рекламные фото. Дядя позаботился о продлении визы и о праве убежища. Он обеспечил Иоганнесу выгодное «дело» — изготовление фото для каталогов крупной транспортной фирмы. А как-то раз к ним заглянул некий человек и сказал Иоганнесу:
— Вы специалист-фотограф, если не ошибаюсь? И если не ошибаюсь, хотите получить права гражданства? Не могли бы вы совершить небольшое путешествие за границу и там кое-что поймать в объектив, без излишнего шума, разумеется. Ну как?
Иоганнес Корнхаупт поставил условие: Германия.
В 1935 году он как Джон Корнхаупт выехал в Мюнхен — навестить свою мать. Пламя несмытого позора, бушующее в его груди, сделало его смелым и хитрым. Обратно он привез панорамные фото автострад, новых аэродромов и казарм, очень и очень недурные. Его собственное фотоателье в Спрингфилде процветало. Он женился на своей фотолаборантке, которая родила ему красивых детей и стала хорошей женой.
Он голосовал за демократов и до начала войны еще дважды съездил в Германию, конечно же, из чистых побуждений и исключительно по велению своей демократической совести.
Шлюха Лени стала владелицей великолепно обставленного загородного дома на озере Штарнберг. Он заснял ее телеобъективом в саду. В строгом платье старогерманского покроя, она потчевала коктейлем своих гостей эсэсовцев.
Осмотреть этот дом изнутри ему удалось лишь в мае 1945 года. Там он увидел два абажура из человеческой кожи. И хозяйку дома тоже еще можно было обозреть. Она была под домашним арестом. Узнав своего былого опозоренного благодетеля, она бросилась ему в ноги. Сен-Джон, однако, сказал:
— Об остальном позаботится палач…
Ну, а теперь можно ли было бы сказать это с уверенностью? Будь жив Рузвельт, пожалуй, что да. Но все равно он, Сен-Джон, останется верен политике честных людей. Только надо, конечно, держать ухо востро.
В палатке номер пять допрашивали уличенных в том или ином преступлении пленных. От решения ведущих допрос офицеров зависело, будет ли проверяемый отослан обратно в лагерь или передан в распоряжение военного трибунала. Припять такое решение было непросто, потому что в большинстве случаев граница между обычными фашистскими мерзостями и преступлением была стерта.
Ловкач Сеидхерст разделил (чтобы упростить себе предварительное решение) все случаи на три категории: а) дьявольское варево; б) похлебка; в) десерт. Дьявольское варево следовало отправлять в Штраубинг. Пока что из всей массы пленных ни одного нельзя было причислить к этой категории. Похлебка, если хоть чуточку попахивала кровью, передавалась в военный трибунал. А десерт живо препровождался конвоем обратно в лагерь. Подобными «вонючими пирожками» пусть немцы сами занимаются.
Так все шло до сих пор. Джон Корнхаупт был совершенно уверен, что этот капитан Залигер попахивает кровью и десертным ножичком его в сторонку не отодвинешь. Но все равно, произвести дознание он обязан. Хотя теперь все обстоит совсем не так, как обстояло недавно.
И чтобы хоть до известной степени утвердиться в своей судейско-моральной твердости, капитан отважился на необычный шаг: он предложил представителю обвинения в лице коммуниста Германа Хенне присутствовать при допросе в качестве «публики». И Хенне явился.
Залигер, войдя в палатку, скрыл свою неуверенность под сознательно выставленной напоказ страдальческой маской голодающего. За столом в центре палатки он увидел дородного капитана с каштановой щеткой волос, который на чистейшем немецком языке, разве что слегка окрашенном баварским акцентом, приказал ему остановиться в трех шагах от стола. И хотя капитан говорил безлично-вежливым тоном, в голосе его слышалось: не сметь ко мне приближаться, фашист поганый!
Кроме капитана, Залигер увидел еще белобрысого туповатого сержанта и штатского. Сержант сидел за вторым, отодвинутым к стене столиком, ему, очевидно, было поручено вести протокол. Штатский уселся на стул у самого входа в палатку, за спиной Залигера. Судя по потертому платью, это был немец. В палатке стоял легкий запах лизола пли какого-то другого дезинфицирующего средства.
Капитан, видимо страдавший нервной одышкой, начал допрос, как школьный экзамен, поставив совершенно посторонний и не идущий к делу вопрос:
— Знаете ли вы, капитан, что такое бурбон?
Залпгер обиженно ответил:
— Я учил, что бурбон — лицо, принадлежавшее к французской династии Бурбонов.
Капитан притворился хитрецом:
— Это дело вкуса. Для меня лично бурбон — превосходнейшее виски… Но кто такой Хартфилд, это вы знаете, не правда ли?
Хартфилд? На лице Залигера отразилось полнейшее недоумение, но на душе у пего стало легче. По всей вероятности, ему предъявляют совершенно ложное обвинение. И это сейчас выяснится.
Капитан Корнхаупт удовлетворенно засопел:
— Но в лагере я видел кое-что принадлежащее Хартфилду. Не соизволили ли заметить, капитан? Смелый фотомонтаж, высмеивающий Гитлера, то бишь Шикльгрубера…
Залигер вспыхнул. Именно этого и добивался Корнхаупт. Он всегда начинал с таких «шутливых» вопросов, если чувствовал, что его противник держится преднамеренно замкнуто или заносчиво. Капитан называл эти свои вопросы «упражнениями для раскрутки». Теперь следовало бы задать основной вопрос. Но так как Залигер уже вспыхнул, то Корнхаупт отказался от этого и неожиданно строго, в расчете на внезапность, перешел к сути дела.
— Капитан Залигер, посетил ли вас вечером 13 апреля на батарее некий Герберт Фольмер?
Допрашиваемый не поднимал глаз от пола. Он только теперь заметил, что пол этой палатки густо посыпал опилками. Его вдруг зазнобило. Опилки и легкий запах дезинфекции вызвали у него отвратительные представления — гильотины, суда и казни.
Тем не менее он усилием воли взял себя в руки и сделал вид, что должен хорошенько все припомнить:
— Так точно, — сказал он после паузы, — я вспоминаю: ко мне в этот последний день до… до того, как я без боя сдал батарею, приходил человек в синей куртке…
Штатский за его спиной пробормотал:
— Фольмер…
Залигер пожал плечами:
— Этого я не могу сказать. Имени своего посетитель мне не назвал. Он сказал только, что работает в шахте и, видя все беды, обрушившиеся на Райну… частые воздушные налеты…
И снова Залигер прикинулся, будто старается все досконально вспомнить и будто честнее его нет человека на земле. Но он очень хорошо знал, что балансирует на острие ножа.
— А сказал ли вам посетитель что-нибудь о себе лично? — задал явно наводящий вопрос капитан Корнхаупт.
— Разрешите припомнить… Водоворот событий…
Капитан Корнхаупт не разрешил ему припомнить, а немедленно задал следующий вопрос:
— Чего хотел от вас этот человек? Точнее, пожалуйста!
Нет, нельзя допускать, чтобы ему навязали подобный темп допроса. Залигер решил: надо держаться непринужденно, как свидетель, не как обвиняемый. После недолгого раздумья он и вправду совсем непринужденно сказал:
— Посетитель предложил мне взорвать батарею, не дожидаясь подхода ваших танков и не вступая в бой с ними, — Он выпрямился и добавил: — Как офицер, я был вынужден отклонить это чрезмерно дерзкое предложение.
— Но ведь в конце концов вы все-таки…
— Да, — с готовностью подхватил Залигер, — я все-таки вывесил белый флаг, исходя из разумных военных соображений.
Штатский за его спиной пробормотал что-то явно неодобрительное. Залигер почувствовал, как у него опять задергалась кожа на висках. И поспешил недвусмысленным тоном ответить человеку, сидящему за ним. По всей видимости, это был единомышленник Фольмера.
— До тех пор, пока мне была подчинена батарея, я не видел причины свои действия ставить в зависимость от воли гражданского человека.
Капитан Корнхаупт рассердился:
— В конце концов ваш посетитель добивался того же, что сделали вы!
— Нет! — вырвалось у Залигера. И в ту же минуту он пожалел об этом резком «нет». Он понял, что наигранная офицерская честь бита его человеческой честностью.
— Почему же нет? — тотчас переспросил Корнхаупт.
— Позвольте объяснить, господип капитан: я припял решение, исходя из разумных военных соображений. Посетитель, явившийся ко мне, пытался навязать мне штатскую мораль…
Корнхаупт взорвался и, размахивая руками, заорал:
— Вы хотите сказать, капитан, что разумные военные соображения и штатская мораль прямо противоположны и взаимно исключают друг друга, они, так сказать, at loggerheads[30]…
Он вынужден был остановиться, чтобы перевести дыхание, вытащил наглаженный носовой платок и несколько раз поднес его к губам, словно кашлял кровью; и спокойно, почти апатично продолжал:
— Я все лучше и лучше понимаю людей вашего сорта. То, что вы называете честью, моралью и так далее, напоминает мне щелчок винтовочного затвора: покуда враг уязвим, вы говорите: «паф!» Винтовка стреляет, и вы наверняка знаете, что выстрел поразил несколько миллионов людей в голову, в сердце, в живот, и поразил смертельно. Но если враг сделался неуязвимым и начинает теснить вас, вы молча вынимаете патрон и протягиваете его на чисто вымытой ладони: вот, полюбуйтесь, я не стрелял больше из военных соображений… И еще чувствуете себя при этом черт знает каким честным… Думали ли вы хоть раз над тем, что, собственно, представляет собой штатская мораль?
У дородного капитана с каштановой щеткой волос снова начали трястись руки. Но он справился с собой. Сказал, волнуясь:
— Вот приходит штатский к военному. Штатский рискует головой, ибо хочет высказать нечто разумное. Следует отметить, что дело происходит в Германии… И гляди-ка: военный сообщает о своем посетителе в гестапо. Машина еще работает на полную мощь. Всем это известно и доносчику тоже. Может быть, доносчик и впрямь озабочен разумными военными соображениями? Какое там! Его трясет от страха при мысли, что эти его «разумные военные соображения» попахивают штатским мужеством, гуманистическими бреднями, либерализмом, пораженчеством… я уж не хочу сказать — коммунизмом. А тут еще жив этот черт, этот Шикльгрубер, которому наш вояка некогда продался со всеми потрохами, черт, любую наиобычнейшую человеческую нравственность карающий отсечением головы… Но задним числом, теперь… когда злого духа как не бывало, когда вся чертова мельница полетела к чертям, к нам являются наймиты этого мельника и со скорбным видом просят нас удостоверить, что в общем-то они всегда были добрыми людьми…
Еще две недели назад Джон Корнхаупт после такой речи решил бы, что он в хорошей форме. Но сегодня он опять потерял самообладание.
— Не могу больше этого слышать! — вдруг выкрикнул он и, зажав уши кулаками, сник, как мешок с мякиной.
Подумать, что этот капитан, этот хлыщ, осыпанный милостями Шикльгрубера, притворяясь полнейшим дураком, стоит сейчас перед ним эдаким псевдо-Парсифалем. И страшная мысль осеняет Корнхаупта: он, Сен-Джон, тоже всего-навсего псевдорыцарь короля Артура, раскрывший известный всему миру секрет, а именно что Круглого стола чистых идеалов давно и нигде не существует. Откровение святого Грааля и шифры азбуки Морзе в эфире — все означает одно: cui bono? Кому это на пользу? В древнем Риме Луциус Кассиус приказывал внушать судьям, чтобы прежде всего они доискивались, кому на пользу была смерть умерщвленного. Он-то и окажется виновным… Не хочет ли коммунист, сидящий за капитаном, нажить себе политический капитал на этом убийстве?..
Астматик Сен-Джон поднялся со стула. Его неожиданно одолел приступ удушья. Он отошел в дальний угол палатки и воспользовался своим карманным ингалятором.
Псевдо-Парсифаль Залигер в ту же минуту перестал опасаться своего противника. Он находил Корнхаупта несколько смешным; так продувной старшеклассник подсмеивается над вспышкой гнева и последующим изнеможением старика-учителя. Только Залигер превосходил старшеклассника более высоким уровнем притворства. На его лице отразилось сочувствие Корнхаупту, он сбросил маску голодающего страдальца, чтобы выказать беспокойство, и даже чувство, близкое к состраданию, что его самого весьма порадовало.
Возвращаясь, капитан Корнхаупт прошел мимо столика сержанта, ведущего протокол, и прочитал записку, которую тот ему сунул: «Вонючая похлебка!» Ох, уж этот сержант, норовистый жеребчик, ницшеанский апостол, ненавидящий немцев только за то, что они, по его мнению, оказались неспособными выиграть войну у красных.
Кстати, Корнхаупт поймал взгляд Германа Хенне, призывавший его покончить с проповедью морали и энергичнее взяться за Залигера. Этот немец, этот коммунист, подумал Сен-Джон, жаждет мести. Играть роль его адвоката меня никто не уполномочил. Что определяет здесь ход допроса, какие убеждения? У него возникла мысль, что объективности ради следует признать одно смягчающее обстоятельство: молодой офицер был объят смертельным страхом. Корнхаупт по-прежнему считал, что Залигер а предпоследнюю минуту донес в гестапо на Герберта Фольмера, который его посетил с целью предотвратить наихудшее. Но, думал он теперь, капитан подпал под массовую истерию смертельного страха перед когтями издыхающего хищника. И не следует ли вину за недостойные действия, совершенные во время войны под воздействием страха, отнести за счет самого этого рокового факта?
Когда он продолжил допрос, в его голосе уже звучала легкая печаль:
— Принимая у себя посетителя, вы испытывали страх.
Вами руководило одно-единственное желание — еще раз выйти сухим из воды, верно?
Залигер ответил смело и честно:
— Так точно, это я признаю.
— Стало быть, вы по телефону или каким-нибудь иным путем поставили в известность гестапо. Ведь в данном случае недоносительство могло обернуться для вас настолько компрометирующим обстоятельством, что…
— Я признаю, подобные мысли мелькали у меня в голове. Но… — Залигер запнулся. Сержант с откровенным презрением сплюнул в опилки —…но я благоразумно остерегся узнать имя этого человека. У нас случалось, что знание имени вводило в излишний соблазн. Я выслушал этого человека, как исповедник выслушивает исповедующегося. Ни на минуту не воспринимал я его, как… Да, и кто он, собственно, был? Теперь мне думается, что он был коммунистом…
Услышав эти софистические упражнения Залигера, Герман Хенне забыл приказание Корнхаупта не вмешиваться в допрос.
— Имей же совесть… — взревел он, еле сдерживая ярость.
Но Корнхаупт раздраженно отмахнулся от него и спросил Залигера, но делился ли он с кем-нибудь своими мыслями после этого посещения. Теперь Залигер все свое внимание сосредоточил на Корнхаупте, как на вполне достойном человеке. Он изо всех сил старался выказать полную откровенность и придать своим ответам оттенок почтительного уважения, полагая, что такая великолепная откровенность и почтительность между воспитанными людьми будет правильно понята и оценена.
— В последние часы военных действий, — начал он, — в этом хаосе приказов и событий так называемый рецептивный дух работал — это я и по себе видел — надежнее, чем в обычное время. Как ни странно, но мне помнятся мельчайшие подробности этих последних часов: каждый разговор, каждое лицо, каждая мысль. И так же точно я помню, что, проводив непрошеного гостя, я позвал своего ординарца. У меня кружилась голова, меня мутило; я приказал принести крепкого кофе. Нынче я понимаю, почему так себя чувствовал.
Оп провел рукой по лбу. Серя<ант уже без всякого стеснения плюнул в опилки. Хенне досадливо покашливал.
Корнхаупт злился на неприличное поведение сержанта и на досадливую мину штатского немца.
— Что именно вы понимаете нынче? — спросил он Залигера.
— Благодаря посещению этого человека я понял, что должен буду нарушить то, что до сих пор было для меня абсолютным табу: приказ. Но признаться в этом какому-то штатскому — будь то хоть мой собственный отец — я не мог. Однако конечный результат, как вы выразились, господин капитан, доказывает, что я последовал его совету. А доносят ли на человека, совету которого следуют?..
Здесь бы Корнхаупту и поддеть его на крючок, сказав: ваш бывший командир показал, что сдача позиций без боя последовала по его косвенному указанию. Как прикажете это понять? Но Корнхаупт на это не решился, счел за благо еще немного повременить с ним и обратился к другому немцу:
— Вы все слышали, господин Хенне. Настаиваете ли вы на вашем заявлении? Ведь, насколько я понимаю, ваше заявление носпт характер жалобы…
Герман Хенне поднялся и встал за свой стул. Ладонями он сжал спинку так, словно хотел сквозь опилки вдавить ножки стула глубоко в землю. Каждое слово своего ответа он, казалось, перекатывал во рту, пытался его распробовать.
— У меня создалось впечатление, что мне следует уступить стул господину Залигеру… Я прошу разрешения уйти… — сказал он.
— Но это значит, господин Хенне… — Корнхаупт от волнения вскочил с места.
— Это значит, господин капитан, одно: чего не ищешь, того не находишь…
Хенне быстро откинул дверцу палатки и вышел. Свежий воздух ворвался в палатку. Залигер глубоко вдохнул его. Слабый запах лизола и опилок развеялся. Грозные видения уже не стояли перед глазами Залигера.
Поскольку капитан Корнхаупт растерялся и ни слова не говорил, Залигер скромно-прескромно заметил, что хорошо бы допросить в качестве свидетеля его бывшего ординарца, который тоже находится в лагере. Потому что один в поле не воин. И он назвал имя.
Капитан Джон Корнхаупт вызвал некоего Джошуа, чернокожего солдата, который и вывел капитана Залигера из желтоватых сумерек палатки. Корнхаупт жестом приказал Джошуа препроводить пленного обратно в лагерь.
— Записывайте, сержант.
Сержант в третий раз смачно сплюнул.
— Послушайте, сержант, кто предписывает нам методы наших действий?
Упрямый белобрысый сержант вскинул на Сен-Джона глаза, глупые, как у теленка.
— Так запишите же: подозрение не доказано.
На воздухе, под палящим июньским солнцем, на тропке, ведущей к лагерным воротам, Залигер почувствовал внезапную слабость. На мгновение у него потемнело в глазах. Пошатнувшись, он сбился с дорожки. Зелень травы ему показалась ядовито-зеленой обивкой кресла. Он хотел было по привычке опуститься на него, но внезапно ощутил сильный удар в ребра, споткнулся, опять ступил на тропку, увидел опутанные колючей проволокой порота и, лишь оказавшись на территории лагеря, отер со лба холодный пот, словно только здесь ждало его спасение, словно он, виновный, мог только здесь, среди голодных, мающихся животом соучастников его преступления, найти надежное убежище. Добравшись до койки, он присел на нее и всем любопытствующим насмешливо отвечал:
— Кое-кто желал знать, не знаю ли я кое-кого, кто кого-то застрелил в этой войне.
Господам камрадам импонировала такая невозмутимость Залигера. Они бы охотно услышали подробности. Но Залигер ограничился тем, что сказал:
— Да, воины, ежели вас вызовут в палатку номер пять, то старайтесь напоить ихних боссов млеком благочестивого образа мыслей. Напиток сей их опьяняет.
Ответный смех прозвучал как аплодисменты.
Но среди обступивших Залигера слушателей нашелся одни, которого коробили подобные солдатские шутки, задевая его за живое. Это был Глессин, бывший офицер связи при штабе, молодой, красивый и остроумный парень, который выиграл на пари у Корты две бутылки хеннеси по случаю взятия Вены, а операцию по розыску Хагедорна окрестил «Золотой пломбой».
— Господа, — сказал Глессин, — объявляется премия тому, кто назовет средство, с помощью которого было бы возможно аннулировать свое участие в сей блистательной войне!
Его слова только рассмешили окружающих. Глессин надулся и сентенциозно отчеканил:
— Следовало предвидеть, что этот вопрос не дойдет до вашего сознания.
Столь высокомерная ирония не прошла ему даром.
— Молокосос… Какая муха тебя укусила?.. Да у тебя приступ лагерного бешенства…
Залигер, откинувшись, сидел на голой земле, упираясь в нее руками и подставляя лицо солнечным лучам, как курортник на пляже. Ощущая всем телом близость земли и солнца, он содрогался от жгучей радости, что ему все же удалось ускользнуть из палатки, от пропахших карболкою опилок. Пусть себе допрашивают ординарца Мали. Парень ответит: «Господни капитан после посещения был очень взволнован. Он сказал мне, что это был отец одного из погибших зенитчиков». Так они условились еще на Базарной площади в Райне, на сборном пункте военнопленных. Торжествующий свою победу, вполне уверенный в том, что вызвал симпатию даже у Корнхаупта, Залигер обратился к Глессину:
— То, что вы ищите, Глессин, можно найти в достославном «Бароне Мюнхаузене». Там написано, как вытащить себя за собственную косу из темной истории.
И опять все расхохотались. Только рассерженный Глессин повернулся и ушел. Но с его уходом потухла и радость Залигера от собственного триумфа.
С тех пор прошло немало времени. По земле «большого лугового лагеря», верно, уже опять прошел плуг. На том месте, где стояла когда-то палатка номер пять, сквозь остатки опилок уже пророс подорожник. Никаких следов исторических событии не сохранят эти места, и лишь отравленные хлором и засыпанные участки будут еще год-два песчаными морщинами безобразить лицо ландшафта. И если позднее, в мирные времена, один из бывших лагерников пройдет здесь, держа за руку своего ребенка, и скажет ему: «После войны мы валялись здесь в грязи, медленно умирая от голода и страха», — ребенок ничего не поймет и подумает: почему же, это ведь красивые места.
Вопрос Глессина, как аннулировать свое участие в этой войне, обеспечил юному лейтенанту внимание Залигера, настойчиво пытавшегося вызвать его на откровенный обмен мыслями. Залигер позволил себе серьезно воспринимать Глессина, хотя тот и был почти на четыре года моложе его, двумя рангами ниже и, как говорили, слыл в кругу приятелей опасным и дурашливым enfant terrible[31].
Капитан Залигер не разделял профашистских суждений большинства, ибо страх сковал ему мозг и тело. Но всего более он страшился незнакомого немца-штатского, очевидно единомышленника Фольмера, который, конечно же, не успокоится, покуда не отыщет след главного свидетеля против пего, Залигера, след тех гестаповцев, которые сейчас, возможно, и смылись, но вряд ли далеко. А если, думал Залигер, изловят этих людей, то, спасая собственную шкуру, они назовут того, кто назвал им Фольмера.
Залигер искал общения с Глессином, чтобы тренироваться на его «моралистском пунктике» и овладеть всеми финтами, контрударами и аргументами моральной самозащиты. Он надеялся, что, отводя самообвинения Глессина, он войдет в форму. А Глессин полностью отдал себя в распоряжение Залигера, полагая, что тот принимает его всерьез. Когда после «большого лугового лагеря» они оказались в «лагере надежды», оба приложили немало усилий, чтобы остаться вместе. Но и Глессин держался оборонительной тактики, хотел иметь противника, который бы поносил его дворцовый моральный переворот, потому что он и сам не был уверен в правомочности своих теорий, более того, даже немного стыдился их.
И так как оба они были в известной мере образованными людьми, им довольно долго даже в голову не приходило, что они ломают друг перед другом комедию, что бой идет вне ринга, что при своей интеллигентности они в лучшем случае ведут себя грубо и невоспитанно. В своих беседах они чаще всего затрагивали тему: что есть время? Залигер рассказывал о часах с запекшейся кровью, снятых с подбитого боинга, на стекле которых он пилкой для ногтей выцарапал: «memento mori». Теперь он издевался над собой:
— Что за идиотизм пытаться связать какую-либо мораль с абсолютно аморальным понятием времени. Время и мораль ничего общего не имеют. Время течет, мораль пребывает в неподвижности. Что сильнее? Безусловно, время! Вследствие этого…
— …абсолютно ничего постоянного не существует, это вы хотите сказать?
— Да, приходится делать этот вывод, Глессин. Все, о чем мы размышляем, — относительно и глубоко условно.
Глессин полагал, что он сравнивает время с могучим потоком, которому наплевать, пьют из него или топятся в нем. Правда, тем самым он лил на мельницу Залигера не слишком подходящую воду.
— Колоссально, — отвечал капитан. — Какие сумасшедшие усилия требуются от мировоззрения, чтобы заякорить алтари и аутодафе в океане времени. А океан времени бездонен и все в нем дрейфует…
Глессин говорил:
— Если я не ошибаюсь, это сравнение вы получили в подарок от меня, господин Залигер… Гитлер, например, был величайший полководец всех времен, а мы — попали впросак… Это дорога через болото… Вопрос к потерпевшим крушение: есть второй якорь на борту?..
— Но что значит попали впросак? Что значит потерпели крушение? Все это только слова, Глессин. Мы — жертвы… жертвы, оставшиеся в живых…
Лейтенант поднял брови:
— Поздравляю, господин филистер! Все это очень хорошо. Но от жертвы, да будет вам известно, разит назидательностью и моралью. К черту ее, господин Залигер. Я лично, если меня кто-нибудь попробует поманить идеалами, рявкну: «Надувательство» — и пошлю его подальше. А сам буду и впредь жрать, пьянствовать, спать, выслушивать лесть и льстить в свою очередь, кусать и с… пардон, как повелел бог… бог Хронос, обладатель наилучшего желудка…
Залигер возмущался абсолютным безразличием Глессина, хотя и сам хотел бы щегольнуть таким же безразличием. Но будучи не в силах побить Глессина на этом поприще, он невольно уподоблялся адвокату, отвергающему выражение «осел», считая его оскорбительным, но вполне допускающим выражение «asinus», хотя оба эти выражения означают одно и то же. С пеной у рта вместе с Фаустом он проклинал «дух времен», как «дух самих господ историков», он требовал «безгосподского» духа времени и был бесконечно счастлив, придумав для его обозначения формулу «объективный дух». И Глессин, радикальный немецкий нигилист, тотчас ухватился за это спасительное «нечто», как утопающий за соломинку. После некоторых колебаний он твердо встал вместе с Залигером на точку этого вновь открытого понятия, как на незыблемую точку среди непрерывно мелькающих явлений. Продолжая мудрствовать над формулой «объективный дух», они пришли к общему выводу, что человечество нуждается в мировой религии, религии, из разумно-гуманных соображений оставляющей небу небесное и, как выразился Залигер, «вводящей в действие» новую мораль, вполне безвременную и беспощадно-справедливую в отношении каждого. Как только они извлекли из футляра своих философских размышлений и вознесли над землей этот новый небосвод, Глессин прямодушно заявил, что он мечтает об ангельском лике, в котором бы сочетались черты непреклонного архангела Михаила с кротостью девы Марии. Залигер в отличие от него больше склонялся к религии «свободного соглашения свободного духа» и провозглашал священными покои кудесника Зарастро, где не ведали мести. На деле же оба искали громоотвода, который отвел бы болезненные разряды их совести в почву сострадания, обязывающего тебя разве лишь к ничему не обязывающему раскаянию.
Поскольку столь глубокомысленным беседам приличествует покойное уединенное место, а в «лагере надежды» людей было что сельдей в бочке, Залигер и Глессин из-за непрошеных реплик соседей частенько теряли «свою нитку» или же на следующий день, раздраженные всеобщей свалкой, сами опровергали свои же былые доводы. Правда, их нары хоть и находились под крышей, но эта крыша нависла прямо над их головами. Вместе со стапятьюдесятью другими пленными они обитали на одном из чердаков казармы, где грязь, натасканный ногами песок и копоть лежали таким толстым слоем, что тела вдавливались в него и как бы в нем отпечатывались. Когда кто-ни-будь вставал ото сна, в этом слое оставалась форма его тела, хоть пеки в ней пряничного человека в натуральную величину. А глиняная черепица крыши, днем вбирая в себя солнечное тепло, вечером отдавала его жаром, пышущим как из духовки. Убежище это прозвали «адом на пятом этаже». В жаркие дни там буквально нечем было дышать. Но с теми, кто день и ночь валялся под открытым небом на пресловутом кровавом лугу, никто из обитателей «ада» все равно бы не поменялся. Как-никак им разрешалось спускаться вниз, чтобы подышать свежим воздухом на лагерной улице. Однако офицеры (все они еще носили или вновь стали носить знаки различия) делали это нечасто и неохотно. Внизу «счастливых» обладателей крыши над головой на все лады задирали завистники, или анархисты, к тому же с вызовом отказывающиеся отдавать честь офицерам, хотя отдание чести и было введено вновь. Кое-кто страшился искушения сбыть свои ордена и знаки отличия американской охране, что было строжайше запрещено. Помимо всего прочего, слабость от голода, разлитая по телу, делала их апатичными ко всему на свете. Большую часть времени они проводили наверху, сидели по своим углам, валялись в дерьме, спорили о числе солнечных пылинок в одном квадратном дециметре воздуха, до минимума ограничивали свои движения и, глотая слюну, похвалялись друг перед другом рецептами острых приправ, супа из телячьей головы, шпигованной оленьей спинки в красном вине и прочих разносолов. Разговоры об изысканных блюдах возобновлялись все снова и снова, изредка речь заходила о любви, но лишь в ее извращенных вариантах, в остальное время каждый предавался своим собственным надеждам и заботам, о которых только единожды позволительно было высказаться вслух, ибо во второй раз они решительно на всех нагоняли скуку. Умолкли и разговоры первых лагерных месяцев, когда они еще обсуждали, как могла бы та или иная неудавшаяся операция победоносно завершиться на том или ином участке фронта. В последние дни недели распространился слух, что американцы передадут русским среднюю часть Германии, то есть ту, в которой находился лагерь. Эта весть разбила тех, кто был родом из здешних мест, на две группы. Одни пытались убедить себя, что русские тоже люди, другие вопили, что русские перекопают всю Германию под картофель.
Залигеру и Глессину претила пошлость и монотонность этих разговоров в кругу приятелей. Поэтому они попытались, и не без успеха, сыскать себе местечко, где бы им можно было спокойно развивать свои идеи мироустройства или хотя бы позволять этим идеям кружиться вокруг повседневных разговоров с упорством кошек, описывающих круги вокруг блюдечка с еще неостывшей кашей. По ночам они вылезали через слуховое окно на крышу и усаживались на пожарной лестнице возле трубы. Одиночество и опасная высота этого места, казалось им, подобают одинокой и несколько опасной высоте их собеседований. Но так как они не были достаточно откровенны друг с другом, то быстро друг другу надоедали.
Однажды ночью они снова сидели на пожарной лестнице. Через слуховое окно до них доносился храп, стоны, зубовный скрежет спящих, бормотанье и чавканье тех, кто как в трансе поглощал шпигованную оленину, перешептыванье земляков. Пятью этажами ниже, на огромном пространстве кровавого луга, постоянное волнообразное движение пробегало по массе спящих, укрытых тьмой. Казалось, это колышется море лавы и прибой бьется о каменные стены казарм. Время от времени луч прожектора приглаживал эти волны, но темь, следующая за ним, вновь приводила все в движение. Невдалеке от лагеря, на дороге, ведущей в город, ворковали шлюхи. Мимо месяца плыли облака, похожие на разбухшие серые клецки. На небе тусклыми коптилками горели звезды.
Залигер получил от Мали пачку кофе в таблетках и поделился с Глессином. Они жевали его, как сухой хлеб.
— Что вы скажете, Залигер, я, кажется, стал поэтом: «Но ангелов высшая страсть не знает пощады…».
Кофеин подбодрил Залигера и пробудил в нем прежнюю агрессивность:
— Я был бы вам чрезвычайно благодарен, если бы вы доверились мне и назвали размер обуви вашего ангела, — сказал он.
К его удивлению Глессин ответил:
— Тридцать восьмой или тридцать девятый, да…
— У вашего ангела имеются технические данные, превосходно.
— Вы… Не хочу оскорблять вас, господин Залигер. История эта, к сожалению, не столь веселая, как вы воображаете.
Оба долго молчали. Глессин скатал из фольги от концентрата пулю и щелчком запустил ее в воздух.
— А вон падает звезда, — заметил он.
— Загадайте же какое-нибудь желание, — сказал Залигер.
Глессин, прислонившись спиною к трубе, глядел в ночное небо:
— Не имеет смысла…
— Слишком дорого обойдется?
— Слишком дешево. Одна моя улыбка. Но где ее взять?
— Вулворт[32] скоро снова откроет свои магазины. Улыбку за стандартную цену может себе позволить каждый.
— Деловое предложение, Залигер: прибейте вывеску над входом в священные залы, где можно будет купить эту улыбку. Ваши жрецы сделают колоссально выгодное дело…
— Напротив, я прикажу поставить в моих священных залах кабинку. Там людям будут вырезать эту постыдно-дешевую улыбку, как заячью губу…
Опять они долго молчали. Где-то затарахтел стартер. Мотор долго не заводился.
— Я, наверное, вступлю в Иностранный легион, — сказал Глессин.
— Искать ангела в пустыне? Размер туфель тридцать восемь или тридцать девять. Трудновато будет… Foot-prints in the sand of time[33]…
— Черного ангела, Залигер. Туфли размером с мужской гроб.
— Вздор, Глессин.
Глессин, отвернувшись, ответил:
— Я убил свою сестру. Не вздор. Факт. Купил ей туфли, когда… И зачем только я вам рассказываю…
— Оставьте свои истории при себе, я не любопытен.
И все-таки Глессин начал рассказывать свою историю, слова часто замирали у него на губах, но, отыскав глазами свою звезду, он продолжал:
— Во всем виноват отец. Шел не тем курсом. В первую войну был летчиком, разведчиком, в чине ротмистра. После восемнадцатого года впал в демократический психоз. Сжег в печке кайзеровский мундир. Связку своих орденов повесил на шею собаке. Собаку, как рассказывала мать, звали Паульхен, и вот старик перековался в мирного бюргера. Продавал бульонные кубики «магги». В качестве представителя фирмы разъезжал в мерседесе. Сзади красовался рекламный кубик. Масштаб — сто к одному. Ему было все равно. Главное — мерседес, лошадиные силы в чувствах. Говорю вам, он был замечательный парень, мой старик, selfmademan[34]. Его девиз: можешь, если можешь. Когда к власти пришел Гитлер, старик снова стал нацеплять свои ордена — конечно, когда надевал фрак. В других случаях изощрялся в остротах о нацистах. Но в тридцать шестом он добился своего. Получил записку от Германа Мейера, начинавшуюся словами: «Старые бойцы — юные коммодоры». Старик себя не помнил от радости. Мать лила слезы — месяцы напролет. Мать была против, хоть она из приличной семьи, дочь пастора… и все-таки против. Я был за Адольфа и Германа всей душой. Лизелотта держала сторону матери. Лизелотта — так ее звали. Она была красива и добра. Ее я любил… Короче говоря: старик получил эскадрилью, мать стала истеричкой, а Лизелотта обзавелась возлюбленным. Я пошел в армию. Меня долго выслушивали и выстукивали и наконец признали негодным к летной службе. Но я все-таки попал в летчики. Об этом позаботился старик, получивший к тому времени чин полковника. Filius[35] живехонько угробил две машины. Старик бушевал. Лизелотта бросилась мне на шею. Ничего не поделаешь, пришлось идти в зенитную артиллерию. Да и то на батареи в пределах Германии. Потом пришло извещение, что полковник лежит на дне морском. Мать совсем свихнулась, ее отправили в сумасшедший дом. Лизелотта добровольно пошла в армию, стала секретарем-машинист-кой в каком-то штабе. Ей захотелось быть поближе к своему возлюбленному. А тот ведь тоже был летчик, летал на самолетах связи на северных трассах, а его основной аэродром был на побережье Балтийского моря. Летом сорок четвертого я получил отпуск. Поехал к Лизелотте. Она заранее сняла мне комнату. От войны меня воротило, и я этого не скрывал. На третий вечер они, Лизелотта и ее дружок, предложили мне: садись в гондолу, на воздушном шаре летим в Швецию. Я сказал: Лизелотта, предательница, любимая, если ты это сделаешь, я тоже кое-что сделаю. Она высмеяла меня: ты этого не сделаешь, мой нацист, мой любимый. Я бы, возможно, этого и не сделал: не сообщил бы на пост воздушного надзора. А может, все-таки и сообщил. Я просто ополоумел от ревности к ее дружку. Он был много умнее и сильнее меня. Сплошная облачность, сказал он. Лизелотта взглянула на меня — и осталась. А он, как порядочный, вернулся к себе на аэродром.
А через три дня было 20 июля. Дружок Лизелотты разума лишился. Ночью он с Лизелоттой самовольно взлетел на «Фокке-Вульфе-58». Ночь была вот такая же: светлая, красиво освещенная, только чуть холоднее, пожалуй. Я ночевал в офицерском общежитии на аэродроме. Пьянствовали на балконе с кем-то. Увидел, как взлетает фокке, мне ничего и в голову не пришло, каркнул ему вслед: «Ни пуха, ни пера!» Вдруг сирена… прожектора… Три мессершмитта поднялись в воздух… И тут у меня мелькнула мысль… А потом я увидел слева от луны падающую звезду, падающую звезду — Лизелотту… «Загадай что-нибудь!» — крикнул мой собутыльник… И я вам тоже скажу, Залигер…
Глессин встал, шагнул к слуховому окну и спустился вниз.
Должен ли я ради вас, Лея и Фольмер, обнаружить себя и отправиться на поиски черного ангела? Разве я убил вас? Разве я был первопричиной?.. Поднимаясь, Залигер почувствовал, что его шатает, а перед глазами плывет туман, тот же самый ядовито-зеленый туман, что после посещения Фольмера, после допроса в палатке номер пять. Но теперь он воспринимал его как призыв к повиновению голосу, звучащему издалека, но который все усиливается, крепчает, зовет. Залигер уже вне себя, он явственно слышит голос: Каин, где брат твой? Ноги у него подкашиваются, руки инстинктивно защищают лоб, он надает ничком… Придя в себя, он видит, что лежит под лестницей. Первая его мысль: вот, стало быть, расплата за звездные часы. Никто не смеет из-за собственной вины испытывать черного ангела. Безрассудство этой попытки открылось мне сейчас. То место на реке, где тонет человек, или где его спасают, или где его топят, уже в следующую секунду заливают другие воды…
Глава тринадцатая
В конце августа, на девятой неделе после возвращения Руди домой, случилось, что он пропадал где-то всю ночь и вернулся лишь утром следующего дня.
— Вот все и решилось, — сказала мать. — Сущее безобразие, дать девочке слово, заманить ее в постель, а потом сбежать как напакостивший мальчишка. Кто хочет только срезать цветы, а сажать не желает, пусть убирается из моего дома на все четыре стороны…
Они ждут его обе, мать и Хильда. Время уже близится к десяти. Горькие это часы для них.
Хильда сидит у окна за швейной машинкой и сшивает распоротые старые брюки. Надо сделать поуже пояс, да и все немного сузить. Дора Хагедорн, мать, сидит напротив, у более светлого окна их большой кухни, сидит на своем постоянном месте за высоким рабочим столиком, сбоку столика висят метр и ножницы. На коленях у нее пиджак от брюк, которые шьет Хильда. Здесь светлее, потому что у гигантского каштана перед окном с этой стороны каждую весну обрубают ветки. Обрубать ветки и перед другим окном ни в какую не соглашается отец, Пауль Хагедорн. Он считает, что их зяблики, коноплянки и чижи в клетках, которыми завешана добрая половина стены, лучше всего чувствуют себя в подвижном полумраке. Постоянная игра света и тени в комнате напоминает пернатым певцам родные чащи. Дора разрешила ему эту прихоть только в одной половине кухни. Она любит трезвый дневной свет, и не только потому, что при свете сподручнее работать.
— Буду тебе второй матерью, Хильда, — сказала Дора Хагедорн, — если мне не откажут силы.
У матери тяжеловесная и сильная фигура, она сурова и строга в обращении… Молодой девушкой она была, видно, очень хороша. Да и сейчас еще ступает легко и быстро, несмотря на отяжелевший стан. Волосы ее, сколотые на затылке в пышный узел, не утратили своего пшенично-золотого цвета, разве что золотистого блеска нет больше в прическе этой сорокашестилетней женщины. И нет-нет да мелькнут жесткие седые нити. Любую работу мать выполняет ловко, ухватисто, словно играючи. Глаза у нее, как и у Руди, — серо-зеленые. Кожа на руках и ногах ослепительно белая. Только бледность выдает, что она целыми днями трудится в четырех стенах и, наверно, страдает малокровием.
Твое «да», пусть будет «да», твое «нет», пусть будет «нет», а что сверх того, то от лукавого, — любит она повторять.
И вообще характернейшая черта матери — набожность в сочетании с моральной чистотой и упрямой пиэтистской любовью к справедливости.
Посреди ярко освещенного по утрам места в оконной нише с незапамятных времен висит ее «Христианский домашний и семейный календарь», обновляемый в сочельник. Каждое утро, чуть свет, мать отрывает листок и вполголоса читает возвышающий душу текст. Больше всего она любит, когда календарь рассказывает ей «правдивые истории из жизни». Не проходит и дня, чтобы мать не прочитала вполголоса те места из Священного писания, которые рекомендует календарь на предмет углубленных размышлений. И также не проходит дня, чтобы она не пела своим глубоким, немного слезливым голосом хоралы, в свою очередь рекомендуемые календарем. Ей нет необходимости заглядывать в сборник песнопений, все хоралы от первой до последней строфы она знает наизусть. Летом мать поет свою благочестивую дневную песнь в пять утра, зимою — в половине шестого. По этому песнопенью в их семье можно проверять часы. Дора всегда встает первой, на добрых четверть часа раньше остальных. И ее пение служит другим сигналом побудки. Другие спешат, кто на работу, кто в школу, и любят эти хоралы только по воскресеньям. Ибо по воскресеньям они не призывают: вставай! Другие по воскресеньям имеют право спать дольше. Дора освящает всякое воскресное утро генеральной уборкой дома, скребет и чистит спаленки, кухню, зальце, прихожую. Работой она это не считает. Ведь уборка-то делается не за деньги и хлеб, а для собственной радости. Когда приходит время идти в церковь, дом сверкает чистотой. Но в церковь она обычно отправляется одна. Она не настаивает и на том, чтобы члены семьи повторяли за ней ежедневную застольную молитву, а молча произносит ее про себя. И тем не менее ее материнское благочестие правит домом.
К Хильде она снисходительнее, чем к собственным детям. Девушка приехала из большого города, думает мать, там люди совсем не такие, как у нас. Она даже разрешила Хильде и Руди спать вместе в чердачной каморке, где раньше спали мальчики, хотя свадьба предполагалась лишь осенью, когда у крестьян снова появится мука. Ну, а теперь, видно, свадьбе быть когда рак свистнет…
Сейчас, в эти горькие для Хильды минуты, Дора Хагедорн помогает ей в работе, выпарывает подкладку из пиджака. Это довольно хорошо сохранившийся синий шевиотовый костюм, от которого так и разит нафталином. Дора принесла его от знакомых на переделку. Соседи и знакомые уже наслышаны о ловкости Хильды в портновском искусстве. Вообще говоря, у Доры по горло собственной работы. В войну она научилась шорному делу, шила чехлы для фляг, поясные ремни и портупеи, а теперь возчики и крестьяне несут ей сбрую и хомуты для починки. В каморке под крышей гора работы дожидается матери. И все-таки сегодня она поставила свою табуретку в оконную нишу.
Дора и Хильда не обмениваются ни словом. Все, что было у них сказать друг другу, давно уже сказано. Руди пренебрег всеми советами, всеми предостережениями, всеми просьбами и снова что-то затеял с приемной дочерью доктора Фюслера. Как услышал он, что Лея жива, стал бессмысленно бродить из угла в угол, словно больное животное. Люди говорят, что она постепенно набирается сил, эта Лея. Она живет на горе, в деревне Зибенхойзер. Там ее дядя вот уже год работает учителем в школе и регентом хора. Руди ей что-то писал, и она ему ответила. Никто, однако, не знает, что было в тех письмах, и Хильда тоже не знает. Хотя Руди однажды ночью в чердачной каморке поведал ей о том, что было между ним, Леей и сыном аптекаря Залигером.
В спальне под ними было слышно, как скулит и охает Руди. Хильда упорно молчала. Потом скрипнула дверь их каморки, и кто-то один стал спускаться по лестнице. Это Хильда с подушкой и одеялом в руках сошла вниз. С того дня она спит в зальце на кушетке. На следующий день Руди хотел было отдать ей свою перину, а себе взять шерстяное одеяло. Но Хильда не пошла на этот обмен. И правильно поступила. Не права она только, решив ждать, пока он сам распутает путаницу в своей голове. Чего она, собственно, ждет? Пока Руди возьмется за ум? Несколько лет в гимназии вконец его задурили. Надо было сразу же внушить ему, что он связан напрочь…
Пусть Руди ошибся, считая, что Лея погибла в лагере. Из этой ошибки родилось нечто большое и важное. Он подобрал Хильду на дороге, жил со своим найденышем, как муж с женой, привел ее в дом как невесту, торжественно обещал ей: ко времени ярмарки, когда смелют новую муку, мы испечем наш свадебный пирог. Нет, этого с себя не стряхнешь, точно брызги дождя. А вот то, другое, стряхнуть можно. Ничего, кроме глупых фантазий, у него с Леей не было. Да время уже на половину все это стряхнуло. Иначе и быть не могло. Разве Лея не дурачила его в ту пору? Выставила его за дверь, потому что он из простонародья, бедняк. А он и теперь готов ей ноги целовать за это. Кто хочет снизу выбраться наверх, продает свою душу. Но что есть — то есть, и это сущее безобразие, дать девочке слово, заманить ее в постель, а потом сбежать, как напакостивший мальчишка. Кто хочет только срезать цветы, а сажать не желает, пусть убирается из моего дома на все четыре стороны… Со вчерашнего вечера ушел, где же это видано. Укатил на машине, на этой развалюхе своего хозяина и зятя, молодого Вюншмана, сказал, что хочет привезти хворост из леса, что возле Зибенхойзера. А домой не вернулся. Стало быть, решил… Господи, за что ты так сурово наказуешь меня грехами детей моих? Уже Кэте мне пришлось вычеркнуть из сердца, очень много она себе позволяла, а с Вюншманом все еще неясно было. Теперь вот с Руди беда. Всю войну прошел и вот теперь гибнет от собственного неразумия. Взрослых детей, если они споткнутся, нам уж вовремя не поддержать. Слишком тяжелы для наших рук. Одна надежда, что уму-разуму их научит камень, о который они себе лоб расшибут…
И чего это Хильда каждую минуту глядит в окошко? Неужто ждет, что на улице появится невинный Руди?
— Эх, Хильда…
Хильда вздрогнула от неожиданности и посмотрела на часы.
— Уже одиннадцатый час, мама…
— Уже второй, Хильд.
Дора Хагедорн еще ниже опускает голову над работой. Разве мало я смирялась духом? — думает она. А теперь объята гордыней, хочу выгнать Руди из своего дома. Христос сжалился над Марией Магдалиной — и выгнал менял из храма… Пусть мой дом останется чист… В кармане ее передника похрустывает письмо, которое она еще никому не показывала, даже Паулю, письмо из городского управления Рейффенберга, адресованное Паулю Хагедорну: «В порядке мероприятий по денацификации (см. распоряжение администрации земли Саксония, от 17/VIII с. г.) предлагается Вам до 1 октября с. г. очистить занимаемый Вами, как ответственным съемщиком, но принадлежащий городу, дом по ул. Вашлейта, № 3 (служебная квартира). Что касается получения другой жилой площади, то Вам надлежит обратиться в городское жилищное управление».
Роковое письмо подписано новым бургомистром Эрнстом Ротлуфом. И это самое страшное: имя под письмом. Ты не раз сидел за нашим столом, Эрнст, и ел вместе с нами наш хлеб. А потом вдруг эта ссора с Паулем. И двенадцать лет в лагере, куда тебя засадили наци. А теперь русские сделали тебя бургомистром. И вот ты пишешь письма, как завзятый адвокат, и произносишь на рынке речи, как простой человек. А что же еще ты делаешь?
Неожиданно она обращается к Хильде:
— От всего ты можешь отказаться, только не от своей гордости…
Хильда вдевает нитку в ушко. Ее рука дрожит. А бывало, оглянуться не успеешь, нитка уже вдета. Она ни слова не отвечает. Небось, все думает, что перед запертой каморкой наверху стоит его кровать, разобранная и увязанная. А рядом тоже перетянутые веревкой перина и подушка — без наволочки. За чехол на перине ему не стыдно будет, если самого себя ему не стыдно. В деревянном сундучке, который дал ему еще отец, лежит его старый костюм, нательное белье и продуктовая карточка. Нового костюма, от женщины из Рорена, он не получит. Хотя… пусть Хильда поступает, как ей угодно. Костюм висит в зальце. Хильда считала, что я поторопилась, и хотела разговорами отвлечь меня. Нет, девушка, мне ли не знать, когда смородина созрела и когда настал час справедливой расплаты…
— Вот, прочти! — говорит Дора.
Она встает и кладет письмо из городского управления на швейную машинку перед Хильдой. Потом идет к большому столу и нагибается к жестянке с хлебом. Достает из нее два подсушенных ломтика, нарезает их на крошечные кубики и ссыпает в блюдце.
— Сюда, сюда, сюда, — зовет мать и раскладывает хлеб по кормушкам зябликам, коноплянкам и чижикам.
— Это его хлеб! — кричит Хильда. Да, кричит в голос.
— Читай! — спокойно говорит мать Хильде, а птицам: — Вас, мои милые зяблики, мне придется расселить, а ты, конопляночка, не ко времени птенцов заводишь…
Хильда остекленевшим взглядом смотрит на извещение.
— Попал в аварию и лежит где-нибудь на дороге, — говорит Хильда, — Вюншман продал запасное колесо…
— Он и правда остался где-то лежать, — сурово отвечает мать.
Они снова принимаются за работу.
— Тогда мне здесь нельзя оставаться…
— Нам всем придется покинуть этот дом. Человек предполагает, а бог располагает. На страшном суде я должна предстать незапятнанной. Там с каждого спросится, что ты сделал.
Хильда начинает крутить колесо машины:
— Как-то раз мы уже поссорились. Тогда я убежала из дому. Но ведь все опять наладилось…
Мать ее не слушает. Она говорит:
— А ты знаешь, чей этот синий шевиотовый костюм?
— Откуда мне знать? Мы ведь не снимали мерку.
— Это и не нужно было, Хильда. Эту мерку я руками чувствую… Костюм-то господина бургомистра Ротлуфа, который и письмо подписал.
— Этого? — Хильда движением головы показывает на письмо.
— Да! Его разведенная жена дала мне костюм. Сказала, чтобы мы переделали его на фигуру, какая была у Эрнста, — то бишь господина бургомистра, — в холостяцкую пору. И чтоб отнесли ему в ратушу. Это ты сделаешь, Хильда.
— Посылаешь меня просить за дом?
Хильда ждет, что Дора взорвется или обидится. Ибо так с собой разговаривать она не позволяет. Но ни того, ни другого не случается. Дора отвечает спокойно, по-матерински.
— Из нашей семьи еще никто ни о чем не просил, и просить не будет, и за дом тоже… А сходить надо из-за Фридель, его разведенной жены. Она развелась, когда уже четыре года прошло с его ареста. Чтобы хоть какое-никакое пособие получать на двоих детишек. И никогда не заглядывалась на других мужиков. А Эрнст вернулся и даже не зашел к ней, живет у сестры и шурина. Шурин тоже просидел несколько лет. Нынче он за главного в полиции. И даже он ему твердит: «Фридель же чистое золото, а не жена, и верна она тебе была — без кольца, да оно ведь все равно не золотое». А что же отвечает Эрнст? «Супружескую верность она не нарушила, ладно. Но она поступила куда хуже. Спасовала в политическом отношении, именно спасовала». Ты понимаешь это, Хильда? Я не понимаю. И никогда не пойму. Но он всегда был таким, очень уж крутой характер… Я как сейчас помню их свадьбу, все помню, словно это вчера было. 30 апреля 1920 года они зарегистрировались в магистрате. В обеденный перерыв, между двенадцатью и часом. Оба работали в ту пору у Хенеля. А в час они уже снова стояли у машин, как ни в чем не бывало. На следующий день — Первое мая. Тут уж они попраздновали. Надо тебе сказать, у нас в то время бог знает что творилось. Везде стояли рейхсверовцы, они хотели изловить Макса Гельца. И майскую демонстрацию запретили. Что ж, Эрнст организовал свадебное шествие: от невестиного дома с Зильбергассе через Рыночную площадь до Шмидберга, где спортивная площадка. Народу набралось человек пятьдесят-шестьдесят, с женами. Я стояла на углу у булочной Кербеля. На Фридель была белая юбка и белая блузка. А на голову ей надели венок из огненно-красных гвоздик. И Эрнст был весь в белом: тренировочные брюки и белая рубашка с открытым воротом. И они пели: «Роза, роза, алый цвет» и другие песни… Вдруг Эрнст заметил меня, подскочил и кричит: «Приглашаю тебя, Дора, несмотря ни на что!» Вся процессия смеется и кивает мне. А у меня ноги к земле приросли. Дело в том, что еще до Фридель он бегал за мной как полоумный, куда я, туда и он. Я против него ничего не имела, только очень уж он был хитер. Не хотел кота в мешке покупать. Ты меня поняла? Да не на таковскую напал. Отец скорее убил бы меня, чем выдал замуж, чтобы грех прикрыть. Нас в семье было одиннадцать душ. Отец был позументщиком и председателем похоронного ферейна. На спинке его рабочего стула до самой смерти висел семихвостый бычий ремень. Мы на хлебе и воде воспитывались, но в строгости и страхе божьем… Кое-кому это бы и нынче пошло на пользу.
Хильда вполуха слушала рассказ матери. С нынешнего утра мать стала ей до ужаса чужой. Но она пытается преодолеть гнетущее чувство отчуждения, ей хочется проще, по-женски, откровеннее говорить с ней. Поэтому она волей-неволей хватается за одно только место в рассказе матери, за словечко, которое кажется ей смешной маленькой самоизменой матери.
— Ты сказала, мама, что и сейчас еще, как руками, чувствуешь фигуру этого Эрнста…
Дора тотчас поднимает глаза и строго, не допуская возражений, говорит:
— Мерку, я сказала, а не фигуру…
В эту секунду мимо окна проходит Руди.
— Возьми себя в руки, Хильда, слышишь, — шепчет мать.
Руди входит в кухню. За спиной у него неуклюжий плотно набитый рюкзак. На секунду он застывает в дверях. Потом подходит к столу, повернувшись спиной, опускает на него мешок и сбрасывает ремни с плеч. Он выглядит усталым, изможденным, темные тени лежат у него под глазами. Он ни с кем не здоровается и никто не говорит ему ни слова привета.
— Я есть хочу…
Ответом ему служит молчание, суровое, злобное молчание, от которого у Хильды просто сердце разрывается. Она хочет вынудить у него хоть один взгляд. Но он скучливо глядит в потолок. Молчание точит всех троих. Руди подходит к хлебному ящику, открывает его, заглядывает в духовку и идет к буфету. Но тут вскакивает мать, преграждая ему дорогу.
— Ты провел ночь у Леи…
Руди отступает на полшага.
— Как ты можешь это говорить…
— Как положено, уважаемый сынок!
Но он обходит мать, открывает буфет, достает кружку, ту, толстую, коричнево-пеструю, с изречением.
— Если хотите знать, да, я провел ночь у Леи, всю ночь…
Голос у него какой-то нечеловеческий и похож на ржанье.
— По глазам видно, — говорит мать, — жеребец ты и больше ничего.
В ответ Руди выпаливает нечто до ужаса гадкое:
— А ты разве в этом что-нибудь понимаешь?
Матери такого не снести, она поднимает руку, и каким-то одеревенелым жестом указывает ему на дверь.
Похоже, что удар попал в цель. Хильде кажется, что она читает на его лице ужас, протест, отчаяние. Теперь он смотрит на нее, искоса, снизу: растерянным, упрямым, неправдоподобно-детским взглядом. Какой узел противоречий может завязаться в нашей душе за одну-единственную роковую секунду… Руди делает шаг к Хильде. Она воспринимает этот шаг как спасение. В невыносимом своем волнении она засунула пальцы в толстые спицы колеса машинки. Теперь Хильда хочет вытащить пальцы, освободиться, хочет встать, хочет на лету подхватить его слова: там все кончено, Хильда… и хочет ответить: мне нечего тебе прощать, Руди… Но вдруг она видит у него на шее царапины, глубокие следы ногтей. Она чувствует, что рот ее растягивается чуть ли не до ушей. Чувствует, что без сил опускается на стул, с которого еще и приподняться-то толком не успела.
— Глоток воды, и я ухожу. — Голос у Руди срывается.
Мать словно окаменела. Он выходит, видно, затем, чтобы набрать в сенях воды в кружку. Дверь за ним бесшумно закрывается. Хильда слышит, как течет вода в раковину. Видит, как он пьет… Пьет из ее рук. Но мгновенное виденье рассеивается. За дверью на каменные плиты сеней падает и разбивается пестрая кружка. Мимо окна мелькает тень.
— Он принес муку, мать…
— Полную червей, Хильда.
Дора берет рюкзак, песет по лестнице наверх, даже не взглянув на его содержимое, и бросает к прочим вещам, принадлежащим Руди, их заберет Кэте или кто-нибудь еще.
Хильда тоже ушла из кухни. Опустившись на колени, она подбирает в сенях черепки с каменных плит. Составив два из них вместе, можно прочесть:
Пусть каждая капля будет честна, Вода вкуснее чужого вина.Спустившись вниз, Дора молча проходит мимо Хильды. Но в кухне она громко и чуть всхлипывая затягивает:
По небу тучи ходят, Их ветер гонит вдаль, Свой путь лишь тот находит, Кому сапог не жаль…Видения… Коричнево-пестрые черепки рождают видения: ваза из дымчатого богемского стекла вдребезги разлетается на полу. Хозяйка-нацистка кричит: «Глупая девка»… Барашки облаков в свинцовом блеске бегут по небу… сталкиваются. Окошки на чердаке кричат: господь бог упал на землю!.. Рот на лице, как у гипсовой статуи, стонет: лучше вам не смотреть на него… Фольмер говорит: «Когда я был молод…» Тучи над вершинами гор… Руди бормочет: «…тянутся туда, сюда…» И мать всхлипывает, зовет облака: сюда, сюда, сюда… Если облака вплывут в дверь, у меня глаза лопнут. Так они болят, так болят…
Брошу черепки в раковину. И вымою руки над ними. Прохладная, чистая вода успокаивает. Она разгонит страшные видения. Видения размякают, как грязь просачиваются в дырочки раковины под черепками. Вода ласкает мои руки…
И я вновь хочу любить: прохладу, свежесть, ясность.
На третий или четвертый вечер после возвращения домой — Хильда уже легла — мать попыталась выведать кое-что у сына.
— Ты слышал о Лее Фюслер?
Да, Руди слышал. Он и дня не пробыл в Рейффенберге, как ему уже все рассказала его замужняя сестра Кэте. Ее разбирало нетерпение сообщить брату волнующую новость.
— Я так и думала, — сказала мать. — Но все это было и быльем поросло. У тебя есть Хильда. Она нашего поля ягода. А Лею оставь с миром, она тебе не пара. И нам чужая. А если вернется Залигер, ты и его оставь с миром. Ведь наконец-то на земле наступил какой-никакой мир. Образумься, Руди, выкинь из головы старые бредни.
Отец выбил трубку об руку. Это прозвучало как аплодисменты. Он считал, что на Хильду можно положиться, это девушка с довольно разумными взглядами для своего возраста, да и с виду она «аккуратная да приглядная». Мать воспользовалась случаем и бросила это чисто мужское суждение на чашу своих весов.
— Что и говорить, ты хорошо выбрал. Лучше не сыщешь! И то, как вы нашли друг друга, тоже перст божий. Ты родился в воскресенье, Руди. Пе сглазить бы, но это что-нибудь да значит. Из всех твоих школьных товарищей ты первый целехонький вернулся с войны. Ты нашел свой родной дом; мы живы, твои родные все живы, и ты на хорошей работе у Вюншмана; вот выдержишь экзамен на подмастерье, а там, глядишь, и на мастера, и никому тебе не надо будет кланяться, даже Залигеру, когда тот вернется. Русские — известные безбожники, но стоят за рабочих. Тебе, Руди, счастье само плывет в руки. И если ты не будешь лениться и как следует возьмешься за дело, ты в добрый час многого добьешься… Только не зарься на большее, чем тебе положено! У каждого своя доля, и каждый должен знать, что ему отмерено. Все несчастья от того, что люди хотят выше головы прыгнуть. Посмотри хоть на нашего отца. Он мечтал стать дорожным смотрителем. Вот в самый разгар войны и вступил в нацистскую партию. А теперь опять там, откуда начал — на чулочной фабрике. И еще должен быть рад, что его туда взяли. Кто высоко взлетает, тот больно падает…
Отец страшно разволновался, когда мать в своей лекции о пользе скромности, упомянула о нем. У него даже жилы на шее вздулись, и он не замечал, что, набивая трубку, крошит табак и сыплет его мимо жестяной коробки, хотя обычно каждый табачный листочек ценил на вес золота.
— Пауль! Чистую скатерть вымажешь своим чертовым зельем.
— Вечно ты на меня кидаешься…
— Потому что ты глухими своими ушами ничего слушать не хочешь. Я тебе всегда говорила…
— Ну, валяй, валяй! — прохрипел отец. От ярости у него перехватило горло. — Знаю уж, какие мудрости ты вытащишь на свет божий, мне они уже двадцать пять лет известны: господь бог позаботился, чтобы выше лба уши не росли, а бодливой корове рог не дал… Но когда мне магистрат дом предложил и место, так и ты тоже въехала… Ты первая перешагнула порог дома и не плюнула. Какое там — молитву прочитала…
— Пауль, — мягко сказала мать, — в ту пору была безработица…
Отец выскочил из комнаты. На дворе он уж найдет себе какое-нибудь дело, а не то сядет на чурбан, попыхтит трубкой, выпыхтит свою злость и ворча вернется в дом. И так каждый раз — поругаются с матерью и жпво помирятся. Но вот с соседями, с товарищами по работе или даже с незнакомыми Пауль Хагедорн умел вдруг затеять яростный спор. При этом он кого угодно мог оскорбить, но руки в ход не пускал. Он и детей своих никогда не бил, только грозил им ремнем.
— Отцу еще придется отвечать перед комиссией, почему он вступил в нацистскую партию, — продолжала мать. — Надеюсь, что петушиться он там не станет. Председателем у них Ротлуф Эрнст.
Руди пожелал матери спокойной ночи, через дверь простился с отцом и поднялся в каморку к Хильде. Она уже спала. Весь день ей нездоровилось. Он аккуратно обошел две скрипучие половицы и прежде чем зажечь свечу поставил ее на выгнутую крышку старого ларя за высокой спинкой кровати. И все же тусклый огонек свечи вспугнул неспокойный сон Хильды. Еще не совсем проснувшись, она растерянно огляделась по сторонам.
— Никак сразу не пойму, где я, когда проснусь, — сказала она.
— Ты же у меня, — ответил Руди.
Л когда они уже лежали рядом, Хильда взяла его руку. Чердачное окно было широко распахнуто. В верхнем его углу поблескивал, словно сделанный из золотой фольги, рог луны. Белая тюлевая занавесочка раздувалась, дышала ровным дыханием спящего мира. Легкий ветерок доносил до них однотонную болтовню старого каштана.
— Как хорошо, что ты со мной и что шелестит ветер в листве, — прошептала Хильда.
Он глубже просунул руку ей под голову… Теперь, когда с тем покончено, я могу спокойно все рассказать Хильде. Сейчас самое время. Надо же, наконец, поставить крест на истории с Леей и быть счастливым с Хильдой. Нечего прыгать выше головы. Хильда суждена мне. Мать скромна и многоопытна, да я и сам понимаю — надо рубить дерево по плечу. Я расскажу Хильде историю Леи и ее верного, обманутого Гипериона. Расскажу с самого начала до самого конца. И пусть у этой грустной истории будет хороший, счастливый конец. И о себе я расскажу все, сейчас, здесь, в этот час, в этой каморке. И кончу я на том, как я зажег свечу и поставил ее за высокой спинкой кровати. Остальное доскажет Хильда…
Где же это началось? Ах да, на Дрейбрудерштрассе. Там мы увидели ее впервые — Залигер и я. На ней был желтый пыльник и белое узкое платье, а ее черные, словно лакированные волосы свободно рассыпались по плечам, удерживаемые только серебристой бархатной лентой. Она прошла мимо кино. Мы стояли на другой стороне перед кафе Штаубе. На кинорекламе красовался белый корабль, пылающее небо, прибрежные пальмы и сногсшибательная смуглая красавица. А как она шла! Не шла, а выступала, хотя была еще по-детски тоненькой и хрупкой. Один из нас, вздохнув полной грудью, сказал: «Вселенная». Кто, собственно, первый произнес и нашел это слово? Я? Или Армии? Или ее так звали? Как это было? Трудно, очень трудно точно рассказать эту историю. Но я должен точно ее рассказать, с самого начала для того, чтобы счастливый конец выглядел правдиво. Теперь я знаю, как добиться своей доли счастья в общем счастливом конце. Вдруг я все понял: с тех пор, как началась эта история, я словно поражен немотой, немотой, проистекающей из долгого терпения. Я же ничего не предпринимал, только молча таращил глаза и, как младенец Христос, уповал на счастье. Это и затрудняет мой рассказ. Но теперь надо решиться, и я освобожусь наконец от мерзкого порока, который зовется НЕМОТОЙ. Иначе у нас с ней ничего хорошего не будет, у меня с Хильдой.
— Послушай-ка, Хильда… послушай…
Но она уже спит… Уже спит…
О, суетная горечь! Она, думает он, упустила благоприятное мгновенье. Проспав начало, она проспит и конец. Она поражена немотой еще в большей степени, чем я. Нет у нее органа для восприятия всего, что сопутствовало моей истории, что окрыляло ее. Она глуха и нема. Недосказанное она возместила бы объятиями, если бы не спала, но чтобы досказать за меня, у нее бы не нашлось верных, точных слов. А ведь хоть раз должно быть выражено в верных, точных словах то, что не менее важно, чем счастье. Мне думается, что слова, сказанные нами друг другу в часы зрелых размышлений, — это великая сила против немоты в природе и в нас. «Что-то в человеке есть такое, что требует слов». Кто это сказал мне? Отто сказал это мне, Отто Зибельт, обер-ефрейтор, с которым я два года шагал по России, Отто, этот леший, метранпаж в никелированных очках, любитель природы, которого кокнули под Брянском на солнечной просеке, заросшей ежевикой. «Что-то в человеке есть такое, что требует слов». А ведь Отто был молчалив. Но начитан. У себя дома он разводил аксолотлей, хвостатых амфибий. Иногда он вдруг делался говорлив. Однажды, когда мы стояли на посту, это было в Приднепровье, он разразился целой речью:
— Грех смеяться над таким простаком, как Эмануэль Квинт, которого изобразил Гергарт Гауптман. Этого необразованного человека так и подмывало «произносить речи», какая-то внутренняя сила толкала его на это. И если ты попристальней приглядишься к Гитлеру, то поймешь, что и у него есть что-то от мудрости простака. Он ведь не глуп, этот тип. Это и Квинт, и Заратустра, и Зейферт Оскар в одном лице. Зейферт Оскар, если ты его не знаешь, стоит, бывало, на Лейпцигской мессе в рубашке с короткими рукавами, всучивает людям всякую заваль за первейший товар. Все, кто приходил в его лавку, знали, что здесь что-то неладно. Но все равно покупали! А почему? Потому что Оскар одурманивал пх своими речами. Сначала пятьдесят пфеннигов за две пары паршивых подтяжек, потом пятьдесят на «зимнюю помощь», а дальше? Дальше люди расплачиваются своим единственным достоянием, драгоценной жидкостью красного цвета. Гитлер в своей холостяцкой квартире стоял перед зеркалом, репетировал фанатические речи и всучил нам не только «третий рейх», но и войну, в которой мы, позабыв обо всем на свете, катим обратно домой. Победа близка… Правда, не наша. Я воюю, как и ты, но меня он не одурачил, этот Адольф. Наверно, потому, что я всегда интересовался гуманитарными и естественными науками. Я был постоянным читателем журнала «Космос» и сейчас еще читаю его. Жена время от времени присылает мне номер из моего книжного шкафа. Их на полевой почте пропускают свободно. Если захочешь почитать, имей в виду: это, с одной стороны, наука о природе, с другой — вера в природу. Такая смесь нужна человеку, чтобы он мог рассуждать о внешнем и внутреннем в природе…
Унтер-офицеру Руди Хагедорну так и не пришлось в ту пору заглянуть в требник этого лешего. В ту пору они без оглядки откатывались назад. И насколько помнится Руди, эта странная, подрывающая военную мощь откровенность товарища стала его лебединой песней. Спустя несколько дней Отто лежал, истекая кровью, в огромном Брянском лесу в зарослях ежевики. Все, что Руди удалось еще прочесть о нем, было тесно набранное извещение в «Миттельдейче нейесте нахрнхтен»: «Погиб, честно исполняя свой долг перед фюрером и рейхом…»
Каштан, этот старый шептун, болтает и любезничает с ветром. Болтовня его листвы опьянила Хильду. Она заснула и во сне крепко держит мою руку. Найду ли я точные слова, если разбужу ее сейчас? Точные слова должны входить одно в другое, как спицы в колесо. И только если колесо хорошо отцентровано, если оно не бьет и не задевает вилку, история крутится планомерно… Лея пришла тогда в мастерскую Вюншмана и привела велосипед. Возле Зауберга у нее соскочила передача, и Лея упала, но не ушиблась. В ее тяжелых черных косах, венком обвивавших голову, застряло несколько листочков и кораллом светилась красная ягодка.
Мне казалось, что кто-то проводит раскаленным утюгом по моей груди. Я копался и копался с передним колесом — мечтал никогда не кончить. Как мне хотелось затеять с ней разговор, но ничего в голову не приходило. Минуты вспархивали, как голодные воробьи с телефонных проводов. Даже «до свиданья» я не смог выдавить из себя. Она протянула мне руку, а моя была вся в масле. Но она не обратила на это внимания. Она крепко пожала мою грязную руку. И кажется, хотела сказать: «Большое спасибо, мой дорогой, мой верный Гиперион…» Эти слова вертелись у нее на языке. Я твердо в это верю. Но я был нем, я по уши погряз в своей немоте, как в бочке смолы. Неужто Лея подумала, что с немым не стоит вступать в разговор? О, если бы она теперь дотронулась до меня, я нашел бы слова, точные, верные. Не сомневаюсь, что нашел бы. За это время мне немало пришлось пережить. Но теперь я вижу разницу: Хильда способна вылавливать лишь отдельные вокабулы из моего рассказа, Лея поняла бы каждое слово. Она умела читать между строк и ощущала то, что только и приводит в движение словесные спицы. Анне из железнодорожного домика я тоже не смог бы рассказать этой истории. А ведь хотел. Такие, как Анна и Хильда, не понимают, что у человека есть потребность говорить, потребность освободиться от немоты, чтобы не умереть прежде своей смерти. Есть в человеке что-то, требующее выражения в точных, верных словах, и это неведомое «что-то» обладает такой же всемогущей властью, как… Как что? Мне думается, как любовь. Это и есть любовь. Ах, Лея, почему мы назвали тебя тогда «Вселенная»? Вселенная — ведь это одно из всемогущих любовных слов. И понятно оно лишь очень немногим, тем, у кого острый слух, тем, кто не поражен немотой…
Белая тюлевая занавесочка раздувалась, дышала ровным дыханием спящего мира. И мысли бодрствующего Руди вползли через окно, как хвостатые амфибии, разодрали занавесочку своими зубчатыми спинными гребешками, завистливой пастью пожрали шелест деревьев и уплыли к далекой красновато-желтой луне. Он услышал свои крик в воздушных просторах: берегись попасть под колеса немого механизма жизни… Как мертвенно все, что спит… и держит тебя за руку. Что же заполнит эту человеческую жизнь, кроме работы, родины, забот, стряпни и сна? А счастье и любовь постепенно гаснут где-то рядом. Но однажды она поймет то, что поняла мать, и муки ее немоты прорвутся в песнопении: «О, если б обрела я тысячу языков…» Или она повесит над диваном коврик, как у Фольмеров и Ротлуфов. Но вселенная не будет лучится из ее глаз. У нее ее нет… А я хотел бы зачинать детей и говорить при этом и слышать в ответ могучее слово. Это — счастье…
Он попытался высвободить руку из ее руки. Она на мгновение проснулась:
— Спи же, Руди, спи…
Хвостатые амфибии пожрали красновато-желтую луну.
На следующее утро Руди ощутил странную отчужденность от людей и вещей, его окружавших. Но не это его угнетало. Ему казалось, и это волновало его, что отчужденность вошла в его душу с той минуты, как он начал мыслить. Словно что-то прорвалось в нем, словно пришла в движение некая сила, укрепляющая его волю говорить правду. Но эта неведомая сила скорее была похожа на господина, которому он служит, чем на союзника. У этого господина не было имени, и он так скудно оплачивал своего слугу, что тому приходилось рядиться в убогие ветхие одежды высокомерного молчания.
Руди чуть свет ушел из дому, не разгибаясь работал до позднего вечера в мастерской, словно его кто-то подстегивал, наспех проглотил дома скромный ужин и забился в свою каморку. Отныне он стал по ночам отодвигаться от Хильды, говоря, что чувствует себя скверно, что устал, как собака, что вконец разбит. И верно, он метался, как раненый зверь.
Хильда на это не сетовала, считая, что на него опять «нашло», это ведь все из-за войны и, конечно, пройдет, ведь уже не раз проходило. Но ничего не проходило. А когда Хильда поднималась наверх, Руди всегда что-то писал или читал книги, сохранившиеся у него еще с гимназических времен. Вот перед ним стоит чернильница и перо еще совсем мокрое…
Заслышав ее шаги по лестнице, он бросал исписанные листки в старый ларь. Она слышала только, как щелкал замок, и знала, что он всегда носит при себе старинный ключ с двойной бородкой. Мать, разочарованная в своем сыне, недолго оставалась безучастным зрителем этой драмы. Она открыла Хильде все карты, рассказала то, что ей было известно об отношениях Руди с фрейлейн Фюслер, и посоветовала ей немедленно переговорить с этим «ошалелым». Разговор состоялся в ночь, когда Хильда сошла вниз. И хотя в конце ночного препирательства все у пих, казалось бы, пошло врозь, Хильда не утратила ни своей веры в него, ни даже любви.
— Я только рада, что Лея Фюслер вернулась и что ты можешь поговорить с ней. Иначе, чего доброго, мне пришлось бы всю жизнь играть роль заместительницы, а я на это не способна.
И он все снова и снова просил ее понять, что ему надо справиться с прошлым. Лея — единственный человек, который может ему в этом помочь. И потому-то он ей пишет письмо и ломает над ним голову, ибо оно должно стать чем-то вроде исповеди. Лея выслушает его и, наверно, ему ответит. Хильда может прочесть письмо, когда он его закончит, может прочесть и ответ Леи.
— Ты имеешь на это право, стало быть… Ну пойми же меня, пойми, пойми!..
Он так долго твердил одно и то же, что Хильде стало невмоготу его слушать. Она взяла подушку, одеяло и выходя сказала:
— У тебя язык заплетается, словно ты горячую картошку во рту держишь…
Он был уязвлен и обижен. Внизу, в спальне родителей, зашевелились. Сейчас мать встанет, молча заключит ее в объятия — одна немая другую. Руди выскользнул из постели, сел на старый ларь с выгнутой крышкой и продолжал писать свое письмо. У него сразу стало светлее на душе, груз его мыслей, казалось, согревал ему спину.
Теперь, наконец, он допишет письмо. Отчуждение Хильды и ее обидное замечание придали ему мужества. Он страшился конца этого письма, ибо конец, по его мнению, должен был подвести какой-то итог точным словом, точно выраженной точкой зрения. Убедившись в грубости чувств Хильды, он решился закончить письмо покаянной нотой, а решение передать в руки Леи.
свой крик в воздушных просторах: берегись попасть под колеса немого механизма жизни… Как мертвенно все, что спит… и держит тебя за руку. Что же заполнит эту человеческую жизнь, кроме работы, родины, забот, стряпни и сна? А счастье и любовь постепенно гаснут где-то рядом. Но однажды она поймет то, что поняла мать, и муки ее немоты прорвутся в неснопении: «О, если б обрела я тысячу языков…» Или она повесит над диваном коврик, как у Фольмеров и Ротлуфов. Но вселенная не будет лучится из ее глаз. У нее ее нет… А я хотел бы зачинать детей и говорить при этом и слышать в ответ могучее слово. Это — счастье…
Он попытался высвободить руку из ее руки. Она на мгновение проснулась:
— Спи же, Руди, спи…
Хвостатые амфибии пожрали красновато желтую лупу.
На следующее утро Руди ощутил странную отчужденность от людей и вещей, его окружавших. Но не это его угнетало. Ему казалось, и это волновало его, что отчужденность вошла в его душу с той минуты, как он начал мыслить. Словно что-то прорвалось в нем, словно пришла в движение некая сила, укрепляющая его волю говорить правду. Но эта неведомая сила скорее была похожа на господина, которому он служит, чем на союзника. У этого господина не было имени, и он так скудно оплачивал своего слугу, что тому приходилось рядиться в убогие ветхие одежды высокомерного молчания.
Руди чуть свет ушел из дому, не разгибаясь работал до позднего вечера в мастерской, словно его кто-то подстегивал, наспех проглотил дома скромный ужин и забился в свою каморку. Отныне он стал по ночам отодвигаться от Хильды, говоря, что чувствует себя скверно, что устал, как собака, что вконец разбит. И верно, он метался, как раненый зверь.
Хильда на это не сетовала, считая, что на него опять «нашло», это ведь псе из-за войны и, конечно, пройдет, ведь уже не раз проходило. Но ничего не проходило. А когда Хильда поднималась наверх, Руди всегда что-то писал или читал книги, сохранившиеся у него еще с гимназических времен. Вот перед ним стоит чернильница и перо еще совсем мокрое…
Заслышав ее шаги по лестнице, он бросал исписанные листки в старый ларь. Она слышала только, как щелкал замок, и знала, что он всегда носит при себе старинный ключ с двойной бородкой. Мать, разочарованная в своем сыне, недолго оставалась безучастным зрителем этой драмы. Она открыла Хильде все карты, рассказала то, что ей было известно об отношениях Руди с фрейлейн Фюслер, и посоветовала ей немедленно переговорить с этим «ошалелым». Разговор состоялся в ночь, когда Хильда сошла вниз. И хотя в конце ночного препирательства все у них, казалось бы, пошло врозь, Хильда не утратила ни своей веры в него, ни даже любви.
— Я только рада, что Лея Фюслер вернулась и что ты можешь поговорить с ней. Иначе, чего доброго, мне пришлось бы всю жизнь играть роль заместительницы, а я на это не способна.
И он все снова и снова просил ее понять, что ему надо справиться с прошлым. Лея — единственный человек, который может ему в этом помочь. И потому-то он ей пишет письмо и ломает над ним голову, ибо оно должно стать чем-то вроде исповеди. Лея выслушает его и, наверно, ему ответит. Хильда может прочесть письмо, когда он его закончит, может прочесть и ответ Леи.
— Ты имеешь на это право, стало быть… Ну пойми же меня, пойми, пойми!..
Он так долго твердил одно и то же, что Хильде стало невмоготу его слушать. Она взяла подушку, одеяло и выходя сказала:
— У тебя язык заплетается, словно ты горячую картошку во рту держишь…
Он был уязвлен и обижен. Внизу, в спальне родителей, зашевелились. Сейчас мать встанет, молча заключит ее в объятия — одна немая другую. Руди выскользнул из постели, сел на старый ларь с выгнутой крышкой и продолжал писать свое письмо. У него сразу стало светлее на душе, груз его мыслей, казалось, согревал ему спину.
Теперь, наконец, он допишет письмо. Отчуждение Хильды и ее обидное замечание придали ему мужества. Он страшился конца этого письма, ибо конец, по его мнению, должен был подвести какой-то итог точным словом, точно выраженной точкой зрения. Убедившись в грубости чувств Хильды, он решился закончить письмо покаянной нотой, а решение передать в руки Леи.
Руди писал: «…вы видите, дорогая фрейлейн Лея, что я с трудом подыскиваю слова. Но теперь вы, наконец, все знаете обо мне. И то, как поступил со мной Армии, и то, как сложились у меня отношения с этой девушкой — Хильдой. Я откровенно высказал все, что обязан был высказать. Прежде я писал вам как ваш верный Гиперион, я хотел объясниться, когда приспеет время. Время уже переспело. Но я вижу, что для времени трудно подыскать такие же слова, как для яблок или картошки, словом, для всего, что зреет летом пли осенью и, созрев, проходит без следа. Ведь время, в которое мы живем, совсем иное, чем то, о котором я когда-то мечтал. Зеленым и кислым следовало бы назвать его, если уж придерживаться этих неточных сравнений. Мне долго, невесть как долго, не удастся построить ту прекрасную машину, на которой я мечтал повезти вас в Верону. Сон кончился. Мы проиграли войну. Повсюду, даже на фабрике, где работает отец, машины помечают крестом. Вскоре их демонтируют и увезут. Мастерская, в которой работаю я, обслуживает почти исключительно оккупационные войска. В нашем доме, в чердачной каморке, ютятся переселенцы, пожилые супруги из Чехии. Муж молчит с утра до ночи. Жена с утра до ночи плачется. Моя мать и Хильда чинят и штопают для них. И притом так усердно, словно их работа может изменить ход событий. Все кругом спекулируют, продают, перепродают. От русских шоферов мне время от времени перепадает килограмм-другой крупы или хлеба, если я в дьявольском темпе чиню их машины. Но если бы мы вобрали в себя души роботов, чтобы продержаться, то все равно были бы лишь собственными могильщиками и как бы мы ни вкалывали, а все равно сдохнем. Нет, я убежден, что мы можем продолжать свое существование, как люди и как немецкий народ, только если сумеем обновить свою суть и отказаться от посягательств на «мировой Дух».
Вот почему я и обращаюсь к вам, Лея. С тех пор как я знаю, что вы живы и вернулись к своему дяде, моему уважаемому учителю доктору Фюслеру, я знаю также, что у меня есть лишь одна надежда в жизни — истинное обновление в духе прекрасной, благородной человечности, которую вы всегда олицетворяли в моих глазах. Я взываю к вам, как Иаков к ангелу господню: «Не отпущу тебя, пока не благословишь меня»…
Удастся ли нам такое обновление, это вопрос жизни и смерти в нынешнее время. Что рядом с ним тихое счастье в своем углу, набожность домашнего масштаба, муравьиное усердие, добропорядочная немота, неприметное тупое прозябание.
В школьные годы я был мечтателем, в военные — дезертиром, а нынче должен стать счастливчиком из бедной семьи? По я хочу быть только человеком. Поймите меня. Лея. Даже если в нас нет ни капли чувства ко мне, не отталкивайте меня. Только подле вас, только в общении с вашим духовным миром я б состоянии стать человеком. Итак, остаюсь в мучительной надежде на ответ, хотя бы» виде пометки на этом пространнейшем письме, над которым я трудился немало дней. Ваш верный Гиперион, слишком долго живший среди варваров, Ваш Руди Хагедорн».
Когда бледный свет утра заглянул в чердачное оконце, Руди сунул эти листки в конверт и заклеил его. Не то чтобы он забыл обещание, данное Хильде. Он побоялся, что злобным взглядом или бестактным замечанием, вроде «горячей картошки во рту», она доведет его до ярости, он порвет письмо и вместе с его обрывками швырнет в печь наконец-то найденные верные, точные слова. Но Хильда даже не спросила, закончил ли он свое писание. Она встретила его приветливо и деловито, так, словно они опоздали на автобус, на котором должны были ехать.
Руди был несказанно удивлен, когда уже через несколько дней пришло ответное письмо Леи. Он просил ее адресовать ответ на работу. Она так и сделала, и Кэте принесла его брату в мастерскую.
Кэте была единственной доверенной Руди в ту пору. Она откровенно стала на сторону Леи, не скупилась на своднические советы, уговаривала брата подчеркнуть в письме, что у своего хозяина и зятя он не какой-нибудь мальчик на побегушках, а будущий компаньон в деле. Та кая невестка, как Лея Фюслер, была бы очень по душе Кэте, новоиспеченной хозяйке мастерской. Заделавшись собственницей и весьма заботясь об уважении окружающих, она сочла, что Руди в его годы поступит осмотрительное, если возьмет в жены девушку не с пустым карманом. По надо отдать справедливость Кэте, она действительно любила Руди и признавала превосходство брата, бывшего на два года ее старше. Еще в детстве он казался ей самым рыцарственным, самым разумным из всех мальчиков. Никто не осмеливался дергать ее за косы или злонамеренно обманывать во время игры в камушки, или запирать ее в «девичью тюрьму», то есть задирать ей юбку и завязывать ее над головой. Руди жестоко наказал бы такого пирата. А когда он удостоился дружбы аптекарского сына и попал в гимназию, Кэте решила, что благодаря своим способностям он непременно вырвется из окружающей их нищеты и в одни прекрасный день высоко над всеми ними вознесется. Уход Руди из гимназии очень огорчил ее. Но, как оказалось, и этот шаг брата пошел ей на пользу, ибо он невольно открыл ей доступ в дом Вюншманов. Старый хозяин после смерти жены, еще по время войны, взял ее работать на бензоколонке, а потом и вести хозяйство. Как служащей на бензоколонке, ей не пришлось отбывать трудовую повинность. Сын хозяина, шорник в какой-то воинской части, словчил и незадолго до конца войны вернулся домой с легким ранением. В ту же пору старика призвали в фольксштурм, и он погиб под Бауценом. Фриц, молодой хозяин, тридцати лет от роду, известный всему Рейффенбергу как бесстрашный автомобилист и бабник, оставил Кэте и в доме и на бензоколонке; а так как раненая нога несколько поубавила ему прыти — Кэте же сумела стать незаменимой, — то вскоре у них возникли весьма близкие отношения. Связь эта, конечно, была бы недолговечной, не прознай о ней мать. Дора взяла дочь за руку и отправилась с ней к местному донжуану. Она была столь величественна в своем гневе, что Фриц, но откладывая дела в долгий ящик, позаботился об официальном оглашении, и вскоре, все еще злясь на судьбу, сделал Кэте ребенка.
И вот теперь фрау Кэте Вюншман, изрядно распустив завязки фартука, пробегает по двору в мастерскую, и там достает из кармана то самое письмо:
— Тебе письмо, Руди…
Она лукаво подмигнула, передавая ему продолговатый конверт, надписанный узким и четким почерком.
Руди стоял как оглушенный. Он долго держал роковое письмо в перепачканной маслом руке, потом вымыл руки под краном и ушел за дом, туда, где у них была свалка. Поперек площадки, у заросшей крапивой стены, громоздились останки военной шеститонки. Он сел на скелет шасси и вскрыл письмо из Зибенхойзера.
Лея писала: «Дорогой Руди Хагедорн, с одной стороны, наше письмо меня потрясло, с другой — показалось мне слезливым, а с третьей — удивило меня. Вы пишете так, словно только что видели, как я завернула за угол Дрейбрудерштрассе, словно вы только что беседовали со мной и только забыли поделиться чем-то очень важным. Вы пишете так, словно я долгую ночь, как спящая красавица, проспала за оградой из шиповника. Но большая часть того, о чем вы пишете, страшной сказкой прошла передо мной. Вы видите меня такой, как прежде, и думаете, что я и сейчас прогуливаюсь в садах воздушного замка, и просите разрешения приблизиться. Мне следует сказать: пожалуйста, приблизьтесь, мой милый Генрих! (Ведь так звучит по-немецки имя Гиперион.) Вы ожидаете, что я прочту вам лекцию в духе благородной человечности, в академическом стиле в старом рыцарском зале Замка Голубого цветка. Ну что ж, — отвечу я, — заходите, пожалуйста. Покуда мы будем говорить, мой дорогой дядя Тео настроит свою любимую виолончель. Итак, я начинаю: почему вы не хотите быть честным, уважаемый Руди? Вы подразумеваете любовь, а говорите о духе… Чего только не пишет ваше усердное перо! Бог мой, взглянули бы вы на свою духовную наставницу — потертая и облезлая, волосы как мочала, костлявые руки, плоская грудь, слабый голос. Вы содрогнетесь, испугавшись такой развалины. Но продолжим развитие главного тезиса… Ах, как ничтожны все люди…
Я вижу, мой ученик зевает. Его варварская влюбленная душа тоскует по крепкому телу и высоким словам. Кончим на этом.
Я вас разочаровала. А разочарованный «варвар по доброй воле», конечно, еще глубже погружается в свое варварство. Мне это знакомо. Но от главного тезиса уклоняться не следует, разве что от метода. Об этом и размышляет, расчесывая свою мочалу,
ваша Л. Ф.».
Руди бессильно уронил руку, державшую письмо. Скрючившись, с обалделым лицом сидел он на стальном скелете автомобильной руины. Гулкая пустота наполняла его голову. Во рту у него пересохло.
Кэте, сгорая от любопытства, спросила:
— Что, плохие новости?
Руди дал ей письмо.
— Конец, — простонал он. — Отставка вчистую. Мягко стелет, да жестко спать.
Кэте прочитала письмо.
— Отставка? — с хитрой миной переспросила она.
Вечером того же дня Руди отправился на автомобиле с прицепом в Зибенхойзер. Под тентом у него были прилажены две канистры дизельного масла. Предназначались они одному крестьянину в обмен на муку и дрова. Рука, как известно, руку моет.
Катить вперед… крепко сжимать руль… Катить все скорей… тормозить… сторониться… перегонять… держать равновесие… прижиматься к спинке сиденья… покоряться уже покоренным лошадиным силам, что мчат тебя вперед… всем существом ощущать вибрацию мотора… отражать грубые толчки дороги… глядеть на спидометр и смеяться, вспоминая песочные часы…
А экипаж твой — всего-навсего разболтанный, со стертыми втулками и поршнями грузовичок с прицепом. На ровной дороге спидометр дерзко заигрывает с цифрой пятьдесят и даже пытается подмигнуть шестидесяти. А когда он катит под гору, тент хлопает на ветру над маленьким прицепом. Нехватку силы грузовичок возмещает шумом, а нехватку скорости возмещает воображением водитель. Наш водитель все время видит себя уже у цели. Он едва замечает золотой августовский урожай на холмистых полях и толпы сборщиков колосьев, пятнисто-пеструю зрелость садов в деревнях вдоль шоссе, зеленоватое мерцание над лесными дорогами, первые серебристые паутинки бабьего лета, нежно-голубые спады и подъемы долин. Он видит только ее. И за величайшее счастье почитает ехать к ней после без малого семи лет разлуки.
Школу в Зибенхойзере Руди заметил сразу. А при школе, как ему было известно, жили Лея и ее дядя. Это здание невозможно было спутать с другими. Оно стояло на дне долины у самого шоссе и в отличие от других домов поселка не имело фахверка. Подвальный этаж школы, имевший форму куба, был сложен из необтесанных камней, в первом были большие двойные окна, во втором — поменьше, с зелеными ставнями. На верхушке четырехдольной шиферной крыши торчали громоотвод и антенна. Над широкими окнами гвоздями был прибит красный картонный транспарант: «Мы требуем воспитания истинно демократического, прогрессивного и свободного духа во всех школах и учебных заведениях». Транспарант уже слегка выцвел от солнца, а белые буквы местами расплылись от дождя.
Напротив школы, на другой стороне открытой долины, дорога меж старых лип, образующих над нею прохладные своды, плавно поднималась в гору и вела прямо к паперти ветхой церквушки.
Метрах в трехстах отсюда прямую стрелку дороги перегораживали надолбы.
— Проедешь школу, — говорил Руди Фриц Вюншман, — и через три дома узкая дорожка пойдет направо. Ты поедешь по ней и прямо упрешься в дом Зелбмана. Только, смотри, не сигналь! Сойди и постучи в дверь — короткий стук, длинный и опять короткий и длинный!
Руди так и сделал — проехал мимо школы, чтобы поскорей покончить с неприятным ему делом. Обмен прошел без сучка и задоринки. Ему дали двадцать пять килограммов муки и посулили дополна наложить прицеп кругляком. И хотя хозяева считали, что ему незачем марать руки смолой, он стал помогать нм при погрузке, сменив девушку, по-видимому дочь Зелбмана, которой приходилось кидать тяжелые поленья метра за три из сарая во двор. Кроме того, девушка куда-то торопилась, и Руди ее пожалел.
Когда он пошел в сарай, она благодарно ему улыбнулась. Ей было лет девятнадцать-двадцать. Модная завивка совсем не шла к ее простенькому милому личику, гладкому, как свежеобструганная верба. Но кто не знает, подумал Руди, какова эта верба на следующий день, когда она вся высохнет и сморщится. Крестьянские девушки быстро старятся. У этой вот уже небольшое утолщение на шее, а через десять лет будет такой же зоб, как у старика. Девушка сказала отцу, что сегодня ему придется сбивать масло самому. Ей в виде исключения надо и вечером пойти к господам.
— Так ты работаешь у господ? — спросил Руди.
Но девушка ничего ему не ответила, только еще раз благодарно глянула на него и побежала в дом — переодеваться.
Вместо нее ответил старик:
— Она, надо вам сказать, убирает в доме господина учителя. А сегодня господин учитель празднует свое пятидесятипятилетие. Гостей там полно. В квартире им не поместиться, так что стол накрыли в саду. Вот уж Ханхен побегает, ох-хо-хо…
Это известие разрядило напряженное ожидание Руди. Он представлял себе встречу в куда более тесном кругу: вначале с доктором Фюслером и с Леей, потом с пой одной, совсем одной. А теперь, оказывается, в доме полно гостей, у Леи множество обязанностей. Всегда между ним и Леей что-нибудь стоит…
— Эй, что случилось, — крикнул хозяин со двора, — чего ты медлишь?
Ах, как это страшно — быть беспомощным соглядатаем, как страшно, что он чуть не поддался соблазну свалить на Лею ответственность за то, что случай опять зло подшутил над ним. Чем же она виновата, что дяде сегодня исполнилось пятьдесят пять лет, а я именно сегодня после долгого-долгого перерыва вознамерился сказать ей несколько слов, точных, верных, добрых и прекрасных слов?
Л старик во дворе что-то лопочет да лопочет. О чем это он рассказывает, нагружая кругляком прицеп? Старик говорит, что у него пять дойных коров в хлеву да еще теленок и телка и две свиньи, и одна должна опороситься на этой неделе. Он всегда руководствуется золотым правилом: сколько коров в хлеву, столько людей в дому. Больше пяти коров хлев не вмещает, да и больше пяти человек в хозяйстве без надобности. А пять на пять — в самый раз.
— Вот, стало быть, мы со старухой и завели себе троих ребят, — продолжал старик, — двух девчонок и одного мальчишку. Он был средним. Оно и хорошо. Но человек предполагает, а бог располагает. Теперь мальчишки нет, и старухи тоже нет. Она умерла в больнице, что-то у нее внутри повредилось. Вот и осталось нас трое, а коров-то все пять. Одна душа, правда, прибавилась: Франц, муж старшей дочки, и теперь нас трое с половиной. Франц, видишь ли, идет за половинку, за полпорции, так сказать. Потому что в Африке ему оторвало миной одну ногу. Вот в какие дальние края занесло его, нашего Франца, ох-хо-хо. А теперь мне нужно зятя, чтобы сходил за полторы порции, и чтобы статный был, вроде тебя, и приналечь и хозяйстве мог. Я Ханхен об этом каждый день твержу. А она и бронью не ведет, кривляка эдакая. Мне приходится силой гнать ее на танцы. Ну, скажи, разве она из себя не видная? Да, что говорить, и сам знаю, что видная, и лицо у ней не заляпано веснушками, как у старшей. И каждые полтора месяца я ее к парикмахеру посылаю, пусть себе навивает кудри. А теперь вот отправил ее к господину учителю — помогать в доме. Пусть хоть хорошим манерам научится! Уж какой благородный человек наш учитель! И на органе куда громче играет, чем наш старый регент. Ну, да вот опять выходит, что человек предполагает, а… У господина учителя есть приемная дочь, настоящая дама, но лунатичка, по-моему, избалованная, мечтательница, она сидела в концлагере и теперь еще больше стала чудить. У нас в деревне ее прозвали «фрейлейн Кукушка», потому что не подходит она к нашему гнезду. Иной раз такого моей Ханхен наговорит, что у той, того и гляди, мозги свихнутся. Совсем затоскует иной раз Ханхен, как придет домой. Вот я и думаю, что надо забрать ее от них, а не то, пожалуй, с ума спятит да начнет корове мускатного ореха в кормушку подкладывать. Крестьянину такие штуки — нож острый… Брось-ка сюда вон то полено, приятель. Сейчас у меня в хлеву пять дойных коров, но если девчонка не приведет мужа, придется мне продавать Блесс, кстати сказать, она уже два раза выкинула. Столько коров, сколько людей. Но и тогда все еще неровно будет, ведь Франц-то за полчеловека идет. А вдруг Ханхен возьмет да приведет мне какого-нибудь ученого, еще одну половинку? Ох-хо-хо-хо…
Старик тарахтел без умолку. И не торопился складывать кругляк в прицепе. Руди тем временем обдумывал, не лучше ли ему сегодня не ходить к Фюслерам. По груженный в свои мысли, он не слышал стариковских намеков и но его благожелательным взглядам тоже не понял, что тот рассматривает его как очень подходящую полуторную порцию, пригодную для восстановления равновесия между коровами и людьми в его хозяйстве.
Когда они наконец покончили с погрузкой, старик заявил, что сделку необходимо обмыть. Он провел Руди в сияющую чистотой кухню и очень удивился, когда тот сказал, что как водитель машины он сегодня и капли в рот не возьмет. Руди содрогался при одной мысли об «обмывке».
Старик принес бутылку самогона, но вскоре перестал настаивать и даже похвалил выдержку Руди, сразу.
мол, видно, что мужчина с характером. Затем вместо водки поставил на пеструю скатерть с розовыми венками кувшин сливок.
— Посиди-ка минуточку, — попросил он, — куда тепе торопиться, послушай старика.
Рядом с зеленой кафельной плитой стояла маслобойка на скрещенных ножках. Старик поставил на нее свой стакан и начал крутить ручку: хлоп-хлюп, хлопали лопасти в молоке, покуда общительный старик, прежде чем продолжить свой рассказ, охал: ох-хо-хо-хо!..
Замшелый был старик: согнут в три погибели, крупная голова покрыта седой щетиной, кромка усов побурела от трубки, на шее зоб, глаза водянистые, с хитрым прищуром. В такую теплынь он надел вязаный жилет, а поверх — долгополую по старинке куртку цвета отрубей, карманы которой, набитые всякой всячиной, оттопырились, как защечные мешки у хомяка. Брюки он заправил в невысокие сапоги с широкими голенищами. Неожиданно, будто вспомнив что-то. крестьянин сунул руку в набитый карман и крикнул:
— Рац!
За печкой раздался шорох. Жирный одноглазый кот шмыгнул к хозяину и потерся о его сапоги.
У хозяина тотчас очутилась в руке жестяная коробочка овальной формы, облезлая такая коробочка из-под булавок. Он снял крышку и за хвост вытащил оттуда полудохлую мышь-полевку.
— На, Рац! — сказал крестьянин.
Кот схватил подачку и в зубах утащил к себе на печь. И снова зачавкала маслобойка — хлоп-хлюп.
— Я забочусь обо всех, кто живет под моим кровом, будь то человек или скот. О Франце я тоже позаботился. Справил ему ленточную пилу с приводом. Переносную. Он взвалит ее на плечи и ходит по тем крестьянам, у кого есть лес, пилит доски, подтоварник. Недурно зарабатывает. Берет он с них, само собой, не деньгами, а лесом — долго с напиленного. По нашим временам, когда железа нет, строительный лес — та же валюта. Крестьяне рады бы свести на нет псе деревья. Да русские не велят. Па каждый ствол надо особое разрешение. Ну уж так — тютелька в тютельку — им не укараулить. А порой они и сами смотрят на это дело сквозь пальцы. И вообще, скажу я тебе, русские хорошие ребята. Но кое-кто из них рад бы из нас большевиков сделать. И так, знаешь, ловко берутся за дело. Ты вдруг делаешься «трудящийся крестьянин», будто наш брат раньше привык лентяйничать. А потом заявляются, и сдавай им зерно. Это сейчас-то, в конце августа, когда у меня даже снопы не сложены. Да я до святого Мартина и молотить не начну, хоть они тресни. Из меня большевика не сделаешь. Ладно, говорю я им, пусть я — трудящийся крестьянин, потешу вас, так и быть, только оставьте вы меня в покое. Ну и оставляют. Зато уж вас, городских, они всех большевизируют, всех до последнего. Потому что фабрики можно большевизировать, и кооператив — можно, и бойню, и остальное. А нас — дудки, холмы-то эти не большевизируешь и погоду тоже. Солнце, ветер и дождь не больно подчиняются комиссарам, хоть бы и русским, — старик хихикнул. — Эх, будь я из городских, да еще парень твоего сложения, да еще после армии, да еще холостой и свободный, да будь у меня руки как тиски, уж я бы знал что делать, если б мне не захотелось, чтоб меня большевизировали. Я бы смылся из города. Возможностей хоть отбавляй, если с умом браться за дело…
Хлоп-хлюп, хлоп-хлюп — шлепали лопасти маслобойки. Минск-Брянск-Гомель-Смоленск-Курск-Орша-Орел-Рославль — шлепали лопасти маслобойки. Руди следил за ходом мыслей крестьянина. В чем-то болтливый старик нрав, но в чем?
Все города, которые он прошел солдатом по ту сторону Буга, и впрямь показались ему чужими. Чужое, боярское средневековье — там, где оно уцелело, чужая новь, многоколонная, стандартная и в монументальном и в обыденном — там, где она уцелела, вперемежку с лепными фасадами девятнадцатого века — там, где они уцелели, вперемежку с дощатыми настилами, российская вечность — там, где она уцелела… А где-то посреди Бахмутово, русская деревенька — березы, кусты полыни, законопаченные мохом оконца, за стеклом цветы в горшках, резные наличники, кадка с квасом в сенях, лошадные дуги, небе без конца и краю; русское очарование, там, где оно уцелело. Деревни там красивые, даже большие и те красивые — с бескрайними полями, коровниками, амбарами, остовами могучих тракторов, оврагами за околицей. А города…
— Конечно, если у кого нет ума… — поддержал Руди.
И крестьянин не преминул отблагодарить его за поддержку.
— Да, тогда дело плохо. Ох-хо-хо-хо…
Когда Руди собрался домой, в комнату пошла Ханхен. По сейчас она выглядела совсем не так, как раньше, в сарае. Кровь прилила к щекам, словно от быстрого бега, она надела белое облегающее платьице, поверх него пестрый фартучек, а волосы повязала серебристой бархатной ленточкой. Крестьянин, хихикая про себя, нырнул за маслобойку. Ибо то, что он увидел, сулило увенчать наконец усиленные поиски такого жениха, чтоб сходил за полторы порции. Этот парень из Рейффенберга уставился на Ханхен, будто перед ним ангел господень. А уж Ханхен-то, ишь, как ловко потупила глазки. Он, родной отец, и то не ожидал от нее такой прыти.
— Хорошее нынче собьется масло, — хихикнул он.
Ханхен сказала, что забежала домой на минутку, потому что у господина учителя не хватило кофейных чашек на всех гостей.
И Руди спросил запинаясь, спросил, до предела раскрыв глаза:
— Это, это… платье и ленточка фрейлейн, верно?
Старик выпустил рукоятку.
А Ханхен задорно обрезала:
— Если вы ничего не имеете против…
Она прошла через другую дверь в зальце и стала собирать посуду.
— Ты что, знаком с фрейлейн? — досадливо спросил крестьянин.
— Конечно, знаком. Она ведь тоже из Рейффенберга.
— Ах, вот оно что…
Хлоп-хлюп, хлоп-хлюп.
Появилась Ханхен с горкой кофейных чашек. Нарядный голубой узор. Блюдца и чашки красиво изогнуты. Какой у нее деловитый и гордый вид, у Ханхен. Она поставила посуду на пеструю скатерть и вдруг задала чудовищный вопрос:
— Эго вы на прошлой неделе прислали нашей фрейлейн письмо? Ведь правда, это вы? Фрейлейн сказала, что на этой неделе сюда приедет человек из Рейффенберга, на машине приедет. Сам длинный, ноздри широкие, на носу — два десятка веснушек, глаза зеленые, как у кошки, а волосы русые и стоят торчком. Я фрейлейн сказала, что к нам как раз приехал один такой. А она сказала господину учителю, а господин учитель сказал, чтоб вы немедленно шли к ним и заодно помогли мне тащить посуду, если только это на самом деле вы…
Хлоп-хлюп, хлоп-хлюп… Оплеуха по левой, оплеуха по правой. Принцесса и се наперсница-служанка, тайн друг от друга нет… Полное доверие, можно перемывать косточки… Фрейлейн Кукушка. Но веснушчатый рыцарь отвечает:
— Я помогу вам доставить посуду. Возьмите ее на колени. Мы поедем, и возле школы я остановлюсь.
А наперсница в ответ:
— Неплохо бы вам захватить цветов. Я сейчас нарежу у нас в саду. Несколько космей для господина учителя и немного душистого горошку для фрейлейн. Фрейлейн любит горошек…
А старый болтливый гном притулился возле зеленой изразцовой печи, крутит маслобойку да поглядывает в маленькое кухонное оконце, и видит он, как Ханхен сует городскому диа букета, а городской признательно улыбается ей. Гном хихикает:
— Чтобы сбить масло, надо подогреть молоко. Я так и скажу Ханхен. А этот городской по виду не из тех, кто мечтает большевизироваться. И усадьба в свое время отойдет к Ханхен…
— Итак, перед вами Руди Хагедорн, один из моих учеников. выросший в небогатой семье, один из тех, очень и очень немногих, кто дает мне право сказать, что семена, которые мне посчастливилось посеять, упали не на каменистую почву. Друзья мои, дорогие мои гости, уже для того, чтобы во времена полного, казалось бы, процветания, пренебречь бесспорной карьерой и по доброй воле покинуть школу, где воцарилось бездушие, молодому человеку потребно было и мужество, и ясный ум, и, наконец, верность своим убеждениям. А впоследствии, как я слышал, вы, Руди, бросили оружие еще прежде, чем поенное безумие достигло последней стадии. Я понимаю, что означало для солдата последовать велению разума, отказаться от выполнения подлого, бесчеловечного приказа. Это означало — тем более в условиях недавнего прошлого — желание несмотря ни на что остаться человеком, преодолеть в себе бессловесную тварь. И это было чревато опасностью для жизни, огромной опасностью…
Фюслер и сам чувствует, что слишком ударился в риторику, он видит, как у его дорогих гостей, сидящих по левую руку от пего, — у Гришина, у Ротлуфа, у фрау Поль — сделались вежливо застывшие лица. Поэтому он продолжает в более задушевном и доверительном тоне:
— Я и сам был солдатом. И признаюсь честно: тогда, в восемнадцатом году, сразу после того как Вильсону направили предложение о перемирии, мне пришлось сделать над собой немалое усилие, чтобы принять демобилизацию и революцию. Что ни говорите, а мой отец был камердинером в доме одного из министров Саксонии. Усилие равнозначно повороту. Для меня этот шаг и стал решающим, демократическим поворотом… — и с прежним пафосом Фюслер процитировал:
От уз, в которых целый мир страдает, Свободен тот, кто волю обуздает…и тотчас повинился добродушно:
— Как видите, я снова пришел к Гёте. Впрочем, когда старый немецкий ментор вроде меня начинает говорить, ему без Гёте не обойтись… Итак, я остановился на том опаснейшем усилии, которое совершил наш дорогой юный друг. И я спрашиваю: способно ли это усилие пронести его сквозь время? Ведь усилие означает не только поворот, но и непрестанное преодоление. Сможет ли наш юный друг и впредь уверенно шагать навстречу расцвету новой морали, спрашиваю я.
Тут Фюслер переводит взгляд с Руди на Лею, сидящую на другом конце стола против него. Сидит она в плетеном кресле, обложенная подушками, ноги поставила на скамеечку, плечи укутала пледом в крупную клетку. Плед привез ей ван Буден. Ван Буден сидит рядом с ней, справа от Фюслера. Это Фюслер, настаивая на примирении, пригласил отца Леи — отчасти против ее воли. Таким образом, сейчас можно уже говорить о частичном примирении. Руди тоже перевел взгляд на Лею. Она это заметила и приняла отчужденный вид, такой же, какой был у нее, когда они здоровались. Принцесса-Сфинкс… Но если поведение Лен вызвало у Руди мучительную досаду, то похвальное слово доктора Фюслера повергло его в столь же мучительное смущение. Ибо против него сидел с каменным лицом Эрнст Ротлуф. Руди чувствовал: этот знает меня лучше. А рядом с ним сидел старый друг Фюслера, некий Хладек, который приехал из Праги ради этого свидания.
Во время фюслеровской речи на губах у Хладека мелькнула недоверчивая усмешка.
Окинув свою приемную дочь сокрушенным взглядом, Фюслер продолжал:
— Взгляни на нашу дорогую Лею, взгляни, как стойко перенесла она жестокость варваров! Для нее преодолеть означало не потерять себя в апокалиптической, бесчеловечной жестокости. По скажи мне, дорогая Лея, установила ли ты истинный, основанный на вере, контакт с новыми временами? — И обращаясь ко всем: — Как человек пожилой, как наставник молодого поколения, я хотел бы сказать, что главная задача в условиях нынешней Германии — это научить нашу молодежь, нашу немецкую молодежь, побежденную, виновную целиком, виновную наполовину или вообще невиновную, испорченную или неиспорченную…
— …освобожденную, — подсказали ему, но Фюслер пропустил мимо ушей подсказку, исходившую от фрау Ноль, которая сидела между советским лейтенантом Гришиным и Эрнстом Ротлуфом.
— …нашу немецкую молодежь — о, наконец-то! — прямой походке homo sapiens… — и повторил с нажимом: —…походке человека!
Всякий раз, когда Фюслер с нажимом повторял что-нибудь, он сопровождал повтор неподражаемым жестом. Обычно он говорил, повернувшись к своей аудитории в полупрофиль. Н сейчас он тоже сидел на стуле боком и так отчетливо артикулировал каждый звук, что видно было, как мышцы сокращаются на худом костлявом лице, как мышцы растягивают или сдвигают его губы, как складывают из звуков слова. Но в предвидении той мысли, которую следовало произнести с нажимом, Фюслер поворачивался к публике лицом, растопырив пальцы, порывисто выбрасывая вперед правую руку, рука на миг цепенела в этом положении, а затем оцепенение разрешалось плавным и мягким жестом. Пройдя через порывистость и оцепенение, расслабленная рука описывала в воздухе свободный полукруг:
— …человека!
Ярослав Хладек, друг Фюслера, адвокат из Карлсбада и Праги, однажды на редкость образно и удачно охарактеризовал этот жест.
— Ты пририсовываешь к своей мудрости грудь кормилицы, — сказал он.
Как правило, после этого жеста Фюслер делал небольшую паузу, в течение которой слушатели тоже хранили задумчивое молчание. Так было и сегодня, только на этот раз пауза несколько затянулась против обычного. То ли потому, что мысли Фюслера произвели на слушателей слишком глубокое впечатление, то ли напротив, не понравились им.
И тогда Лея разрядила эгу гнетущую тишину, вдруг без всякой видимой связи сказав:
— Кислятина, — тоже с нажимом, но уже издевательским. Слова ее рассмешили собравшихся. Ибо при этом она глянула на Руди, а он, то ли от смущения, то ли от удовольствия, не зная куда девать глаза, с забавной сосредоточенностью созерцал стволы диких груш среди буйного сплетения ветвей, серовато-зеленые, растрескавшиеся стволы. Даже подоспевшая Ханхен и та улыбнулась. Руди проклинал свою нерасторопность, из-за которой он, несмотря на все мудрые соображения, совершенно упустил из виду неблагоприятность момента. Он видел, что Лея играет бахромой пледа, что Лея даже не улыбается и что она следит за ним. Ну чем не Сфинкс! И тогда Гришин, именно Гришин, снял с него гибкие путы добродушной насмешки, спросив:
— А вы кем работаете?
У Руди все пересохло в горле, но он ответил:
— Автослесарем.
Гришин кивнул, хотя по нему трудно было угадать — одобрительно или неодобрительно. Тут через стол перегнулся Эрнст Ротлуф, тот самый Ротлуф, в прошлом атлет, лучший спортсмен рейффенбергского «Красного спорта», в прошлом сорвиголова, черный как смоль, а теперь худой как скелет, и серый, как камень.
— Ты давно вернулся, Руди?
— Я-то? Да месяца три…
— И до сих пор даже не удосужился побывать у меня? У люден так принято, когда вернешься на родину после долгого отсутствия. Ведь принято же навещать хороших знакомых, или…
Собственно, вопрос Ротлуфа начинался с этого последнего словечка. И звучал он так: «Или ты по-прежнему намерен проходить мимо меня не здороваясь?»
Руди ответил вопросом на вопрос:
— А где?
И в этом был его ответ. Мать на его месте спросила бы точно так же. А где? Дома тебя не застанешь. Ты не хочешь бывать у себя дома. Это известно всему Рейффенбергу. И все осуждают тебя за это, слышишь, бургомистр…
— У меня дверь не на запоре…
Ответить Руди не успел. Поднялся Гришин, советский офицер по вопросам культуры. Ван Буден подумал: если отбросить гимнастерку, в этом человеке нет ничего от офицера. И вообще, гимнастерки всегда надо мысленно отбрасывать. Надепь на пего штатское платье и он будет выглядеть, ну, скажем, как простой литейщик. Недавно женат, по вечерам любит сразиться в шахматы и даже забывает ради них про молодую жену. У людей, которым приходится работать при высоких температурах, всегда такие лица. Они мало-помалу усыхают. Кожа становится твердой, как асбест. Это уже не кожа, а защитная маска. И все-таки лицо у него чисто русское — высокий лоб, широкие скулы, гладко выбрито, и есть в нем что-то, кроме асбеста. Только не определить, что именно. Так и хочется вообразить его с белокурой бородкой, в холщовой блузе, подпоясанной веревкой, босого. Внутренний его склад говорит о сильном духовном начале. Но Толстой здесь ни при чем. Поэтому я и думаю: шахматист. Гришин одернул гимнастерку и лишь тогда заговорил, обращаясь к Фюслеру:
— Мы уже вручили вам, господин доктор, сочинения Гёте — Гёте, которого издавал еще Котта. Но, — тут улыбка тронула губы Гришина, одни только губы, — но, как говорят у вас в Германия, это был малый презент. И не ради этого мы приехали к вам. У нас есть презент посолиднее.
Сделав такое заявление, Гришин открыл планшет, достал оттуда два листка, отпечатанных на машинке, и развернул первый.
— У меня в руках, — продолжал Гришин, — ученое звание, а также… но давайте по порядку! «Настоящим доктору Фюслеру присваивается звание профессора». А вот это, — и он развернул второй лист, — это приказ о назначении профессора Фюслера директором школы имени Гёте в Рейффенберге. От души поздравляю, господни профессор! — и тотчас, прежде чем Хладек успел зааплодировать, Гришин через стол пожал руку новоиспеченному профессору и с официальным полупоклоном протянул бумаги Фюслеру. После чего присоединился к общим аплодисментам. Хладек соскочил с места, схватил Фюслера за плечи, встряхнул и крикнул:
— Браво, старина! Я всегда говорил, что из тебя выйдет толк!
Но по виду Фюслера — смущенному, подавленному, рассеянному — казалось, что двойной шквал поздравлений в одни и тот же день добьет его. Он стиснул лоб пальцами и закрыл глаза.
— Раздавлен… раздавлен дарами фортуны, — бормотал он. — Третий рейх побежден… Лея вернулась… в должности восстановлен. Почести!.. Талата, талата! Привет тебе, вечное море…
Тут Хладек ласково взял его за руку.
— Хорошо, хорошо, мой дорогой. А теперь помолчи. Предоставь музыке досказать то, чего не досказал ты… Дворжак, Н-мольный концерт для виолончели с оркестром… Продумай сольную партию второй части — Adajio ma non troppo[36].
Все встали. Делегация Рейффенберга тем самым дала понять, что не намерена оставаться после официальной части. Ротлуф уже дважды поглядывал на часы. Они с Гришиным стояли у подножья лестницы, которая выводила из сада на луговую тропинку и дальше в лес. К ним присоединились Хладек и ван Буден. Эльза Поль — заведующая школьным отделом — пошла с Леей и Фюслером вниз, по грушевой аллее. А Ханхен хлопотала по хозяйству. Руди хотел было помочь ей убирать со стола, но потом в сердцах обозвал себя холуйской душонкой, снова сел на прежнее место и взял со стола томик Гёте из подаренною сегодня Фюслеру собрания:
«Мальчишествуй, сшибая, как репьи, дубы и гребни гор…»Руди перевернул еще несколько страниц. Он слышал, как пап Буден спрашивает у русского, в каких сражениях тот участвовал. И как Гришин отвечает, что он защищал Брестскую крепость, потом партизанил, потом снова попал в регулярные войска и, наконец, сражался за Дрезден, вернее за развалины Дрездена.
Тянется кверху любовь. Опускаются облака, Книзу плывут облака. Любовь их влечет к себе.Оп перелистывает книгу и поднимает глаза. Как выступает Лея! Будто на ней слишком тесные башмаки, будто каждый шаг причиняет ей боль. Но в ходьбе у нее все так же покачиваются бедра и так же гордо поводит она плечами. Она не ходит, она шествует. Даже теперь, когда она еле переставляет ноги. Знает ли она, что я смотрю ей вслед? На ней расклешенная юбка из черной тафты и белая блузка. Палку свою опа повесила на край стола. И до чего же к лицу ей то, что она называет мочалом: поседевшие, коротко остриженные волосы Белоснежки спереди высоко зачесаны надо лбом, сзади удлиненный мысок на шее. Лицо у нее тоже изменилось. Оно утратило и округлость щек, и девическую мягкость. Стало худым, и выражение на нем среднее между строгим и суровым. Подурнела ли она? Нет, не подурнела. Она влечет меня. И глаза ее, непонятные мне глаза, влекут меня. Ах, какие это глаза — в них до сих пор горит прежнее волшебное пламя, только теперь оно стало беспокойным, непостоянным и даже в непостоянстве своем переменчивым: взгляд коварный, взгляд змеи, кротость Эсфири и Руфи и слепота Сфинкса…
Руди затруднился бы определить одним словом своеобразное очарование ее взгляда. Он не казался ему ни девическим, ни женственным, пи материнским и, однако же, волновал. Может быть, думалось ему, девушкам всегда сопутствует своеобразное очарование, если в их облике или одежде есть что-нибудь от старины. Хильда носит черное — траур, в этом тоже есть что-то от старины. И траур сообщает ей своеобразную красоту. Но глаза Леи и седые пряди в ее волосах прекрасны по-иному — красотой необычности…
Поистине весь облик, и стать, и характер Леи излучают своеобразное, колдовское очарование. Не будет ошибкой сказать, что это своеобразное, колдовское очарование придают ей те противоречия, которые заставляют ее страдать и — самую малость — рисоваться: напряжение и расслабленность, надежда и неверие, насмешливость и жалость к себе, аскетизм и желания. Столкнувшись с этим порывисто переменчивым характером, Фюслер оказался беспомощным и растерянным. Ван Буден, напротив, толкует об обусловленных состояниях, о страданиях и бедствиях, которые, не щадя себя, должен претерпеть дух, чтобы вступить в новые связи, о предельной заброшенности современного человека. А Руди смотрит ей вслед, смотрит в книгу и радуется, читая:
В мир забвенья унесла чувства и мечты.И слышит, что, взяв слово там, на лестнице, Хладек полушутя-полусерьезно жалуется:
— Я бы в пять минут пересек границу, всего только и надо съехать вниз по дороге на холостом ходу, а оттуда рукой подать до моего дома. Но дудки, я должен пять часов трястись в машине через Дрезден и Шмилку, пока не достигну предписанной точки. Вот вы, товарищ Гришин, объясните мне, что это за дурацкий бюрократизм: в Праге мне говорят, что это зависит от советских пограничников. Вы, но всей вероятности, скажете, что от чехословацких. А как на самом деле?
Гришин улыбнулся и ответил:
— А на самом деле, товарищ Хладек, это зависит от… как это говорится… от бдительности. Вы со мной согласны?
Хладек засмеялся, Эрнст Ротлуф тоже. Ван Буден ограничился кислой улыбочкой.
— Какой исчерпывающий ответ, — съязвил он. — Право же, дорогой Хладек, вы могли бы превосходно обойтись и без пего.
Но Хладек с обычной легкостью парировал:
— На это, дорогой мой ван Буден, я хотел бы ответить словами, которые всегда повторяет мой друг и коллега Венцель Штробль, он живет на Клейнзейте: «Всего полезней адвокату изнанку дела разузнать…» Да-с, вот как говорит мой друг Венцель Штробль…
А Ханхен, проходя мимо, говорит: «Кислятина», — и легонько задевает его облаженной рукой.
— Попка-попугай, — огрызается Руди.
Ханхен смеется, исчезает с подносом. И уже потом, когда трое — Гришин, Эльза Поль и Ротлуф — ушли, когда он тоже хочет откланяться, Лея вдруг говорит:
— А странствующий школяр явился только затем, чтобы пообедать на даровщину?
— Да нет же, — бормочет он, — да нет же.
Однако ему пришлось еще вместе с оставшимися гостями испить кислого вина и удостовериться в муках девяти кругов-ступеней, прежде чем пройти вместе с Леей эти девять ступеней и приблизиться к тропинке через луг, и к опушке леса, и к достопамятной второй ночи с хвостатыми амфибиями.
Ханхен разносила крыжовенное вино — неудобоваримую кислятину ее отца, Хладек, смеясь, взял полный бокал, поднес его к окну и рассмотрел на свет. И все увидели, как теплый багрянец вечерней зари наделил неожиданной красотой водянистую, белесо-лимонную муть напитка.
— Вы только посмотрите, — сказал Хладек, — оно заигрывает с солнцем. За твое здоровье, профессор, за работу, за счастье!
Руди видел, как Лея взяла бокал обеими руками и пригубила — словно из чаши. Фюслер все еще не совладал с радостным возбуждением, которое охватило его после зачитанного Гришиным приказа. Он расстегнул жесткий крахмальный воротничок, он в сотый раз вытер лоб носовым платком и в который раз схватился рукой за сердце. Ему посоветовали прилечь. Но об этом он и слышать не хотел.
— Если радость тщится перерасти в счастье, то для человека моего возраста ее усилия животворно-губительны. В старости человек уже не может чувствовать себя хорошо, не рискуя почувствовать себя слишком хорошо. Эту истину вдалбливает в нас мудрость, седая мудрость.
Хладек перевернул его изречение вверх ногами:
— Точно так же, как в юности человек может почувствовать себя слишком хорошо, не рискуя хорошо себя чувствовать. Эту истину вдалбливает в нас глупость, зеленая глупость… Но ах! Если бы нам дали право выбирать между седым и зеленым счастьем… — он окидывает взглядом Лею, Руди, Ханхен, — вы меня понимаете, молодые люди?
Лея со стуком ставит рюмку на стол и говорит:
— Никому не даио право выбора — ни утром, ни днем, ни вечером… разве что ночью…
Сфинкс говорит загадками. Какую ночь ты имеешь в виду, Лея?.. Но Фюслер эгоист. Вот он уже снова говорит о себе. Он не поможет мне победить Сфинкса. И никто не поможет, кроме Ханхен. Как она вдруг похорошела в теплом багрянце вечерней зари.
— Быть перемещенным на более высокую ступень человеческой деятельности, дождаться извне поддержки дела, к которому ты сознательно стремишься, получить возможность действовать в условиях гармонического союза личной совести и общества — это высокое счастье смертного есть завершение, зрелость, есть жизнь, которая не прекращается со смертью, есть активность в сознании вечного вращательного движения монад…
Фюслер задумчиво отпил из бокала. Он немного успокоился. Волнение сказывалось теперь лишь в замедленности речи.
— Я хочу честно признаться вам, дорогие друзья: лично я думал, что еще не достоин подобной чести, я искренне думал так. Я полагал, что останусь учителем в Зибенхойзере. Я думал, что советскую администрацию и новое немецкое руководство моя работа не удовлетворяет. Потому что, когда я несколько недель тому назад побывал с этой целью в Рейффенберге, некто с серым, как камень, лицом отвечал мне: «А как вы боролись с Гитлером, господин доктор? В свое время вы из протеста вышли в отставку. Вы никогда не употребляли в качестве приветствия «хайль Гитлер», вы не прибегали к «хайль Гитлер» и когда вызвались исполнять обязанности учителя в Зибенхойзере. Все это нам хорошо известно. Но считаете ли вы, что этого достаточно, чтобы занять сейчас пост, налагающий на вас столь высокую ответственность как на антифашиста?»
Такой вопрос задал мне человек с серым, как камень, лицом, после чего я ушел… А сегодня этот человек был здесь, здесь, за моим столом. Я имею в виду бургомистра, которого знаю много лет. С тех пор, как мы несколько недель назад виделись с ним в Рейффенберге, его лицо день и ночь преследовало меня. Сегодня можно встретить такие лица, которые представляются мне образцом высшей наглядности, символом немецкой трагедии.
За столом помолчали. Худое лицо Эрнста Ротлуфа — обтянутые кожей скулы, провалившиеся щеки, — худое, серое, как камень, лицо встало перед ними, и бескомпромиссная постановка вопроса встала перед ними, и искомый ответ, хотя все уже знали, как выглядит этот ответ на практике. Однако противоречие между вопросом и ответом побуждало их пересмотреть дело, И всем было ясно, что Фюслер как раз и ходатайствует перед ними о пересмотре своего дела, что он хотел бы получить от друзей подтверждение того, что уже было признано по административной линии: доверия к его личности. У людей щепетильных чужое доверие порождает доверие к себе самому.
Из деревни донесся звон кос. Еще отава стояла некошена, да попадался кой-где узкий клинышек яровых. И когда Хладек снова первым нарушил молчание, он оставил привычный тон дружеской насмешки. На сей раз он вполне серьезно сказал:
— Случаю было угодно, чтобы я родился чехом. И когда я из протеста подал в отставку в Карлсбаде, ко мне фашисты отнеслись не столь снисходительно. Они вступили в Прагу, и мое имя значилось в их списках. Я об этом догадывался, да и друзья предупредили меня. Поэтому когда гестаповцы пришли в мой дом, оказалось, что птичка улетела… Если ты на нелегальном положении, каждый камень тебе опасен, ибо от него отдается эхо твоих шагов. Имя надо менять так же часто, как и пристанище. Сорочку порой носишь дольше, чем имя. Нельзя жить на нелегальном положении в одиночку. Для этого нужны друзья. Без друзей подпольщик— человек вне закона — пропадет. Друзья в беде — я хорошо выучил эту песню. И я нашел друзей — друзей в жизни и в смерти. Увы, немало хороших друзей и славных ребят мы не досчитались на дорогах войны — кого поставили к стейке, кто погиб в стычке у насыпи… Карел… Как непостижимо скрещиваются порой жизненные пути людей. Карел шел через ночь вместе со мной, а Франциска — с Леей… — Хладек умолк, поглядел на лес, на излучину долины…
Но что случилось? Сфинкс стонет:
— Не надо, не надо… об этом… Ярослав, почему ты по привез ее?.. — раздаются стенания.
В излучине, там, куда смотрит Хладек, лежит богемская часть деревни Зибенхойзер. Но у нее нет теперь пи названия, ни души. Мертвая деревня неподвижно смотрит пустыми глазницами окон.
— Кто способен вернуть нам хотя бы одного-единственного Карела, одно-единственное человеческое счастье? — вопрошает Хладек.
Фюслер опять стягивает пальцами лоб, заслонив этим жестом глаза. А Ярослав Хладек продолжает:
— Я хочу сказать так: в том, что я стал коммунистом и сумел немного досадить гитлеровским бандитам, нет собственно моей заслуги. Я просто-напросто очутился в огне. И должен был бежать, чтобы не сгореть, чтобы спасти свою жизнь, и не только свою. Эх, если бы я мог тогда у насыпи спасти Карела. Я побежал… я хотел отвлечь огонь на себя. Он был нужнее. Он был моложе. И он погиб. Должно быть, я не плакал. Да, думаю, что нет. В тот час я оглох и высох от горя. Горе иссушает и оглушает. И может стать смертельным, если не закалит. Но что-то я все-таки сделал. Я побежал ради Карела. И это дало мне закалку. Я позволю себе даже сказать: счастье — уверенность — закалку. Когда идешь на бой за счастье человечества, броней тебе тоже должно служить чувство счастья… Когда Карел смеялся, цепные собаки снимали карабины с предохранителя… Тебе, Тео, не приходилось искать друзей так, как мне, друзей в жизни и в смерти, друзей, без которых немыслимо счастье. С тобой нацисты обошлись довольно-таки мягко. Незавидная участь для честного человека. А сейчас такие люди, как бургомистр, как Гришин, как фрау Поль, являются прямо к тебе на дом, находят тебя… а ведь у вас в Германии по-прежнему решается вопрос жизни и смерти… Словом, я хочу сказать: ты прав, если сегодня чувствуешь себя счастливым…
Ханхен, как сидела, сложа руки на коленях, так, сидя, и уснула, но когда Хладек умолк, тишина разбудила ее. Она вся залилась краской и сконфуженно глянула на Сфинкса. А Сфинкс исподтишка улыбнулась ей и покачала головой, словно дала понять, что никто ничего не заметил… и Ханхен поверила ей… Ван Буден, следя за развитием мысли Хладека, все время беззвучно шевелил губами, по-детски пухлыми губами. Иногда же он вытягивал их трубочкой, словно хотел освистать Хладека.
— Перефразируя начало вашей речи, могу сказать: случаю было угодно, чтобы я родился неарийцем, евреем. Я тоже был вынужден искать друзей, и тоже друзей в жизни и в смерти. Я только хотел сказать, господин Хладек, что я все-таки не сделался коммунистом. Разве образ мыслей человека возникает по случайности рождения или диктуется стечением обстоятельств? Да коль на то пошло, это теория хамелеона, теория приспособленчества к той почве, на которой ты стоишь или лежишь, куда ты поставлен или положен. А ваше представление о счастье! Я со своей стороны не хотел бы, как Счастливчик Ганс одеться броней счастья, окажись я на дорогах истории. В этом вопросе я придерживаюсь иных взглядов, а каких именно, позволю себе процитировать, — Он достал из внутреннего кармана своего серого пиджака записную книжку в мягком кожаном переплете и прочел вслух: — «Страдание — вот истинная родина человека, который хочет творить историю. Лишь тот, кто внутренне подвергает себя бедствиям, может понять ход событий и получает стимул изменить его. Пе замыкаться в себе, не принимать безропотно собственную гибель, не дожидаться, покуда все пройдет, чтобы затем жить как ни в чем не бывало, — вот необходимое условие для появления на свет его конкретной свободы».
Ван Буден закрыл книжечку и бережно, как драгоценность, спрятал в карман своего серого пиджака из тонкой шерсти. При этом он словно бы с торжеством заявил:
— Мне видится здесь также возможность развить идею Гегеля. Вспомните, к примеру, знаменитое изречение Гегеля: «Сова Минервы расправляет крылья лишь с наступлением сумерек…»
На сером шелковом галстуке ван Будена тускло поблескивает оправленная в золото жемчужина. Она величиной со стеклянную головку коклюшек, что торчат в подушечке у матери. Мать иногда еще любит по старой памяти пощелкать коклюшками. И сейчас мне тоже вдруг померещилось, будто этот крупный, пасторского вида человек не проговорил, а прощелкал свои слова. Сфинкс хватает его слова на лету и укрывается ими, словно дорогим кружевом. Хладек, тоже язвительно, спрашивает:
— Так как же бывает в жизни: разве человек или, скажем, масса внутренне, по доброй воле, подвергает себя бедствиям? Не наоборот ли, не извне ли подвержен он или она всем бедствиям классового общества? Люди должны работать, отдыхать, спать под мостом, идти на войну должны, должны и должны. Что-то я вас не понял, или вы не объяснились до конца, ван Буден.
И ван Буден объясняется:
— Видите ли, Хладек, все, что вы уже сказали про классовое общество и наверняка еще скажете про классовую борьбу, представляется мне чересчур упрощенным. Применительно к моему существованию это вообще неверно. Мое существование, духовное или социальное, есть существование буржуазное. Сверх того, я католик. И я никак не могу согласиться с вашим утверждением, будто буржуазное общество, буржуазное мировоззрение обречены на гибель. Вы правы, когда указываете на отдельные признаки разложения. Но в целом буржуазное существование представляется мне несокрушимым, правда, если оно, — и тут мне придется вспомнить сказанное ранее — если оно внутренне подвергает себя бедствиям, чтобы понять ход событий и получить стимул изменить его. Да будет вам известно, Хладек, что боль — это мать трезвости, необходимой нам трезвости рассудка. Счастье чревато бедствием опьянения. Третий рейх начался счастьем штурмовика — счастьем бить стекла, а кончился счастьем подростков — счастьем убивать и быть убитым…
А прочную нитку взял он для своих кружев. Он оплетет Хладека. Хладек уже пальцем не может шевельнуть. Он просто сидит и вынашивает какие-то мысли. И Фюслер тоже сидит и тоже вынашивает. Ханхен пулей вылетела из комнаты — спешит избавиться от кислого вина. Сфинкс заплетает в толстую косу бахрому своего шотландского пледа. А будь здесь Хильда, она сказала бы: «Хорошо, что ты со мной и что шумит ветер». Снова поднялся ветерок, тот, что тянет по небу тяжкие августовские ночи. И оправленная в золото матовая жемчужина на сером галстуке крупного человека пасторского вида таращится, как сонный глаз хвостатых амфибий, которых разводил Отто. Таращится, поражая нас немотой. Отвечай, Хладек, отвечай, не то мы пропали. Мы счастья хотим, а не боли… Хладек говорит:
— Есть у меня старый знакомый, доктор Межлик из уголовной полиции. Ему положено являться на место преступления, если речь идет об убийстве. Поскольку он на этом деле собаку съел и поскольку люди всегда убивают друг друга по одним и тем же мотивам, ему обычно удается раскрыть преступление. А затем он приходит ко мне и рассказывает: «Вот, полюбуйся, еще один пошел на это ради тридцати трех крон тринадцати геллеров. Ну, не прискорбно ли, ну, не больно ли за человечество?» А я отвечаю Межлику: «Да, работа у тебя неблагодарная. Ты — как пресловутая сова Минервы, расправляющая крылья лишь с наступлением сумерек. Ты и видишь только то, что видит сова. Ты видишь только оболочку жизни, которая уже мертва, которую уже нельзя больше возродить, а можно только опознать. Конечно, это мучительно, Межлик. Но что поделаешь?» Тогда Межлик начинает задумчиво жевать ус, надевает свою черную шляпу и расстается со мной — до очередного случая… Должен добавить, что он хороший человек, Межлик, и у него большая семья. И притом он капли в рот не берет. «Хладек, — говорит он мне, — ничего, кроме опьянения, это не приносит. А за опьянением следует тот запой, который делает людей убийцами». Вот что говорит Межлик. Как видите, ван Буден, у каждого — свои взгляды. Один философствует над прошедшим; другой предпочитает смотреть вперед и делает все от него зависящее, чтобы не допускать трагедий, о которых повествует Межлик-Сова…
Фюслер похлопал Хладека по плечу:
— Ох, Ярослав, ты разделываешь старика Гегеля, совсем как в былые годы, в нашей студенческой столовке. Тебя не исправишь… — Фюслер смеется.
Даже ван Буден, хмуривший поначалу лоб, не без удовольствия выслушал колкости Хладека, как просвещенный духовник порой не без удовольствия внимает остроумному богохульнику.
— Вы были и остаетесь упростителем, — без насмешки и без язвительности говорит он Хладеку, — но я мог бы поладить с вами. Дело в том, что вы всегда конкретны. Видите ли, в эмиграции мне часто приходилось иметь дело с коммунистами-интеллигентами. И все они упрощают, кто больше, кто меньше. Но всего необъяснимее в моих товарищах по несчастью казалась мне их привычка на каждом шагу употреблять слово «конкретный», хотя сами они чрезвычайно редко прибегали к конкретной аргументации и предпочитали обходиться абстракциями в своей терминологии… — ван Буден отвесил Хладеку изысканный поклон и добавил не без иронии:
— Будучи духовным родственником Межлика-Совы и сознавая, что вы ждете от меня ответа именно как от такового, я хотел бы — и надеюсь, вы не осудите меня за это — осушить бокал в честь прекрасных сумерек… прекрасных совиных сумерек этого прекрасного дня…
Хладек не тронул свой бокал. У него уже готов был колкий ответ — по глазам чувствовалось. Но Фюслер опередил его.
— Итак, они осушили кубки во славу сумерек, — пошутил он.
Ван Буден понял, что допустил, быть может, бестактность и что Фюслеру вряд ли приятно слышать в день своего рождения и высокого назначения разговоры о сумерках и тем более пить за них. А потому он поспешил протянуть свой бокал именно к Фюслеру и произнести следующий тост:
— Слово «профессор» переводится как «исповедующий», и насколько я могу судить, дорогой Фюслер, вы заслужили свое звание в самом лучшем смысле этого слова: вы с неисповедимым достоинством пришли к этому дню. Итак, за ваше здоровье, профессор. Cum deo et die[37].
Сфинкс подавляет зевок.
— Вечное движение монад, — отвечает Фюслер, — вот что лежало и будет лежать в основе моего мировоззрения.
Интересно, что такое «монады»? Ведь не пророки же это? Пророков я знаю всех наперечет — от первого до последнего. Хладек дружелюбно поглядывает на меня, прищурив глаз. Хорошо, когда человек умеет говорить так, как Хладек, — чтобы всем сразу было ясно: вот это правда… Он хочет узнать обо мне подробнее, он подался вперед… Надо будет спросить Хладека о точном смысле некоторых выражений… надо будет спросить, что значит «классовое обществе»». Что такое классовая борьба, я уже знаю. Классовая борьба — это гражданская война…
А Хладек уже взял на прицел Хагедорна:
— Не сочтите за бесцеремонность, молодой человек: вот вы хоть когда-нибудь, хоть недолго преклонялись перед Гитлером?
Ротлуф, что ли, говорил ему обо мне? Сейчас я скажу все как есть, без утайки.
— Да, преклонялся… — отвечает Руди.
— А когда перестали?
— Без пяти двенадцать, — отвечает Руди.
У Фюслера ужас на лице. Ну и пусть ужас. А ван Буден — этот смотрит на меня жалостливо и одновременно с брезгливым любопытством. Ну и пусть смотрит. Сфинкс теребит косицу бахромы. Она, конечно, думает: «Ах, как ничтожны все люди. Что за жалкое существо этот верный Гиперион…» Ну и пусть думает. Не могу я сейчас объяснить Хладеку, какая разница между мной и другими, какая разница была между мной и Залигером, и Кортой, и тем сухопарым заряжающим, и тем белобрысым хулиганом из «Банды Тобрук». Да это и не важно. Хладек все еще изучает меня и что-то бормочет.
— Без пяти двенадцать сова покинула горящее дерево, — бормочет Хладек.
— Я хотел жить, — говорит Руди.
— Все равно, тебе придется еще долго глотать дым. Обгоревший ствол еще дымится. Ты понимаешь это?
Хладек сказал «ты». Недурное вино. Лея впивается пальцами в подлокотник своего кресла. Она встает. Конечно, она думает, что я такой же подонок, как и Залигер. Она надула губы.
— Пойду лопать кислятину, — говорит Лея.
Ах, что она говорит! У Фюслера ужас на лице.
Ван Буден смотрит на нее жалостливо и с нежностью. Хладек все еще изучает меня, прищурив глаз. Вот он слегка вскинул подбородок. А я знаю, Хладек, о чем ты думаешь. Она идет по лужайке, шажок за шажком, рукояткой палки цепляет из озорства за нижние ветки. Дикие груши дождем сыплются в траву. Пойду-ка я за ней.
— Надо же дать и старшему поколению отдохнуть, не правда ли, фрейлейн Лея?..
Как он любезно и почтительно с ней обращается! А она ехидно отвечает:
— А я-то думала, что вам приятно составить мне компанию.
Ну, пусть, бедняга, не надеется на хорошую жизнь, думает Хладек. Он, видно, еще не понимает, что это значит, когда девушка говорит: «Обожаю кислятину». Ничего, еще поймет. Довольно неуклюже предлагает он ей руку, а лицо у него такое, будто он собрался на праздник тела Христова. До чего же они нескладные, эти немцы, от природы нескладные. Будь на его месте Карел, он бы уже давно поцеловал ей руку и улыбнулся бы одними глазами. Когда Карел улыбался, вода превращалась в вино и вьюнки расцветали, как розы. А когда Карел смеялся, цепные собаки снимали карабины с предохранителя… Но Хладеку уже не слышно, как она отнеслась к его, Руди, беспомощной неловкости. Слишком далеко ушли оба по грушевой аллее. Да и профессор требует внимания. Он отыскивает в книгах какое-то изречение, Хладек видит только, как Лея выставила против Руди свою палку, видит и не ждет добра.
Теперь ее слышит только Руди, он слышит, как она злобно шипит, словно не она это говорит, а дурман, ужас, кошмар, засевший в ней. Руди от всей души силится понять слова, которые слышит, непостижимо грубые слова. Потому что ее рот изрыгает такие слова. И они рассыпаются на ее губах. Лея вскидывает свою палку.
— Вот он, мой кавалер… нога сухая, рука кривая… рта нет, кишок нет, вопросов тоже нет, зато верней верного. — И она ковыляет дальше, задыхается, а ее кавалер ударами но склоненным веткам расчищает ей путь. Руди следует за ней, окликает ее по имени, все окликает… окликает по имени.
— Фрейлейн Лея… Фрейлейн Лея…
А она шипит:
— Эй ты, отвяжись…
Но он следует за ней верней верного, беспомощно размахивая руками, и все окликает ее по имени и молит образумиться. Хорошо еще, что он не видит ее глаз, когда она насмешливо шипит:
— Шляпу с Гип-Гип-Гипериона получит мой кавалер… ты не мог бы «организовать» ему шляпу, а, Генрих? Ведь ее можно «организовать»! А сюртук ему достался в наследство, нашептывает мне мой дражайший родитель.
— Фрейлейн Лея… умоляю…
Она резко оборачивается, она упирается резиновым наконечником палки в носок его башмака и, налегая всем телом на палку, шипит:
— Катись ты от меня, пресвятой Генрих, невинность ходячая!
Так чернит она его безумно раздвоенной правдой своего чувства. А он в простоте своей искренне обманывает ее, говоря:
— Я никогда не предавал тебя, Лея.
И еще что-то непостижимое, грубое рвется из ее уст, и она уходит еще дальше в глубину сада, к подножию лестницы. Там она замедляет шаг и без сил опускается на нижнюю ступеньку. Вокруг ступеней буйно разрослась полевая гвоздика. Черная расклешенная юбка увядшим лепестком никнет на сизую зелень бессмертников, на ее туфли. Длинная бахрома пледа падает с опущенных плеч. Концы бахромы она держит обеими руками — как ленты соломенной шляпки. Палка упала, лежит в траве… Перед ним — старуха, вышла за хворостом, а дальше сил не хватает — одолели немощи. Перед ним — девушка, загнали ее в леса смерти, а дальше сил не хватает, одолели гнев и скорбь ио загубленной юности… И еще не хватает сил у оруженосца — у запоздалого беглеца, он безмолвствует, потому что навалилась на него вся громада его вилы; он криком кричит об одном — о сострадании для этой девушки и для себя самого.
А за столом, где остались те, кто постарше, профессор читает выдержки из книг — полным голосом, как в аудитории, так что слышно даже здесь, у лестницы:
— «Высшее, что нам дано от бога и от природы, — это жизнь, вращательное движение монад вокруг своей осп, беспрерывное и безостановочное. Стремление поддерживать и пестовать жизнь неистребимо присуще каждому смертному, однако смысл его скрыт от всех…»
Лея собралась с силами. И опять у нее другое обличье. Теперь это молодая женщина, которая вернулась из больницы, произведя на свет мертвого младенца. Она потеряла много крови, она разбита, ждать больше нечего, и с тихой, неземной кротостью она рассказывает людям, что все было мучительно, что ей не хотелось бы пережить это вторично, а о мертворожденном предпочитает вообще не говорить.
Руди поднял с травы палку. Теперь палка служит ей как указка.
— Полевые гвоздики, — начала она, — обрамляют подножие лестницы и составляют естественное основание, так сказать, изначальную почву. Вы понимаете?
Руди изъявил великую готовность понять. Он стал рядом с Леей перед травяной подушкой и погрузился в глубокомысленное созерцание цветов. А она отступила на полшага назад, так что теперь, подняв палку, задела его локтем. И сказала:
— Представим себе на мгновение, что жизнь — это лестница и что в обычной жизни люди просто поднимаются со ступени на ступень. Мой добрый дядя задал мне урок: я должна поименовать каждую ступень — одну за другой, всего девять названий, потому что и ступеней девять — трижды триада. Чтобы названия помогли нам проследить путь от Тайного внизу к Явному, которое принято именовать земным счастьем, наверху. И еще он поручил мне с помощью Ханхен осмысленно и наглядно озеленить тетивы лестницы. Разумеется, Ханхен решила на самом верху натыкать красных роз. А вы, Руди, что сделали бы вы на ее месте? Вы тоже не можете обойтись без роз, как альбом со стишками?
Руди только теперь заметил, что лестничные тетивы сверху донизу обсажены ирисами, а изгородь по обе стороны от калитки увита побегами цветущего горошка. Не обнаружив, таким образом, ни малейшего намека на розы и желая угодить Лее, Руди ответил, что он не альбом со стишками и прекрасно может обойтись без роз. Скажи он «да», скажи он правду, тогда ночь, ему предстоящая, прошла бы совсем иначе, прошла бы честно. Но он только поддакивал, но он старался казаться учтивым и глубокомысленным, а она жаждала противоречий — противоречий Франциски или Хладека, жаждала простоты, точности, беспощадности, любви, стремления к счастью.
— Скажите, Руди, во что же вы, собственно, верите?
Вопрос был ему не по душе, потому что он вообще не желал быть причастным к какой-либо вере и мечтал о словах простых и точных. Но раз Лея спрашивает о вере, надо предъявить ей хоть что-нибудь. Поэтому он поспешно ухватился за мучительный для него фюслеровский панегирик и выдвинул его как символ веры.
— Я верю в способность совершить усилие, вот во что…
Но не успел он еще договорить до конца, как внезапно понял, что невозможно было ответить лучше и удачнее. Потому что прямо перед собой он увидел узкие плечи Леи и худую шею, и поседевшие волосы, подстриженные сзади мыском. Не эта ли способность — единственное, что нужно сейчас им обоим?
Лея помрачнела:
— Щеголяете в чужих перьях? Это нам не пристало. Да и я не дала ступенькам те названия, которые ласкали бы слух моему дорогому дяде, названия благополучного подъема. Будь моя воля, я бы здесь все засеяла крапивой и репейником. Жаль, Ханхен отговорила.
Лея начала подниматься по лестнице. И на сей раз она приняла руку, неуклюже, как и тогда, предложенную Руди.
— Руди, а вы не забыли еще, что писал настоящий Гиперион? Он писал: «Кто наступил на свое несчастье, тот стал выше…» Хорошо звучит, оригинально, не правда ли? Вообще каждый человек должен бы иметь свой собственный язык, потому что каждый на собственном опыте должен изведать живущее в мире страдание — и смерть, смерть прежде всего. Жизнь — лестница, я ее называю блок. Мы с Франциской жили в одном блоке, у блока был свой номер, и у каждой из нас тоже был номер. И в блоках по ночам насиловали девушек. А потом они выплакивали себе глаза — до смерти. Вот название для ступеней — нары, параша, носилки, плеть, остричь наголо, бункер, проволока, команда…
— Лея, перестаньте, ведь все ото уже в прошлом…
Но Лея не переставала произносить слова на языке своих мучителей. Правда, она произносила их безучастно, просто перечисляла: «Смирно! Перекличка! Шаг вперед! Рассчитайсь! Р-разойдись!»
Только на одном слове у нее перехватило дыхание, и она вцепилась в его руку — на слове «кагал»…
— Лея! Лея, ведь все это в прошлом, раз и навсегда… Поверьте, Лея.
— Что в прошлом? Чему поверить? Может быть, имя Залигер тоже в прошлом?
— Нет! — поспешно возразил Руди.
— Значит, так: преклонялся перед Гитлером до без пяти двенадцать.
— Я был обязан…
— Обязан преклоняться?
— Подпевать.
— Подпевать, продолжать, завершать, доконать, добивать. faire la mort[38], как говаривала Жаклина.
Лея вырвала у него руку, теперь она старалась хоть как-то совладать с собой, не допустить, чтобы волна ее чувств обернулась ненавистью, для нее самой ненавистной. Когда она вырвала руку, он, угадав ее возбуждение, сказал ей с проникновенной нежностью:
— Вы должны наконец забыть все это. Все мы должны забыть.
Язвительная усмешка искривила ее губы, словно опа еще раз хотела упомянуть «дикие груши».
— Да, Руди, вы, конечно, правы: мы должны… Мы всегда что-нибудь должны… Когда ветер стихает, пыль должна улечься. Когда ветер поднимается, пыль должна лететь, пыль, земной прах — мы. Напоминаю вам главный тезис: ах, как все ничтожны… Вы согласны со мной? Да вы, я вижу, сердитесь?
Она не ошиблась. Насмешка оскорбила его, выбила почву из-под йог. И тотчас, как бы желая соблюсти дистанцию, он поднялся ступенькой выше и решительно сказал:
— Мы должны думать о завтрашнем дне, должны, не то…
Лея не дала ему договорить. Она указала на небо, словно видела там что-то, словно прислушивалась к чему-то. Язвительная усмешка сбежала с ее лица.
— Видите самолет? — спросила она. — Слышите?
Руди ничего не видел и ничего не слышал, но теперь у него не было такого чувства, будто его снова хотят высмеять. Да, в лагере ее окончательно доконали, подумалось ему. Теперь у нее навязчивые идеи. Порой во взгляде проскальзывает самое настоящее безумие. А потом она снова делается разумной и кроткой. Около нее и сам помешаешься.
Но Лея не замедлила с объяснением.
— Самолет нельзя увидеть или услышать. Слишком он высоко летит. Три недели тому назад жители Хиросимы тоже не видели и не слышали самолет. И это было последнее, чего они не видели и не слышали. Секундой позже их швырнуло на стены, и они сгорели, и остался после них лишь выжженный орнамент — как на глиняных черепках… — Она сгребла палкой гравий на ступеньке и продолжала: — Когда я думаю о завтрашнем дне, я слышу самолет. Я могу думать о чем угодно, мне всюду слышится и видится только одно: иссушающая смерть, пыль на ветру…
— Надо уметь смеяться, как этот Карел, — сказал Руди. — Ах, если бы мы умели так смеяться, самолет наверняка рухнул бы в море.
Но Лея покачала головой.
— Для смеха нужна надежная основа. А на чем стоим мы? Несчастье — неподходящая основа для смеха.
Руди не нашелся, что возразить. Он промолчал. Ему хотелось зажать уши, чтобы не слышать, как царапает палка по гравию. Лея прошла мимо него и распахнула калитку. В проеме калитки она задержалась. Буйные кудри горошка переваливались наружу через забор, тонкие усики искали опору в бархатистом воздухе, опору для нежно окрашенного цветочного ковра.
— Когда цветы раскрыты, — сказала Лея, — они напоминают чету бабочек — прижались хоботком к хоботку, он свои крылья расправил, она свои подняла.
И опять Лея была спокойной и кроткой. И наставительно говорила с ним. И наставительный тон, и спокойствие, и кротость необычно красили ее в этот поздний час совиных сумерек.
— Я называю эту калитку «прекрасная дверь», — сказала Лея. — Во-первых, потому, что ее можно открыть. Во-вторых, цветущий горошек напоминает мне облачка на высоком небе, если встать внизу, у подножия лестницы, и прищуриться и козырьком держать ладонь над глазами. В-третьих, потому что, поднимаясь по ступеням блока, я могу сказать: «Ну, сейчас меня на смерть огорошат…» Почему вы не смеетесь, Руди? Смейтесь же! Ну, три, четыре…
Вместе с ней он пошел луговой тропинкой, которая вела к лесу. И по дороге рассказал ей, что и он знает прекрасную дверь, высеченную из камня руками старого мастера. Мастер высек из камня цветы, побеги, лозы, и святых, и апостолов. А на замковом камне мастер изобразил пеликанов. Пеликан клювом разрывает себе грудь и кормит птенцов собственной кровью.
— Кто же этот пеликан? — спросила Лея так, словно он не раскрыл ей смысла своего рассказа.
Кто? Странный, неуместный, пожалуй, даже бестактный вопрос. Руди смутился, припомнил злобное бессвязное шипение и почувствовал, как малодушие снова овладевает им. Вот пришли ему на память слова, которые можно было перекинуть, как мост, к сердечному разговору. Но Лея, по-видимому, уже не хотела — или не могла? — воспользоваться этим мостом. Руди только и сумел, что дать совершенно излишнее объяснение, пеликан — это-де символ материнской любви. Но и объяснение его, излишнее объяснение, не достигло берега. Она резко перебила:
— Да, ван Буден уже наставлял меня но этому поводу, а до ван Будена — мой дядюшка, а еще раньше — бог ты мой, как давно это было, — еще раньше Залигер. — И продолжала свою речь, проталкивая каждое слово сквозь стиснутые зубы:
— До чего ж забавно, что все мужчины с таким жаром толкуют мне про пеликана и все выдумывают — от начала до конца… Пеликан, аист — сказки это… Смешная птица пеликан просто-напросто прижимает клюв к груди, чтобы легче отрыгнуть добычу из своего мешка — рыбу… Пет, когда мужчины рассказывают про пеликана, они подразумевают мужскую любовь — отцову любовь, дядюшкину, верную любовь… и все прочее. Я вечно слышу: пеликан, пеликан… а кто это, пеликан? Чего вы, собственно, хотите, Руди?
Совы уже давно разлетелись. Руди и Лея шли сквозь серый антракт между сумерками и ночью. Они подошли к скамье, что стояла наверху у наблюдательной вышки, там, где лес острым зубцом вклинивался в немецкую сторону долины.
— Чего вы, собственно, хотите, Руди?
Он уклонился от прямого ответа:
— Я ведь писал вам, чего я хочу и чего ищу.
И снова перед ним явилась кроткая и наставительная.
— А я вам писала, какого я мнения об этом. В прошлом осталось только одно— время… время — это целый мир… Чего же вы пугаетесь? Вы говорите «новый дух» и говорите «мировой дух» и еще бог весть что, а подразумеваете старую любовь… и не простую, а верную до гроба… Ах ты, господи…
Беспомощно, как прикованный цепью, сидел он рядом с ней на скамье, раскинув руки по деревянной спинке скамьи, и напруживался, играя силой, будто хотел разломать эту крепкую перекладину — как ломают ярмо. И спросил:
— А разве нет духовной любви?
— Я об этом уже думала, — отвечала Лея.
— Ну и?..
— Есть. Имя ей — примирение. Я хочу, чтобы вы помирились с Залигером, когда он вернется. Я сделаю для этого все, что в моих силах. Чем я еще могу быть, кроме как сестрой милосердия, доброй самаритянкой…
Он хотел расшевелить ее, протянул к ней руки. Она его оттолкнула.
— Нет, Руди, не спорьте. Здесь не о чем спорить… Но о чем, если вы до конца честны со мной — честны любя. Когда приспеет время, никто не может знать загодя, как ему следует объясниться… А теперь…
Внизу, в деревне словно запел колодезный журавль — виолончель Фюслера. Где-то дальше в долине завыла и ответ собака.
— Становится свежо, — наконец вымолвил Руди и встал.
Но Лея не последовала его примеру. Она продолжала сидеть, придерживая руками концы бахромы, как ленты соломенной шляпки. Сперва он остановился перед ней в выжидательной позе. Потом склонился к ней:
— Лея, Лея…
— Я уже старая, Руди, старая и страшная. Вот главный тезис.
— Ты прекрасна, ты прекраснее всех…
— Ночью все кошки серы, ночью разницы нет.
Он заставил ее откинуть голову назад, он шепнул:
— Лея…
Она уперлась кулаками ему в грудь.
Мягкая трава на опушке леса… А Лея упирается руками ему в грудь. Ветер улегся, молчат верхушки деревьев над их головами. Лишь журавль колодезный в деревне поет и поет не умолкая. А Лея упирается руками ему в грудь.
— Ты прекрасна, ты прекрасней всех….
Но кожа ее утратила свежесть, а грудь — упругость, и губы у нее сухие. Она упирается руками ему в грудь, она шипит ему на ухо:
— «…вернувшись, нашли пастухи прекрасное тело истлевшим под терновым кустом…»
А там, в деревне все еще поет колодезный журавль и льются сладкие каденции, то усиливаясь при подъеме, то ослабевая при падении. Но у каждой ступени — свое имя. И Лея не упирается больше руками в его грудь. Незачем теперь. Безмолвно, словно устав до смерти, лежит он рядом с ней. Там, где у пего ямка на шее, погти Леи впились в его тело и впиваются все глубже и глубже.
— Ну, кто пеликан?.. — шипит она.
И вдруг где-то рядом покашливание. И голос другой девушки говорит:
— Господин ван Буден прислал со мной одеяло для фрейлейн.
Сфинкс прячет когти. А глаза ее все еще горят передо мной — и в них желтый свет.
Катить вперед… крепко сжимать руль… катить все скорей, еще скорей… ira длинном уклоне за Зибенхойзером выключить скорость… пусть катит сама, груз тянет вниз, уклон увеличивает скорость, хлопает на ветру брезент. За поворотом должно расти старое дерево, оно чуть вздрогнет и снова зашелестит, будто ничего и не произошло… Как ничтожны, ах, как все ничтожны… Хильда не скажет больше: «Как хорошо, что ты со мной». Только ветер останется ей… Крепче держись за руль… Лишь бы не подвели тормоза. Он дает машине закончить разбег, нетвердыми ногами вылезает из кабины и бросается в траву, что растет на опушке вдоль дороги. Бросается и мгновенно засыпает. Но и во сне стоят перед ним желтые глаза Сфинкса, глаза совы…
Поэтому на другой день он скажет:
— Глоток воды, и я ухожу.
И голос у него прервется. Мать стоит тут же, как каменная. Он выходит, словно затем, чтобы наполнить кружку из крана в коридоре. Дверь бесшумно закрывается за ним. Хильда слышит, как бежит по желобу вода. Видит, как он пьет. Он пьет из ее рук. Скоро окончился мимолетный сои. Во дворе разлетается о камни коричнево-пестрая кружка. Тень мелькнула мимо окна.
Ну объясни же своей девушке, объясни своей матери, что происходит, когда разверзается могила Диотимы — возлюбленной Гипериона… и оттуда выходит она, а ты бросаешься к ней и видишь, что тело ее истлело под терновым кустом. Такое не объяснишь. Ты переоценил свои силы, ты думал, что зазвучишь, как струна, едва лишь она коснется тебя. И вот она коснулась тебя, а ты стал еще безгласнее, чем прежде. Эх, ты, нерасторопный любовник, старонемецкий гусак, который может плавать только по спокойной воде, по так называемой глубине, но который удирает с испуганным гоготом, едва лишь эта глубина придет в движение.
Топай прочь, Хагедорн. Уходи и не прощайся. Иди туда, где никто тебя не знает, где никто не спросит, как тебя зовут, откуда ты пришел и почему ты глуп и нем и не можешь быть иным…
Глава четырнадцатая
Дом, в котором жили Хагодорны, стоял над городом, там, где от круто забиравшей вверх каменистой дороги, что стороной огибала Рейффенберг, отходило к городу ровное и короткое шоссе. Дом был старый, с толстыми стонами и низко нахлобученной шиферной крышей. О таких домах в народе говорят, что его перешагнешь и не заметишь. Карниз лежал прямо на верхней перекладине двери. Этот дом, пожалуй, можно бы назвать «Укрытие»: он укрылся в тени старого каштана от полуденного солнца и за горой — от суровых северных ветров.
До кризиса дом принадлежал человеку, который арендовал у города старую, заброшенную базальтовую каменоломню, хотел на этом деле разбогатеть, но жестоко запутался в долгах, так как его базальт не мог конкурировать с пористым рейффенбергским. И когда бедняга совсем уж выбился из сил, у него отобрали дом за многолетнюю просрочку арендной платы. Социал-демократический состав магистрата решил тогда — дело было в тридцать втором — передать этот дом рабочему городского коммунального управления Паулю Хагедорну. Пауль с увлечением плотничал, и латал дыры, и подкрашивал, и подклеивал; отказался от обязанностей казначея, вышел из правления профсоюза и потому не пострадал, когда власть захватили фашисты. Первого мая тридцать третьего он утром вышел на демонстрацию, чертыхаясь про себя, присоединился к Рабочему фронту, а после обеда принялся наводить лоск на неровные каменные степы своего «Укрытия».
«Если в доме балки сгнили, значит, в нем растяпы жили» — такая у него с давних пор была присказка, а он не желал прослыть растяпой, безголовым и нерасторопным хозяином.
Вот и в этом году Пауль Хагедорн заново подмазал стены и залатал крышу, продырявленную пулеметной очередью с самолета. На пригорке под сенью могучего каштана блистал чистотой и свежестью старый дом. Но Руди не оглянулся. Как от погони, убегал он вниз по каменистой дороге. Прочь, прочь, только прочь отсюда! И чем дальше он уходил, тем горше становилась его обида: никто не распахнул в доме кухонное окно, никто не выбежал в сени, никто не крикнул вслед: Руди, Руди, останься!.. Нет, мать не крикнула, и Хильда тоже нет, а уж кому бы и крикнуть, как не ей! Все было тихо позади, когда Руди надумал совершить второй в своей жизни побег, только на этот раз — от самого себя. А можно, пожалуй, сказать и так: на этот раз — от любви. Идея бегства, смутная, рожденная упрямством и отчаянием, возникшая в ту минуту, когда он уронил на пол пеструю кружку, обернулась серьезным намерением. Но пока его мысли еще опережали поступки: он собирался для начала зайти к Вюншманам и пообедать у них, хорошенько пообедать. Кэте говорила, что у них будет сегодня суп с клецками, и приглашала его. Потом он снимет с вешалки свою истертую кожаную куртку, в которой лежит бумажник с регистрационной карточкой и правами, скажет Кэте: «Дай-ка мне сумку, я пойду, стану за картошкой. Сегодня в кооперативе дают картошку. Тебе и думать нечего идти туда в твоем положении. Там люди душатся до полусмерти…» Но сам он тоже не станет в очередь. А пойдет на почту и нацарапает открытку домой. Печально-гордые, задиристо-молодые слова будут в той открытке: «…ухожу на чужбину… хочу попытать счастья под беспощадным солнцем чужбины… Прощайте, мать и отец, прощайте, брат и сестры, прощай, Хильда, прощай и прости…», а дневным поездом без четверти час он навсегда оставит этот город. И тогда последний из детей покинет дом. Кэте вышла замуж, а младших, Кристофа и Бербель, мать отправила работать в деревню, потому что дома нечего было есть. И если настанет день, когда о нем, о Руди, скажут: он ушел на чужбину и сложил там голову— на кого ляжет вина? Да нн на кого. Розы цветут, не спрашивая почему, цветут ирисы и душистый горошек. И каштан шелестит, потому что должен шелестеть. А я ухожу, потому что должен уйти. Так вот и ходит человек по земле. И если он не верит больше в чужое сострадание, ему остается только жалость к себе самому. Не та ли это боль, которую поминал отец Леи? Поезд отходит без четверти час. Уж лучше послушать, о чем говорят друг с другом рельсы и колеса, шины и шоссе. Они больше знают о смысле жизни…
Погрузившись в бездну отчаяния, Руди даже забыл про клецки, которыми собирался как следует набить живот. Не думал он и о том, куда несут его ноги. Резкое «стой» грянуло как гром с ясного неба и на время пресекло его стремительный побег от себя самого и, может быть, от любви.
— Пропуск? — Советский патрульный не желал допускать никаких поблажек: — Пропуск или пошли со мной!
Как же это его, Руди-то, занесло сюда за пруды? Сюда без пропуска нельзя. Это написано крупными буквами по-немецки и по-русски на щитах, что стоят в начале каждой дороги. Потому что отсюда — по какой дороге ни иди — неизбежно выйдешь на улицу, которая раньше называлась улицей Тайного советника Деппе, а теперь вообще никак не называется; немецкому населению приказали ее очистить и затем отвели под расположение советских войск. Как Руди ни пытался доказать, что он заблудился, патрульный все равно его задержал.
— Знаем мы эти «заблудился». Давай в комендатуру!
И пришлось Руди идти по ныне безымянной отлично заасфальтированной улице, мимо высоких вилл, мимо безучастных лиц, немецких и русских, под деревянной аркой зеленого цвета и под проливным дождем оркестра балалаек, который извергался из здоровенного громкоговорителя, до караульного помещения при комендатуре. Там патрульный доложил что-то дежурному сержанту, и тот сделал соответствующую запись в журнале. Затем Руди велели назвать свою фамилию, что тоже было внесено в журнал, после этого сержант что-то коротко доложил но телефону неизвестно кому. Причем фамилию задержанного он выговаривал как «Гагедорн». Патрульного отпустили. У Руди было такое чувство, будто его, как находку, передали с рук на руки. Он стоял в двух шагах от стола сержанта, однако никто не обращал на него теперь ни малейшего внимания. Никто не кричал на него, но никто и но угощал сигаретами, никто не смотрел с ненавистью, но никто и не подбадривал затаенной усмешкой. Сержант, орудуя линейкой и циркулем, вычерчивал на бумаге нечто, напоминавшее деревянный мост. Свободные от дежурства солдаты, человек пять, лежали на койках — кто спал, кто читал. Один солдат сидел у окна и чистил свой автомат. Другой стоял рядом и курил, молча, с отсутствующим видом. А еще одни сидел на батарее центрального отопления и с помощью губной гармошки пытался воспроизвести мелодию балалаек, которая захлестывала площадь перед четырехэтажным зданием комендатуры. На стене висел яркий плакат. А под плакатом стоял немецкий канцелярский шкаф со шторчатон дверцей.
На верхней планке над дверцей до сих пор еще сохранился жестяной кружок с инвентарным номером «Ком. 102/06», а на передних стенках ящиков еще сохранились алфавитные разметки: «А — Д», «Е — К», «X — Я».
И вдруг Руди вспомнил, что уже был один раз в этой самой комнате. Его направили сюда, в сто вторую, с написанным от руки заявлением, где он просил зачислить его добровольцем. Фельдфебель сказал: «Порядочек», подшил заявление к делу и сунул его в ящик с наклейкой «X — Я». Правда, когда доброволец прощался, «хайль» у него получилось не так лихо, как хотелось бы. В полуботинках невозможно как следует прищелкнуть каблуками. На нем и сейчас те же полуботинки. Многое осталось без изменений. Но все неизменное стало другим: чужим, беспредельно чужим. Стоишь обутый, а чувствуешь себя как босиком, шкаф злорадно ухмыляется, собственное имя отдается громовым эхом, а облака, что плывут над Рейффенбергом, который ощетинился верхушками елей, теперь не навевают снов.
Бессильная ярость нелепого раскаяния охватила Руди, покуда он стоял посреди комнаты. Ведь было же у него предчувствие, что вернулся он в чужедальнюю даль. Сразу, едва лишь родной город, пощаженный войной, предстал после разлуки перед его глазами, родилось это предчувствие. Там, на горе Катценштейн. Но Хильда за рукав потащила его дальше.
И широкоплечего пария, что стоит у окна и молча курит, Руди тоже знает. У парня прямо-таки трещит но швам гимнастерка, когда он делает глубокую затяжку. Несколько дней назад он приходил к Руди в мастерскую. Просил сварить лопнувшую рулевую тягу. Отчего ж не сварить? Работали вдвоем, молча. Во время работы выяснилось, что русский больше смыслит в сварке, чем Хагедорн. Когда кончили, широкоплечий Молчальник придирчиво вымерил тягу и попросил подогнать ее в тисках. Потом — как великую драгоценность — сунул Хагедорну в руку три папиросы и сказал: «Советский табак, понял?»
А теперь русский стоял у окна с таким недоступным, таким безучастным видом, будто никогда не сваривали они вместе рулевую тягу и никогда не курили одинаковые папиросы. Русские нас ненавидят, подумал Руди. Наверно, и любезность Гришина тоже была напускной. Если им вздумается, они запросто отправят меня как военнопленного в Сибирь.
Пронзительно зазвонил телефон. Сержант кивнул Молчальнику. Тот загасил папиросу и одернул гимнастерку.
— Пошли! — Они поднялись на два этажа, потом но длинному коридору прошли в угловую комнату, где младший лейтенант и переводчица уже поджидали, судя по всему, человека без пропуска. Молчальник остался в дверях.
— Что вы делали в запретной зоне? — спросила переводчица с резким балтийским выговором.
Руди ответил, что попал туда случайно, по старой привычке, потому что раньше он всегда проходил мимо прудов. Эта самая короткая дорога от дома до работы. Младший лейтенант не просил переводить. Должно быть, он и сам знал немецкий. Он сидел со скучающим видом за письменным столом и теребил свою портупею.
— Вы что, читать не умеете? — спросила переводчица.
На это Руди ничего не ответил. Да от него и не ждали ответа. Зато у него потребовали перечислить все, что он при себе имеет, и в подтверждение выложить каждую вещь на стол: вполне чистый носовой платок, ключ с двойной бородкой от старого комода, вентиль и бумажник. Офицер недоверчиво осмотрел ключ и велел перевести ему ответ Руди на вопрос, какую махину отпирают таким ключом. Содержимое бумажника он вытряхнул на стол. Набралось семьдесят марок, немного мелочи и медная копейка, махонькая такая. Копейку лейтенант отодвинул в сторону. И долго, очень долго рассматривал бумажник снаружи. В кожу была вделана жестяная метка — крохотный танк.
— Так ты фашист, — сказал младший лейтенант.
Руди энергично запротестовал. Никакой он не фашист.
А солдатом он не мог не стать. Его регистрационная карточка лежит в куртке, а куртка висит у Вюншманов, фирма такая Вюншман, и еще пусть спросят про него у рейффенбергского бургомистра, бургомистр знает его с детских лет и может подтвердить, что Хагедорн не фашист и никогда не был фашистом. Но тут в энергичный протест вкралась некоторая неуверенность. Поди знай, как о нем отзовется Ротлуф. Переводчица сделала какие-то пометки в своем блокноте и переписала все предметы, извлеченные и:) карманов. Только носовой платок был возвращен владельцу. Переводчица сказала, что теперь они проверят правильность его показаний, после чего младший лейтенант отдал Молчальнику какой-то приказ. Тот сказал «пошли!» и распахнул дверь. Зеленый грузовик увез Хагедорна и его конвоира. А балалайка заливалась по-прежнему.
В подвале здания суда добродушный солдат с льняными усами открыл какую-то дверцу и осторожненько втолкнул туда Руди. Руди замер у стальной двери. Солнечные лучи, словно древки копий, пробивались сквозь зарешеченное оконце под самым потолком и косо пересекали просторную камеру. И в этом косом свете Рудн вдруг увидел три человеческих лица. Узнал их. И потому уже готовое приветствие, вялое и неохотное, замерло у него на языке. Всех ближе к нему было самое мерзкое лицо. Это был «Муссолини» с оловянными кнопками глаз и с бычьим затылком, бывший учитель физкультуры, тот, кто стал ректором вместо Фюслера, кто называл Лею «фюслеровской девчонкой», а ее поклонников — «мягкотелыми тинами», «негодяями» и говорил, что их надо «клеймить каленым железом». Сейчас этот ожиревший и расплывшийся человек сидел на крышке параши, справа от двери. Он уперся руками в толстые ляжки, выпятил свой сокрушительный подбородок щелкуна, а его оловянные кнопки почти скрытые под отекшими веками, щурились от солнца, освещавшего в эту минуту парашу. Руди увидел, что рот у «Муссолини» — Щелкуна полон золотых зубов.
Два других лица принадлежали рослым, костлявым парням. Скрестив руки, они сидели на освещенных солнцем нарах. Тот, что постарше, учился в одном классе с Залигером, был гефольгшафтсфюрером и на суде духов изображал префекта, это он переломил пополам буковую палочку над головой «преступника» Хагедорна и в прачечной указывал «кату», куда направлять струю. Звали его Деппе, он был внуком того самого тайного советника Деппе, в честь которого некогда была названа красивая улица с высокими виллами. Руди Хагедорн отлично знал, что этот отпрыск одного из лучших рейффенбергских семейств, эта продувная бестия за время войны дорос до банфюрера в гитлерюгенде. Так что на фронте он помаялся месяца два-три от силы. Если верить слухам, он в первую же русскую зиму отморозил пальцы йог, и не простые пальцы, а лейтенантские, разумеется. А весной, когда дело уже близилось к развязке, он, опять-таки но слухам, сколотил местную организацию вервольфа. Лицо у него осталось таким же холодным и высокомерным, как прежде. А младший из арестантов, тот, что сидел на нарах позади Денно, — имя его Руди запамятовал — был, пожалуй, единственным вервольфом, сохранившим верность своему банфюреру. Остальные юнцы, как рассказывала мать, вовремя разбежались. В их числе — и пятнадцатилетний Кристоф Хагедорн. И как раз этот самый преданный вервольф был у Кристофа фенлейнфюрером; он грозил матери хлыстом и орал, что негодяй Кристоф сбежал по ее наущению. Кто бы мог подумать, что в мальчишке семнадцати лет, еще безусом мальчишке, у которого едва пробивался над губой первый пушок, живет такой звериный фанатизм? Отец его был известен как человек щепетильной честности, ему удалось сделаться доверенным фирмы Деппе, выпускавшей галуны, тесьму, эполеты и канитель. А наследничек его предпочитал выслуживаться с помощью хлыста. И судя по всему, до сих пор не перестал мечтать о власти. Во всяком случае, он что было сил старался изобразить на своем лице такое же холодное высокомерие, какое усвоил себе Деппе.
Руди узнал этих людей — недаром же приветствие замерло у него на языке, они его, надо полагать, не узнали. Ни на одном из трех ярко освещенных лиц не мелькнуло даже тени удивления. Они недоверчиво посмотрели на Руди. И поскольку его лицо тоже выражало глубочайшее недоверие, все трое промолчали недобро, с инстинктивной враждебностью.
В камере под самым потолком было два зарешеченных оконца. Но одно из них, правое, было заколочено и закрашено. Так что все свои запасы тепла и света солнце могло доставлять в камеру лишь через левое окно, верхняя створка которого была распахнута до отказа. Под окнами стояла короткая скамья, узкий стол и два табурета. Вдоль стен протянулись нары — в два яруса, с той и другой стороны. Значит, одно место свободно — наверняка там, где нет солнца. Руди и пошел туда, хотел залезть наверх, растянуться и заснуть. Он сохранил еще здоровые нервы флегматика, у которого всякое сильное душевное движение вызывает потребность в сне. И вообще сейчас самое лучшее лечь и уснуть, чтобы не смотреть на эти лица, вставшие перед ним, словно тени проклятого и отжившего прошлого.
Но только он решил вскарабкаться наверх, как Щелкун, сидевший на крышке параши, остановил его: «Это мое место». Твое так твое, можем лечь и внизу. На нижних нарах тюфяк жесткий и плоский, как камбала, должно быть, из пего вытрусили сено. Но тут непримиримый Деппе, не зная, в чем проштрафился новичок — то ли стащил что-нибудь у русских, то ли слишком явно сохранял верность фюреру, — решил выяснить, что это за птица. Отрывисто, словно с плеча, у него по-прежнему свешивалась белая лента, он выкрикнул:
— Хайль Гитлер, камрад!
Руди был невольно озадачен. Он по-прежнему стоял спиной к вервольфам и мог видеть только рожу Щелкуна, который словно перетирал своими чугунными челюстями солнечные пылинки. Хорошо бы, конечно, выдать этому Деппе по первое число, чтоб ответ был как удар в подбородок, подумал Руди. И уже собрался было ответить: «I ad graecum pi!» Но глупо было раздувать старые распри. Втроем-то они меня переспорят, подумалось ему. Поэтому он только и сказал, не оборачиваясь: «Катись от меня подальше», — после чего растянулся на плоском тюфяке спиной к обществу, а про себя подумал: «Как хорошо, что в коридоре стоит добродушный советский солдат с льняными усами и, если соседи слишком разойдутся, можно в случае чего стукнуть в дверь». Однако за его спиной решительно ничего не произошло. Вервольфы только шептались о чем-то. О чем — непонятно. А Щелкун знай себе перетирал солнечные пылинки. Слышно было даже, как они скрипят у него на зубах. Но сон не шел. Руди лежал и чутко прислушивался: не крадутся ли вервольфы к его нарам. Нет, не крадутся. Он слышал только, как Деппе сказал, чуть повысив голос: «Дурак, спер, наверно, у русских пачку овсяных хлопьев». Так было и раньше: только глупость, только тактика Пифке, могла защитить человека от самых отъявленных нацистов. Но бывает, что глупость не сработает, что тактика Пифке подведет, и тогда человек подходит к девушке, которая уронила голову на ящики для снарядов и плачет так, словно хочет выплакать всю душу в зеленый головной платок, подходит к ней и осмеливается перебить самого господина обер-фенриха фон Корта. Есть во мне что-то, думает Руди, что рассуждает за меня, и это — лучшее во мне. Я уйду из Рейффенберга — если только смогу это сделать по своей воле — уйду, но раньше непременно скажу Деппе и Щелкуну и безусому молокососу, что их маски давно пора сдать в археологический музей.
— Спит, болван, такие скоро засыпают, — говорит Деппе.
— Это неважно, камрады, — говорит Щелкун, — все равно мы продолжим наши занятия о поклонении солнцу по системе йогов. Ибо поклонение солнцу облагораживает дух национал-социализма.
И Щелкун начал вдалбливать в своих подопечных идеи солнцепоклонства.
— О, Бальдур… о, ты сын Вотана и Фреи… закали нашу крутую волю… воспламени жар наших верных сердец… святой герой, сбереги знамена штурмовиков…
В коридоре звякают миски. Слышно, как открывают двери в соседних камерах. Щелкун соскакивает с параши и первым становится у двери.
Руди последним в камере получил свою порцию супа. Едва лишь он отошел от двери, неся в руках горячую жестяную миску, солдат снова запер дверь и тележка с железным котлом загрохотала дальше по коридору. Вервольфы заняли табуретки, локти положили на стол и дуют в миски — чтоб скорей остыло. Толстобрюхий Щелкун раскорякой восседает на короткой скамье. Впрочем, они зря старались занять как можно больше места. Руди и без того не собирается обедать за одним столом с «солнцепоклонниками», чтоб их застывшие физиономии не портили ему аппетит.
Он присел на край своих нар, а горячую миску — ничего не поделаешь — зажал между коленями. Вдохнув запах тмина и майорана, Руди в предвкушении сытного обеда с грустью вспомнил, что мать обычно тоже заправляла суп тмином и майораном, и воспоминания заставили его забыть о неприятном соседстве учеников Бальдура. Но нечестивцу мира не знавать, когда его сосед благочестивый того не хочет. Один из трех — Безусый — встал, коварно спрятал руки в карманы, словно не помышляя ни о чем дурном, вразвалочку подошел к Руди и — р-раз! — ударом ноги вышиб миску, зажатую у того между колен. Горячая жидкость брызнула Руди в лицо. Руди завопил от боли и злости, вскочил и хотел тут же отомстить Безусому за подлость. Но враг неожиданно растаял в тумане. Пришлось вытирать платком глаза. Словно издалека донесся глумливый голос Безусого:
— Можешь считать, что ты свое получил. Ясно, сопляк? — Голос приблизился. — Ты сам нечаянно уронил жратву. Ясно? А если у тебя достанет дури нажаловаться, пеняй на себя. Ясно?.. — Голос стал еще ближе. — А всю эту пакость ты подберешь. У русских есть ведра и тряпки. А потом можешь извиниться перед нами, ясно, ты, паршивец? Вот так-то… — голос снова отдалился. Кто-то передвинул табуретку. Чей-то рот с наслаждением зачавкал. Лишь теперь Руди начал различать очертания предметов. Глазам еще было больно, и саднила кожа на лице. Хорошо, что мгновенная слепота пресекла внезапный, неудержимый гнев. Он почувствовал, как противно липнет к груди намокшая рубаха, а к ногам — штаны.
Отвращение помогло ему до конца обратить внезапный гнев в ту ненависть, которая вспыхнула в нем, как только он переступил порог камеры. Но теперь ненависть его не была вялой. Он хотел действовать, хотел с помощью кулака свести старые счеты. Никогда раньше не испытывал он подобного желания. Но в этом анархическом желании присутствовала под видом хитрости лишь ничтожно малая доля разума. Руди смахнул платком капусту с рубашки и штанов. Щелкун и Безусый но сводили с него глаз. Пусть думают, что тот, кого они обозвали сопляком, безропотно снес наказание. Пусть их. А Деппе, которому наверняка принадлежала эта подлая мысль и который заставил Безусого осуществить ее, делал вид, будто вообще ничего не произошло. Он невозмутимо черпал ложкой суп. Шея у него была худая и длинная, а волосы редкие и белокурые, как у Залигера.
С напускным беззлобием Хагедорн обошел стол и остановился возле его узкой стороны, так что Деппе был теперь от него по левую руку.
— Уж если… — начал он и запнулся, как бы от смущения. — Уж если вносить ясность, так до конца… — С этими словами он схватил Деппе левой рукой за волосы, так, что тот вскинул подбородок, а правой изо всей силы нанес удар снизу. Падая, Деппе, словно от удивления, закатил глаза. А следом за Деппе Руди отправил стол с тремя едва початыми мисками супа. Таким безмолвным финалом завершилась хитро продуманная акция Руди. Взрыв потребовал от Руди немалых усилий. Зато уж и взрыв получился что надо!
А какие последствия он будет иметь для Хагедорна, выяснится, как бывало уже не раз, из поведения окружающих. Бычий затылок Щелкуна налился кровью. Он делал такие жесты, словно хотел схватить ножку стола и впиться в нее зубами. Но молчал. И Безусый молчал. Безусый хлопотал над Деппе, пока тот, кряхтя и охая, приходил в себя. Хагедорн с табуреткой в руках отступил к двери. Сиденье табуретки можно использовать как щит, а каждую из ножек — как дубинку. Щелкун подскочил к Хагедорну и, брызгая слюной, завопил:
— Да кто же вы наконец, если не стукач? Стукач из вас никудышный, стукачи — те умнее. Я вам скажу, что вы такое: вы непроходимый идиот, раз вы не приняли наше предложение разделить общность судьбы…
Руди чувствовал на своем лице прерывистое, с брызгами слюны, дыхание этого человека и скверный запах изо рта. Он толкнул Щелкуна подальше на расстояние вытянутой руки. Но Щелкун не унимался.
— Или, может, вы струсили? И боитесь русских? Так знайте, дружочек, что наш рейх сумеет воздать но заслугам и тем, кто остался верен ему, и тем… — тут Щелкун, как для клятвы, выбросил к потолку ладонь, — и тем, кто трусливо предал его, — После этого Щелкун заговорил тоном ясновидца, пророка, гадающего на кофейной гуще. — А русские, большевики, в один прекрасный день так стремительно исчезнут со священной земли рейха, что даже ахнуть не успеют. И это случится раньше, чем упадет с деревьев первый лист.
Итак, Щелкун протрубил на фанфарах сигнал окончательной победы. Но ведь Руди Хагедорн, что стоит сейчас у двери камеры, мешая смущение с воинственным пылом, и сам каких-нибудь полгода назад бодро шагал под звуки этих фанфар, хотя шагать ему приходилось уже по мертвым костям. Что же ему теперь делать? Хагедорн изготовился к безмолвной, ожесточенной схватке. Собирался кулаками доказывать свою правоту, даже радовался такой возможности. Но поведение противника его разочаровало. Они, судя по всему, вовсе не собирались нападать на него. Даже Деппе, кое-как поднявшись с пола и не до конца еще очухавшись, сохранял полное спокойствие — не подстрекал Безусого, не перебивал Щелкуна. А Щелкун продолжал издавать знакомые издавна звуки, колючие и отрывистые:
— Враг сумел взять нас лишь огромным численным превосходством. Мы окружены, окружены в буквальном смысле этого слова. Теперь надо съежиться, съежиться и выставить наружу все иглы — такова нынешняя позиция нерушимой всенародной общности судьбы, — И опять грозным топом доморощенного пророка: — Я не рискую преувеличить, если скажу вам: армия, которая придет нам на смену, уже встала под ружье. Всему миру известно, кто наш враг номер один…
Хагедорн потерся о стальную дверь — словно у него зачесалась спина. Потом заговорил:
— Семь лет назад вы меня выгнали из гимназии, господин ректор. Вы не забыли об этом? Это было связано с гимназисткой Фюслер, полуеврейкой. Ее вы тоже выгнали. И с доктором Фюслером. Его вы тоже… Вы не забыли об этом?
У Щелкуна отвисла челюсть. У Деппе брови сбежались к переносице. Ему с первой минуты показалось знакомым лицо Хагедорна, теперь он сразу все вспомнил. Он вспомнил «преступника» Хагедорна, писклявого шестиклассника, который не дотянул до «третьей смерти». Но свой испуг и свое презрение Деппе скрыл под неподвижной маской холодного высокомерия. Зато Щелкун не сумел скрыть испуг. Он разинул рот и тщетно пытался что-то сказать. Немота этого словодробителя была удивительно приятна Хагедорну, до того приятна, что он решился на некоторую браваду. Он сказал:
— А вчера мы с новым бургомистром и советским офицером по вопросам культуры были на дне рождения у доктора Фюслера. Доктор Фюслер ныне возглавит школу имени Гёте…
Конечно, Хагедорн просто хотел похвастать, хотел снопа разбудить умолкнувшее было подозрение, что он в тесной дружбе с людьми по ту сторону двери. Если судить по совести, это была та полуправда, которая хуже, чем настоящая ложь, полуправда, основанная не на хитрости, а на передержке фактов. Хагедорн и сам почувствовал всю фальшь своей игры и потому добавил, пожимая плечами:
— А вот сегодня русские засадили меня, потому что я угодил без пропуска за пруды.
Но теперь ему никто не поверил.
Безусый так прямо и отрезал:
— Расскажи это своей бабушке.
Щелкун повернулся кругом и, отставив локти и сжав кулаки, как бегун на длинные дистанции, засновал по камере, шесть шагов туда, шесть — обратно, огибая под углом лужи пролитого супа. А Деппе решил, что надо действовать и действовать без промедления. Русские не нашли стукача получше и запустили к нам этого сопляка, как вошь в голову. Но для такого дела парень слишком глуп, к счастью, слишком глуп, это самый заурядный драчун с взглядами обычного пролетария. Ну что ж, таких людей надо сразу брать за горло. И он двинулся к Хагедорну. Начинается, подумал Руди и выставил перед грудью стиснутые кулаки. Но Деппе сказал:
— Забудем глупую стычку, камрад. Суровые времена требуют суровых методов. Надо же знать, с кем имеешь дело. Парень, который умеет постоять за себя, когда его тронешь, сделан из добротного материала, такой всегда будет мне симпатичнее, чем сопляк и размазня… — Деппе протянул ему руку, в этом жесте сквозила подчеркнутая рыцарственность и уважение, и держался он прямо, как восклицательный знак. — Хагедорн, я предлагаю тебе заключить гражданский мир. Я знаю, кто ты такой. Разве по ты еще вчера был с нами в танковых частях и носил Железный крест первой степени?
— Это дело прошлое.
— А теперь по рукам: гражданский мир и больше ничего.
Лея хочет, чтобы я помирился с Залигером, и Руди ударил по протянутой руке Деппе:
— Гражданский мир и больше ничего.
Безусый выломал из паза ножку и сунул ее под опрокинутый стол. Щелкун забарабанил в дверь — вызвал дежурного и многословно, уснащая свою речь обильной жестикуляцией, изложил суть дела.
— Стол капут, стол нехорош, суп хорош. Каша хорош, очень хорош. Но каша разлилась, понимаешь? — Солдат увел Щелкуна, тот вскоре вернулся с ведром воды и с двумя тряпками и начал замывать пол.
— Давай-давай! — сказал солдат, указывая на вторую тряпку.
Деппе подтолкнул Безусого.
— А ну!..
Безусый прикусил губу. Когда камера была убрана, а стол опять стал на все четыре ноги, Щелкун просительно сунул под нос солдату пустую миску. Но тут добродушие русского истощилось.
— Отстань! — крикнул он.
Щелкун покорно воспринял отказ, с кислым видом собрал пустые миски и ложки и выставил посуду на пол в коридор.
Перевернув залитый тюфяк на другую сторону, Хагедорн увидел на досках под ним газету. «Теглихе рундшау» от И июня. На первой странице было напечатано «Воззвание Коммунистической партии». «Сторонники гражданского мира» ухмыльнулись, видя, что Хагедорн начал читать газету. На большее, чем ухмылка, они не отважились. В основном Хагедорн был вполне согласен со всеми десятью призывами. Нашел он там и знакомые слова о воспитании истинно демократического, прогрессивного и свободного духа: он уже читал однажды такой плакат на здании школы в Зибенхойзере. Этот лозунг ему больше всего понравился. И уж, конечно, Фюслер разделяет подобные взгляды. Иначе зачем бы он стал вывешивать плакат? Вычитал там Руди и такую фразу: «Наше несчастье состояло в том, что миллионы и миллионы немцев поддались нацистской демагогии…» Руди подумал: все это верно. Но с этим я уже справился. На такую приманку, как «рейх», «общность судьбы», «ощетиниться всеми иглами» и тому подобное, меня больше не поймаешь. А Гришин, и Молчальник, и младший лейтенант, и даже светлоусый солдат вовсе не станут ахать, а уйдут из Германии, когда сочтут нужным. Щелкун же, сдается мне, из породы тех, кто хочет заговорить свой собственный страх. Дочитав газету до конца, Хагедорн обратился к троице, что сидела за столом, развлекаясь игрой в кости — из щепочек:
— Почтенные господа, справедливость требует, чтобы все тюфяки в это суровое время были поровну набиты соломой. А потому я попросил бы…
И Деппе отозвался тотчас же:
— Да, камрады, он прав…
Ганс Хемпель, комиссар народной полиции в Рейффенберге, сумел поймать своего зятя, бургомистра, в перерыве между двумя заседаниями.
— Слушай, Эрнст, комендатура передала нам на рассмотрение одно дело. Сын Пауля Хагедорна сегодня утром без пропуска, без удостоверения вперся сдуру в запретную зону. Говорит, заблудился. Ты только послушан, оболтусу чуть не двадцать пять, родился здесь и еще имеет наглость говорить, что он заблудился. Так или иначе, он просил справиться о нем у тебя. Комендатура рекомендует воспитательные меры. Вот я и спрашиваю — какие именно. Я велел привести его сюда. Сейчас он сидит у меня в участке и по раскрывает рта, остолоп эдакий…
Эрнст Ротлуф распахнул окно кабинета и убрал со стола заседании набитые пепельницы. Красноречие шурина вызнало у него улыбку. Тот с таким жаром отдавался своим новым обязанностям, что нередко впадал в патетический тон там, где требовалось всего лишь хорошее знание дела.
Стоило ему зацапать молоденького велосипедиста, который не по правилам срезал поворот, как он приходил к раж и учинял тут же среди улицы разнос нарушителю, но поскольку регулирование уличного движения не входило в сферу его обязанностей и он не знал наизусть соответствующих статей, а в былые годы и сам лихо срезал углы, разносы эти звучали весьма забавно. К примеру, так: «Ты что же думаешь, торопыга ты эдакий? Ты думаешь, что угол в центре города можно срезать наискось, как колбасу? Ошибаешься, мой милый. А чтоб ты накрепко это запомнил, явишься завтра в участок и внесешь три марки штрафа…» Но хотя комиссар Ганс Хемпель штрафовал всех без разбора, честные люди его жаловали. Потому что с ворами и спекулянтами он расправлялся без пощады и каждый знал, что на попытки дать ему взятку он отвечает кулаком. Обостренное чувство справедливости, грубовато-откровенная манера излагать свои мысли и — не в последнюю очередь — то обстоятельство, что фуражку он носил, лихо сдвинув набекрень, а темно-синий китель — не застегивая доверху — снискали квалифицированному каменщику и бывшему члену рейхсбаннера прозвище «Рубаха-парень», которым он немало гордился. Но с Руди Хагедорном они не поладили. Руди сразу заартачился, когда Хемпель сказал ему: «Ты такой же упрямый осел, как твой отец». И в самом деле, на что это похоже, если человек даже не может — или не хочет — объяснить, каким ветром его занесло к прудам.
— Я собирался как следует пропесочить его, — сказал Ротлуфу Хемпель, — оштрафовать на пятнадцать марок и отпустить на все четыре стороны. Но раз он артачится, на него надо воздействовать другими методами. А ты что предлагаешь, Эрнст?
У бургомистра был утомленный вид. Его донимали другие заботы. Как поступить с сыном Пауля Хагедорна, он в данную минуту и сам толком не знал. Он сказал Хемпелю:
— Прежде чем совершать правовое смертоубийство души, посоветуемся лучше с Эльзой Поль. Вопросами воспитания у нас ведает школьный отдел.
Им пришлось подняться этажом выше — под живописные своды рейффенбергской ратуши. По дороге Эрнст рассказал шурину о совещании, которое только что провел. На совещании присутствовали все местные владельцы транспортных средств. Общая мощность грузового автопарка составила по сравнению с довоенным двадцать один процент. Да и то, если считать машины, в лучшем случае пригодные для ближних рейсов. Но если город не в состоянии высылать за продуктами свои «флотилии» даже в Берду, не говоря уже о Мекленбурге или Альтмарке, он тем самым не может организовать дополнительный подвоз продуктов для населения. А ведь каждая тонна помидоров, лука или зеленых бобов, которую удалось бы пустить в продажу по спецталонам, хоть на малую толику увеличила бы доверие со стороны голодных, неверящих, перебивающихся с хлеба на воду людей. Ну и владельцы машин не пожалели черной краски, расписывая создавшееся положение, лишь бы палец о палец не ударить ради снабжения жителей. Что и говорить, левые ездки приносят им больше дохода. Ротлуф прямо извелся, придумывая, как бы заполучить хоть несколько грузовиков в распоряжение города. А через полчаса к нему нагрянут другие посетители — руководство больницы с советником медицины Хольцманом во главе. И Хольцман непременно скажет: «Господин бургомистр, нам не хватает перевязочных материалов, медикаментов, белья и прежде всего абсолютно надежной аварийной электроустановки для операционной. На днях одна операция кончилась неудачно, потому что внезапно погас свет. Как хотите, господин бургомистр, так дальше продолжаться не может…»
У Эльзы Поль тоже было вавилонское столпотворение. Посетитель, что называется, шел косяком. Дело в том, что все учителя, состоявшие ранее в нацистской партии, подлежали увольнению. А теперь они являлись к Эльзе Поль уже без паучьей лапы на лацкане и, ломая руки, заверяли, что в гитлеровскую партию они вступили лишь по принуждению и что коллега Майер или Леман, который в нее не вступал, может подтвердить, сколь далеким от политики было их преподавание. Среди просителей встречались и пожилые люди, которым совсем немного осталось до пенсии, дельные и знающие учителя начальных классов — таких Эльзе было от души жаль. Но приказ не допускал никаких исключений. Самое большее, чем она могла нм помочь, — это предоставить некоторым хотя бы трехмесячную отсрочку, да и то при условии, что они согласятся облегчить первые шаги новым учителям, которых еще надо было набрать.
На письменном столе Эльзы Поль стоял помятый старый будильник с двумя звонками. Эльза называла его споим «гвоздарем». Он все постукивал, как гвоздарь: «Тики-так, все пустяк, тики-так, все пустяк». Когда его заводили доотказа — даже легчайшее сотрясение — такое, как, например, задеть носком башмака ножку стола, — вызывало оглушительный трезвон. Поэтому заведующая школьным отделом в трудные минуты жизни, если посетитель не желал добровольно остановить бесконечный поток жалоб и заверений, прибегала к этому средству. И всякий раз будильник творил чудеса. Поток речей жалобщика и заверителя иссякал, и Эльза Поль могла наконец вставить слово:
— Уверяю вас, дорогой коллега, что если вы попробуете свои силы в другой области, то вынужденный перерыв не затянется для вас навечно…
Эльза Поль была хрупкая женщина небольшого роста, очень энергичная, совершенно седая — в сорок-то лот, — но стриженная под мальчика. Говорили, что она поседела в одну ночь. В ночь, когда казнили Альберта Поля. С тех пор прошло около года…
На вопрос, заданный Хемпелем и Ротлуфом, она ответила без долгих раздумий:
— Там, в Зибенхойзере, мальчик произвел на меня совсем не плохое впечатление. Ему, я думаю, было неловко, что Фюслер так его расписывает. Значит, в нем, надо думать, есть еще доброе зерно скромности. И уж, во всяком случае, он не тычет всем и каждому в нос свой маленький протест, на который осмелился при нацистах из одного лишь чувства самосохранения. Вы спрашиваете о воспитательных мерах. Лично я считаю, товарищи, что юноша идет к нам. И если мы не протянем ему руку помощи, его может занести совершенно в другую сторону. Скажи, Эрнст, ты не говорил с племянницей доктора Фюслера?
Ротлуф отрицательно помотал головой.
— Эта девушка, — продолжала Эльза, — живет в раздоре с собой и всем светом. Из страха пред физической неполноценностью она впадает в духовную. А юноша послушен ей, как раб. Ты разве этого не заметил? Она буквально загипнотизировала его…
— Что ты хочешь этим сказать? — спросил Эрнст Ротлуф.
— Я хочу сказать, что он просто не в состоянии объяснить, почему его занесло в запретную зону, тем более когда его обзывают упрямым ослом!
— Ну что за чушь! — рассердился Хемпель.
Доводы Эльзы показались ему неубедительными. По его разумению, она берет под защиту что-то такое, в чем сам он видит вредоносные намерения. А держится так, словно стоит на кафедре.
— Товарищи! Основная мера воспитания, которую мы можем применить к нашей молодежи, — это доверие.
Да, она, Эльза Поль, не скрывает, что хочет предложить молодому Хагедорну должность учителя. В советской зоне оккупации надо заполнить сорок тысяч учительских вакансий, из них двести одиннадцать — в округе Рейффенберг. И первого октября, когда демократическая школа распахнет свои двери, одного из учителей-новичков будут звать Хагедорн.
Эльза Поль говорила так уверенно, как будто ее заветные мечты и желания были уже решенным делом. Туч терпение Ганса Хемпеля истощилось. Он даже готов был ударить кулаком по столу, но в последний момент передумал, потому что вспомнил о высокой сейсмографической чувствительности помятого будильника. И только сказал сердито:
— Товарищ Эльза! Поступить так, — значит пустить козла в огород. Парню нужно самому получить воспитание, а потом уже воспитывать других. У старика мы отбираем дом и работу, кормушку, так сказать, а мальчишку подкармливаем. Да разве вы не видите, что он весь в отца? Вы завариваете кашу, а мне приходится ее расхлебывать… — Ганс Хемпель до того разгорячился, что расстегнул крючки на воротнике. Впрочем, слушателей своих он вряд ли убедил.
Эрнст встал и зашагал по комнате. Хемпель знал за ним эту привычку. Дома, в комнате, которую Эрнст занимал у шурина, он порой целую ночь вышагивал из угла в угол.
Эльза поставила на стол хлебницу.
— Угощайтесь, кто хочет. Овсяное печенье, на сахарине. Сладкое, как грех. Не успела позавтракать в этой суматохе. А сейчас уже половина четвертого.
Ротлуф прихватил на ходу одно печеньице. Хемпель тоже. У него возникла идея.
— А что если… — начал он, — Сегодня в четыре здесь соберутся все жители от «X» до «Я». Рядовые нацисты — мелкая сошка — вносят трудовой вклад: расчищают старый спортивный зал, где содержались военнопленные. Пусть наш ротозей тоже потрудится, пусть три часа помотает колючую проволоку, и дело с концом. Его отец тоже явится.
Но тут взвилась Эльза Поль:
— Нет, Ганс, не тем у тебя голова забита. Видно, методы старой кайзеровской школы не дают тебе покоя. Стоит заговорить о воспитательных мерах, как ты сразу представляешь себе наказания. Ужасное слово — наказания. А я лично думаю о том, как помочь… — и Эльза с недовольным видом обратилась к Ротлуфу: — Эрнст, а ты что молчишь в конце концов? Ты ведь знаешь мальчишку лучше, чем мы…
Эрпст остановился у низенькой подставки для цветов. Да, да, советница школьного отдела разводит цветы у себя в кабинете. Подставка помещается у стены за письменным столом, между двумя низко подвешенными полками. Эрнст притворился, будто внимательнейшим образом разглядывает цветы и травы. Плющ по тонкой решетке взбегал почти до самого потолка и обвивал портрет Эрнста Тельмана, тот, где он в шкиперской фуражке; а по бокам, чуть пониже, висели два других — Макаренко и Дистервега; Эльза Поль, по специальности учительница рисования и черчения, сама написала тушью все три портрета, сама и окантовала. Ротлуф все еще притворялся, будто в целом свете его занимают сейчас лишь бархатные темно-красные колокольчики глоксиний, а того больше — цветущий амариллис. Ол подержал на руке изящный цветок, словно легкую, как пушинка, птицу, и сказал:
— Всякий раз, когда я вижу нежно-розовые переливы этих цветов, я вспоминаю о фламинго. Однажды, совсем еще мальчишкой, я видел фламинго в зоологическом саду. И на всю жизнь запомнил это зрелище. Тогда светило такое же теплое солнце, как сейчас. И переливы красок на крыльях птицы переходили в воздух, а может, это воздух переходил в переливы красок, не знаю. Так или иначе, но все сплеталось в таком величественном покое и красоте — не знаю даже, как бы мне точнее выразиться, но это была…
— …светотень, которую хочется передать, — подхватила Эльза Поль, весьма внимательно, в отличие от Ганса, слушавшая эти, казалось бы, не относящиеся к делу воспоминания Ротлуфа.
— …Да, вероятно, это можно было назвать светотенью. Вот так же, — тут он повернулся лицом к слушателям, — вот так же и с доверием. Доверие и взаимодоверие должны переходить друг в друга, и то, что возникает при переходе, — по мне, можете назвать это светотенью — должно быть прекрасно, да, да, прекрасно и спокойно, и уравновешенно, и не подвластно ни черту, ни смерти, понимаете?
— Я-то тебя понимаю, — сказала Эльза.
И даже Ганс Хемпель кивнул. И оба решили, что Эрнст намекает на трагически сложившиеся между ним и его женой отношения. Конечно, Эрнст подумал и об этом. Мысли о Фридель и детях мучили его денно и нощно. Но он решительно избегал разговоров на эту тему. Вот и сейчас он ничем не выдал причину, по которой ему стали вдруг так близки мысли о доверии. Он поспешил вернуть внимание слушателей к нерешенному еще вопросу.
— Вели парню прийти сюда. Мне все равно надо с ним потолковать, — обратился он к Гансу Хемпелю и указал на телефон.
— А если он улизнет?
— Ну, тогда пусть пеняет на себя.
Хемпель отдал по телефону распоряжение.
Вот открытая дверь — на рынок, на улицу, а вот лестница. Полицейский сказал, чтоб я поднялся в школьный отдел и что меня там ждут. А если я не хочу? Судя по всему, меня освободили. И вернули мне все — ключ, вентиль, деньги и даже копейку. Откуда у меня копейка, младший лейтенант не спросил. А копейка у меня из одной деревни под Вязьмой, она примерзла там к какому-то порогу. Когда я нагнулся, чтобы поднять ее, надо мной как раз просвистела пуля. Забавно получается, господин младший лейтенант: человек нагнулся, чтобы поднять советскую копейку, и это спасло его от советской же пули.
Итак, вот открытая дверь… Поезд давно ушел. Следующий пойдет в девятом часу. Не ждет ли меня кто-нибудь за дверью? Может, Хильда? Сегодня утром она посмотрела на меня, как на человека, который впутает страх и отвращение… Нет, никто меня не ждет… Только фрау Ноль ждет меня, та, что была на вечере в Зибенхойзере. Интересно, что ей от меня надо? Небось, решила прочитать мне нотацию. Хемпель подыскал вместо себя говоруна поделикатнее. Приличия ради стоило бы подняться наверх, хотя все старики городят сплошной вздор. И Фюслер городил вздор, и ван Буден тоже. Что старики понимают в молодых? Ни черта они не понимают. Только Хладек говорил толково: «Надо уметь смеяться…» А над чем смеяться-то? Нам не от чего смеяться. Я любезно выслушаю нотацию. Это поможет мне убить время до поезда. А потом я зайду к Кэте, перекушу, надену куртку. Вюншман наверняка отпустит меня до конца дня, когда узнает, что меня зацапали русские. И я смогу не спеша распрощаться с милой, старой родиной, где чужое ползет из каждого паза, каждой щели, пробивается между камнями мостовой, ложится на крыши и лица. У буфетчика на вокзале, отец мне рассказывал, сохранилась еще водка из старых запасов.
Стулья сдвинуты в кружок. Стол не разделяет их. Эрнст Ротлуф сгорбился, руки положил на колени, чтобы доверительно близко наклоняться к Хагедорну.
— Видишь, Руди, вот нам и представился случай поговорить друг с другом. Дело в том, что мы получили письмо из Эберштедта от некоего Германа Хенне. Ты знаешь этого товарища?..
Так вот откуда ветер дует. Хенне, небось, интересуется, как я себя веду, как у меня с Хильдой и не ждем ли мы. чего доброго, прибавления семейства. Он всегда заботился о Хильде. Обо мне гораздо меньше…
— Да, я знаю Германа Хенне, — пробурчал Руди.
— Он передает привет тебе и той девушке, которую ты привез с собой.
— Спасибо большое…
Эльза Поль, ничего не знавшая об этом письме, но знавшая зато об отношении Руди к Лее, спросила, как бы из чисто женского любопытства:
Ах, молодая пара? — и пошутила — А вам известно, господин Хагедорн, что я веду учет по этой части? Чем больше молодых пар, тем оживленнее становится у нас в округе. Какая хоть она, блондинка, брюнетка или шатенка?
Кровь бросилась Руди в голову. Он промолчал. Эльза с огорчением отметила это. А Ганс Хемпель еще больше разозлился на Руди. И прорычал, что только ночному сторожу простительно не знать, как выглядит его девушка, потому что он обычно днем отсыпается. Ротлуфу тоже не понравилось, что Руди так ломается. Но он предпочел обратить все в шутку:
— А может, она рыжая, как пожар, и ему неохота признаваться в этом. — Тут Ротлуф выпрямился. — Впрочем, я звал тебя за другим. Я хотел поговорить с тобой о капитане Залигере. Хенне пишет, что ты в последние дни войны был вместе с ним на одной батарее…
«— Какие там дни, несколько часов…
— Но тебе известно, что Залигер, по всей вероятности, донес на одного из наших товарищей? И его донос стоил товарищу жизни. В последний час войны, в последнюю минуту. Ты знаешь об этом хоть что-нибудь? Не проскальзывал ли в речах капитана какой-нибудь намек? Для нас это вопрос справедливости. Военные преступления должны быть наказаны. И тот, кто покрывает военного преступника — ну, к примеру, во имя старой дружбы, — тот становится его соучастником.
— Да, Хенне уже пытался убедить меня, что я что-то знаю. Но я и в самом деле ничего не знаю, — тоскливо сказал Хагедорн.
Они сидели лицом к лицу, стол не разделял их. И все молчали. В этом молчании угадывалось недоверие; Хагедорн ощущал воображаемое недоверие всем своим существом и, разглядывая цветы и портреты на стене и слушая, как стучит будильник, мечтал унестись подальше отсюда, где все люди новые и все вещи новые и проклятие прожитых лет не обленило их твердой корой. Когда Ротлуф подхватил оборванную нить разговора, он заговорил спокойно и неторопливо, словно принял неловкое молчание за минуту согласных раздумий. Он предложил Хагедорну подойти вместе с ним к окну. Хемпель и Эльза Поль тоже встали.
— Отсюда, — сказал Ротлуф, — можно снимать общий вид Рейффенберга. Вон «Аптека трех мавров», вон, на углу, дом булочника Кербеля, вон «Саксонский двор», вон дорога на Шмидберг и дальше, к старому спортзалу, а совсем наверху, на Юххоэ, стоит домик дорожного смотрителя. И снова люди снуют вверх и вниз — как сновали встарь…
Эх, если бы Хнльда спустилась вниз, я сунул бы в рот два пальца, да как свистнул бы… Пусть поднимет голову. Вообще-то ей не грех бы поинтересоваться, чего ради я привез такую хорошую белую муку, целых двадцать пять кило…
— …Но разве можно угадать, о чем думают эти люди? Редко, очень редко встретишь открытое лицо. Толпа оголодала, стала тупой и жадной. Когда я вернулся домой, я думал, что массы, рабочие, все эти маленькие люди будут стыдиться, искренне стыдиться…
— Ты несправедлив, Эрнст, — перебил Хемпель.
И Эльза Поль добавила:
— Не надейся, что завтра состоится демонстрация пристыженных. Справедливо одно: пристыженных так много, что их хватило бы на целую демонстрацию. Но кто стыдится, тот всегда молчит, так уж устроена жизнь.
Занятные мысли у этой женщины! Может, и я поражен немотой именно потому, что мне стыдно…
— И еще я встречаю людей, — говорит Ротлуф, — у которых такой вид, будто им помелом заехали в лицо. Но, завидев меня, они начинают сиять, как медовый пряник: «Здравствуйте, господин бургомистр, вам надо бы поменьше хлопотать, господин бургомистр, отдохнуть после всех страданий, господин бургомистр, в лагере творились, наверное, такие ужасы…»
Из булочной Кербеля выходит девушка в зеленом платке. Но это не Хильда. У Хильды другая походка — легче и быстрей. До чего ж я обрадовался, услышав ее шаги, когда после ссоры опа пришла ко мне от Лизбет, совсем рано, на рассвете. Внизу под лестницей она сняла башмаки… а потом накрыла стол в чердачной каморке, а потом…
Ротлуф говорит:
— Господин аптекарь тоже сияет, как пряник. В войну он вел поставки на три госпиталя и изрядно нагрел руки на этом деле. У него теперь три больших доходных дома и аптека в Рейффенберге и загородный дом в Рашбахе. На днях он остановил меня на улице и давай источать елей, а потом сообщил мне, что его сыночек недавно освобожден из американского плена, но опасается вернуться домой, потому что в советской зоне бывшему офицеру угрожают репрессии. Старик не на шутку горячится из-за своего «затравленного» сыночка, вот он и зондирует почву. «Ведь, правда же, господин бургомистр, у нас не применяют никаких репрессий к бывшим офицерам? Они должны просто отметиться в комендатуре, что протекает корректно, в высшей степени корректно». — Ротлуф перестал обозревать крыши и открытый горизонт и в упор взглянул на Хагедорна. — Тебе еще не приходилось после возвращения беседовать с твоим прежним благодетелем?
Интересно, откуда он знает, что старый Залигер ежемесячно выдавал мне пятнадцать марок на учебу? Небось, Хемпель сказал. Они до сих пор считают меня залигеровским прихвостнем. Им непременно хочется навесить ярлык на человека. Упрямый осел, — думает Хемпель; обманщик, — думают Хенне и Ротлуф; сгодится для прироста населения, — думает Эльза Поль; фашист, — думает младший лейтенант, и все они хотят одного: чтобы человек согнулся в три погибели, испытывал стыд, пресмыкался в пыли, молил о прощении. А за что меня прощать? За то, что старики перегрызлись в тридцать третьем, коммунисты и социал-демократы, и Гитлер сумел выйти победителем? Прочь из этой заварухи и пусть я даже ходил к старому Залигеру…
Хагедорн выдержал взгляд Ротлуфа и ответил:
— Да, я был у Залигеров и сказал им, что их сын здоров и в плену. Я просто по-человечески обязан был это сделать. Они хотели подарить мне почти неношеное зимнее пальто, а я не взял, и отец говорит, что он бы тоже не взял. Зато я взял костюм Герберта Фольмера, костюм подарила мне его мать. Да неужели вы думаете… — Руди обрадовался, что ему наконец пришло в голову простое и убедительное доказательство, способное развеять глубокое недоверие, которое, как он полагал, испытывают к нему все трое.
Словно мстя за оскорбление, он сказал:
— Да неужели вы думаете, что мать Фольмера подарила бы мне его костюм, если бы я казался ей хоть как-то замешанным в гибели сына? Ведь у такой женщины больше ума в сердце, чем у некоторых в голове…
Эльза Поль ободряюще улыбнулась, подошла к полкам и взяла из стопки какую-то анкету в несколько страниц. «Светотень!» — сказала Эльза Поль. Уж не из тех ли она, что говорят «кислятина»? Короткая стрижка под мальчика и седые волосы еще могут напомнить Лею, но глаза — нет, эти спокойные глаза за стеклами очков без оправы и быстрые движения скорей могут напомнить Хильду.
А Хемпель вдруг сделался похож на Хладека. У Хладека тоже бородавка на щеке. И для вящего сходства Хемпель говорит:
— А я подумал было, что у тебя распухли миндалины самолюбия, раз ты там, в участке, не пожелал даже разинуть пасть.
И только Эрнст Ротлуф остался самим собой. Ничто не изменилось в сером, как камень, лице… чужое ложится на крыши, на лица… И в неожиданно вспыхнувшем сознании одержанной победы — в сознании того, что несколько точных, правильно найденных слов помогли ему склонить на свою сторону Ганса Хемпеля и Эльзу Поль, Хагедорн вдруг испытывает острую потребность рассказать про свои злоключения в камере. На него вдруг нашла словоохотливость. Как на старого Фюслера, — мелькнуло в голове. И все, что он говорил теперь, говорилось ради одного Ротлуфа, все ради того, чтобы согнать отчуждение с серого, как камень, лица — согнать полуправдой, ибо Хагедорн умолчал о заключенном в камере гражданском мире.
Но умалчивая, стыдился и своей лжи, и полуправды, стыдился и трусости своей, и неверия, но не мог принудить себя к правде полного доверия, ибо лично для себя считал правду делом немыслимо сложным. И чем дальше он говорил, тем ленивее и беспомощней тек его рассказ. Однако слушатели проявили величайшее внимание — за высокомерное, затаенное недоверие платили искренним признанием, и раньше других — Ганс Хемпель.
— Видишь ли, мой дорогой, тот младший лейтенант из комендатуры нехорошо с тобой говорил. Но он первый обрадуется, когда узнает, что был неправ. Не исключено, что это порадует и твоего отца. Мне надо с ним встретиться но делу не очень-то приятному — ты, наверно, в курсе. Но, может, у него станет легче на душе, когда о я узнает, как его парень угодил в «паноптикум» и по-свойски разделался там с «восковыми куклами».
Тут Хемпель застегнул воротник и сказал, что ему пора. В дверях он обернулся:
— Век живи, век учись, а… методам воспитания не выучишься…
Это было сказано с ехидным подмигиванием и адресовалось фрау Поль, маленькой, изящной фрау Поль, которая с анкетой в руках вышла из-за письменного стола и, задрав голову, скороговоркой принялась рьяно агитировать долговязого Руди Хагедорна:
— Я имею на тебя виды, коллега Хагедорн. Не испытываешь ли ты желания стать учителем? Ты уже учился в шестом классе гимназии, тебе не обязательно проходить подготовительный курс, ты мог бы сразу, с первого октября, приступить к занятиям, а повышать квалификацию уже по ходу дела. Ты, может, сумел бы взять какой-нибудь из прежних старших классов, нам надо довести их до выпуска, там ребята по пятнадцать шестнадцать лет. Платить тебе будут пока пять марок в час. Ну и, конечно, социальное страхование. Для начала дадим тебе десять часов в неделю, рабочую карточку. Вот анкета, заполни ее, к анкете приложишь краткую автобиографию и две фотокарточки, как для паспорта, а если у тебя есть пожелания относительно учебных дисциплин… — Тут вдруг грянул будильник, Эльза вздрогнула и, посмотрев в смеющееся лицо Ротлуфа, просто-напросто закрыла будильник обеими руками — унять этот чудодейственный звон не мог никто на свете.
— Не заводи другому будильник, не то сам… — и она сконфуженно вздохнула.
А Эрнст Ротлуф сказал:
— Ты печешь учителей, как пекарь кренделя. А не мешало бы сперва узнать, хочет ли человек вообще быть учителем.
От его глаз не укрылось, что Руди держал в руках анкету, как раскаленное железо, и что дружественная и скоропалительная атака Эльзы привела его в совершенное замешательство.
— Неужели я его не спросила, хочет ли он? — защищалась Эльза, до сих пор зажимавшая глотку будильнику.
Когда мучитель отзвонил до конца, Руди сказал:
— Не знаю, как и быть, фрау Поль. У меня нет педагогических способностей… Вы говорите, ребята по пятнадцать-шестнадцать лет… может, такое же хулиганье, как в «Байде Тобрук», я имел счастье с ними познакомится, и спасла меня только палка…
Заложив руки за спину, Ротлуф снова начал мерить шагами комнату.
А Эльза Поль сказала:
— Я тоже познакомилась с этими деточками, они не знают ни родителей, ни родины и ведут себя так, словно отцом у них был солдатский сапог. Уж поверь мне, коллега, у меня с ними дело обошлось без палки. Кстати, если женщина преклонного возраста переходит с тобой на ты, можешь соглашаться без страха и сомнений. Это не заигрыванье. Просто я спохватилась, что уже сто лет знаю тебя. Ханна Цингрефе рассказывала мне о тебе.
Улыбается рот женщины, улыбаются глаза. Такие глаза видят человека насквозь. Скажу ей «да» и дело с концом, только пусть скорей выпустят меня из этого застенка.
— …Детский дом в «Веселом чиже» мы расформировали, а детей устроили лучше. Теперь они живут в бывшем имении под Дрезденом. Ханна — добрая душа, конечно, всплакнула, когда ее питомцы уезжали, ну и они тоже… Неплохо бы тебе заглянуть в рашбахскую школу, где хозяйством заведует твоя тетка. Это будет всем школам школа. Четыре года проработала я там со своим мужем. Там мы познакомились, там поженились, и ни одна тучка не омрачила наш медовый месяц… А шить твоя девушка случайно не умеет? Я что-то такое слышала. Она могла бы давать уроки рукоделия. Пока человек учит, он учится сам. А работать вместе с любимым человеком, иметь общую цель и общую веру… я всегда считала это самым надежным залогом счастья…
Перестань, Эльза Поль, перестань наконец! У меня голова раскалывается… Не могу же я заявиться к Хильде и сказать: идем… Она видела следы ногтей Сфинкса на моей шее. И вас я тоже обманул своим рассказом о Щелкуне, Безусом и Деппе… А Лея хочет, чтобы я помирился с Залигером…
Эрист Ротлуф слова остановился у цветов. Потом глянул через плечо и сказал:
— Слушай, Эльза, оставь парня в покое. Такое решение не принимают сгоряча. Ты бы лучше подумала о том, что он из-за сегодняшних приключений и похождений умирает, наверно, с голоду. Мне все равно нора уходить, пусть и он идет со мной, не то ты испепелишь его своим ураганно-педагогическим огнем…
— Принеси мне бумаги до конца недели, — крикнула вдогонку Эльза Поль, когда Ротлуф без долгих разговором схватил Руди за руку и потащил прочь.
В приемной дожидались просители. Некоторые даже встали, смущенно бормоча приветствие, когда завидели нового бургомистра с худым и серым, как камень, лицом. И каждый получил ответ на свое приветствие, без ненависти, без высокомерия, разве что сопровождался он удивленно-пытливым взглядом, означающим примерно следующее: «Как, и ты тоже»?
Хагедорн поспешно сложил анкету и сунул ее в задний карман брюк. Эрнст вывел его на черную лестницу, где было меньше народу. На площадке Эрнст остановился.
— На, долговязый, спрячь-ка.
И Руди почувствовал в руке какой-то клочок бумаги. Это был хлебный талон от дополнительной карточки Эрнста. Выслушивать благодарности или отнекивания тот не пожелал.
— Спрячь, и все тут. А теперь вот что: помнишь, я спросил тебя, не был ли ты после возвращения у аптекаря. Ты ведь слышал, как он пытался зондировать почву. «Ведь правда же, офицеры не подвергаются репрессиям», и тому подобное. Что бы ты ответил ему на моем месте?
Опять начинается пытка. Ну, откуда мне знать…
— Хоть убей — ничего не знаю. Залигер мне даже словом не намекнул… И с родителями его я тоже не говорил на эту тему…
Ротлуф облокотился на перила между двумя столбами, поддерживавшими свод лестничной клетки.
— Я тоже ничего не знаю. Но мы с тобой — и еще несколько человек — знаем о существующем подозрении. Подозрение может быть обоснованным, а может быть ложным. В настоящий момент оно недоказуемо. Я хочу сказать, что существует только один свидетель, и это — бывший капитан Залигер собственной персоной. Как и каждого человека, его неизбежно потянет на родину. Кое-кто возвращается на родину под покровом ночи и так же исчезает. Если Залигер поступит так, он станет свидетелем против себя самого. Потому что из-за Леи Фюслер ему опасаться нечего. С правовой точки зрения тут дело личное и ничего более. Я ведь что хочу сказать, Руди: под покровом ночи он может неожиданно возникнуть перед тобой — потому что захочет повидать тебя, потому что вы в молодости много бывали вместе, потому что он захочет расспросить тебя, откуда ветер дует. И если это произойдет, ты уже не сможешь говорить: «Я ничего не знаю». После этого говорить: «Я ничего не знаю», — значит солгать. После этого ты должен будешь знать, как поступить, — если ты, конечно, не обманщик.
А не рассказать ли Эрнсту, что там, в камере, я заключил с нацистами гражданский мир? Но тогда на мне останется клеймо обманщика. Нет, я должен по-другому исправить ошибку…
Хагедорн кивнул и, проглотив застрявший в горле комок, сказал:
— Не беспокойся, Эрнст. Я знаю, как поступить…
Внизу, у крыльца, Эрнст протянул ему руку.
— И еще одно, Руди: твой отец все время был дорожным смотрителем магистрата, и его угораздило вступить в нацистскую партию, когда шла война. Поэтому мы были вынуждены освободить его от занимаемой должности и предложили ему освободить дом. Но, если он готов быть у нас простым рабочим, мы можем оставить ему дом. Твой отец прекрасно это знает. Ему одно не по праву: что я буду, так сказать, его начальством. Вот и передай ему, что в наши дни и бургомистр тоже рабочий…
Все станет явным. Такого не скроешь. Хемпель расскажет переводчице, переводчица — младшему лейтенанту, младший лейтенант захочет выяснить обстоятельства — он для того и поставлен, чтобы выяснять, а Деппе, эта аристократическая скотина, возмутится: «Как, значит, это мы приставали к вашему Хагедорну? Он сам изволил опрокинуть свою мисочку и взбеленился и подпил шум, а потом, когда его отпустило, мы предложили ему добрососедские отношения, и господин Хагедорн осчастливил нас своим согласием». Деппе изобразит благородное негодование, и, поскольку я вынужден буду согласиться с его последним утверждением, я буду разбит по всему фронту.
Анкету мою они порвут, Ротлуф скажет: «Ты обманщик», а Хильда — если мне только удастся вернуть ее — испытает второе разочарование, и никому на свете я не смогу объяснить, почему совершил в камере такую ошибку… Помирись с Залигером… Никогда в жизни я не предам Лею. Она желала мне добра… Чужое ползет из каждого паза, каждой щели, пробивается между камнями мостовой, ложится на крыши и лица. А в девятом часу отходит мой поезд…
ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ Старый ствол
Глава пятнадцатая
Это был день, когда родители Армина Залигера на собственной машине отправились с визитом в Зибенхойзер. Машина, некогда весьма импозантная, а теперь до того старомодная, что ни одна из реквизиционных комиссий не сочла возможным изъять ее для военных нужд, выглядела как две шляпные картонки, снабженные колесами, одна побольше — позади, другая поменьше — впереди, а ее оконные занавесочки вызывали в памяти накрахмаленные красоты катафалка или исторические экипажи, в которых, ио глубокому убеждению добрых рейффенбергцев, привыкли кончать свою жизнь от руки злодея наследники престола, монархи или президенты. Многие действительно испытывали желание отыскать на черной лакированной дверце корону или герцогский вензель на стекле. Но вместо подобных знаков на ветровом стекле экипажа красовался большой, как футбольный мяч, красный круг, в кругу — соответствующих размеров красный крест, сзади же, над запасным колесом, был прикреплен флаг Красного Креста. Свою музейную редкость господин аптекарь любезно предоставил в распоряжение городской больницы для перевозки больных «в экстренных случаях», что и дало ему право обзавестись защитными знаками. Кроме того, госпожа аптекарша после войны развозила готовые лекарства по окрестным деревням, что давало предприимчивой чете не только дополнительные талоны на бензин, но и всевозможные продукты, полученные в порядке обмена. Под защитой Красного Креста госпожа аптекарша, по ее собственным словам, чувствовала себя «как шведская комиссия» и заверяла каждого, что русские относятся к ней «ну прямо как к сибирскому ангелу». Даже народная полиция Ганса Хемпеля никогда не останавливала эту машину на обратном пути из рейсов. Они ценили добровольное и безвозмездное участие владельцев «Аптеки трех мавров» в организации медицинского обслуживания.
Итак, на другой день после достопамятного торжества в Зибенхонзере Залнгеры отправились с визитом к доктору Тео Фюслеру. Вчера их никто не приглашал. Сегодня их тоже никто не приглашал. И потому третьим пассажиром села в машину нечистая совесть Залигеров. Впрочем, совесть, может быть, удастся оставить в машине или на обратном пути потерять где-нибудь в непроходимой чаще. А Фюслер — человек незлопамятный. И ни разу еще не отвергал руки, протянутой ему в знак примирения. Все земные прегрешения человечность исцелит. Как часто ему приходилось защищать эту мысль, защищать пылко и красноречиво, даже после преждевременной отставки, даже после начала войны, но, разумеется, не после того, как забрали Лею. С того дня он отдался своему горю и искал одиночества. Но ведь Лея, Лея, которую он обожает, опять вернулась домой…
В Рейффенберге уже шли разговоры о том, какие важные гости были вчера в Зибенхонзере и какие почести выпали на долю старого Фюслера. И сегодня за утренним кофе Эльмира Залигер сказала мужу:
— Нет, Рудольф, так продолжаться не может. Я больше не вынесу разлуки со старыми друзьями.
Мадам была еще не причесана, а когда она бывала не причесана и не подкрашена, она и выражалась весьма неприкрашенно.
— Ты сидишь, как болван, и помадишь себе усы, а Фюслер тем временем стал директором, мой толстяк, да с какой еще помпой! Неужели ты не понимаешь, что это означает для нас? Ты бы хоть столечко подумал о своем родном сыне!
Подвергшись яростному натиску супруги, Рудольф Залигер всей тяжестью опустился в плетеное кресло, так что сиденье застонало. О ком же ему и думать, как не об Армине. Мальчик не решается вернуться домой, боится, что история с Леей Фюслер обернется против него уже по-другому, сделает его пребывание здесь немыслимым, закроет перед ним все пути. Фюслер и эта самая Лея — и очень может быть Хагедорн (он что-то держался весьма холодно) — будут вставлять мальчику палки в колеса. Да еще как!
— Решено, мы едем в логово льва! — провозгласил Рудольф Залигер и взмахнул серебряной кофейной ложечкой, как бы салютуя саблей.
Эльмира была довольна. Таким она знала своего мужа, таким она любила своего мужа. Но ей было бы очень больно, если бы Рудольф принял это решение вполне самостоятельно, без ее приперченных понуканий.
К тому же с неделю, если не больше, в гостиной возле фарфоровой совы — дымоуловнтеля под настольной лампой — лежало письмо от сына. Длинное письмо, которое потрясло родителей, ибо в ясных выражениях говорило о тоске по родине и в туманных — о глубокой, «бескорыстной» тоске ио вернувшейся Лее, и содержало идею совершенно безумную, если учесть, что речь шла о Лее, идею, вызвавшую у родителей вначале искреннее возмущение, а затем — столь же неподдельное восхищение. К длинному письму для родителей было приложено другое, запечатанное, — для Леи Фюслер. Армии просил родителей, если они согласны с его идеей, вручить это запечатанное письмо Лее в собственные руки и ходатайствовать о скорейшем ответе. После недолгих колебаний Эльмира решила — по праву матери и без ведома мужа — подержать запечатанное письмо над паром. В письме эта неслыханно мудрая идея была изложена как прошение и изобиловала такими высокими словами о мужском раскаянии и беззаветной жертвенной любви, что растроганная госпожа аптекарша не могла сдержать невольных слез. С таким (вновь старательно заклеенным) письмом можно без опаски постучать в дверь Фюслера, которую ветер — а то кто ж еще? — захлопнул несколько лет назад…
Некогда между Фюслерами и Залигерами существовали самые теплые и сердечные отношения — они, так сказать, встречались домами. Начало этому было положено эдак в середине двадцатых годов. Сближение произошло на музыкальной почве. У фрау Залигер, с юных лет помешанной на светской жизни, каждую неделю в большой гостиной с лепными украшениями в стиле барокко и заново настеленным фигурным паркетом бывали музыкальные вечера. Для избранных, разумеется. Фюслер, тогда еще рядовой преподаватель-штудиенрат удостоился этой чести лишь потому, что играл на виолончели, смерть же вырвала из струнного квартета его предшественника, старого капельмейстера при церкви св. Катарины. Итак, он сразу же влился в тесный круг музыкантов, где и пребывал вкупе с поверенным в делах Репатусом, самим аптекарем и советником медицины доктором Хольцманом, и это отчасти помогло ему сносить тот коммерческий душок, который с легкой руки хозяйки дома господствовал у Залигеров. Ибо Эльмира Залигер происходила из семьи фабриканта Хенеля — она была единственной дочерью верноподданного Готлиба Бруно Хенеля, того, кто увековечил пресловутый королевский источник, кто некогда давал хлеб и работу как Эрнсту Ротлуфу, так и Паулю Хагедорну. (Впрочем, последний, как нам известно, снова устроился к Хенелю.) И вот — это было в те времена, когда состоятельные граждане смогли наконец свободно вздохнуть после пережитых страхов революции, — едва лишь сверкнет гранеными подвесками хрустальная люстра на втором этаже залигеровского дома, едва лишь блеснут свидетельством достатка ослепительные, выпуклые стекла высокого сводчатого окна и желтые парчовые занавеси, едва лишь сливки общества, дамы и господа, проплывут за пеной французских гардин, чтобы вкусить легкий ужин а-ля-фуршет и поднять рюмочки с ликером, фрау Эльмира высылала на улицу одну из двух своих служанок. Минне наказывали спрятаться в темной подворотне возле аптеки и слушать, что говорят люди, идущие через Рыночную площадь. У Минны хватало ума и преданности, чтобы неизменно доставлять хозяйке самые лестные замечания. «Да у них там прямо как у князьев каких… Алмазный дворец, да и только… Знаешь, Губерт, получить приглашение к Залигерам — это великая честь». Замечания не столь лестные выслушивались Минной (очень может быть, что ее звали Ханхен) с превеликим удовольствием, но ушей хозяйки они не достигали. К примеру: «Эта хрустальная махина за час сожрет столько электричества, сколько нам и в месяц не по карману… Ну, уж они-то дерут с живого и с полумертвого… Сам играет вторую скрипку — известное дело…» Последнее замечание, так сказать, дважды било не в бровь, а в глаз. Ибо, во-первых, господин аптекарь играл вторую скрипку в струнном квартете, а во-вторых… впрочем, это «во-вторых» дает нам характеристику — и весьма точную — господина аптекаря. Сколько бы дохода ни сулили Рудольфу Залигеру изобретенные нм «успокоительные и снотворные капли» с сильным запахом имбиря, вести самостоятельное дело в качестве аптекаря он смог только благодаря приданому своей жены. А фрау Эльмира, которую природа не слишком щедро оделила женскими прелестями и которая предпочитала носить юбки длиннее положенного, дабы скрыть под ними свои тощие икры, фрау Эльмира, долговязая, унылая особа с дряблой кожей, словом, законченный образец старой девы — конторщицы, воспитанной в любви к порядку и добродетели, увидела в неимущем помощнике провизора воплощенную мечту своей жизни — красавца мужчину. Их брак считался в Рейффенберге наглядным образцом семейного союза, основанного на гармонии и достатке, и это побуждало очень и очень многих славить предприимчивость Хенелей как надежнейший залог семейного счастья. Эльмира Залигер вела дом, охотно изображала из себя даму, однако не злоупотребляла ни модой, ни косметикой, отлично сознавая, что женщине ее склада скорее пристала солидность добропорядочной бюргерши. А для нравственного удовлетворения она всячески выряжала и выдвигала своего мужа. В обществе Эльмира, образно говоря, держалась на полшага сзади и чувствовала себя прекрасной в сиянии этого светила.
Ибо Рудольф Залигер, помимо фигуры киногероя английской складки, чьи кокетливые усики тронула с годами благородная седина, располагал весьма общительным характером при аристократической сдержанности и природным обаянием, что привлекало женщин, свято соблюдал корпоративные интересы, что привлекало мужчин, и сверх всего обладал небольшим лирическим тенорком и умеренными талантами в игре на скрипке. Отец его содержал малодоходную цирюльню, делал парики, а также детей, последних числом девять душ, готовил для актеров городского театра накладки и грим и, будучи уже далеко за пятьдесят, когда все девять его отпрысков покинули родное гнездо, причем трое из них пали в первой мировой войне, а двое умерли от чахотки, ударился в запой. Что до знатного происхождения, то фрау Эльмире в том нужды не было! Другое смущало фрау Эльмиру в биографии Рудольфа, и это было, на ее взгляд, действительно темное пятно: служа под королевскими и кайзеровскими боевыми знаменами, Рудольф набрался пацифистских взглядов и потому дослужился всего лишь до ефрейтора санитарной службы.
Дочь фабриканта Хенеля сумела с течением времени отполировать это темное пятно до полного блеска. При содействии папаши Хенеля, «майора» и не единожды увенчанного предводителя стрелков в местном военном ферейне, она добыла бывшему санитарному ефрейтору фантастический чин «секунд-майора», а также возможность украшать во время парадов свою грудь медалями принца Генриха и тому подобными регалиями на бело-зеленой ленте.
Но как-то раз на очередном ежегодном параде стрелков — его чрезвычайно торжественно принимали господа отставные офицеры в шляпах с перышками — случилось пренеприятное, можно даже сказать, возмутительное происшествие. На священную территорию, отведенную исключительно для парадов ферейна, вдруг, не известно каким чертом проникла группа молодых людей, одетых в своего рода форму — серые куртки и парусиновые кепки, — члены Союза красных фронтовиков; под звуки парадного марша они подняли сжатые кулаки, так что духовой оркестр, стоявший как раз напротив, от негодования и удивления сбился с такта. Господа офицеры, не теряя присутствия духа, как и положено офицерам из военного ферейна, немедля рявкнули слова команды, пришпорили своих флегматичных одров и, являя образцы высокого героизма, ринулись на врага, но… на пустое место. Поскольку серые куртки тем временем бесследно исчезли в каком-то подъезде. А вечером того же дня, когда новый предводитель стрелков, господин аптекарь, в благоговейной тишине принимал перед тиром подобающие ему почести, эти смутьяны опять учинили черт знает что. На сей раз они явились в штатском, число их заметно возросло, и в самую, можно сказать, торжественную минуту увенчания господина предводителя они грянули популярные антипатриотические куплеты о Неймане, знаменитом ефрейторе санитарной службы, который «эх да серую мазь изобрел». (Известно, что серая мазь официально применялась в храбром кайзеровском войске для исцеления боевых увечий особого рода.) Тогда госпожа предводительша, то есть фрау Эльмира, фурией налетела на одного черного как смоль типа среди наглых певцов и закатила ему оглушительную пощечину. Правда, черноволосый и его товарищи ответили на это лишь громким смехом, правда, смех этот заразил даже некоторых стрелков, но для самой верноподданной их части пощечина фрау Эльмиры прозвучала сигналом выхватить из ножен парадные сабли, изготовить к бою штыки и посеребренные саперные топорики. И если бы одни из вассалов не взвыл благим матом от боли, поскольку впереди стоящий, пытаясь саблю «обнажить», ткнул его эфесом прямо в глаз, и если бы один из певцов (есть основания полагать, что это был Ганс Хемпель) не умел мастерски подражать свистку полицейского, еще неизвестно, чем бы кончилось дело. А так нарушители спокойствия сумели вторично воспользоваться моментом замешательства для отступления… Теперь, конечно, аптекарская чета ничего бы не пожалела, чтобы та легендарная пощечина считалась недействительной. Правда, бургомистр Ротлуф не позволял себе пока никаких намеков на этот счет, но они не слишком-то доверяли его забывчивости; значит, надо еще активнее оказывать помощь медицинскому обслуживанию населения. А для верности не мешает разблаговестить по всему Зибенхойзеру идею Ар-мина, неслыханно мудрую идею, совершенно в духе новых властей. Сомнений нет, идея Армина принесет им успех.
Между прочим, вскоре после первой, легендарной пощечины темпераментная дочь Хенеля вторично закатила пощечину лицу мужского пола, а именно — своему красавчику Рудольфу. Случилось это, когда Рудольф, поддавшись вполне закономерному весеннему брожению чувств, начал увиваться вокруг юной героини местного театра и на неприлично малом расстоянии от ее длинных ресниц исполнил серенаду Бельмонте «Средь мавров я в плену томился…» Болтливая подружка обладательницы длинных ресниц, сама тайком вздыхавшая по господину Рудольфу, немедля донесла фрау Эльмире о галантном приключении; последняя усмотрела в «маврах» намек на собственных «Трех мавров», и все это имело следствием вышеупомянутый инцидент в плюшевой тишине гостиной. Однако пощечина не сумела подавить бунт в душе господина Рудольфа. По ночам он тайком удирал к длинным ресницам и явно плевал и на свою костлявую супругу, и на ее слежку. Тогда Готлиб Бруно как майор, с одной стороны, и как тесть — с другой, заставил зятя дать слово чести по всем правилам, а дочери вручил весьма внушительный чек, на который эта смышленая особа под пасху двадцать девятого года приобрела в Цвикау роскошный «хорх» (с наружным ручным тормозом), да, да, тот самый, который в данную минуту вез к Фюслеру чету аптекарей вместе с их нечистой совестью. Но и они не замечали нищеты тех, кто тучами, словно стаи галок, усыпал опустелые желтые поля в поисках забытых колосьев, не замечали красоты плавных спусков и подъемов по склонам горных долин, уже подернутых синеватой дымкой ранней осени.
Хладек обратился с просьбой к Лее.
— Сядь за рояль, Лея. Сыграй что-нибудь, как бывало, нам, старикам, на радость, а мне — на дорожку. Сыграй какой-нибудь этюд. Или что сама захочешь. И не стесняйся. Пальцы тоже должны заново учиться ходить, если разучились бегать. Сядь за рояль, Лея. Не заставляй себя уговаривать. Я хотел бы унести эту картину с собой, хотел бы видеть ее, когда закрою глаза, хотел бы радоваться, когда вспомню о тебе… Ну так как же?
Лея упрямилась.
— Музыка разрушает небо, — сказала она.
— Неправда, девочка, музыка подводит под небо золотые подпорки или, вернее, дюралевые стропила с таким расчетом, чтобы они выдерживали не только суеверный гнет судьбы сверху. Нет, небесные перекрытия должны обладать достаточной устойчивостью, чтобы к ним можно было подвесить все скрипки мира, включая сюда и виолончель нашего свежеиспеченного профессора. Видишь ли. Лея, породнить старое искусство и новый, технический век — это, может быть, означает внести свой вклад в конкретизацию гуманного мышления. А тебе надо бы снова играть.
Лея сидела в гостиной на софе, положив ладони и подбородок на рукоятку своей палки. Она старалась не смотреть на Хладека. Хладек стоял, облокотясь о рояль, который сразу после возвращения Леи был по просьбе Фюслера извлечен из рейффенбергского вещевого склада и доставлен сюда, в слитком тесную для инструмента квартиру при зибенхойзерской школе. Рояль занимал по меньшей мере третью часть комнаты, и для того, чтобы как следует провести смычком по струнам виолончели, почти не оставалось места. Хорошо еще, что над роялем висел богемский пейзаж Каспара Давида Фридриха и его необъятная в блекло-зеленых тонах панорама как бы расширяла комнату, открывая вольный простор за окном. Хладек сунул четыре пальца в вырезы жилета, так что большие пальцы легли на отвороты пиджака и словно кивали друг другу…
Эх, Хладек, не хватало еще, чтобы ты достал из кармана скорлупки каштанов и надел их на пальцы — шляпки для Пьеро и Пьеретты; чтобы из носового платка величиной с пеленку ты смастерил твоему Пьеро балахон Арлекина, а Пьеретте — платьице из маленького платочка, что торчит у тебя в кармашке, не хватало, чтоб ты начал играть скорлупками, будто тысячу лет назад… Как это было раньше? Ах да: «Пьеро, мой милый Пьеро, ничего-то у нас не осталось, ни зернышка кукурузы, ни ножки теленка, ни яблочка, ну ничего-ничегошеньки. Чем же я накормлю тебя, Пьеро, мой милый Пьеро?..»
«Пьеретта, моя прекрасная Пьеретта, а не завалялся ли где-нибудь хоть крохотный звук, ароматный, копченый, аппетитный звук кларнетика?»
«Сейчас пошарю на чердаке, Пьеро, мой милый Пьеро».
«Нет, Пьеретта, моя прекрасная Пьеретта, у тебя слишком нежные ножки, чтобы пройти тысячи ступеней до нашего чердака. Предоставь это мне. А сама сбегай в лес, что шумит за нашей дверью, и набери на десерт в свой фартучек свежих звуков валторны, нежных, как абрикосы».
Тут милый Пьеро и прекрасная Пьеретта спрятались в жилете у Хладека: он — на чердак, она — в лес. Потом Пьеро спустился вниз, слышно было, как он причмокивает и играет на кларнетике, трогая своей игрой даже камни. Хладек умел воспроизводить звучание по меньшей мере полдюжины инструментов, а звериных голосов и не счесть. Вдруг вернулась Пьеретта, задыхаясь, дрожа, плача:
«Ах, Пьеро, мой милый Пьеро! Я не могла принести ни одного звука валторны, ни единого. Дикий кабан погнался за мной, страшный дикий кабан. Ах, если бы ты пристроил дверь к нашему домику, Пьеро, мой милый Пьеро!.. Ой, вот он!.. Ой-ой-ой!..»
«Мерзкое животное, уймись! Пьеретта, моя прекрасная Пьеретта, спрячься, а я сыграю ему марш. Спрячься за нежным полуденным ветром, что залетает в наше оконце…»
«О, Пьеро, мой милый Пьеро, когда на дворе беда, искусство теряет силу. Бежим лучше к охотникам…»
«Подожди, Пьеретта, моя прекрасная Пьеретта, может, это не такой уж кровожадный кабан. Подожди, я сыграю ему марш, что-нибудь из старика Лумира, что-нибудь из Янашека…»
Ах, ведь и сам Хладек тысячу лот назад, когда еще только начинался «тысячелетний рейх», тоже не думал, что гитлеровцы такие уж кровожадные кабаны. Теперь он все это лучше знает, он больше не надевает скорлупок на пальцы, не изображает ни Пьеро с Пьереттой, ни мстительную амазонку Шарку с глупым влюбленным Штирадой, которого она обводит вокруг пальца, ни доброго разбойника Вашека, который поставил жадной крестьянке набойки пониже спины, ни бравого солдата Швейка с фельдкуратом Отто Кацем и поручиком Лукашем, не изображает больше герра Гитлера с мистером Чемберленом, как они сидят в Оберзальцберге, пьют кофе, заедают венским тортом и герр Гитлер кричит, чтобы ему дали тарталетку с повидлом и сливовицу, а мистер Чемберлен терпеливо — ну прямо как домашний врач — объясняет, что этого герр Гитлер не получит… Было, было, все было в прошлом, был и добрый дядюшка Ярослав, только теперь он превратился в Хладека. У дяди Ярослава густые непокорные волосы закрывали уши, их можно было расчесать так, чтобы они напоминали крылышки на шлеме Гермеса — посланца богов. А у Хладека волосы стали редкие, и смолкли бесчисленные голоса, что жили в его горле, и остался только один, совсем обычный голос.
— Сыграй, Лея, очень прошу тебя…
— Не хочу, Хладек, я слишком много насмотрелась всякой музыки.
— Насмотрелась?
— Да, насмотрелась. Светло-русая Галька из Радома создавала музыку с помощью доски. А доску она выломала из тех нар, на которых — ты подумай только! — на которых умерла от голода ее родная сестра. После сестры остался ящик с красками, целый ящик. И светло-русая Галька взяла доску и нарисовала на доске черные клавиши. Только черной краски не хватило, и черные клавиши она дополнила желтыми, красными, зелеными, лиловыми… В нашем блоке все были наголо острижены — за «пассивное сопротивление». А Галька, играя, привыкла откидывать волосы со лба, — Лея судорожно тряхнула головой, повторяя движения Гальки. — Но что она играла, Хладек, ты бы только послушал, что она играла своими костлявыми, словно у скелета, пальцами! И пальцы ее впивались в дерево, как жало скорпиона. Она играла Шопена, разумеется, Шопена, а кроме того, — как тебе это покажется? — кроме того, Баха, «Хорошо темперированный клавир». Слыхана ли такая безвкусица, а, Хладек…
Лея прижалась лбом к рукам, обхватившим изогнутую рукоятку палки.
— А теперь, Хладек, оставь меня в покое. Развеялись чары, все было, все прошло: добрый дядя Ярослав, добрый дядя Тео, человек из-за моря, Гиперион и мягкая трава на опушке леса, и я… и я…
— А я не оставлю тебя в покое, даже но надейся. Трудно сказать, когда мы увидимся снова. (В этот раз Хладек сумел увязать свой визит к ним со служебной поездкой в Дрезден, где должен был оформить передачу имущества еврейских граждан, вывезенного гитлеровцами в Прагу.) Так давай же используем время, истратим его, как говорится, до конца, давай потолкуем друг с другом, давай сыграем в четыре руки, ведь слова порой бессильны…
Хладек ждал, что Лея по меньшей мере подымет упрямо опущенную на руки голову. Но опа спросила, не подымая головы:
— Почему ты не взял с собой Франциску? Франциска — единственная, кто не терзает меня воспоминаниями о прошлом, воспоминаниями о том, кем я была когда-то. Да, говорить друг с другом… это великолепно… — тут она вскинула голову и посмотрела на Хладека отрешенным взглядом, — великолепно и другое: нас согнали за колючую проволоку и там мы могли говорить друг с другом. А теперь? Теперь мы наслаждаемся свободой и нас разогнали по домам, одну — в Чехословакию, другую — в Германию, а между нами опять заслоны… Знаешь, что сказал ван Буден? Он сказал, что заслоны и недоверие вредят чувству антифашистской общности судеб.
Отрешенность Лен обернулась упреком Хладеку. Выходит, она согласна с ван Буденом?
Хладек, будучи невысокого роста, поднялся на цыпочки и сказал с легким поклоном:
— Мое нижайшее господину ван Будену, твоему отцу. Он вмиг сумел добиться того, чего не добился ни один из пас: ни Тео, ни я, ни другие рейффенбергцы, и этот лопух Руди, наверно, тоже не сумел, а ван Буден сумел отвлечь твои мысли и чувства от неизменной палки и обратить их к проблемам более общим, даже к политическим, — Хладек заметил, что Лея разочарованно отвернулась от него, снова устремила взгляд в пол и повертела палку раз, другой, словно задумала провертеть резиновым наконечником дыру в ковре. Она по-прежнему называла отца «ван Буден» и обращалась к нему на «вы», хотя он называл ее «мое дитя» и говорил ей «ты». Хладек от души желал, чтобы отношения между обоими стали нормальными отношениями между отцом и дочерью. Даже Фюслер был готов расстаться с Леей, отпустить ее к отцу, если бы она выказала хоть малейшее к тому желание. Ван Буден хотел поселиться в английской зоне, в Рейнланде, хотел заняться публицистикой и историей искусства, хотел основать ежемесячный журнал «Ойропеише блеттер», хотел тряхнуть стариной и вновь открыть торговлю картинами, — словом, хотел поставить сразу на несколько лошадей, чтобы уж наверняка не остаться без выигрыша. Увезти с собой Лею — это казалось ему венцом мечтаний. Но он не настаивал, не упирал на свои отцовские права, он вооружился терпением и кротостью, он надеялся на ее свободный выбор, он втайне уповал на голос крови, а того больше — на ее любопытство к экзистенциалистской новизне его мыслей. Этим он до некоторой степени расположил к себе и Фюслера, а может быть, Фюслер сам пошел ему навстречу — увлекла радость размышлений над чистым гуманистическим и демократическим идеалом, радость, которая, увы, слишком легко уносит нас за пределы реального и которая теперь, к примеру, нашла свое выражение в мысли о том, что конец войны означает также на веки вечные конец фашизма и реакции и что отныне задача сводится лишь к одному — вести борьбу против извечного, первородного «зла» в человеке. Хладек знал, что в Лее еще горит ярким пламенем ненависть к прежним мучителям, что ненависть эта находит пищу в исступленной жалости Леи к себе самой и освещает беспокойным светом лишь узкий круг ее «я», а все, что за пределами этого круга, видится ей, как непостижимый рок, как темная ночь. Она прилепится ко всякому, кто сумеет далеко в ночи указать ей факел мысли, она презрит всякого, кто скажет ей: мы хотим уничтожить ночь — ненавистью своей, любовью своей, болью своей, улыбкой своей.
Кончик палки неумолимо терзал ткань ковра.
— Когда я сегодня попаду в Дрезден, — сказал Хладек, — я наверняка встречу там людей, которые захотят поговорить со мной о том, что ты, повторяя слова пан Будена, называешь «общностью судьбы». Но они назовут это по-другому: «Нам нужен строй, скажут они, антифашист-скпй демократический строй но всей освобожденной Германии!» Это скажут не только в советской поенной администрации — там-то само собой, — это скажут тебе в любом доме, старые и новые друзья. Ван Буден, сдается мне, тоже имеет в виду «строй», тоже понимает, что доверие должно сочетаться с бдительностью, я бы даже сказал, с недоверием, что доверию потребны определенные гарантии, если из хаоса хотят создать новый строй. А Франциску…
— А ван Буден, — перебила его Лея, — ручается, что его с английским паспортом пропустят через границу, что ему дадут возможность посмотреть резной алтарь церкви в богемской части Зибенхойзера…
Хладек пожал плечами.
— Уж и не знаю, хочет ли он подвергнуть моих земляков испытанию на гуманность этим запретом или санкцией на переход границы. Я же хотел сказать, что Франциску вовсе не тянет в Германию…
Лея взглянула на кончик своей палки. И перестала крутить ее. Потом медленно, с трудом подняла голову, обежала глазами лицо Хладека и, наконец, впилась взглядом в его рот.
— Ты хочешь сказать… — страх сдавил ей горло, прервал ее речь.
И она получила беспощадный прямой ответ:
— Франциска рассказывала, что в письмах ты терзаешь ее воспоминаниями о прошлом. Только воспоминаниями, одними воспоминаниями. — Хладек слышал, как Лея вздохнула глубоко, через нос, и с шумом вытолкнула воздух.
Но он должен был сказать ей об этом. Франциска снопа живет с родителями, в родной деревне, в том же доме. Она тоже не совсем еще здорова, но уже снова работает «в замке», другими словами, коровницей в имении чешского помещика. Сельскохозяйственные рабочие избрали ее в руководство профсоюза, и теперь она воюет с панибратскими замашками господина помещика и с легковерием своих друзей и коллег, которые, развеся уши, слушают отеческие речи господина Немека, когда тот обещает выплачивать жалованье натурой или сулит построить новые, лучшие дома. Его взаимоотношения с нацистами до сих пор еще не ясны. Франциска подозревает, что он выдал шпикам имена людей, состоявших в Коммунистической партии Чехословакии. Поэтому-то господин Немек, опасаясь, что у него отнимут имение, всячески распинается перед рабочими, заверяет их в своем неизменном дружелюбии, произносит патриотические речи, а пуще всего заигрывает с бывшей узницей концлагеря. Конечно, у Франциски совсем иные заботы. О чем Лее и без того было известно. Но это не прибавило ей интереса к политике. Она упорно писала Франциске об отрешенности, как о «главном тезисе» и об «обстоятельствах», через которые она не может перешагнуть. «…Навсегда останутся лишь «вещи», «предметы» — колючая проволока, автоматы, сторожевые вышки, грохот сапог перед моим окном. И разве мы сами не отданы нерушимо во власть этих «предметов»? Разве они не презирают нас, людей, за то, что мы преходящи? Мы ничего не значим, ровным счетом ничего…» Так писала Лея своей подруге но несчастью. А теперь она смеялась, смеялась, почти не разжимая губ, проталкивала смех сквозь стиснутые зубы, проталкивала слова сквозь стиснутые зубы:
— Раз дорогая Франциска не желает меня больше знать, я, как мельничный жернов, повисну на шее у другого — у Генриха…
— Франциска сказала, что приедет к тебе, как только сможет, как только выберется, она хочет снова заплетать тебе косы, — задабривает ее Хладек.
И в ответ — колючий смех Леи.
— Крысиные хвостики из мочала? С этим и Генрих справится, передай Франциске, что у Генриха это лучше выходит, он заплетет на энтузиазме и на слюнях…
— Ты неправа, девочка, по-детски неправа. Будем считать, что я ничего не слышал. Давай запьем это дело, Петрус, как говорят у нас в Домашличе…
Тут Хладек склоняет голову к плечу и, не дав себе даже труда как следует разыграть недоумение, спрашивает:
— А кто он, этот Генрих, если мне дозволено будет спросить?
Лея с оскорбленным видом встает, подходит к круглому столу, который отделяет ее от Хладека, опирается правой рукой на палку, а указательным пальцем левой начинает задумчиво проводить по тканым узорам скатерти, но желтым и коричневым квадратам, вдоль и поперек. И снова — вдоль, и снова — поперек. А сама шепчет: «Кто такой Генрих? Да тот, что был вчера, вчера… позавчера…»
Хладек думает: «Только не пугайся, когда слышишь эти нелепые речи. Испуг окружающих множит отчаяние. Разумнее отвечать смехом, разумнее с осторожностью поддразнивать ее». Пальцы у него все еще спрятаны в вырезах жилета. И только большие пальцы торчат кверху и кивают друг другу.
— Ну так как? Не угодно ли вам присесть, уважаемая фрейлейн? И мы устроим спектакль-бенефис для тех, кто присутствует сегодня…
Лея не села, она все так же водит пальцем по тканому узору — вдоль и поперек, вдоль и поперек. Но хотя она не последовала его приглашению, Хладек снова начинает разыгрывать большими пальцами веселый бурлеск о «милой Лизе» и «гадком Генрихе». Правый — это «милая Лиза», и держится она донельзя чопорно. Левый — «гадкий Генрих», он подобрался к ней поближе и уже не знает, чем бы ей угодить. Милая Лиза плачется, как беспомощная и озабоченная домохозяйка.
«В доме нет ни крошки съестного, Генрих, мой гадкий Генрих. Только корзинка с дикими грушами — и больше ничего. И дров нет, и ничего-ничегошеньки…»
А Генрих отвечает бодро-весело, в то же время чуть нараспев и чуть сурово предлагая свой любовный пыл на преодоление этого «ничегошеньки»:
«Не беда, милая Лиза, поужинаем дикими грушами. Налей воды в котел, поставь котел на плиту. А я помогу тебе, я разведу огонь, я распилю твою палку из твердого корневища. Вот нам и хватит дров, пока не придет долгожданная весна».
«А как же мне это сделать? — ноет чопорный палец — Лиза. — Как же мне набрать воды, как подтащить котел к плите, как стоять у плиты, если ты распилишь мою палку, палку-ходилку, палку-стоялку, палку-вздыхалку…»
Тут Лея выходит из себя.
— Перестань, Хладек. Перестань же наконец! Все это дешевое кривлянье. В Германии шутка забыта и разбита. Умерли все — Пьеро и Пьеретта, Касперль, Арлекин, даже Швейк — все погибли, расстреляны эсэсовцами у железнодорожной насыпи, у кирпичной стены, зарыты в землю…
— А потом выползли из массовых могил, как воскрес в свое время милый Августин после чумы в Вене. И по думай, что…
Колючий смех Леи не дал ему договорить.
— Истеричка ты и больше никто, — крикнул Хладек, не на шутку осердясь и совершенно выпадая из роли веселого кукольника. — И не думай, пожалуйста, что Гитлер уничтожил все добрые силы Европы. Видит бог, для этого у самого черта руки коротки. Всякий, кто хочет проглотить целый народ, неизбежно подавится.
— Перестань, Хладек! Никогда не утихнет зачумленный ветер, никогда…
Ветер гуляет и пустых хижинах, Металл холодный лба моего коснулся… Ветер подгоняет самолет с бомбой для Хиросимы… Гаснет свет на моих устах…Услышав, как Лея произносит эти строки, голосом тусклым и безжизненным, но с натужной внутренней энергией, Хладек окончательно убедился, что речи ее всего лишь следствие, а причина — это воспитание, полученное ею от Фюслера: практическая беспомощность просветительного гуманизма, сильная своим бессилием задушевность немецкого толка, которая порождает в молодом, ныне прореженном и словно бы потерявшем родину поколении, по крайней мере у тех, кто отличается повышенной чувствительностью, мрачную и циническую тягу к самоуничтожению. Но у этого Руди, с которым я вчера познакомился, думает Хладек, вроде бы еще не зашло так далеко. Хотя он даже был соучастником фашистских преступлений. Есть в нем что-то такое, здоровая закваска, что ли. Должно быть, наша барышня с ее заумными речами о диких грушах совсем его доконала, иначе он не удрал бы сломя голову. Даже ни с кем не попрощался. Исчез — и все. А Лея прямо ощетинилась, когда пришла домой. Надо бы все-таки им договориться. Не деревянный же он, и Лея тоже ведь не деревянная. Подумав так, Хладек снова склонил голову к плечу, слегка прищурил глаза и пустил в ход своего Генриха.
«Нет, моя милая Лиза, не перестану я пилить твою палку, палку-ходилку, палку-стоялку, палку-вздыхалку. Ты посмотри, сколько она даст нам дров. А две щепочки я обмакну в воду, чтобы они звонче пели в огне. А сам согнусь в три погибели. Можешь опираться на мое плечо, милая Лиза, покуда не придет долгожданная весна».
Лиза хнычет, но уже как будто успокаиваясь:
«Ах, если бы ты не дал мне упасть с дерева, гадкий Генрих! И что будет, если я захочу опереться на твое плечо? Разве ты не знаешь, что люди — это ничто, ничто? А есть только «вещи», «вещи» — и больше ничего…»
— Хладек, перестань, умоляю! — Лея судорожно вцепилась в скатерть. Но Хладек продолжал с невозмутимым терпением коммивояжера.
«Знаешь, милая Лиза, палка — это «вещь» холодная, огонь — горячая, а плечо — теплая. Сунь-ка руку мне под рубашку, если захочешь опереться на мое плечо, пока не пришла долгожданная весна».
Милая Лиза отвечала, но тон ее противоречил словам:
«Как можешь ты осенью говорить о весне, Генрих, мой гадкий Генрих! Ведь за осенью идет зима: ледяная каша на дорогах, мерзлые травинки по обочине, холод поднимается от ног к рукам, бесплодие, великое бесплодие…»
Скрюченная рука Леи перестала терзать скатерть. По пальцы были все так же судорожно скрючены. Склонясь над столом, застывшая, недвижная, строптивая, стояла она против Хладека и, как прежде, проталкивала слова сквозь стиснутые зубы.
— Но едва лишь глупая Лиза поверила гадкому Генриху, едва лишь она положила руку на его плечо, старики прислали ей одеяло — для согрева. И завернули в это одеяло свои премудрые теории о причинах насморка. Он-то и доконал Генриха…
Хладек высвободил руки из жилетных вырезов и подошел к столу.
— Да, я слышал, о чем пан Буден шептался с нашей Ханхен, когда Тео играл на виолончели. Играл Дворжака и, как всегда, целиком отдавался музыке. Слышал, но ничего не сказал и ничего не сделал. Я видел даже, с какой охотой убежала Ханхен. Впрочем, это к делу не относится. Если ван Буден не желает видеть тебя с немцем, который еще вчера был фашистом… Ну что ж, я могу его понять, он в своем праве, он называет это естественным правом. Ты, в конце концов, его родная дочь…
Лея пронзительно рассмеялась.
— Естественное право! И это говоришь мне ты, Хладек?! Вот уж от кого не ждала!.. Да чем, по сути дела, отличается это так называемое «естественное право» стариков от расового учения господина Розенберга, от «мифа двадцатого столетня»? Нет, пустн меня!
Лея сказала «пусти меня», потому что Хладек хотел взять ее за руку. Она отдернула руку и выпрямилась, в эту минуту она стала его врагом, и враждебность ее была не обычная враждебность больного к здоровому. Хладеку пришлось сделать над собой усилие, чтобы не показать ей, как обидел его резкий и откровенный жест недоверия.
— Ты не совсем точно представляешь себе ото понятие, — сказал Хладек. — Ты вообще почти ни одного понятия не представляешь себе точно. Ты неверно понимаешь ван Будена, неверно — меня. Разумеется, правовые нормы, пусть даже самые идеальные, не могут предшествовать жизненной практике, но взаимодействие возможно. Я, во всяком случае, признаю его…
Рука Леи вновь коснулась тканых квадратов скатерти. Указательный палец заскользил по лесенкам узора: вверх — вниз, вверх — вниз.
— Довольно, Хладек! Ты наскучил публике. Лучше расскажи, чем кончится твое шуточное представление. Что будет с Генрихом и Лизой? Неблагодарный партер освистал тебя. А жаль, актеры недурно справились с ролью. Вот только сочинитель подкачал: он утаил историю с одеялом и, кроме того, утаил… Впрочем, откуда ему знать: оказывается, на свете есть другая глупая Лиза, и она тоже живет в нетопленом домике Генриха, но она молодая и ядреная, она потеряла в войну невинность и — все остальное: родителей, братьев.
Хладек отступил к роялю — словно хотел отойти на приличную дистанцию от этой нескончаемой иронии, за которой он, помимо прочих скорбей, угадывал еще отчаяние и ревность. Но Лею не смутило его отступление; заварив свою кашу, она продолжала подсыпать в нее жалобы и страх, упрямство и самовлюбленность.
— Гадкий Генрих привез домой младшую глупую Лизу, он думал, что старшая глупая Лиза погибла в лагере. Основной конфликт пьески, милый мой сочинитель, состоит не в том, что после великого пожара наступил великий холод, нет, нет, отнюдь не в этом. Конфликт состоит в комическом подтексте: оказывается, наш опаленный, обнищавший Генрих считает своим долгом выбирать между двумя опаленными, обнищавшими Лизами. И верный своей верности, он совершает ошибку и выбирает старшую Лизу, совсем уж обуглившуюся, и при этом смотрит назад, туда, где осталось Прошлое, а выбирает он из чувства мещанской порядочности под покровом ночной тьмы, когда все кошки серы, когда совы расправляют крылья. Вот погодите, придет долгожданная весна, светлая весна, он еще наплачется из-за своей порядочности, уж я ему твержу, твержу об этом — а он не верит. Ибо старшая глупая Лиза, поверь мне, Хладек еще недостаточно стара, чтобы обладать мудростью стариков, но достаточно стара, чтобы обладать горьким опытом опаленных, право же, предостаточно…
Теперь, думает Хладек, теперь она рассуждает, как ребенок, который при резях в животе кричит, что никогда, никогда больше ничего не будет есть. Хладек чувствует, как тает его гнев, а Лея с жаром продолжает:
— Нет, старшая глупая Лиза не позволит распилить свою палку-ходилку, не захочет и не позволит — из горького опыта. А гадкий Генрих силой пытается отнять у нее палку, потому что помешался на порядочности и вдобавок продрог до костей. Вот как надо доиграть пьеску, Хладек. Вот тебе истинный конфликт, ну как, идет?
Нет, такой вариант Хладека, разумеется, не устраивает. Он снует по кривому закоулку между круглым столом и роялем, теперь вместо четырех пальцев он засунул в вырезы жилета большие пальцы. Ах, как грубо, как бестактно получилось — разыгрывать перед ней кукольную комедию и выпытывать у нее про этого Руди. Когда облака нависли так низко, что задевают крыши домов и головы людей, не следует зажигать фейерверк. Но как же иначе помочь человеку, девушке, которую изувечили нацисты, которая видит мир глазами, распухшими от слез, затуманенными ненавистью и разочарованием, только такими глазами, и все — даже новое, даже хорошее — воспринимает лишь через тиски болезненного сознания. Можно ли такому человеку помочь юмором? Ей — нет. Она еще не одолела прошлое. Она рассуждает о европейском духе, а сама настолько немка до мозга костей, настолько Гретхен гестаповских застенков, что вскоре захочет иметь дело только с потусторонними силами: ведь у немцев слишком много путей ведет от депрессии к мистицизму.
Она увлекается псалмами, она может, по словам Фюслера, отбарабанить наизусть всего Тракля. И картину написала — отвратительное крикливо-пестрое смешение треугольников, четырехугольников, квадратов и линий, извилистых, как лента серпантина, что твой «Остров мертвых», где скорбные кипарисы и тоскливый перебор гитары, а под ними — белоснежная и прекрасная птица, изнемогающая в смертной тоске.
— Будь я из ранних коммунистов, а не из поздних, тогда было бы проще, — говорит Хладек и все снует по извилистому закоулку между столом и роялем, — тогда сострадание к попранному, измученному существу не так глубоко потрясало бы мой разум, тогда старый, как мир, извечный крик боли de profundis[39] не так жестоко терзал бы мои нервы, тогда можно было бы взглянуть на исконный трагизм и убожество жизни со стороны и без компромиссов служить праву, единственно верному человеческому пониманию права, которое проверяет истинную цену и потребности человека его полезными и прекрасными способностями, а не толщиной кошелька и не формой черепа, тогда возможно было бы…
Хладек останавливается. А палец Леи снова блуждает по квадратам скатерти, и Хладек снова приходит в раж. Волнение подгоняет его мысли, заставляет перескакивать через более тонкие и тактичные доводы, забыть про чувство некоторой неловкости, волнение делает грубым.
— Тогда, — продолжает он, — тогда было бы возможно без обиняков сказать, что ты ведешь себя, как болотная курочка. Если мне не изменяет память, так называют бекасов, которые своим блеянием сбивают человека с толку и в которых очень трудно попасть, потому что летают они, по рассказам охотников, быстрей, чем черт вокруг колокольни, когда заслышит «ave Maria».
— Ах, значит, я курочка? И на том спасибо… — Лея произносит это с деланным равнодушием, и в первый раз на ее лице мелькает какое-то подобие улыбки.
Хладек понимает, что этого не надо было говорить. Но сейчас не время извиняться; он чувствует, что задел ее за живое, и продолжает в том же духе:
— Лея, ну что с тобой творится? Неужели ты ничего не хочешь или не можешь понять? Что у тебя — недоброжелательство или просто нежелание? Неужели нацисты «доконали» тебя? Так, что ли, они выражались? Неужели они одолели тебя?
Низкорослый Хладек покачивает массивной круглой головой с важностью, достойной Солона и Соломона, вместе взятых, — этот жест мог бы показаться смешным, если бы Хладек не прибегал к нему так редко и если бы он не сопровождался мгновенной утратой и жизнерадостной поднятости и веселой доброты, которая пронизывает обычно все существо Хладека. В такие минуты казалось, что брови Хладека опускаются на веки и губы западают, как у беззубого старика, и лоб покрывается желтизной, как ядовитый гриб на изломе. Лея увидела это, испугалась. Отдаленный голос донесся до нее, голос жены Хладека — изящной, энергичной, черноволосой и бойкой на язык Коры, театральной субретки. «Ярослав! — донесся до Леи отдаленный голос. — Ярослав, не качай головой. Когда ты качаешь головой, все часы в доме останавливаются…» Но Лея перевела ее слова на свой язык:
— Хладек, не качай головой, когда ты качаешь головой, в доме кто-нибудь умирает…
Для Хладека эго было пределом того, что может высказать и вытерпеть человек. На миг ему почудилось, будто стоящая перед ним девушка нарочно взяла платье Коры, чтобы злобно высмеять дорогие для него воспоминания, чтобы раз и навсегда спровадить подальше милого дядю Ярослава, которого она величает не иначе, как Хладеком, чтобы потом уже без помех разыграть свою роль — роль отвергнутой, исторгнутой из времени, потерянной, оброненной из рук божьих. А может, она, напротив, ищет сближения с добрым дядей Ярославом? Может быть, подражая Коре, она искала в ней защитницу? Кора простилась с жизнью у красной кирпичной стены — стены расстрелов в концлагере Терезиенштадт. За полгода до того ее освободили от принудительных работ в Германии, вернули в Прагу и предоставили свободу, обязав в порядке «трудовой повинности» каждый вечер выступать в офицерском казино с пением немецких песенок, народных и солдатских. Но расчеты гестаповцев не оправдались: ни Хладек, ни его друзья не клюнули на эту «приманку». Сразу же после покушения на Гейдриха, «рейхенротектора Богемии и Моравии», к чему, надо сказать, Хладек и его группа не имели ни малейшего касательства, Кору снова арестовали. Известие о том, что ее, судетскую немку по происхождению, расстреляли у высокой и красной кирпичной стены, подтверждалось неоднократно, но до сих пор Хладеку так и не удалось выяснить, в какой из братских могил Терезненштадта покоится ее тело. Лишь один раз, почти деловым тоном и по возможности не вдаваясь в подробности, поведал он о судьбе своей жены и никогда больше не возвращался к этой теме.
Фюслер сказал Лее:
— И не расспрашивай. Ты ведь знаешь, как они любили друг друга; ты только причинишь ему боль.
И вот Лея прибегла к услугам покойной, чтобы отбить неприятный вопрос. Неприятный? А может быть, несправедливый или просто неумный? Хладеку пока неясно. Он идет к роялю, садится, поникнув, на вертушку, разглядывает клавиши. В дверь стучат, входит Ханхен, спрашивает, какой соус предпочитает господин Хладек к пюре — луковый или богемский, с маком и сахаром. Ответа она не получает, и Лея глазами приказывает ей уйти. Ханхен так хлопает дверью, что Хладек вздрагивает. Он как раз думал о том, что Лея еще ни разу не смогла поставить себя на место другого человека, что все рассказанное ею — сейчас ли, раньше ли — неизменно отражало лишь се собственные ощущения. Там, где нужна честность, это кое-как годится, там, где нужна правда, — нет, даже если речь идет о правде по отношению к себе самому. Наверно, она не может играть и понимать игру именно потому, что не может понимать других людей. Вот и Франциска считает, что Лея была способна только к пассивному товариществу… Лея прерывает ход его мыслей, она говорит искренне и спокойно:
— Я ведь знаю, я для тебя — мнимый больной, и ты намерен лечить меня политикой, точь-в-точь как Франциска. Но тебе это тоже не удастся. Я отношусь к политике чисто по-человечески, понимаешь?
Хладек ударил по клавишам — зазвучала тема до-мажор второй части Пятой симфонии Бетховена — плавный подъем и мощный бросок вперед, впитавший в себя ритмы крестьянского танца и победные фанфары санкюлотов. И когда Хладек заговорил снова, желтизна сбежала с его лба, косматые брови приняли прежний излом, а губы налились краской.
— Дорогая Лея, в первый раз после нашей встречи и хочу крикнуть тебе «молодец». Ведь относиться к политике иначе, чем по-человечески — или, если тебе угодно, чисто по-человечески, — может только чудище, кровавый идиот, шарлатан или тот, кто сочетает в себе все эти обличья… Но скажи на милость, о чем мы, собственно, спорим, девочка моя?
Лея осталась невозмутимо холодной.
— Не лучше ли нам кончить этот разговор? — спросила она вместо ответа.
И поскольку Хладек с веселой бесцеремонностью крикнул: «Нет!» — она искусно переменила тему, заговорила о том, что в любую минуту могут вернуться с прогулки Фюслер и ван Буден, а Ханхен так и не знает до сих пор, какой соус подать к пюре.
— Если она не может приготовить салат из ирисов, пусть подает какой хочет, — пошутил Хладек и жестом заправского комедианта пригласил Лею к роялю.
— А теперь играй! Я не сяду за стол, пока ты мне не сыграешь. Начало положено, но у тебя получится гораздо лучше…
— Нет, Хладек, можешь умереть с голоду — больше я не играю. Да и не нужно тебе, чтобы я музицировала. Ты просто хочешь услышать мое кредо, мое политическое кредо… — Лея обогнула стол и прислонилась к роялю. Крышка рояля не была поднята. — Ну хорошо, слушай, если тебе так невтерпеж: мое основное положение — тебе оно известно, и ты уже всласть над ним посмеялся — никакое не кредо. Я жду, пока кто-нибудь докажет мне противное. Но то, что говоришь ты, — уж извини меня, Хладек, — это донельзя примитивно. Есть многое на свете — ну, скажем, между Парижем и Москвой…
— И над ними, и под ними, и за ними, и перед ними, черт подери! Очень даже многое, гораздо больше, чем мы способны вообразить! — Хладек засмеялся прямо ей в лицо, нимало не смущенный ее негодованием. И еще раз, теперь обеими руками, разыграл Хладек тему до-мажор, очень по-дилетантски, на взгляд Леи, потом склонил голову к плечу и пустился в вольную импровизацию: левая рука, грохоча по басам, наигрывала сопровождение к «Интернационалу», а правая вывела мелодию в теноровый регистр и закончила двутоновой дискантовой россыпью колокольчиков. Лея утомленно отворотилась и, налегая на палку, побрела к двери. Хладек промолчал и не стал ее удерживать. Он снова вернулся к первой теме, и вдруг без всякого перехода из-под его рук полилось широкое раздольное созвучие. Это заставило Лею остановиться в дверях, мелодия показалась ей совершенно чужой и в то же время страшно знакомой.
— Хладек, что это?
— Что это, Лея?
Не поворачивая головы, она отвечала:
— Звучит как музыка для народа, как хорал для открытой сцены, как кантата для свирели, отдает чем-то русским, чем-то неслыханно оптимистическим…
Хладек перестал играть.
— Янашек, — сказал он, — «Славянская месса», старославянская церковная музыка, очень народная, осталась неизменной и, однако, приспособлена для современного восприятия. Это не заманит тебя к инструменту?
Лея не ответила, она продолжала свой путь, достигла двери.
— Поди сюда, Лея, послушай, до чего простая мелодия: ди-да-ди-да…
Он проиграл мелодию одним пальцем, раз, другой. Лея не подошла. Она только еще раз остановилась — уже за дверью, упрямо мотнула головой и бросила через плечо:
— Что нам в наивности одноклеточных! Время не то, понимаешь, папаша?
И, уходя, съежилась, будто ее знобило. Из передней она крикнула на кухню, что господин Хладек заказал старославянский соус.
— Вот курочка, — буркнул Хладек. — Эдакая немецкая курочка, — и услышал, как над его головой, в мансарде, Лея бросилась на кровать и как с грохотом ударилась о пол ее палка.
После еды — их было четверо за круглым столом — Фюслер предложил гостям сигары. Мужчины закурили, а Лея неумело вытащила из перламутрового портсигара длинную сигарету.
— Словно кривой гвоздь из мыла, — проворчал Хладек.
Ван Буден поспешил дать ей огня. Впрочем, никто не выказал поползновения опередить его. Фюслер, обрезая конец сигары, обратился к Хладеку:
— А не тряхнуть ли нам стариной? Не объявить ли последний час перед разлукой и дорогой «голубым часом», когда выпускается больше дыма, чем слов?
Не поддавшись на веселый топ Фюслера, Хладек ответил односложно:
— Не знаю, Тео, я здесь не одни.
Лея дунула на его спичку — «ф-фу»! Это прозвучало насмешкой. И хихикнула она тоже насмешливо, словно узнала о нем что-то такое, чего не знают другие и что может погубить его, стоит только рассказать об этом во всеуслышание. Однако Фюслер иступился за Хладека:
— Воля гостя уезжающего — превыше всего, — сказал он, плавно взмахнув рукой, — форма и благовоспитанность, благовоспитанность и форма — в ком они теснее слились воедино, как не в нашем дорогом Ярославе?
Сказал и сам почувствовал, что сейчас не время так говорить — даже в шутку. Хладек еще за столом отвечал на вопросы брюзгливо и односложно, а больше молчал. Уж не стряслось ли сегодня утром что-нибудь такое, что снова отнимет у него друга, обретенного после долгой и тягостной разлуки? Впрочем, Фюслер не дал ходу своим мыслям и сказал, что с давних пор любит в час прощания возмещать скудость слов обилием мыслей и тем смягчать тяжесть разлуки и готовить радость повой встречи. И он полагает также, что и ван Буден, человек из нас самый светский, умеет соблюдать золотое соотношение между речью и красноречивым молчанием и, соблюдая, наслаждаться нм. Ван Буден поспешил выразить свое полное согласие. Конечно же, он чтит, высоко чтит привычки, «столь мудрые привычки» старых друзей. Но и его неприятно задело демонстративное молчание Хладека за столом. Между Леей и Хладеком вдруг возникла какая-то натянутость, которая в любую минуту грозила взорваться яростным спором или — что еще хуже — вызвать у Леи одни из тех приступов мучительной беспомощности, от которой больше всего страдала она сама и сокровенную причину которой, как мнилось ван Будену, сумел понять только он, ее отец. Ван Буден, питавший, подобно Фюслеру, предубеждение против всякого рода страстных, выматывающих споров и с тайным, хотя и не свободным от угрызений совести нетерпением дожидавшийся отъезда Хладека, решил про себя, что профессор сделал очень ловкий дипломатический ход, предложив подарить разлуке «голубой час». Но идею эту надо еще провести в жизнь! И вот он ринулся на подмогу Фюслеру и приложил все усилия, чтобы спугнуть предгрозовое молчание и завести разговор на какую-нибудь безобидную, постороннюю тему, ибо при первом же взгляде на профессора становилось ясно, что он исчерпал свои дипломатические ресурсы. Переменив предмет обсуждения, ван Буден еще раз подробно живописал «просветительскую вылазку» в «бездействующую» церковь в богемской части Зибенхойзера, которую они с Фюслером на самом деле предприняли сегодня утром по особому разрешению чехословацких пограничных властей.
— Итак, представьте себе, господин Хладек, начальника пограничного поста, русского офицера — эдакий двухметровый богатырь, лицо смышленое, но с крупноватыми чертами, походка, словно у хоккеиста, а впрочем, бог весть, может быть, я и неправ, я мало знаю русских. Как бы то ни было, в ответ на мою просьбу этот офицер — который, кстати, очень недурно говорит по-немецки — пожимает плечами и пересылает меня хладнокровнейшим образом на чехословацкую сторону. Ладно, идем туда. Появляется молодой офицер. Qt смущения я заговариваю с ним по-английски, поскольку не владею ни одним славянским языком…
Тео Фюслер слушает, как говорит ван Буден, но не слышит ничего, кроме звука его голоса. Непонятно также, слушает ли Хладек. Хладек заслонился молчанием и дымом сигары.
Лея небрежно откинулась в плетеном кресле, положила ногу на ногу, чопорно отставив мизинец, держит длинный мундштук и курит. Она сидит спиной к открытому окну и, хотя в комнате душно, а за окном затишье, накинула клетчатый шотландский плед с эдакой элегантной небрежностью и даже — а я, представьте, и не заметил — тронула щеки розовой пудрой… Чертовская у нее способность к перевоплощению. А может, не к перевоплощению, может, к притворству — какая разница?.. Но всякий раз, когда она перевоплощается, непременно что-нибудь происходит. Причем, как правило, ничего хорошего… Ярослав, неужели у тебя лопнуло терпение? Если к тебе очень уж пристают, ты становишься грубым. Помню, помню, как же. А после взрыва Лея уже не способна быть ни разумной, ни добросовестной. Ах ты боже мой, разве Кора не была точно такой же, когда курила? Ты сказал: Кора?.. Нога закинута за ногу, мизинец отставлен в сторону, щеки чуть подрумянены и на плечах шаль. Ах ты господи, — только мне не хватало увидеть сейчас призрак. Сколько тебе лет, Ярослав? Сорок девять… А перламутровый портсигар? Подарок Коры, когда мы последний раз были в Карлсбаде: «Это тебе, детка, когда ты станешь взрослой дамой и захочешь обворожить моего дорогого старика. На внутренней стороне крышки медальон редкостной красоты, редкостной. Ну-ка, Лея, загляни туда…» Там вделано зеркальце. Нет, нет, сейчас нельзя видеть призраки, лучше уж держаться ванбуденовского повествования, как Савл держался Евангелия…
— Я хотел бы, господин Хладек, заверить вас в глубочайшем почтении, да, да, глубочайшем почтении, которое внушил мне офицер, ваш соотечественник. Я утверждаю, что вел он себя, хотя мы располагаем не более как беглым впечатлением, get only a glimpse of him — с удивительным достоинством. Я не знаю ничего отраднее, чем уловить в человеке приметы человечности; в данном случае речь идет о той непринужденно-элегантной, той корректной манере держаться, которую принято именовать рыцарственностью в лучшем смысле этого слова. Пруссаки думали, что это достигается замороженной выправкой. Ну и чванились же они! А нацисты пытались иногда подражать пруссакам. И получался кровавый фарс. А русские? Вот я вспоминаю того офицера, Гришина, который здесь был вчера. Любопытный человек этот офицер по вопросам культуры, не правда ли? Я не прочь бы потолковать с ним. И потолкую. Русские отлиты из хорошей стали, — сталь, как синоним гуманизма в идее, — но с нее еще не сбита окалина. Мне кажется, что если русские офицеры являются куда-нибудь, они не входят, а прибывают. Как по-вашему, господин Хладек? Вы ведь знаете этих людей лучше, чем я…
Хладек до неприличия медлит с ответом. Потом говорит:
— Спору нет, советские офицеры и солдаты прибывают, а не входят — порой громко, порой тихо. Мне думается, дело зависит от обстановки — и от обуви, и от темперамента, и от веса их тела.
Нет, сегодня Ярослав сражается с опущенным забралом. Вчера, когда он парировал удары Совой-Межликом, в голосе его звучала веселая насмешка. Не окинуть взглядом время, которое протекло между вчера и сегодня. А Лея хихикает, как наивная субреточка; о бездонная, о лукавая женская хитрость… Но если Ярослав сейчас встанет и уйдет, мне придется отпустить его во гневе. Я должен заступиться за Лею… Ведь глотает же ван Буден нарочитую грубость Хладека. И Фюслер смеется.
— Клянусь Стиксом, наш гражданин мира толкует об идеале прекрасного человека. Мне, однако, не хотелось бы брать в качестве примера одних лишь военных, я предпочел бы классический образец, идеал калокагатии[40], а Хладек преподносит нам взамен теории размер обуви и вес тела. Ярослав, старый плут, не шути над нами так немилосердно…
Лея говорит:
— О Тео, Тео, твоя чрезмерная образованность тебя погубит. Не хочешь ли еще ломтик жаркого — сочный, ароматный?..
Сейчас это говорит Лея, когда-то говорила Кора. Хладек корчится, как на огне. Ван Буден явно ничего не понял, он озадачен, кисло улыбается, но хочет спасти положение и — что в высшей степени благородно с его стороны — прикрыть мою ретираду.
Ван Буден стряхивает пепел с выкуренной почти до конца сигары:
— Да, вопрос был не из умных… Тысячу извинений, господин Хладек… Но вот что я хочу сказать: ваш соотечественник, представительный мужчина лет тридцати, — меня, признаюсь, всегда восхищала мужественность без воинственности — выслушивает меня, ну, совершеннейший arbitr elegantiarum, как сказали бы римляне, проверяет мое журналистское удостоверение и репатриационное свидетельство, говорит что-то о special permission[41] и просит меня подождать, пока он справится по телефону. Я, шутки ради, говорю, что мне довелось пить в Лондоне чай с президентом Бенешем и что в случае надобности можно за просить непосредственно Градчаны… Как вы думаете, что ответил мне ваш соотечественник? Указывая взглядом на нашего профессора, он спрашивает: «The gentleman is a friend of yonrs?»[42] — и не дожидаясь ответа, дает знак часовому. Тот открывает решетчатые ворота, и, напутствуемые словами «Please, gentlemen»[43], мы переходим границу…
Ван Буден делает паузу. Молча курит. Ждет, что Ярослав хоть теперь что-нибудь скажет. А Ярослав безмолвствует и делает вид, будто самое главное сейчас — накопить побольше пепла на копчике сигары.
Уж наверно, он догадался, что ван Буден ведет огонь сразу по двум целям, даже больше по Лее, чем по нему, Хладеку. Перед дочерью ван Буден хочет предстать прекрасным рыцарем, а перед коммунистом, как гражданин мира — прекрасным европейцем. Сдается мне, что ван Буден всех коммунистов считает провинциалами, но охотно взял бы их в ученье. Лея уже потушила сигарету, не выкурив ее и на четверть. Вот она завязывает узелок на своем кружевном платочке; изображает забывчивость. Какая досада! Ван Буден снова подхватывает нить разговора. И слава богу. Я со своей неизменной латынью окончательно выдохся…
— Ваш соотечественник лично проводил нас, расспросил меня об условиях жизни в эмиграции. Ну-с, я пользовался известными привилегиями. Мой отец вывез себе жену из Голландии, увидел я свет на острове Мэн. Благодаря этому я не был в войну интернирован и выслан. Разумеется, наш спутник избегал задавать вопросы чисто личного свойства. Когда мы добрались до маленькой беленой церкви, стоящей в окружении могильных плит с надписями на немецком языке, он достал из зарешеченного оконца ризницы ключ, открыл церковь, снял с правой руки кожаную перчатку, обнажил голову, перекрестился и пропустил нас вперед со словами «Рах vobiscum»[44]. И покуда мы вблизи рассматривали алтарь, он отошел к скамьям. Я не сомневаюсь, что он… — Тут ван Буден смущенно закашлялся и не договорил до конца. Ему наверняка подумалось, что рассказывать Ярославу, этому безбожнику, как офицер сотворил, отойдя к скамьям, тихую молитву, значило бы осквернить свои воспоминания.
— Великолепный резной алтарь, — продолжал ван Буден, — изумительный, если вспомнить о том, что создал его, как полагают, художник-самоучка, и не когда-нибудь, а в шестнадцатом веке, чреватом войнами и церковными расколами. А вы, господин Хладек, знакомы с этим творением неизвестного мастера?
Ох, только не вздумай поучать Ярослава, дорогой ван Буден! При его теперешнем настроении это значило бы заронить искру в пороховую бочку… Даже если Ярослав возьмет себя в руки и промолчит, никогда не заживут раны, нанесенные в этот час.
— В свое время я знавал тамошнего священника, — говорит Хладек. — Он был думающий молодой церковник либерального толка: терпимый, когда выгоднее быть терпимым, догматик, когда выгоднее быть догматиком, толковый, как все иезуиты. Он даже умудрился окончить факультет германистики и всегда выдавал себя за лояльнейшего чешского гражданина. Ростом с Георгия Победоносца, а по имени Франц. Мы называли его «Святой Франц на колесе». А потом, после Мюнхена, когда немцы в октябре тридцать восьмого с благословения всей европейской знати перешли нашу границу, он заставил колокола Зибенхойзера встретить их торжественным перезвоном и отслужил особую мессу. Такой он был толковый, этот господин священник. Теперь он снова в Риме. Из него хотят сделать дипломата при папе. Словом, это человек с будущим…
Бедный ван Буден поперхнулся дымом и закашлялся. Пусть себе кашляет подольше. Тем временем уляжется гнев, если таковой обуял его. А Лея разыгрывает безумный ужас — разевает рот, будто с перепугу, и кричит якобы вне себя от тревоги:
— Что такое? Что с вами? Скорей за лекарством! Я открою окно! Воздуху… Воздуху…
Атмосфера накалилась. Сейчас грянет гром. Если наш добрый ван Буден намерен и впредь изображать из себя громоотвод, он долго не продержится. А я потеряю лучшего друга. И Фюслер закрывает глаза рукой.
Но Ярослав хлопает ван Будена по спине и говорит тоном, в котором никто не заподозрил бы подвоха:
— Отвыкли вы от континентального табака, мой дорогой. Сигары-то из Богемии.
Ван Буден затих, выпятил губы, хочет что-то сказать. Сейчас он сделает такой глубокий разрез, что никакой шуткой потом не зашьешь шов. Но Ярослав опередил его. И то слава богу…
— А вот старый мастер, о котором вы меня спрашивали, не стал бы звонить в колокола, если бы в те времена на страну напали турки, нет, он не стал бы звонить — разве что в набатный колокол. Уж он-то знал, что такое прекрасное и что такое боль. В средней части алтаря — снятие с креста, помните — лицо матери, склоненное над телом убитого сына… Вы хорошенько его рассмотрели, господин пан Буден? Вы заметили, что лицо матери сурово, что она сдерживает боль? Боль нельзя вообразить. Мастер это знал. Человек, который отдается боли, внутренне подчиняет себя ей, становится безобразен. А теперь вспомните позу и особенно руки матери: здесь вы видите прекрасную боль, господин ван Буден, боль, доступную изображению, доступную сочувствию, доступную оценке. Это боль, исполненная готовности превозмочь себя. Вы обратили внимание, что мать левой рукой поддерживает тело у себя на коленях, так обняв его, чтобы ладонью закрыть рану на груди. Мать закрывает страшную рану левой рукой. А взгляд ее устремлен на правую руку. Правой она красиво расправляет складки набедренной повязки — единственной, последней тряпицы, которую они ему оставили. Человек, желающий одолеть боль, — так я понял старого мастера — подчиняет свою деятельность законам прекрасного: преобразовательный закон жизни переходит в преобразовательный закон искусства. Его способ выражения должен быть общедоступен и насыщен высоким содержанием. Чем больше людей он сумеет потрясти, тем лучше, всякие выкрутасы неизбежно ведут под гору… Но здесь — хочу я того или нет — для меня начинается вопрос о классовости искусства. Кажется, Горький сказал, что эстетика сегодняшнего дня есть этика завтрашнего.
Ярослав смолкает и начинает усиленно дымить — сигара, того гляди, погаснет. А ван Буден выпятил губы давно уже — наверно, чтобы подыграть в нужную минуту. Да так и не подыграл. Теперь у него нет для игры ни нот, ни флейты. Вы только послушайте, что он сейчас говорит, наш добрый ван Буден:
— Если мы хотим быть хозяевами своих мыслей, будь то в искусстве или и жизни, мы но должны привязывать себя ни к какой точке зрения, ни к какому «изму».
На мой взгляд, он грешит преизбытком либерализма, а преизбыток либерализма вреден для здоровья. Да и Ярослав в два счета разделался с ним:
— Вы хотите сказать: не привязывать себя ни к марксизму, ни к социализму, ни к коммунизму, ведь так? А вы не забыли еще, в чем вы упрекали моих эмигрировавших товарищей, говоря о понятии «конкретно»?
Ван Буден сосет погасшую сигару. Вообще он не любитель сигар, курит их лишь ради компании. Да, Ярослав задал ему нелегкую задачу. Когда он заговорил, лоб у него пошел морщинами.
— Вчера в связи с понятием боли я, господин Хладек, говорил о становлении конкретной свободы человека. Мне думается, человек должен миновать врата боли, если хочет найти путь к себе самому и к свободе, пусть даже обусловленной. И эти врата, которые знаменуют собой выход из рая наивности, не заколотить каким-то «измом». Сознавая, что иду извечным путем человечества, я, однако, должен вам откровенно сказать, не чувствую под ногами твердой почвы. Мне хотелось бы еще раз сослаться на одного современного философа: «Когда отсутствие почвы под ногами вызовет у нас головокружение — а самое страшное еще впереди, — помните одно: все пройдет, бог останется… Даже Европа для нас не последний рубеж. Европейцами мы станем лишь тогда, когда станем людьми в полном смысле этого слова, это значит — людьми естественными и целезавершенными, а ведь и то и другое объединяется в боге…»
«Голубой час»… Он пробил. Настало время для мыслей под знаком меры и веса. Вот и Лея подтянулась. Она больше не кладет ногу на ногу, она забыла свои сердитые речи, сидит, как старшеклассница, что замечталась, глядя прямо перед собой, она глубже постигла, что такое боль и что — прекрасное, чем все мы, старики, вместе взятые. Сидит, плетет косицу из бахромы клетчатого пледа, без всяких претензий накинутого на плечи…
— Что бы ни думал каждый из нас о делах веры и познания, — говорит Фюслер, — меня, Ярослав, глубоко потрясло твое простое и человечно-прекрасное описание алтаря…
Ярослав улыбается и чуть склоняет голову к плечу. А голову к плечу он склоняет, когда на него находит комедиантский стих, что сейчас было бы не совсем уместно.
Действительно, Хладек улыбается и говорит:
— Я как раз считаю хитростью гуманистической религии, такой, как христианская, то обстоятельство, что в конечном счете — я бы даже позволил себе сказать, в последней инстанции — предметом ее является не милостивый бог, а добрый человек. Если же человек добр, он и красив духовной красотой…
Ван Буден перебивает его:
— Для того чтобы из невозможных предпосылок делать вполне возможные выводы, поистине нужен талант, господин Хладек!
Так и надо Хладеку, теперь перестанет выделывать свои антраша, словно в кукольном балете. Впрочем, он все еще держит голову у плеча.
— На минуту, шутки ради, допустим, что христианское учение можно полностью очистить от догм и клерикализма. Скажите-ка, господин ван Буден, если мы получим христианство в первоначальном виде, какой из этого воспоследует «изм»?
Нет, Хладеку не дождаться того ответа, который он хотел выманить, конечно же, не дождаться, на такие вопросы человек, подобный ван Будену, не отвечает. Ярослав мог бы и сам заметить, как серьезно, как искренне старался ван Буден примирить мировоззрения. Ну можно ли тут паясничать, хотя бы и шутки ради? Неуместные, да, неуместные шутки. Ведь тем самым он рискует уронить достоинство отца в глазах дочери… Тихий ангел пролетел по комнате. Где-то на рейффенбергском шоссе взревел автомобиль. И больше ни звука.
— Ярослав, наверно, это машина за тобой.
Ярослав бросает на Фюслера косой взгляд и хмыкает:
— Только мы разговорились…
Если это машина за ним, что ж, я буду рад. Тогда мы спасем хоть остатки нашего «голубого часа». О, злой рок! Ищущему и заблудшему случай помогает, правому же — никогда. Лея встает. И опять у нее стал недобрый взгляд… недобрый, не такой, как раньше… Молчи, Лея! Молчи… Все сейчас не такое, как раньше…
Лея говорит:
— Да ведь это же проще простого, ван Буден. Господин Хладек считает, что вы смело можете величать своего бога и спасителя «товарищ Иисус Христос»…
Испорчен, непоправимо испорчен «голубой час», нарушена мера — по вине Хладека. Теперь от меня зависит спасти то, что еще, может быть, удастся спасти. Но как прикажете мне объяснять теперь, что есть добро, что красота и что истина. По сути дела, оба — и тот и другой — обращались к Лее, и только к ней. Один стремился примирить ее с богом и миром, другой — с Марксом и миром. А мне-то что сказать?.. Ван Буден, добрая душа, снопа заговорил, хочет помочь мне, но теперь это некстати. Он неуклонно возвращается к своей теме. Что толку описывать дугу, милый друг? Если ты вращаешься по окружности, она в свою очередь вращается вокруг своей оси, колдовская игра, и конца ей нет, ибо время нарушило вес и меру нашего мышления…
— А знаете, господин Хладек, что мне больше всего понравилось в вашем соотечественнике? Его национальная и даже сверхнациональная гордость, которая не отталкивает и не оскорбляет, ибо обладает культурой…
Понимай так: «Чего нельзя сказать о тебе, дорогой Хладек». Боже мой, ну и ну! Умоляю тебя, Ярослав, не взрывайся, ради меня, не изрывайся… Фюслер ломает руки под столом, но его лицу Хладек видит, как он смущен. Лея отходит к окну и поворачивается спиной к обществу. А ван Буден продолжает безмятежно и дружелюбно:
— Когда мы досыта налюбовались великолепным резным алтарем, я по-немецки спросил нашего профессора, что может стоить это произведение искусства сейчас, в переводе на доллары. И тут за моей спиной прозвучали слова, побудившие меня заговорить о «гордости, которая обладает культурой». «Priceless, — сказал офицер, — ему нет цены». И когда мы не без смущения обернулись к нему, с улыбкой отвесил нам поклон… Еще раз мое глубочайшее уважение… С такими людьми можно построить республику как по мерке…
Ярослав отъехал чуть назад вместе со стулом и выпрямился. Итак, петухи встали в позицию. Ван Буден тоже выпрямился. Но Ярослав — ну и плут — выпрямился только затем… чтобы стряхнуть с пиджака сигарный нецел. И говорит при этом:
— Исходя из моего весьма ограниченного жизненного опыта, я осмелюсь утверждать, господни ван Буден, что в этом отношении вы слегка переоценили своего красивого и гордого спутника. Мысль, высказанная моим соотечественником, насколько я могу судить, есть не более как ходячее выражение, которое имеется в запасе у любого гида. Я лично слышал его в Венеции, а также в Париже и в Лондоне, в Тауэре, когда нам показывали поддельные драгоценности короны под стеклянным колпаком, затем в Дрездене перед Сикстинской мадонной, и у себя на родине в Праге, когда, к примеру, в монастыре св. Лоретты иностранцам показывают знаменитую жемчужную дароносицу в дубовом стенном шкафу. Быть может, вы, как бывший владелец магазина, пропускали раньше мимо ушей это гордое сверхнациональное словцо, что меня, кстати, ничуть не удивило бы.
Лея исподтишка хихикает.
Ради ван Будена и традиции «голубого часа» я обязан кое-что внушить моему дорогому Ярославу, деликатно, но недвусмысленно.
Однако на сей раз в голосе профессора Фюслера нет той богатырской мощи, которую он обретает на кафедре:
— Дорогие друзья, там, где так много общих анти — я имею в виду антифашистские убеждения, — не станет дело и за общими про — я имею в виду чистый и демократичный образ действий и способ общения на пользу и благо мира, недавно установившегоя между народами, а это значит… — тут он не мог удержаться от своего обычного жеста, размашистого и плавного, — …это значит на пользу и благо — Прекрасного-Истинного-Доброго, или, другими словами, — на пользу и благо человека…
Речь его, столь трогательно-прекрасная, никого не взволновала. И лучше всех понял это сам Фюслер. Он-то знал, когда слово — искра и когда — мыльный пузырь. Опытный педагог догадывается о воздействии своих слов по выражению лиц, по глазам своих слушателей. Нет, он никого не растрогал: Ярослава — меньше всех, ван Будена — едва. А Лея стоит лицом к окну, и Фюслер, к ужасу своему, замечает, что у нее, кажется, вздрагивают плечи от подавляемого смеха. Ван Буден учтиво подхватывает:
— Нет ничего естественней, и все же нам, при нашей короткой памяти, надо снова и снова напоминать об этом.
А Хладек выпускает одну из своих стрел, которую следует перехватить и отправить назад.
— Ты прирожденный наставник, Тео, ты просто но выпускаешь из рук указку.
Фюслер раздумывает. Разве то, что я сказал, не было истинным и добрым? Было. А прекрасным?.. Нельзя ли считать Прекрасное страстью Истинного и Доброго, страстью, которой я еще ни разу не обладал в полной мере?.. Не является ли эта страсть к Прекрасному наиболее доступным духовным выражением, формой проявления истинного и доброго?…Воспитанность есть форма… Но есть ли форма — нечто такое, что не щадит себя самое?..
— И как же тогда фактор самообладания?.. — бормочет Фюслер, под натиском мыслей заговоривший вслух с самим собой.
— Вы что-то сказали, дорогой профессор? — переспрашивает озадаченный ван Буден.
Фюслер трогает кончиками пальцев щеку и подбородок, как бы проверяя, гладко ли он выбрит. А сам смотрит в открытое окно, словно ждет вдохновения с ясного неба. У него теперь особый взгляд, взгляд, который устремлен внутрь, хотя расширенные зрачки смотрят куда-то вдаль, взгляд невидящий, взгляд, который заставляет предполагать внутреннюю концентрацию, скрытую угрозу, но зачастую свидетельствует всего лишь о помутнении мысли. И в это мгновение вместо фигуры Лен старику видится силуэт совы на фоне ясного предосеннего неба.
Видение пугает его, и все же он шепчет:
— Говорят, кто пойдет против себя самого, тот скоро умрет.
Ван Будену не по себе. Он никогда не думал, что профессор такой мистик. Он бросает взгляд на Хладека и убеждается, что последний неприятно удивлен поведением Фюслера. А Лея, опершись руками на подоконник, вдруг говорит:
— Это к нам…
Она говорит о чем-то вполне конкретном. Но Хладек опять склоняет голову набок, глядит, как зачарованный, р. ясное небо и с глубокомысленным видом отпускает следующее замечание:
— Скажи мне, облачко, облачко кучевое, неужто ты принесло нам бабье лето? Да, Тео, что ни говори, а на дворе осень, молодые паучки известили об этом мушек, а старые пауки-сенокосцы с грустью смотрят на мир, потому что у них кончилась паутина, да, да…
Это приводит Фюслера в себя и одновременно — в ярость. Он прижимает ладонь к губам, он увлажняет губы кончиком языка и обрушивается на Хладека.
— Твои комментарии, старый мой дружище, — говорит он запальчиво, — всегда представлялись мне восхитительными. Я берусь даже утверждать, что с годами одно их свойство усиливалось. Я подразумеваю их недоброжелательность, чтобы не сказать, полнейшее непонимание тех людей, которые по разделяют твоих взглядов…
Хладек перегнулся к нему через стол, словно не желая упустить ни единого звука, А Лея вдруг говорит:
— Если это действительно к нам и дверь не заперта, я удаляюсь в эмиграцию…
Хладек пропускает мимо ушей прорицание оракула. Он от души хохочет — прямо в лицо Фюслеру.
— Ну-ка дай мне жизни, старина! Дай, дай, не стесняйся! Я тоже люблю дать жизни другим — do ut des[45] — старая политика реалистов. Лучше всего проводить ее, не щадя затрат с обеих сторон. Порой в кругу друзей сорвется непрошеное слово, так-то. Но в кругу друзей все бури идут от доверия. Карел иногда говаривал: «Вылей-ка на меня ушат холодной воды, а то я так размяк, словно меня увенчали лаврами». А я хочу большого, всепобеждающего доверия между людьми, пот чего я хочу, вот к чему рвался всю жизнь и буду рваться — как девчонка на танцплощадку. Вот что было бы прекрасно… некоторым образом безболезненно прекрасно. Однако наступление новой эпохи столь же неизбежно, как наступление нового дня. И поэтому я чувствую себя, будто старик крестьянин, который каждой косточкой чует, что завтра будет вёдро, потому что сегодня развиднелось…
Ван Вуден бросает с иронией:
— А что будет с вашей классовой борьбой, если настанет золотой век?.. Ведь тогда ваша идеология останется не у дел, не так ли?..
Хладек развеселился.
— Помилуйте, господин ван Буден, ведь наша идеология — это не домовой, которому можно подсунуть миску молока и булочку. Коммунизм лишь тогда и можно строить, когда в стране разрешен классовый вопрос. Впрочем, вы это и без меня знаете… Ты почему качаешь головой, Тео? Ты тоже меня не понимаешь?..
Фюслер еще не совсем остыл и потому отвечает донельзя серьезно:
— Я хотел бы спросить тебя, Ярослав, о другом. У нас в Германии «оккупационный мир». Мы разделены на четыре оккупационные зоны — разделены в соответствии с Берлинской декларацией и Потсдамским соглашением. Мы живем по принципу: чья земля, того и правда. Скажи на милость, что станет с нашей немецкой молодежью, если одна оккупационная держава вводит в школах как обязательный предмет закон божий, а другая — закон революции?.. Вчера, когда советский офицер провозгласил меня профессором, я, говоря по правде, тоже размяк, словно меня увенчали лаврами. Да имею ли я вообще право излагать с кафедры свои гуманистические принципы? Ведь я демократ, а не революционер…
Фюслера бросало то в жар, то в холод. Он ощущал то облегчение, которое помогает человеку расправить плечи, то тяжесть груза, который давит к земле. Но над всем этим возвышалось прекрасное освобождающее чувство, которое возникает у человека, когда тот выходит на бой, вооружась открыто высказанным убеждением. И именно это чувство заставило его с нажимом произнести:
— Человек познает границы своих возможностей, если мыслит честно. Я демократ. Я стар, чтобы быть революционером, и мне не хватает страсти…
Ван Буден торопится поддержать его:
— Стать революционером в двадцать лет хорошо, в сорок — рискованно, в шестьдесят — глупо…
А Лея еще раз вещает:
— Ну, конечно же, это к нам.
А Хладек поддерживает мужской разговор. Теперь он водит пальцем по тканым квадратам скатерти — со ступеньки на ступеньку. И говорит при этом:
— Я был — я есмь — я буду… Когда мне было двадцать, я был в восторге от Гегеля и приветствовал сараевское убийство; когда мне было сорок — в тридцать шестом году, — я подумал: Гитлер сколачивает ось, смотри, не подходи близко, когда она начнет вращаться. Вот почему в сорок лет я начал для собственного удовольствия читать Маркса и Энгельса по-немецки и Ленина по-русски. А к своему шестидесятилетию, то есть в пятьдесят шестом, я хочу стать революционером в революционном государстве, всенепременнейше хочу, господа…
Фюслер и ван Буден молчат. «Если бы он говорил по-китайски, — думает ван Буден, — а я — на языке суахили, результат был бы тог же самый».
Хладек, словно прочитав его мысли, добавляет:
— Ну, конечно, дело это нелегкое для нашего брата. Когда я взялся за «Государство и революцию», мне сперва тоже было туго. Впору волосы на себе рвать: читать-то приходилось как обычно — слева направо, а мыслить — необычно, справа налево… А насчет немецкой молодежи ты совершенно прав, Тео, это очень серьезная историческая проблема для Германии. И я понимаю, что она тяжким грузом легла на ваши плечи.
Фюслер потянулся, с трудом выдохнул воздух, словно именно на него навалилась вся громада ответственности.
— Верно, Ярослав. Будучи демократом, я с радостью приемлю политику «перегруженных плеч». Но для ее успешного завершения мне лично нужна политика «развязанных рук». А Потсдамское соглашение — это еще но мирный договор, отнюдь нет.
— Ты прав, зато оно — пересадочная станция, — Хладек стукнул ладонью по столу. — И очень даже удобная пересадочная станция для немецких демократов. Чтобы сделать пересадку в лучшую половину столетия, вам даже незачем брать эту станцию с боя — надо только отстоять ее от крыс, которые сейчас забились в свои щели. Поэтому я хотел бы…
— Позвольте мне перебить вас, господин Хладек, — говорит ван Буден с изысканной учтивостью. — Не надо ходить вокруг да около. Будем конкретны: наш дорогой профессор был приглашен на работу в советской зоне. Советские оккупационные власти насаждают революционную идеологию. Западные оккупационные власти вообще никакой идеологии не насаждают — если не считать, конечно, специфических особенностей их национальной демократии. Хорошо, пусть так. Но каждая идеология прежде всего берет на откуп педагогику. Марксистская же идеология выдвигает тезис, что историю творят массы. А я позволю себе заметить — дайте мне, пожалуйста, договорить, господин Хладек, — я позволю себе заметить, что человек, подобный Фюслеру, лишь в том случае может подвизаться на своем поприще, если ему дадут открыто провозгласить свои убеждения, согласно которым высшее благо человечества есть личность…
Пытаясь раскурить потухшую сигару, ван Буден чуть заметно подался вперед, к Фюслеру, словно ожидая от него похвалы. Фюслер не противоречил ему — ни словом, ни жестом, ни выражением лица.
— Я уже чувствую, — со страдальческим видом заговорил Хладек, — что мне придется переговорить с товарищем Гришиным. Пусть ясности ради даст в газеты следующее объявление: «Требуются в неограниченном количестве молодые немцы для плодотворного участия в построении как немецкой, так и мировой истории. Туда же с реверансом и присвоением профессорского звания приглашаются на должность учителей личности антифашистско-демократических взглядов. Заработная плата и будущая пенсия начисляются по историческому тарифу, то есть после успешного закрепления мира и демократии в стране. Подпись: Советская военная администрация. Отдел культуры…» Не кажется ли вам, что Гришин без разговоров опубликует подобное объявление? Как ты думаешь, а, Тео?..
Ван Буден был всецело занят своей сигарой, которая никак не раскуривалась, а Фюслер не успел ответить, ему помешала очередная реплика Леи.
— Сделали остановку возле пивной Грундтейхов. А теперь прямо к нам…
Фюслер облегченно вздохнул.
— Ах, ты про автомобиль, про машину, которую выслали за Хладеком… Видишь ли, Ярослав, по смыслу твоя притча об объявлении справедлива, притчи вообще большей частью справедливы — по смыслу…
— Я спешу, — говорит Хладек. — И не стал бы я связываться с притчами, если бы господин ван Буден осторожности ради не перебил меня. А еще я хотел сказать на прощанье вот что. Немецкие учителя, научите немецкую молодежь одному: научите ее с революционным размахом браться за работу, научите ее взыскательной человеческой скромности, научите ее той культуре доверия, общественная функция которой — создать истинную демократию, власть свободного народа. И если это вам удастся, немецкие учителя, тогда Германия будет располагать прекрасной молодежью. Но горе вам и стране вашей, если это не удастся.
Хладек встал, застегнул пиджак. Склонив голову к плечу, он сказал:
— На этом и покончим. Глупость уже выдала все, что могла. Будет с вас. Слышите, машина приехала. Я уже чувствую себя на дорогах истории…
Но не успел он протянуть руку, как ван Буден вскочил:
— Нет, Хладек, так расставаться нельзя. За «глупость» прошу прощения. Считайте это a slip of tongue[46]. А теперь, — ван Буден сунул ему в руку спичечный коробок, — теперь дайте мне все-таки огня для этой континентальной продукции. Вы умеете добывать огонь трением — вот поэтому…
Хладек взял коробок, а ван Буден улыбнулся маленьким круглым ртом — словно шипучка забулькала в стакане. Хладек чиркнул спичкой и подал ее ван Будену со словами:
— Вот вам огонек, подожжем «голубой час», как плум-пудинг.
Ван Буден опешил на мгновение, потом раскурил сигару.
— Ну как, прикурили? — спросил Хладек с видом полнейшего простодушия.
— Не торопитесь, — ответил ван Буден. — О достоинствах пудинга нельзя судить до обеда, — и, метнув на Фюслера довольный взгляд, закончил: — Ну и несносная же личность этот Хладек, кто как, а я сыт им по горло…
Фюслер заметил, как в глазах у обоих мелькнула искра дружеского согласия, и это наблюдение доставило ему живейшую радость, хоть он и знал, что искра возгорелась на пепелище «голубого часа», столь любезного его сердцу.
Тут Лея вдруг отходит от окна и, повернувшись лицом к обществу, докладывает, как лакей:
— Изволили прибыть господин Залигер с супругой!
Фюслер вскакивает со стула. Он не подходит к окну, а подкрадывается, он становится рядом с Леей, глотает набежавшую слюну, помотав головой, вытягивает шею из тесного воротничка и в самом деле видит перед собой пресловутого автоящера: высокие подножки, прямые спинки, желтые колеса со спицами, непомерно большие фары, высоко насаженные на готически узкий радиатор, и свеженаведенный на ветровом стекле красный круг размером с футбольный мяч, а в центре его — красный крест.
— Я и не думал приглашать этих людей, — бормочет он почти с негодованием, — дальше «здравствуйте — прощайте» у нас дело не заходило. — Тут до него доносится пронзительной трезвон колокольчика. — Что же делать, Ярослав, что делать?
Хладек, которого явно забавляет беспомощная растерянность друга, говорит:
— Я уже предсказывал тебе однажды, что произойдет, если…
«Если ты меня еще хоть раз сведешь с этими людьми, — мрачно заявил Хладек вскоре после прихода фашистов к власти, — дух мой отлетит от меня со страшным треском…»
А Лея неожиданно легкой походкой пересекает комнату и скрывается в дверях. Неужели Лея пошла открывать, именно Лея? Или она хочет встретить гостей обидным словом, показать им от ворот поворот? Но, оставив двери настежь, Лея спешит вверх по лестнице. Слышно, как она закрывается на ключ у себя в комнате.
— Отнеситесь к делу со всем возможным приличием, — советует ван Буден. Для него имя Залигер — тоже не пустой звук; со слов Фюслера он знает кое-что о сыне Залигеров, бывшем женихе Леи, хоть и тайном. Впрочем, из бесстрастного рассказа Фюслера он заключил, что этот Ар-мин Залигер не такое уж чудовище.
— Иду открывать, — говорит Фюслер.
— Я тоже, — говорит Хладек. — Только я иду открывать черный ход, покуда ты впустишь дорогих гостей через парадный. Не обижайся на меня, Тео, я еще не настолько созрел, чтобы пожимать руку любому немцу, а особенно этим слюнтяям со свастикой и их расфуфыренным дамам.
— Если ты говоришь всерьез…
— Иди, старик, иди. Тебе снова жить с этими людьми в одном городе, а мне нет. Я могу и смыться. Господин ван Буден тебя не оставит и выступит в роли — как же это он выразился, — ах, да, в роли «арбитр элегантиарум», в роли достойнейшего из всех третейских и моральных судей, — и, выходя, Хладек кивнул ван Будену: — Che-erio![47]
На лестнице Фюслер шепнул Хладеку, что визит этот ему неприятен, слов нет, до чего неприятен, и что он лично считает его наглым и бесцеремонным. А Хладек отвечал:
— Учти на будущее, дорогой старик, тебе придется потребовать от своего доброго сердца большей решительности…
Хладек миновал грушевый сад, поднялся по причудливо обсаженной лестнице, открыл прекрасную дверь в увитой зеленью изгороди и зашагал по луговой тропинке в горы. У него было такое чувство, будто кто-то смотрит ему вслед. Оглянувшись, Хладек заметил в окне мезонина Лею. Он помахал ей, но Лея поспешно отошла от окна.
Это ван Буден постучал к ней в дверь и вызвал ее на минутку. Лея открыла дверь и пригласила его войти. Она еще ни разу не допускала его в свою комнату. И сейчас он меньше всего рассчитывал получить от нее приглашение. Озадаченный столь неожиданной и счастливой для него переменой в отношениях, он робко переступил порог. Мгновенно вобрав в себя атмосферу комнаты, он нашел, что все здесь выглядит именно так, как он и представлял себе.
Вот железная кровать в нише за пестрой занавеской, занавеска отдернута, подушки смяты. На распахнутом окне — зелень в горшках. Наискось от окна столик в стиле рококо, перед ним плетеный стул. Столик, накрытый толстым стеклом, совершенно пуст, если не считать перламутрового портсигара да исписанного торопливыми каракулями листа бумаги; ван Будену показалось даже, что на нем еще не высохли чернила. Книжный шкаф возле двери тоже почти пуст, а над ним висит та злополучная картина, которую нарисовала Лея; картина приколота булавками прямо к обоям, верхний ее край приходится как раз под потолок. Ковер скатан в тугую трубку и засунут под кровать. Еще узкий гардероб, умывальник и кафельная печь. Вот и все. А сама Лея расхаживает босиком по некрашеному дощатому полу.
— Каждый имеет право быть любопытным, — такими словами встретила Лея своего отца.
Отец держал в руках конверт и протянул его Лее адресом вверх. Впрочем, Лея заметила конверт, едва ван Буден открыл дверь, и успела прочесть: «Фрейлейн Лее Фюслер. В собственные руки». Последнее было дважды подчеркнуто. Ну, а почерк Армина Залигера — тонкие, островерхие буквы с обрубленными связками — остался неизменным. У буквы «L» по-прежнему недоставало верхнего завитка и по-прежнему она напоминала альфу с хвостиком чуть длинней обычной, ту самую альфу, которой в тригонометрии полагалось обозначать какой-то там угол.
У Руди почерк изменился. Раньше он выписывал «L», как широкий волан на черных воскресных платьях старушек, теперь оно напоминало печатный шрифт.
Когда вошел отец, Лея затворила дверь. Ван Буден так и остался в полушаге от двери, словно ждал, когда Лея пригласит его сесть. Но он не обижался на то, что она мешкает. Он только переиначил слова, которыми она его встретила, и сказал:
— Дитя мое, пусть не любопытство движет тобой и не предположение, будто я в какой-то мере выказываю свою симпатию к отправителю, передавая тебе его письмо. Я всего лишь выполняю просьбу родителей, которая представляется мне правомерной, несмотря на все, что было между вами. Господин и госпожа Залигер убедительно просят тебя ответить лишь одно: принимаешь ты это письмо или нет, потому что…
— …потому что они тоже имеют право быть любопытными, — холодно перебила Лея.
— …потому что их сын, как они говорят, просил уничтожить письмо, не вскрывая, если ты откажешься принять его. Твое дело — решить… Мое — сыграть роль гонца, только и всего…
Лея разглядывала отца. Он стоял, прижав локоть к телу, и держал письмо на раскрытой ладони: крупный, пасторского обличья человек, тот, кто любил, а потом бросил ее мать, тот, кто ценит юных и гордых рыцарей, кто вчера не ко времени навязал ей общество Ханхен, а сегодня играет роль гонца…
Ведь еще совсем недавно, когда он подшучивал над Хладеком, он казался ей вестником из-за моря, тем, кто был прекрасен в глазах матери, отчего та нередко вспоминала его, а дочери запрещала о нем расспрашивать. Но здесь, но сейчас, — вот так, как он стоял перед ней, задрапировавшись в тогу, сотканную из родительских чувств, с деловым лицом почтальона, и протягивал на левой руке незабытое горе, а правой одергивал пиджак, словно стремился красиво расправить складки своей тоги, представительный и тщеславный, благожелательный и отмытый во всех водах горя, он вдруг показался ей до ужаса старым, дряхлым и виновным. Спасаясь бегством при виде Залигеров, она твердо верила, что отец защитит ее от прошлого, которое притащили эти люди в дом Фюслера. Письмо на его ладони сломило первый узкий мостик, проложенный ее верой. Принеси он это письмо вчера… Вчера она сказала Руди Хагедорну: «Я хочу, чтобы ты помирился с Армином Залигером…» Вчера она еще хотела разыгрывать милосердную сестру, страдалицу, опаленную, отрекающуюся, хотела думать, что страсти ничего не стоят, что неизменны только «предметы», которые смеются над нашей быстротечностью: мягкая трава на опушке леса… Вчера она бестрепетно приняла бы это письмо из любых рук и написала бы Армину Залигеру такой ответ: «Я хочу, чтобы ты помирился с Руди Хагедорном, и больше ничего». Но минувшей ночью мягкая трава на опушке оказалась до того мягка, что в ней можно было увязнуть — и больше ни чего… А утром заявились комедианты и дали представление уже для сегодняшних зрителей с эпилогом на случай, если среди них сыщутся тугодумы. Все было донельзя примитивно, и публика разбежалась, потому что поняла все наоборот, и больше пи от чего… А теперь заявляется человек, слуга на посылках у прошлого, и наложенным платежом доставляет письмо, именно теперь, когда Ярослав идет к лесу и непременно рассмеется, увидев, что на опушке, на том месте все еще примята мягкая трава. Это рассказала Ханхен…
— Прочитайте-ка, что там понаписал мой отгремевший рыцарь, — говорит Лея. — Послушайте сами, как прекрасно все звучит.
Словцо «пре-е-кра-а-сно» она протянула нараспев.
— Но, милое дитя, смею ли я…
— Смеете… у меня нет больше никаких личных отношений с отправителем.
— Тогда тем более. Значит, ты решила. Они ждут внизу, — ван Буден круто поворачивается, хочет уйти. Лея загораживает ему дорогу и говорит, проталкивая слова сквозь стиснутые зубы.
— Почему я должна соблюдать дурацкое условие, если мне ставит его субъект, не сдержавший «с великим сожалением» большое, настоящее слово? Ну, читайте же, мне любопытно услышать, как это делается — как сожалеют о сожалении.
Движениями нервными, но неторопливыми ван Буден вскрыл конверт. Она чувствовала, как его коробит, и радовалась этому с деспотизмом, который можно наблюдать у детей, если старшие из любви и уступчивости пляшут под их дудку. Инстинкт давно уже подсказал Лее, что отец во все времена будет с величайшей уступчивостью относиться ко всем спадам ее настроения, ко всем ее капризам.
Еще вчера это казалось ей утешительным. Но она сама растеряла утешение в мягкой траве и в зрительном зале Хладековского театра. А сейчас она не могла удержаться от сопоставления, в котором возобладала единая мера вещей: этот человек бросил мою мать, так же как Армии бросил меня. Первая трусость отняла у меня отца, вторая — молодость. Оба, и тот, и другой, повесили любовь, словно старое пальто, на гвоздь обстоятельств.
В душу ван Будена тоже закралось тягостное предчувствие, что он затем и назначен слушать, чтобы узнать про собственный позор. Без всякого выражения читал он письмо Армина Залигера:
— «Лея, моя дорогая, моя единственная! То обстоятельство, что ты жива, перевешивает сомнение, имею ли я право обращаться к тебе, пусть даже издалека. То обстоятельство, что ты жива, снова позволяет мне мыслить здраво. То обстоятельство, что ты жива, ни на йоту не умаляет моей вины…»
Лея хихикает:
— Понятие, суждение, умозаключение с шумовыми эффектами. Он верен себе. Себе он всегда будет верен, как всякая заячья душонка…
Следующую фразу, которая была написана более крупными буквами и одна заняла целую строку, ван Буден прочел с особым выражением:
— «Я хочу искупить свою вину», — гласила эта фраза. Лея опустилась на стул; на стул рококо перед столиком рококо. Она раскрыла перламутровый портсигар. Впрочем, и стекло, покрывавшее полированную ореховую столешницу, с успехом заменяло зеркало.
— Вот как он поступает, — сказала Лея, — он думает, что можно губкой стереть отражение в зеркале.
Бесцветным голосом ван Буден читал дальше:
— «Я живу в Ганновере. Нам передавали, что в советской зоне бывшие офицеры подвергаются репрессиям. Товарищ из моей части предоставил мне кров и работу. Он владелец старой и заслуженной экспедиционной конторы. Задача моя сводится к тому, чтобы координировать поступающие заказы и наиболее рациональным образом организовать перевозку грузов к нам и от нас. Но самое главное вот что: в среде моих новых знакомых сложился более узкий круг — все без исключения бывшие офицеры моих лет (частью такие же, как и я, изгнанники), которые, подобно мне, готовы сделать все, что в их силах, чтобы искупить ответственность немцев за войну».
— Слово «все» подчеркнуто, — с педантичной точностью замечает чтец, затем продолжает таким же бесцветным голосом. Однако последующие фразы пробуждают у него пафос первооткрывателя, он начинает забывать про знаки препинания, нарочито ускоряет и замедляет темп речи, то есть проявляет то же рвение, с каким уже повествовал сегодня о «прогулке с образовательными целями».
Вот о чем говорилось в письме дальше:
— «Что в первую голову необходимо теперь для нас, немцев? Братство свободных умов, терпимость по отношению ко всем расам и всем религиям, уважение всех взглядов, буде они зиждутся на почве святого гуманизма. Мы стремимся создать братство святого гуманизма. Мы служим ему, искупая вину. А искупить вину значит для нас очистить свою солдатскую честь, которой обманом лишил нас уличный сброд…»
— Нет, губкой это отражение не сотрешь, и пуховкой — тоже нет.
Но ван Буден поспешно возобновляет чтение.
— «Форма, принятая среди братьев нашего ордена, — простой и опрятный рабочий костюм. (Многие, по недостатку средств, ходят в старых мундирах, «очищенных» в буквальном смысле от знаков отличия и тому подобного.)»
— Носите полувоенный пиджак — последний крик мужской моды, — хихикает Лея, но перебить чтеца ей не удается.
Тот частит дальше:
— «Наша торжественная клятва основана на требовании чистоты гуманистического волеизъявления и самодисциплины. Высшее отличие — быть удостоенным звания брат. Но ни один из нас не может покуда претендовать на это звание. Только нашему товарищу Гл. оно было присуждено посмертно. (Упомянутый Гл. добровольно вошел в состав команды взрывников и погиб, обезвреживая фугаску. Замечу, что это была немецкая бомба. А вообще Гл. работал по демонтажу бывшего военного аэродрома.)»
Теперь ван Буден по собственной инициативе прервал чтение и лишь после некоторого молчания продолжал спокойным тоном:
— «У меня еще осталась родина, и я люблю ее. Меня тянет на родину. Отец пишет, что ему не приходилось слышать, чтобы в Рейффенберге подвергались репрессиям бывшие офицеры, во всяком случае, те, кто вернулся домой «обычным порядком». А военным преступником я никогда не был. Итак, столь для меня желанному возвращению на родину ничто не препятствует — ничто, кроме роковой для меня нечестности по отношению к тебе. И ее…»
— «Нечестность» в данном случае означает трусость, не так ли?
— Нет, Лея, это означает слабость, непростительную слабость…
— Вы ошибаетесь, это означает…
— «И ее… — ван Буден решил отбиваться с помощью самого письма, — …и ее ничем не оправдать. Ее можно лишь объяснить безумием, в котором была своя система и жертвой которого пал также и я…»
Смех, резкий, недобрый, бессмысленный, хлестнул ван Будена по губам, и на них замерли слова Залигера. Лея ткнула пальцем в настольное стекло:
— Вот, вот он стоит за моей спиной, заглядывает через мое плечо, вот он… Жертва в полувоенном пиджаке… прямая спина — как будто палку он проглотил, что его обучала уставу… Этот не распилит и не сожжет палку-вздыхалку, пока не настанет долгожданная весна, где уж ему. — Лея отъехала вместе со стулом от стола, уткнула локти в колени, стиснула кулаками виски: — Я ведь знала это… всегда знала…
Ван Буден мог бы теперь не поддаться ее капризам, мог бы махнуть рукой на письмо и поговорить с ней своими словами. Такую, как она есть, — прижатые к вискам кулачки, под ними короткие прядки волос, такую юную, хрупкую, беспомощную — можно было приободрить од-ним-единственным добрым словом. Но ван Буден продолжал говорить с ней словами Армина Залигера, то ли потому, что от смущения не находил собственных слов, то ли потому, что хотел по-иному повернуть дело, обратить вынужденный проступок в заслугу и взять отправителя письма, который представлялся ему человеком достойным уважения, под свою беспристрастную защиту. Он успел уже пробежать глазами конец письма. И как раз это развеяло его предубеждение: быть может, молодой человек высказывает не свои желания, а лишь то, что сегодня надлежит говорить.
Однако конец письма ван Буден зачитал том же бесцветным голосом, каким читал начало. Вот что там говорилось:
— «Я хочу искупить свою вину. Если ты полагаешь, что тебе будет неприятно встречать меня на улицах Рейффенберга, я навсегда останусь «в изгнании» и забуду родину. На мое имя переписан дом и участок на Рашбахской поляне (список № 81). Участок расположен по южному склону Катценштейна. Если выйти на балкон, оттуда видны вершины Богемии. Ты ведь знаешь этот дом с балконом через весь фасад. Помнится, ты мечтала о таком доме. Первый хозяин назвал его «Орлиное гнездо». Если бы только мне было дозволено подарить тебе это владение…»
Ван Буден видел, как разжались ее кулаки, и подумал, что она успокаивается, а потому с надеждой дочитал до конца:
— «Весь смысл искупления заключен теперь для меня в неограниченном праве возместить причиненное мной зло. Поступай как найдешь нужным, только не заподозри меня в стремлении откупиться, что было бы проще всего. Перебирайся туда, когда захочешь, поселись там с кем захочешь, только позволь подарить тебе этот дом. (Из письма родителей я узнал, что в настоящее время там проживает семья каких-то беженцев. Льщу себя надеждой, что новые власти незамедлительно переселят этих людей, едва лишь ты заявишь — наряду с законными правами — о своих моральных правах.) Повторяю: делая тебе это предложение, я не ставлю никаких условий, решительно никаких. Мне только пришлось бы попросить тебя о соблюдении одной-единственной формальности, конечно, если ты согласна принять мой дар. В этом случае тебе пришлось бы связаться с доктором Бюрингом, нашим рейффенбергским нотариусом, которому я по первому же запросу с его стороны предоставлю все и всяческие полномочия. Родителей я извещу тоже лишь после твоего согласия (если таковое воспоследует), чтобы поставить их перед совершившимся фактом. У меня с родителями в настоящее время отношения натянутые, поскольку я отказался после возобновления занятий в университете изучать приготовление пилюль, а предпочел медицину.
Со своей стороны могу тебя заверить, что никогда еще я не испытывал такого прилива нравственных сил. Прими же, моя дорогая, моя единственная, сердечнейшие пожелания, которые шлет тебе твой
Армин Залигер.
Ганновер, 17 августа 1945 года».
Ван Буден так же исправно прочел адрес отправителя и дату. Эта полустрочка показалась ему полоской ничейной земли, где он может еще раз отстоять свой нейтралитет. Он сунул письмо в конверт и положил его на стол перед Леей.
— Слово за тобой, мое дитя.
Она не подняла головы, она закрыла лицо ладонями. Но когда он, собравшись уходить, сказал ей: «Я выполнил твое требование. Я сообщу господам Залигерам, что ты прочла письмо», — Лея вдруг стремительно поднялась, схватила письмо и разорвала его вдоль и поперек. Она попыталась вручить ему обрывки, но ван Буден их не взял, он опустил руки и склонил голову:
— Только не это.
Потом все-таки подставил ладонь и согласился передать этим людям на словах, чтоб они не воображали, будто там, где нет обвинителя, нет и судьи. Ей безразлично, совершенно безразлично, встретит ли она когда-нибудь молодого господина Залигера в Рейффенберге или в любом другом месте. И снова она проталкивала слова сквозь стиснутые зубы. Ван Будена охватило сострадание. Он даже осмелился погладить ее по голове:
— Лея, дитя мое, успокойся. Когда ты успокоишься, мы сумеем тебе помочь.
И Лея стерпела его поглаживания. Отцу почудилось вдруг, что на нем почила благодать и отныне он сможет совершать чудеса — руководить и направлять ее по своей разумной воле.
Лея шептала:
— Я всегда это знала, но осознала только сейчас, только сейчас…
Однако когда, опустившись на край кровати, Лея вдруг заговорила, не цепляясь языком за слова, легко и свободно, словно глубокая скованность вдруг отпустила ее, ван Буден услышал совсем не то, что ожидал:
— В те времена, когда мы были тайно помолвлены, он как-то прочитал мне одно место из Флобера: «Жить как буржуа, мыслить как полубог». При этом он даже хлопнул себя от удовольствия по ляжкам. Бросая меня, он сказал: «Я не рожден героем, очень жаль, но тут уж ничего не поделаешь». А теперь он хочет вернуться домой; ему повезло, он остался жив, ему всегда везло. И теперь он пишет: «Я хочу искупить свою вину. Я подарю тебе увеселительный домик в знак примирения. Видишь, какой я молодец?.. Тут ты бессильна, не так ли?..»
Лея откинулась, выбросила руки вперед, словно отталкивая Залигера, и повторила:
— Тут ты бессильна, не так ли? — И снова, цепляясь языком за слова: — Я боюсь его. Только из страха перед нацистами я связалась с ним, бросилась ему на шею. Он это понял, он умен… ох, как умен… А потом он использовал мой страх… мазохист проклятый… пока сам не начал бояться нацистов… Я это знала… Я до сих пор его боюсь, до сих пор…
— Лея, дитя мое, но ведь сейчас все хорошо! У него нет больше над тобой никакой власти. И письмо ты порвала. И бояться тебе больше нечего… больше нечего бояться… больше не…
Она выпрямилась и на его попытку изгнать беса ответила старой, болезненно-мудрой усмешкой, такой старой и такой мудрой, что он запнулся.
— Ты глуп, ван Буден. Все вы глупы, а дядя Тео — больше всех. И Хладек, который не желает с этим согласиться. Но все-таки самый глупый из вас — Руди.
Ван Буден подтащил к себе стул.
— Дитя мое, молчанием ты себе не поможешь. Ты должна говорить. Ты должна кому-то довериться. Мне, если хочешь. Не потому, что я по воле случая стал твоим отцом, а потому, что я смыслю в таких делах… поверь мне…
Оп хотел схватить ее за руки.
— Я знаю… — ответила она таким тоном, что он запнулся.
Он только сказал:
— Сейчас, конечно, не самое благоприятное время для разговоров. Но я пока остаюсь, а потом ты можешь уехать со мной и жить у меня, сколько захочешь. Дюссельдорф — все еще красивый город, если кое-чего не замечать. В конце концов ты родилась там…
Но Лея не дает отвлечь себя от темы:
— А ты обратил внимание, как ловко там все подогнано, почти правдоподобно?.. Я заранее уверена, что в один прекрасный день он вдруг предстанет передо мной, а я буду держаться с потрясающим безразличием. Но не смогу уйти, пока он не повторит мне то же самое, слово в слово… не смогу уйти, не захочу, не смогу захотеть. «Ах, как я понимаю твой отказ», скажет он. «Я стыжусь самого себя», скажет он. «Я свинья…» И тогда… Угадай, ван Буден, что произойдет тогда?..
— Лея, дитя мое! Ведь ты живешь среди людей. Они тебе помогут…
— Тогда, если я отвечу: «Да, ты свинья!», он воскликнет: «Помоги мне, спаси меня!» А если я отвечу: «Нет, ты не свинья», он воскликнет: «Вот видишь!» И то, и другое будет почти правдой. Я могу говорить все, что вздумаю. Все равно он…
— Может быть, мне стоит поговорить с Хладеком?
— Поговори, если хочешь. Но я заранее могу тебе сказать, что он ответит: «Ей надо дать какое-то занятие, — ответит он, — хорошее занятие и здорового парня». Будто это так просто.
Тут ван Буден встал.
— Ну, я пошел. Скажу господам Залигерам, чтобы их дражайший сыпок катился ко всем чертям.
Снова по губам Леи скользнула усмешка, старая, болезненно-мудрая.
— Эх, ван Буден, ван Буден, ты-то, оказывается, тоже ничего не понимаешь! Да после этих слов их дражайший сынок через минуту будет здесь.
Ван Буден держал обрывки письма так, словно они жгли его пальцы. Хотел что-то сказать, но сдержался и только в дверях, еще раз окинув взглядом ее картину — треугольники, четырехугольники, линии, извилистые, как серпантин, — сказал:
— Знаешь, Лея, последнее время жизнь то и дело тычет меня носом в изречение старого Ансельма Кентерберийского: «Nondum considerasti quanti ponderis sit peccatum — Довольно ли ты размыслил о том, сколь тяжко бремя первородного греха…» Ибо от этих слов идет прямая дорога к познанию нашей действительности. Но познание есть жизнь, есть спасение из хаоса бытия. Мы должны хранить эту веру как зеницу ока. И говорить о ней, покуда бог дает нам время.
Ван Буден ушел. Немедленного отпета ему не требовалось…
Минуту спустя донесся с лестницы голос Эльмиры Залигер:
— Спасибо, любезный Фюслер, не утруждайте себя. Легче всего найти дверь, когда тебе укажут на нее…
А там, высоко в горах, сидит на скамейке Хладек. Гляди, гляди, Ярослав! Вас, тебя и Кору, обвенчали в старой церкви в богемской части Зибенхойзера. И венчал вас ее брат, святой Франц, тамошний священник. Мать у нее была очень набожная женщина. Она произвела обоих детей на свет внебрачно и поэтому решила посвятить их церкви. С одним это вполне удалось. Один сейчас в Риме, он еще станет большим человеком. А с другим ничего не вышло. Другой, вернее другая, влюбилась в Хладека и в результате кончила жизнь у красной кирпичной стены в Терезиенштадте. Франц говорил: «Я люблю бога и боюсь его». Кора боялась всего — мышей, кустов ночью, но говорила: «Я люблю только его», того, кто сидит сейчас высоко над Зибенхойзером. А кто умел ничего не бояться, когда надо было ничего не бояться? Ярослав никогда не рассказывает про Кору. Говорит, что в ее истории нет ничего особенного. Но чья история могла быть особенной, когда люди умирали сотнями? Нет, Ярослав — настоящий коммунист. Он не рассказывает о любви подробно.
На столе лежит письмо, начатое письмо к Руди. Лея перечеркивает все написанное. Она не станет отправлять письмо. Она думает: «Он такой большой и сильный, и, однако же, он слишком слаб, чтобы поддержать меня против Залигера. Залигер обведет его вокруг пальца, все равно, как бы ни обернулось дело — примирением или враждой».
Лея босиком спускается в сад, срезает цветущие плети горошка над прекрасной двзрью, замыкающей лестницу — лагерный блок. Букет, цветы — это «предметы», и она даст их Хладеку для Коры.
Глава шестнадцатая
Поезд отходит около девяти часов — в двадцать сорок, если верить расписанию. Рейффенбергцы окрестили его «мешочный эшелон». С тех пор как началась уборочная, он еще ни разу не отошел вовремя. Снизу он неизменно прибывает с опозданием не меньше чем на тридцать минут, случалось ему опаздывать и на три часа. Одни раз он вообще не пришел. В Рейффенберге паровоз перегоняют из головы в хвост, и он тянет поезд «вниз». Кроме перегонки, в Рейффенберге набирают воду, но и этим дело не ограничивается. Всегда нужно что-нибудь подправить и подвинтить. Это, однако, не мешает пассажирам собираться на станции задолго до срока.
Первые появляются уже вскоре после полудня. Это — жители окрестных деревень, удаленных от железной дороги. Впрочем, приходят и такие, которые живут в Рашбахе, Эрле и других местах, расположенных вдоль той же линии. Потому что там есть риск не попасть в поезд. «Откроешь дверь, и люди буквально валятся на тебя из тамбура, а иногда они просто-напросто привязывают дверь изнутри, чтоб ее нельзя было открыть. Нет, садиться надо в Рейффенберге, да не зевать при этом, не то провисишь всю дорогу на подножке. Вот как раз на прошлой неделе снова одна кувырнулась с подножки на полном ходу и сразу дух вон из бедняжки…»
Руди стоит в длинной очереди к кассе; толкают вперед — он поддается, что-то рассказывают — он слушает. В очереди больше женщин и девушек, чем мужчин и парией, во-первых, потому, что женщин и девушек сейчас вообще больше, чем мужчин и парней, а во-вторых, потому, что женщинам и девушкам легче завести разговор с крестьянами, они лучше умеют пустить слезу и поторговаться. Конечно, женщины и девушки тоже не все из одного теста. Те, кому не дана способность легко заводить разговор, пускать слезу и торговаться, те, кто уже раз-другой возвращался с пустыми руками или с тремя картофелинами, предпочитают сидеть дома, голодать или давать более расторопной соседке барахлишко для обмена, а потом рассыпаться в благодарностях, хотя та и надувает их самым бессовестным образом. Дети не спрашивают, откуда что взялось…
Одна рассказывает:
— Прошлый раз выменяла два пододеяльника, из дамаста, новенькие, ненадеванные, так хотелось приберечь их, покуда муж вернется.
— Ничего, будет рад и напернику, если вернется, — со смехом перебивает другая.
— Если да — и то слава богу, — осаживает ее первая и продолжает свой рассказ: — Угадайте, что мне дали за два дамастовых пододеяльника? Полрюкзака зеленых бобов. Возвращаюсь, а трое моих едоков тут как тут. Старшему восемь, младшему три, среднюю скоро отправлю в санаторий. Стоят, значит, у вокзала с тележкой. Подняли мешок: «Мам, а почему он такой легкий? Ты же обещала привезти что-нибудь тяжелое». Ну, что ты им ответишь? Взяла младшенького, подсадила на тележку и повезла домой из последних сил. Мы под горой живем. Так думаете, старшие мне помогали? Ничуть не бывало. Идут и ноют всю дорогу. Ну, дома я им наварила бобов на воде с оплеухами.
Вокзальные часы показывают десять минут восьмого. Вокзал в Рейффенберге невелик, раза примерно в два больше, чем обыкновенная закусочная-автомат, и уже сейчас, за полтора часа до отхода поезда по расписанию, он набит битком. Стеклянная матовая дверь в наружной стене ведет в зал ожидания. Обе створки ее настежь распахнуты. Прикрывать их бесполезно. Непрерывный людской поток все равно не дает им закрыться. Люди протискиваются сквозь завесу табачного дыма, которая портьерой закрыла дверной проем. Тем, кто стоит в очереди, видна старомодная буфетная стойка с пустыми стеклянными полками, большое зеркало над стойкой, а в зеркало — весь до отказа переполненный зал.
Вон оттуда, из зала, выходят трое полицейских. Один из них, ну, конечно же, один из них — Хемпель. Они разглядывают собравшийся народ: то покосятся на чей-нибудь чемодан пли туго набитый мешок, то остановятся и выслушают объяснения владельца, что в чемодане или мешке нет ничего, кроме «старого тряпья», и что он в жизни не стал бы мешочничать, если бы «не подыхал с голоду», то пропустят мимо ушей злобные выкрики вроде: «Хорошо вам тут разгуливать, дармоеды, себе-то вы брюхо набили…» или: «На черта нам полиция! Нам жратва нужна, а не полиция!» и шагают дальше. Руди прячет лицо в поднятый воротник своей кожаной куртки. Но Ганс Хемпель его не видит, он уходит вместе с двумя другими. Очередь медленно продвигается вперед. Кассир ругается, что у всех крупные деньги, где он возьмет нм сдачу, родит, что ли! А Руди слушает, что рассказывают женщины в очереди.
— Ну что ты выдумала — но посылать мужчин. Ты Йоколейта знаешь? Он каждые две педели ездит в Гамбург и каждые две недели привозит оттуда две канистры рыбьего жира и еще чего-нибудь рыбного. А менять-то ему почти нечего, он ведь беженец. И посмотреть на него, так он, кажется, до трех сосчитать не умеет.
Вмешивается другая:
— Это оп-то до трех не умеет? Да он на флоте служил, у него в Гамбурге есть подружка — развеселая вдова с рыбной лавкой. Тебе, верно, невдомек, что он берет с собой для обмена. А его толстуха Берта ходит и похваляется, как ловок ее муженек… менять барахло.
Женщины смеются недобрым смехом.
— Я отца посылала, — рассказывает третья. — Я думала, кому-кому, а учителю, хоть и бывшему, ума хватит. Да и лет ему тоже хватает. Дала ему, значит, свою нижнюю юбку, хорошую, шерстяную, и его вязаный жилет. Пропадал три дня. Мы уж думали, что он выменял их на целую свинью и никак не может ее дотащить. Дети — те всерьез в это поверили. И нот он заявляется и… вы только послушайте, что он привез: пачку сырых табачных листьев — на курево и собачий голод впридачу. А если он заработает из-за этой дряни рак, мне еще придется поплакать.
— Эй, молодой человек, — подгоняет кассир.
Руди как раз думал об отце. Вот с отцом ему хотелось бы попрощаться. Он сказал отцу, что хочет перебраться в большой город. Там легче устроиться на работу и не обязательно к какой-нибудь мелюзге вроде Вюншмана. Руди помнит, где следует искать отца после четырех…
Когда Руди отходил от кассы, он не знал, что всего через полчаса Хильда займет очередь к тому же окошечку, решив навсегда покинуть Рейффенберг и стать наконец хозяйкой собственной судьбы. Даже мысль о том, что она способна на такой поступок, не мелькала у него до сих пор. От мнимой безысходности, от вины и невиновности, в которых он запутался, от предначертанности, которая и мучит, и тешит его, от всех необузданных фантазий он хочет спастись бегством — бегством от любви и от решения. Если бы он мог рассуждать хоть чуточку трезвее, он бы но крайней мере угадал за своим желанием бежать чистой воды эгоизм. Но сейчас он убежден, что им движет трагическое великодушие, ибо он оставляет Хильде надежный кров под старым каштаном, до некоторой степени добровольно уступает ей свою родину, а сам отправляется паломником к тем жертвенным камням, возле которых отлично можно сложить свои кости «под беспощадным солнцем чужбины». Руди любит цепляться за подобные завитушки мыслей. «Беспощадное солнце чужбины». Надо только повторять эти слова в уме с такой проникновенностью, чтобы ритм фразы передался ногам. В самом деле, вообразите себе страстного танцора, который идет по тропинке над обрывом: в голове у него звучит мелодия вальса, он не может отделаться от нее, наконец, всецело покоряется ей и, танцуя, падает в бездну. Но не танцы наделили ритмом походку Руди. В танцах Руди не силен. Это у него от спорта, от бега на длинные дистанции, хотя и бег заставил его в свое время немало попотеть — у него слишком широкая кость и плоскостопие, правда, незначительное. Когда этот самый Щелкун не был еще ректором гимназии и преподавал физкультуру, он, помянув пресловутое «в здоровом теле здоровый дух», предписал Руди допинг в «истинно немецком духе»: «Видите ли, Хагедорн, шаг у вас ритмичный, рассчитанный именно на «раз-два». Но бегаете вы, как подстреленная ворона. Подчините ваш бег соответствующему словесному ритму. Бегите, а сами непрерывно твердите про себя какую-нибудь мораль на счет «раз-два», к примеру: марш вперед — на врага — немцы всех — победят… Тогда вы перестанете спать на ходу…»
Хагедорн внял его совету и улучшил время в беге. И в годы войны, когда этот «истинно-немецкий» спорт достиг своего расцвета, Руди не сбивался со счета. Твердя про себя «марш вперед — на врага — немцы всех — победят», он драпал от затерявшейся среди Брянских лесов просеки, где так и остался лежать Отто, свыше десяти тысяч метров на запад. Только за Одером Руди отказался от этой магической формулы, ибо начал — хоть и смутно — догадываться о полной ее бессмысленности, а кроме того, был ранен в бедро. Но если во время войны ритм на самом деле передавался от ног к голове, то теперь все было наоборот, и Руди уже ясно видел себя в великом строю гонимых судьбой: он еле волочит ноги по потрескавшемуся асфальту большого города, руки в карманах, взгляд мрачный и неслыханно проницательный, бахрому на брюках он не желает замечать, как не желает замечать вообще все низкое, и стремится он только вперед — к буфетной стойке, чтобы там налиться тоской, словно материализованным несчастьем, и за бритьем плевать на свое отражение в зеркале и потом плестись куда-либо на работу, отбывать барщину под беспощадным солнцем чужбины… беспощадным солнцем…
Он уже и сейчас шагает в этом великом строю, пробираясь сквозь толчею рейффенбергского вокзала. Вдруг сзади поднимается шум. Раздается пение и звуки гитары. Руди оборачивается. В дверях он видит стайку молодежи, девушек и парней. Должно быть, они шли колонной, потому что до сих но]) еще стоят в затылок по-трое, маршируют на месте и поют. У них есть знамя, красное знамя. Они и не собираются обрывать песню, даже когда гуськом пробираются сквозь толпу, которая не желает уступать им дорогу. Песни этой Хагедорн еще ни разу не слыхал.
Помни, вперед шагая, Чем землю спасти от войны! Борясь и побеждая, Помни, вперед шагая, Единством мы сильны![48]И вот что удивительно: своды вокзала сотрясаются от ее раскатов, хотя люди ее как будто вовсе не замечают, порой даже пренебрежительно морщатся, и гул человеческого улья не умолкает пи на мгновенье. Группа собирается в середине вокзала. Парень со знаменем — он в полотняной куртке — вскакивает на площадку весов. Девушка расправляет красное полотнище. На нем по диагонали нашиты золотые буквы — «Антифашистская молодежь». Какие-то женщины, сидевшие вокруг весов на чемоданах, недовольно отодвигаются в сторонку. Группа устраивается так, как позволяет место. А места очень мало. Они зажаты в тиски. Только полотнище свободно роет над ними, да еще песня, которая сама пробивает себе дорогу ударным ритмом и зажигательными словами, но слова эти не по нутру Хагедорну и кажутся ему слишком прямолинейными:
Что сидеть среди развалин? К черту нищей жизни гнет! Мы друзей и поля позвали — Значит, мирный хлеб взойдет![49]Старших ребят из группы Руди знает почти всех. С девушкой, которая натянула полотнище знамени, они вместе учились в начальной школе. Ее зовут Урсула Богнер, она сидела у самой двери, пока учитель пения Хайльман по кличке Зигхайль не пересадил ее за то, что она после урока не открыла ему дверь. К тому же Зигхайль как-то раз избил ее. Она замужем за тем парнем, который держит знамя. Гуди это знает и думает: чего ради замужняя женщина — и вдруг знаменосец молодежной группы? Может, она потому и натягивает полотнище, потому и прячется за ним, что ей есть что прятать… А тот щупленький, у которого одно плечо ниже другого, с бескровным лицом, тот учился в нашем классе, когда я бросил эту «живодерню». Говорили, что он гениальный математик…
Вдруг песня тонет в свисте. Орава подростков штурмует двери зала и пронзительно свистит. Будто само безумие рвется в зал. Женщины затыкают уши, дети орут. Группе приходится теперь не петь, а выкрикивать:
Встань же за единство грудью, Мой народ из разных зон![50]— Да заткнитесь вы наконец! — рявкает мужской голос.
Непонятно, кого он имеет в виду — певцов или свистунов. У входа стоит человек — темно-синий мундир и красная повязка на рукаве. Женщины с шумом и гамом подступают к нему. Он стоит, широко расставив ноги и засунув большие пальцы под ремень. А свистунам плевать — есть здесь полиция или нет. Они свистят и улюлюкают, как бесноватые, и швыряют в поющих оловянные кружки из-под пивных бутылок, но швыряют-то из-за тесноты не прямо, а вверх, и потому кружки взмывают, как игрушечные пропеллеры. Один угодил в лампу. Лампа гаснет. Галдеж как по команде стихает. За дымовой завесой раздается срывающийся басок: «Смывайся!» Руди вздрагивает. Он уже слышал этот голос когда-то — в «Веселом чиже». Но бузотеры кажутся старше детдомовских, они примерно одних лет с ребятами из орудийного расчета «Дора». Тут над головами взлетает пустая бутылка. Ее, наверно, кинул кто-то, спрятавшийся позади свистунов. Бутылка бьет по древку и рикошетом отлетает в сторону. Урсула выпускает из рук полотнище и, покачнувшись, зажимает рукой ухо. Пение оборвалось, свист тоже. «Чертовы сорванцы!» — выкрикивает какая-то женщина при общем одобрении. Свистуны скалят зубы. Но они чувствуют, что теперь толпа настроена против них. И вдобавок через зал протискивается Хемпель — неторопливо, спокойно, не вынимая пальцев из-за ремня. Муж Урсулы передает знамя другому и бережно отводит руку Урсулы, прижавшую ухо. Из-под волос бежит тоненькая струйка крови. И пока вся группа теснится вокруг раненой, тот щупленький паренек с бескровным лицом выбирается из толпы. Это же надо — именно он, гениальный математик хватает за горлышко зубчатый обломок бутылки и в слепой ярости бросается на хулиганов. Те, что стоят ближе к нему, заслоняют глаза локтем одной руки, а другую торопливо опускают в карман. Только сейчас группа замечает, что происходит. «Иордан!» — кричит кто-то. Лх, да, верно, его звали Иордан. Руди вполне может прийти ему на выручку. Не то парню придется худо. Обломок бутылки ничего не даст. Он годится только, чтобы отпугнуть женщин, которые пробуют удержать парня. Впрочем, с какой стати Руди будет лезть не в свое дело… Вот и друзья Иордана зашевелились, пусть они его и выручают. А если не успеют сейчас, отобьют в драке. Вот и Хемпель припустил рысью. В дверях сгрудилось еще больше зевак — им не терпится увидеть кровь. Они напирают на группу сзади, подталкивают ее. Хемпель разгребает толпу руками, свисток зажат у него в зубах. Но никто не слышит свистка. А Хагедорн расслабленно прислонился к железному барьеру у выхода на платформу, он бы не прочь плюнуть себе самому в лицо и даже уважает себя за такую беспощадность.
Если судить по крикам и женскому визгу, там уже схватились в рукопашную. Синяя фуражка Хемпеля перелетает через барьер. Девушки из группы остались возле Урсулы. Урсула стоит все и той же позе, бессильно прислонясь к стене. Рядом с ней у стены знамя. Две девушки стоят на площадке весов, взявшись от страха за руки. У одной по лицу катятся слезы. А над весами прикреплен рекламный плакат: «Покушайте шоколад «Вильгельм Телль!» И точно, на плакате красуется Вильгельм Телль, эдакий древний германец, а при нем лук, колчан, и за руку он держит ребенка. Внизу надпись: «Немцы, будьте как братья!» Возле Хагедорна останавливается пожилая женщина в черном платье и черном платке с бахромой — из эвакуированных мадьярских немцев. Руки она сложила на животе под черным фартуком. Руди слышит, как она бормочет: «Зло порождает зло в детях и детях детей наших, положи этому конец, господи». Визг и крик внезапно обрываются, словно бог внял ее мольбам.
— Руди! — в страхе зовет какая-то девушка.
Руди понимает, что зовут не его, что это кричит та девушка, которая ревет, взобравшись на весы. И все же он стряхивает с себя оцепенение, будто какая-то сила в нем только и ждала этого крика… Он не знает, почему так внезапно оборвались яростные вопли, почему противники отпустили друг друга. Не молитва старушки тому причиной и не разумное поведение группы, а хитрость подростков, вернее, хитрость их «атамана» который вообще не принимал участие в побоище. Он подал команду: «Отставить! Передай дальше: отставить!» — словно здесь идет бой по всем правилам. И команда была выполнена тотчас. В толпе образовался узкий проход. Хемпель может облегченно вздохнуть. Раскинув руки, он теснит зевак в стороны. Через проход Хагедорну видно, как ребята — антифашисты и свистуны — вытирают пот со лба. Но ярость, горящую на их лицах, не сотрешь. Свистуны не прочь бы смыться без шума. Но назад податься нельзя: распахнутые створки двери намертво заклинены толпой зевак, которые набились из зала ожидания. Поэтому свистуны суют руки в брюки и, когда Хемпель спрашивает их, какой «сукин сын» кинул бутылку, отвечают невинными улыбочками и пожимают плечами в ответ. Улыбаются и пожимают плечами. Хемпель спрашивает во второй раз, спрашивает в третий, потом рявкает, словно каменщик на лесах, когда ему слишком долго не подают бадейку с раствором. Наконец один соизволил ответить. Как он похож на сухопарого ефрейтора из расчета «Дора»! На шее цепочка. Не мешало бы ему, кстати, побывать у парикмахера. Баки отросли чуть не до подбородка. Ни дать ни взять арабский шейх. Пиджак — грязная ветошка — согласно требованиям новейшей моды болтается где-то под коленками. Зато обувка у него такая, какой еще свет не видывал: лимонный кожаный верх на толстом каучуке. И этот тип небрежно тычет большим пальцем куда-то через плечо и отвечает на том языке, каким говорит житель самого что ни на есть медвежьего угла, когда ему придет блажь разыгрывать из себя берлинца.
— Эт-та самое, господин вахмистр, оттуда запулили — сзади. Ну, а мы, эт-та самое, устроили небольшой хай. Я, господин вахмистр, рассуждаю так, — теперь он кивает на ребят из антифашистской группы, — раз им, эт-та самое, можно, нам нельзя, что ли?
Вот продувная бестия. Хочет обвести Хемпеля вокруг пальца. Да и обведет, пожалуй. Вон уже зеваки хихикают. А Хемпель — он не ахти как хитер. Долгополый продолжает:
— Разве вы, господин вахмистр, эт-та самое, не знаете, что сейчас настали другие времена, что сейчас, эт-та самое, каюк всем певческим союзам, где талдычили один и тот же куплет и не разрешали, эт-та самое, ничего больше?..
Женщины прямо взвизгивают от удовольствия. Хемпель невозмутимо выслушивает эту болтовню, лишь чуть прищурив глаза. Но маленький Иордан так и взвился. Он отнимает платок ото рта и кричит:
— Позор! Ты просто спекулянт, мелкий вонючий спекулянтишка! И все вы спекулянты, вся шайка! И как бандиты относитесь к девушкам!
— Ха-ха-ха! — гогочет компания, а женщины хихикают, потому что у Иордана, у этого щуплого паренька, лопаются на губах пузырьки крови, и не кричит он, а шипит, как гусь. Наверно, ему выбили передние зубы. Хемпель легонько отстраняет малыша.
— Ну, ты тоже хорош, — говорит он. — Набросился на них, как дурак! Нельзя же так, — и, обратясь к свистунам, предупреждает:
— Или вы скажете мне, кто бросил бутылку, или я арестую первого, кто подвернется под руку.
Долгополый немедленно отвечает все в том же тоне:
— Эт-та самое, раньше было: все за одного, один за всех, а нынче, господин вахмистр, так не положено.
Женщины громко хохочут и кричат: «Давай, давай. Так его!»
Но тут Хемпель взрывается:
— Рассказывай своей бабушке! Все вы тут одна шайка!
Девушка из антифашистской группы подает Хемпелю фуражку, которую тот обронил на бегу. Хемпель выколачивает фуражку рукой, надвигает ее с затылка на лоб, на седеющие уже виски. Одергивает китель и оправляет портупею.
— Поговорили и хватит, — говорит он. И приказывает долгополому: — А ну. пошли в участок. Сюда, сюда!
Иначе говоря: иди вперед.
Но шейх, по-видимому, никуда не собирается идти. Впрочем, и я на его месте никуда бы не пошел. Теперь и в самом деле так не положено, чтоб «один отвечал за всех» и тому подобное. Шейх стучит себе пальцем по лбу. Ну, это он зря. Отец рассказывал, что Хемпель однажды искупал толстого подрядчика Хебештрейта в гашеной извести за то, что Хебештрейт на вопрос, нет ли у них работы, так же постучал себя по лбу. Сейчас Хемпель ограничивается тем, что хватает парня за запястье. Парню это, конечно, не по нутру, но он начинает тараторить:
— Эт-та самое, иду, господин вахмистр, иду, да неужели же я позволю себе оказывать сопротивление властям?
Вы только поглядите, как он идет: еле-еле, нога за ногу, пятка к носку, носок к пятке, сам смотрит в ребристый каменный пол и говорит, что учился ходить по ниточке, а потому не умеет иначе. Зеваки подталкивают друг друга и изнемогают от восторга. Что остается делать Хем-пелю? Плестись черепашьим шагом и вдобавок глотать издевки и насмешки. Нет, как хотите, а вы, с вашими песнями и гитарами, вы — Урсула, Иордан, вы поете перед людьми, которые не слышат вас, перед глухими душами…
Хильда всегда мечтала: вот будет у нас комната, настоящая комната, только наша и больше ничья, тогда мы непременно повесим на стену гитару с ярким бантом… А сегодня утром спокойно отпустила меня, не сказав ни слова… Если говорить всерьез, мы здорово накричали друг на друга сегодня утром, хотя никто из нас не услышал ни звука. Вот и выходит моя правда: нацисты забрали наши души, а взамен дали нам глухие. Но только они оказались хитрей, чем Михель-Голландец из сказки: они не засолили прежние души в банке, а сожгли их под крики «Зигхайль» и «Марш вперед!» И яркие банты тоже сгорели, красные, зеленые, белые банты на железной гитаре войны — трассирующие пули, перед атакой по выпотрошенной снарядами земле… По совести говоря, не все ли мне равно, где жить — на родине или еще где, раз я повсюду на чужбине, под беспощадным солнцем чужбины, беспощадным солнцем…
Но вот, пока Руди предается необузданной игре фантазии, рожденной из простодушия и отчаяния, а Хемпель терпеливо, как нянька, конвоирует долгополого кривляку и глотает по пути брань и насмешки, пока антифашисты поют: «Мы молоды и это хорошо», а подростки в дверях зала ожидания исполняют танец диких, по толпе пробегает шепоток: «Русский патруль». Они входят с улицы — три солдата и офицер, все четверо с автоматами. Подростки отступают в зал ожидания, шейх, как выясняется, умеет совсем недурно бегать, а песня вдруг находит отзвук на горестных лицах молодых женщин. Теперь-то они слушают, вот в чем дело. И вдруг Хемпель ни с того ни с сего выругался ка весь вокзал. Оказывается, долгополый, изловчившись, укусил Хемпеля в ладонь, прошмыгнул у него под рукой и хочет смыться через барьер. До барьера ему каких-нибудь метров пять-шесть. Как раз неподалеку от Хагедорна шейх делает резкий бросок в его сторону. Старушка в черном переднике, что притулилась у барьера на своей корзине, вскрикнула: беглец отшвырнул ее, как узел с бельем. Шейх явно собирается уйти в туннель. Еще одна секунда — и он перемахнет через барьер. За полосой отчуждения — река Пель, а за рекой — обрыв и лес. Одна-единственная секунда… Хагедорн сунул руки в карманы. В лицо Хагедорну бьет чужое дыхание — сивушный перегар, в уши бьют слова: «Камрад, пропусти…» Ребята из расчета «Дора»… по полкружки… на брата… Налейте, друзья. Сегодня живем, сегодня и пьем, а завтра к чертям пойдем… Рейнхард Паниц займет для нас местечко в братской могиле… Эй, камрад, займи для меня место у окна… А потом… желтые глаза девы-сфинкса… И еще: как хорошо, Руди, что ты со мной и что шелестит ветер в листве…
Пружина сработала. Руки вылетают из карманов. В ту минуту, когда долгополый берет барьер, Руди хватает его за патлы. Долгополый визжит, как недорезанный поросенок. Эй ты, скажи спасибо, что я успел схватить тебя. В дверях зала ожидания внезапно появляется коренастый белобрысый тип, у которого нет правой брови. Хагедорн его не видит. Зато белобрысый тотчас вспомнил, как ловко усадил его на землю «старый самоходчик» у «Веселого чижа». Белобрысый так же внезапно исчезает. К старой ненависти примешивается новая злоба против «предателя». Вот увидишь, как скоро пробьет час, когда я сполна рассчитаюсь с тобой, — такие мысли кружат в голове белобрысого. Подоспел Хемпель и четверо русских. Хагедорн может теперь отпустить долгополого-долгогривого. Тот переваливается обратно через барьер, и дрожит, и подвывает, и шмыгает носом. Женщины подавляют скупое сочувствие, как подавляют кашель. Хемпель показывает укушенную руку.
— Вот ядовитый гаденыш! — говорит он.
А у младшего лейтенанта в глазах стальные искорки. Я уже видел эти глаза сегодня утром: комендатура, четвертый этаж, последняя дверь: «Так ты фашист!..» Вот не поверил бы, что такие глаза могут улыбаться и добреть. Но выдержать их взгляд трудно.
— А, Гагедорн, ты, оказывается, не фашист?
Руди опустил голову и не может ответить — сдавило горло. Хемпель звучно хлопает его своей ручищей но плечу, по истрескавшейся коже старой шоферской куртки.
— Лх ты, обормот, — хрипит Хемпель. Больше он ничего не может сказать, наверно, и у него сдавило горло.
— В комендатуру, — приказывает офицер одному из солдат.
— Пошли! — в свою очередь командует солдат долгополому.
Долгополый семенит прочь, у него перекошено лицо — потому, что он все еще шмыгает носом. Хемпель идет с ними. А младший лейтенант и два остальных солдата продолжают обход, направляясь в зал ожидания. Женщины шушукаются и изливают в протяжных вздохах лицемерное сострадание. Девушки из антифашистской группы занялись старушкой в черном. Та снова поверяет господу богу свою скорбь, потом вдруг спешит к своей корзинке, так как предпочитает самолично заботиться о ней. Девушки пластырем заклеили Урсуле ранку за ухом; она протягивает Хагедорну руку.
— Ты, оказывается, жив-здоров? А я уж боялась, что у тебя не в порядке позвоночник, иначе, думаю, с чего это он так навалился на барьер… — И смеется.
А муж се в белой полотняной куртке, которая сохранилась у него еще с военной службы и которую он носит по-спортивному, говорит:
— Поехали с нами, если у тебя нет ничего лучшего на примете. Мы едем к молодым шахтерам в Цвикау. Устроим конкурс песни, подкормимся…
Хагедорн не дает ему закончить.
— У меня есть лучшее на примете, — угрюмо огрызается он.
И ребята, покачивая головой, отходят от него. Только щупленький Иордан, узнавший наконец старого однокашника, предпринимает еще одну попытку:
— Эй, старый латинист, qui-quae-quod! Я забыл, как тебя зовут. Но ведь это ты на проклятом суде духов не захотел лизать им пятки. Нам нужны такие, как ты. Поезжай вместо меня… — Он оттягивает пальцем нижнюю губу и показывает окровавленные десны.
Ему выбили два нижних зуба. Но Иордан еще пытается шутить. Он шипя повторяет любимую присказку старого учителя пения, который был страстным открывателем талантов.
— «Рот меньше и круглей, губы тверже, кончик языка прижат к нижним зубам, ибо твердые края усиливают звучание»… Слышишь, какой у меня тенор? — шепелявит Иордан. Хагедорн отвечает ему не менее грубо, чем остальным:
— Ошибаешься, я не тот, за кого вы меня принимаете.
Тут и Иордан, покачав головой, оставляет его в покое.
И снова Руди сует руки в карманы, и снова, волоча ноги в великом строю гонимых судьбой, он направляется в зал ожидания. Репродуктор над входной дверью щелкает и сообщает, что поезд, следующий по маршруту Цвикау — Рейффенберг — Цвикау, опаздывает на один час десять минут. А толчея становится все гуще, теперь начинают собираться и встречающие. В проходе между заклиненными створками дверей Руди видит, как движется ему навстречу его двойник, видит второго Руди Хагедорна в широком зеркале над старомодным буфетом. Он смотрит на двойника исподлобья, он предпочел бы отшить его, как отшил Урсулу, ее мужа и щуплого Иордана. Но этот номер не пройдет. Двойник сам отошьет кого хочешь.
Первый хозяин рейффенбергского вокзала, тот, что устроил здесь буфет и наклонно водрузил над ним зеркало, руководствовался исключительно заботами о благе своих посетителей. Хотел избавить людей от забывчивости и от судебных издержек. Он использовал это украшение как соглядатая, когда замечал у посетителей недочет в кошельке и в нравственных устоях, а сам по долгу службы должен был поворачиваться к ним спиной. Впрочем, в наши дни редко кто норовит угоститься задаром. Во-пер-вых, угощаться нечем, а во-вторых, сейчас даже у мелких жуликов завелись крупные деньги.
И Фриц, кельнер на деревяшке, теперь уже не поднимает взгляд к зеркалу, когда выбивает в кассе чеки или уставляет рюмками свой поднос. Этот страж морали выполняет у него совсем другие функции. В углу, за створкой двери, стоит круглый стол для завсегдатаев, и не для всяких завсегдатаев, а только для таких, которые убивают время и разгоняют скуку колодой карт. Здесь играют ежедневно. Причем выигрывает тот, кто сидит лицом к зеркалу. А Фриц берет с удачника двадцать процентов за молчание. Играют только «по большой». Всегда найдется олух, который позволяет заглядывать в свои карты. Сегодня Фриц отвел место с «удобствами» для Хагедорна. Но с Хагедорна он не станет брать двадцать процентов. Хагедорн в нерабочее время усовершенствовал велосипед Фрица — смастерил упор для деревянной ноги — и не взял за это ни единого пфеннига. «Не хватало еще, чтоб ты платил за свою отстреленную ногу, я, во всяком случае, этого не допущу», — сказал Руди. А Фриц всегда рассуждал так: «Честность за честность». Итак, помощнику автослесаря и шурину Вюншмана он предоставил «место с удобствами», а кроме того, пять английских сигарет но своей цене, то есть по три марки за штуку, а не по три пятьдесят. Впрочем, Фриц должен сказать спасибо русскому патрулю за то, что у столов вообще сыскались места. Едва прошел слушок: «русский патруль», как сразу же из буфета по одному улетучились через кухню те молодчики, которые наведываются сюда каждые две-три недели. Для отвода глаз хозяйка немножко поохала. Впрочем, кельнер Фриц видит эту толстуху насквозь. И уверен, что она не страдает избытком честности, раз выплачивает ему за молчание всего пять процентов со своих левых доходов. Да еще и надувает его при этом. И ключ от кладовой у нее не выманишь ни под каким соусом. А Фриц, как уже говорилось выше, любит, чтобы честность за честность. Помнится, еще в госпитале, когда он лежал, натянув вычищенный мундир, и главврач из собственных рук даровал ему серебряную нашивку — знак ранения взамен отхваченной ноги, у пего потекли из глаз слезы благодарности и умиления. Вот и теперь он ради друга и благодетеля подманил к столу придурка Йоколейта. От Йоколейта разит рыбьим жиром и деньгами, он подметает пол шикарным морским клешем и лихо носит мешковатый черный свитер и замасленный синий берет на голове. Поскольку Фриц знает, какого рода золотую жилу разрабатывает Йоколейт в Гамбурге, и знает, что для разработки ее только и нужно, чтоб все части тела были на месте, он презирает Йоколейта и услужливо придвигает ему стул — пусть «водяной», как про себя называет его Фриц, сядет спиной к зеркалу.
Играют в одну из старых азартных игр — в «двадцать одно». Хагедорн, Йоколейт и еще двое: тридцатилетний субъект в шляпе и при галстуке, портфель свой он поставил на пол и зажал между ног, и другой, двадцатилетний — этот курит сигары и носит кличку Толкач, так как берется за любые поручения и всегда приговаривает: «Ото мы протолкнем». Кроме них, за круглым столом примостился шестидесятилетний болельщик — у него очки в никелированной оправе и руки сапожника. Играть он не решается: нет охоты проигрывать, а умения выигрывать тоже нет.
Пока Руди не держал банк, он всякий раз делал самую низкую из дозволенных ставок — пять марок. А про существование зеркала, он, казалось, начисто забыл, хотя кельнер Фриц зажег дополнительную лампу как раз над головой Йоколейта. Правда, сперва Фриц радовался, что вюншмановский подмастерье чаще проигрывает, чем выигрывает. Для начала так и надо, чтобы тот, кто сидит против зеркала, показал, будто его место невезучее. И хорошо, что другие делали ставки более высокие и что Йоколейту приспичило сорвать банк в сто восемьдесят марок, когда его держал субъект при галстуке и шляпе. Йоколейт сдернул с головы свой берет и шваркнул его на кучу измятых бумажек. «По банку!» И, представьте, Йоколейт выиграл с семнадцатью, потому что его партнер, имея на руках четырнадцать, прикупил девятку.
— Так-то, братишка, четырнадцать иметь — значит погореть, — горланит он на чистейшем алленштейнском диалекте и пришвартовывает берет с выигрышем к своему берегу.
«Братишка» сделал вид, что ему на все наплевать, однако поспешил уступить банк Хагедорну еще до того, как сыграли остальные.
— Пусть теперь этот жмот держит банк, — говорит он.
И Йоколейт тут же дает новому банкомету ряд ценных советов. Тыча пальцем в изображение на двадцатимарковой бумажке, он изощряется в сальном остроумии.
— Эй, длинный, слышишь, пусть эта девка у тебя поработает, девки лучше… — и добавляет самое грязное слово, какое только нашлось в немецком языке.
Скудная наличность Хагедорна исчислялась до начала игры тремя бумажками по пять марок. Первую он сразу же спустил Толкачу.
— Все поставишь — все возьмешь, — гогочет Йоколейт.
И тогда Хагедорн кладет в банк последние десять марок, выигрывает чуть не двадцать раз кряду, оставляет выигрыш в банке и все спускает Йоколейту.
— Давай, давай, — изголяется выигравший. — Слышишь, долговязый, не теряйся. Картошку-скороспелку растят на навозе.
Хагедорн выкладывает на стол пустой кошелек.
Подчистую. Кельнер Фриц так затопал, что подпрыгнули на столах пустые чашки. Вот и сажай после этого дурака лицом к счастью… Ни разу даже не удосужился глянуть в зеркало… Ну и ладно, как постелишь, так и всхрапнешь… И опять же, кто в накладе… Йоколейт, этот водяной, эта нечистая сила, сейчас, кажется, наделает в штаны со смеху.
— Подчистую, говоришь? Ха-ха-ха! Какое счастье, сказала барышня и подкинула ребенка к порогу!
Толкач тоже зашелся от смеха, рот у него разинут, видны гнилые зубы. А Хагедорн мрачно смотрит в стол.
— Дружище, учитесь проигрывать с достоинством, — выговаривает ему субъект при галстуке и шляпе.
Толкач хотел было «протянуть ему руку помощи», предложил сыграть на кожаную куртку Хагедорна, но успеха не имел. Когда Хагедорн притянул к себе пустой кошелек, на столе осталась крохотная медная монетка. Йоколейт так и вцепился в нее.
— Ага, копейка, копеечка, — радостно завопил он. — И молоточек на ней и серпик. Вы только поглядите.
Он сует копейку Толкачу, тот разглядывает ее с обеих сторон и говорит:
— Д-да, действительно.
Голос у него при этом как бы удивленный. Затем он протягивает копейку соседу в шляпе — пусть и тот полюбуется. Но сосед неожиданно вскакивает, обрушивается на Хагедорна:
— Ты что за авантюрист такой? Прошу прощении, друзья. С такими людьми я за один стол не сажусь. — Тут он резко встал, едва кивнув Йоколейту и Толкачу. Даже шестидесятилетний болельщик не смог удержать его, хотя, ткнув черным от вара пальцем в Йоколейтовы двадцать марок, он спросил господина, поднимавшего с пола свой портфель, чего тот, собственно, взъелся.
— В вашем кошельке тоже найдутся двадцать марок с изображением девы, о которой здесь было так метко сказано, а между тем вы далеко не святая невинность, как мы слышали…
Но субъект при галстуке повернулся на каблуках и ушел прочь, не вняв его доводам. Хагедорн взял свою копейку и спросил у старика:
— Скажи-ка, отец, сколько может стоить такая штука? Она примерзла к какому-то порогу в Вязьме. Когда я нагнулся за ней, пуля врезалась в дверной косяк, как раз на том уровне, на котором я имею обыкновение держать голову. Так сколько, по-твоему, стоит эта копейка?
Старик взял копейку, задумчиво взвесил ее на руке. Вдруг у Йоколейта загорелись глаза. Скривив рот, он выплюнул вслед ушедшему табачную жвачку и хриплым от волнения голосом сказал:
— Идет, долговязый! Я принимаю твою ставку. Ну, старикан, что стоит эта штука? Давай, говори…
Старик все так же задумчиво взвешивал копейку на руке. Потом переложил ее на тыльную сторону ладони и легонько дунул. Копенка подлетела, старик ловко поймал ее.
— Какая цена парню, такая и ей, — пробурчал старик и кинул монету на стол. Берет Йоколейта тотчас накрыл ее.
— Ставлю три сотни! Три сотни — законная ставка, верно, долговязый?
Старик сверкнул глазами сквозь очки:
— Убери-ка ее подальше, если ты не совсем дурак!
Руди но шелохнулся. Очки никелированные. Отто…
Отто говорил бы точно так же… Стариковская премудрость…
— Три сотняжки, — хрипел Йоколейт, — три — как огурчики! Я тебе не дрянь какую-нибудь предлагаю! — он вытащил из-под свитера туго набитый парусиновый кошель. Толкач и даже Фриц, который как раз подавал что-то к столу, только глаза вытаращили, когда Йоколейт раскрыл его. Йоколейт отсчитывал:
— Во имя отца — раз, сына — два, святого духа — три. Ну, долговязый, ты держишь банк.
Он сунул три сотенных под берет… Хагедорн не шелохнулся. Он мрачно размышлял. «Не могу я поглядеть в зеркало, не могу и все тут. Я вижу там его карты и вижу свою физиономию…» А кельнер Фриц подумал, что Йоколейт, наверно, и в самом деле верит в нечистую силу и в амулеты и что он, Фриц, тоже поверил бы, если бы это приносило ему столько денег, сколько Йоколейту, и что вюншмановского подмастерья стоит хорошенько взгреть, если он и теперь не посмеет испытать судьбу. Хагедорн не шелохнулся. Старик дернул его за рукав.
— Ну-ка, долговязый, посмотри…
Йоколейт навалился на стол и отбросил руку старика.
— Оставь его в покое, старый черт… А ты, братишка, играй! Три сотни против одной несчастной копейки…
Но старик не унялся.
— Ну-ка, долговязый, посмотри, — повторил он и выудил копейку из-под берета, — Если ты сумеешь, как я, — он вытянул руку и положил копейку на тыльную сторону ладони, — если ты сумеешь сдуть копейку, не сгибая руки, тогда ставь на нее…
Видя, что Хагедорн неподвижен, Толкач решил попытать счастья. Он раздулся, как кузнечный мех, поднял настоящую бурю, а копейка так и осталась на месте. За Толкачом отважился Фриц. Он чуть не лопнул с натуги, а копейка не сдвинулась с места. Но тут Хагедорн стряхнул с себя оцепенение.
— Дай-ка сюда! Мы же играем на нее.
Йоколейт опять накрыл копейку беретом и застонал от жадности. Да, да, он в самом деле думал, что с чудодейственной советской копейкой в кошельке он на веки вечные будет застрахован от контроля как «русских большевиков», гак и «немецких коммунистов». А Хагедорн пошел на это ребячество, потому что думал: мой талисман всего лишь медяшка, медяшка под беспощадным солнцем чужбины…
Йоколейт тянет. Он до того проворно хватает карты и накрывает их ладонью, что даже Фриц, остановившийся рядом так, чтобы не заслонять зеркала, с трудом успевает разглядеть картинку. После двух карт Йоколейт объявляет пас. Он блефует. У него на руках король и дама — всего семь очков. Как банкомет, Руди не закрывает свои карты. Король и десятка, всего четырнадцать. Он колеблется, хочет пасовать. Четырнадцать в игре — несчастливое число. Со следующим прикупом игрок может погореть. К тому же Гуди не знает, что на руках у Йоколейта. Человек пасует с двумя картами! Фриц даже не решается подморгнуть. Если кто-нибудь увидит это и донесет Йоколейту, тот оставит от него мокрое место. Толкач от волнения то и дело облизывает пересохшие губы. Йоколейт делает вид, будто у него трясутся поджилки. Руди ломает голову, как над уравнением с тремя неизвестными. Великое торжество суеверия угадывается на лицах этих взрослых людей. А ишь старика не захватило общее безумие, он равнодушно протирает очки. Хагедорн прикупает карту:
— Все одно пропадать.
Король. Восемнадцать очков, Фриц не вынес — отворачивается. И тут Хагедорн прикупает еще одну.
— Боже, пошли даму сыну моего отца. Или все — или ничего.
Открывает. Девятка. Перебор. Йоколейт выбрасывает на стол свои две несчастные карты и подносит засаленный берет с уловом чуть не к самым глазам, и хохочет, и горланит, и прячет «отца, сына и святого духа и копейку впридачу — амулетик мой, копеечка моя добытая» — в туго набитый парусиновый кошель. Кельнер Фриц и даже Толкач начали в два голоса доказывать Хагедорну, какую дурацкую ошибку он допустил, когда при такой игре вздумал прикупать к восемнадцати — да неужели же он не заметил, что при высоких ставках Йоколейт почти всегда блефует. Впрочем, они кипятились гораздо больше, чем пострадавший. Азарт улетучился, на смену пришло хмурое похмелье, свинцовая тяжесть в голове, непереносимая боль в глазах. Он никому не ответил ни слова, широко расставил локти, подпер голову ладонями и сидел «дурак дураком», по выражению Толкача, Йоколейт собирался даже великодушно поднести ему, но кто же захочет сесть за один стол с таким «унылым мудрецом» — ни Йоколейт не захочет, ни Толкач, ни Фриц. Даже старик и тот сказал:
— Нет, уж лучше иметь соседом по столу палача, чем иерихонского трубача… — И уходя, добавил еще похлеще: — От таких, как ты, все человечество разбежится.
Затхлая горечь обложила язык и отдаст плесенью, холод леденит кровь, как в лютую стужу, пес, шелудивый пес оседлал тебя. Хуже всего очутиться в одиночестве, безбрежном одиночестве, полном одиночестве. Нет больше рядом товарищей, которые отдадут тебе шерстяной шарф, нет Анны, которая скажет: «Вам надо помыться», нет воскресного утра, и нет «ее», той, что приходит и накрывает на стол, и бесшумно хлопочет в комнате, и кладет подле твоей чашки три сигареты, и тогда растворяется все, что ни ость вокруг, и остаются только глаза и теплота, щедрая, божественная теплота, и теплота эта цветет красным цветом, как миндаль, и создает и воссоздает все человечество…
Ничего не осталось, кроме лица, которое размазывается по зеркалу, как застывший жир, да лампочек, которые смотрят сверху, как желтые глаза сфинкса, да ярких лент, которые полощутся в дымном воздухе…
Яркие ленты гитары затерялись в толпе. Позади другой створки за столом сидят Урсула, ее муж и еще две молодые женщины. У одной на руках грудной ребенок. Другая повязала голову зеленым платком, она в черном жакете, на полу стоит рюкзак, сшитый из старого одеяла. Та, что с ребенком, ищет что-то в своей сумке. Две другие немедля протягивают руки — подержать ребенка. Разумеется, ребенок может достаться лишь одной, Урсула оказывается проворнее, чем другая, в зеленом платке… Праздно роняет пустые руки та, другая, в зеленом платке…
Уже не волоча ноги в дурацки-великом строю, а скорее как пьяный, который сыскал впереди точку опоры, идет Хагедорн через весь буфет. И когда он вдруг останавливается перед Хильдой и робко спрашивает, куда она собралась, ему приходится ухватиться рукой за крючок вешалки. Хильда сперва пугается, но потом заученно четко и с холодностью, которой он не ждал от нее, отвечает, что хочет уехать, просто-напросто уехать, она-де немного ошиблась адресом, но ничего страшного в этом нет, она но первый раз так ошибается…
Старый рабочий клуб, он же спортивный зал в Шмидберге, выглядел так, будто два солидных барака — побольше и поменьше — въехали один в другой. Он стоял в глубине, отступя на несколько метров от нечастого ряда домов, торцом к улице. На высоком фронтоне восстановили надпись, старую надпись, которую можно было прочесть еще из долины, когда поезд подходил к вокзалу. Нацисты приказали сколоть дегтярно-черные буквы вместе со штукатуркой. Но теперь снова черным по белому красовалась старая надпись: НЕСМОТРЯ НИ НА ЧТО! Как немые свидетели недавнего прошлого, торчали еще двухметровые столбы, на которых раньше была натянута колючая проволока, ограждавшая лагерь для военнопленных. Сегодня в четыре часа пополудни уничтожили последние приметы лагеря — содрали колючую проволоку с окон. И только полоса земли вокруг дома еще не успела зарасти травой; некогда зеленая полоса, где буфетчик расставлял в эту пору столы и садовые скамейки, была теперь тверже камня, как и положено лагерному двору.
Длинные вечерние тени дотянулись от крыши до тротуара, в зале уже зажгли огни. Желтоватый закатный свет освещал группки людей, вышедших из зала на перекур. С ними вышел и Эрнст Ротлуф. Но сегодня он был неразговорчив, слишком даже неразговорчив против обыкновения. И когда кто-то выглянул из двери и крикнул: «Бросайте свои гвоздики, мы продолжаем», он последним растоптал окурок и повиновался нехотя, словно колеблясь. Длинный коридор, который вел через пристроенный к спортзалу клуб, был уже пуст, когда в него вошел Ротлуф. Но Ротлуф не ускорил шаг, он брел усталой походкой мимо открытых дверей в комнату, где раньше был буфет, а потом лагерная кухня, а теперь вообще ничего не было, мимо ряда дверей на другой стороне коридора и ряда дощечек, из которых явствовало, что теперь партийные бюро коммунистов и социал-демократов разместились под одной крышей. Ротлуф шел так медленно и нехотя потому, что следующий пункт повестки дня — «Обсуждение и голосование по заявлениям о приеме в партию» — требовал, безоговорочно требовал от него немедленного решения, трудного, безумно трудного, все равно, что он ни скажет — да или нет. Фридель, его бывшая жена, подала заявление о приеме, ее вызвали, и она сидела с самого начала позади, на последней скамейке, и прослушала доклад о задачах и целях блока антифашистских партий, сделанный товарищем из окружного комитета, и даже предприняла робкую попытку выступить. Но Эльза Поль, председательствовавшая сегодня, умышленно не дала ей слова. Фридель поступила бы умнее, если бы подала к социал-демократам, думалось Ротлуфу. Там бы ее приняли с распростертыми объятиями, ее брат Ганс уладил бы все наилучшим образом. А у нас она уже была когда-то и не оправдала доверия. И вообще, разве можно неустойчивость по отношению к партии искупать в рядах той же партии? А может, дело обстоит проще, может, разведенная жена надумала использовать партию как мостик к бывшему мужу? Хорошо хоть, что Эльза на моей стороне. Вернее, будем надеяться, что она на моей стороне, будем надеяться…
Когда Ротлуф вошел в зал, все уже сидели на длинных скамьях. Собралось с полсотни мужчин и более десятка женщин. Эрнсту почудилось, будто при его появлении тише стал шепоток между рядами. Он чувствовал каждым нервом, как много глаз устремлено на него, и пожалел, что но вошел вместе со всеми. Только не устраивать спектакль… Он занял свое место в президиуме рядом с Эльзой Поль и, чтобы хоть чем-то заняться, придвинул поудобнее блокнот и карандаш. Эльза еще раз пробежала глазами заявления и переложила в самый низ заявление Фридель — наиболее пространное. Ханна Цингрефе сидела рядом с Фридель и явно подбадривала ее. Должно быть, Ханна-Плетельщица ради Фридель и приехала из Рашбаха. Конечно, в Рейффенбергской парторганизации она не имеет нрава решающего голоса. Но уже сейчас можно предсказать, что она захочет поручиться за Фридель. А это потянет больше, чем на один голос. Ханну любят и уважают во всей округе, вдобавок у нее хорошо подвешен язык. Но мнение большинства зависит, пожалуй, от Эльзы Поль. Если она сама поведет обсуждение и не только поведет, но и выступит, ее голос будет, конечно, значить больше, чем голос Ханны Цингрефе. А для Эрнста Ротлуфа в особенности…
На всех предыдущих собраниях Эрнст, как первый секретарь, лично зачитывал поступавшие заявления и ставил их на голосование. Он и сегодня зачитает четыре первых и — когда их обсудят — поставит на голосование. А потом Эльза поставит на голосование просьбу самого секретаря освободить его от этой формальной обязанности при обсуждении вопроса, касающегося его семейных дел. Так они сговорились заранее. И вот Эльза предоставляет ему слово. Обычно Эрнст поднимался на трибуну, сегодня он выступает с места. По рядам пробежал недовольный шепот, но громко никто ничего не сказал. Первое заявление — от одного переселенца, плотничьего подмастерья двадцати шести лет, из Нижней Силезии. Мотивировку он дал такую: «Я работаю вместе с советскими солдатами, тоже плотниками, строю забор вокруг запретной зоны. И они мне откровенно говорят, что им от такой работы тоже не много радости». На скамьях засмеялись. Даже сидевший в президиуме товарищ из окружного комитета не мог удержаться от смеха. Подмастерье завоевал все голоса еще прежде, чем поднялся на трибуну, чтобы рассказать свою автобиографию. Лозунг, висевший над дверью позади стола, вдруг стал всем доступнее и ближе. Там, на недавно выбеленной стене, блистала свежей краской надпись: «Политическая зрелость каждого члена партии определяется его отношением к Советскому Союзу».
Сначала этот лозунг, родившийся из фразы, произнесенной чуть ли не на первом собрании, хотели повесить над главным входом. Но этому воспротивилось руководство социал-демократов. Тогда его укрепили над маленькой боковой дверью, которая вела непосредственно из партбюро коммунистов в зал. А над входной дверью повесили два скрещенных красных флага.
Первые четыре заявления подали молодые люди, моложе тридцати — плотничий подмастерье, токарь, служащий магистрата и, наконец, ткач по профессии, переходящий на службу в народную полицию. Мотивировки у них не совпадали и написаны были весьма напыщенным слогом, зато их биографии в основных чертах были просты и мало чем отличались: отец рабочий или мелкий служащий, нацистом не был, самое крайнее — сочувствующий, мальчиком вступил в юнгфольк, затем — в гитлерюгенд, отбывал трудовую повинность, а оттуда попал в армию, был на фронте, в последние годы или последние месяцы войны у него впервые возникли по какому-нибудь поводу антивоенные настроения, но только после войны эти настроения обернулись сознательным антифашизмом. Вот, к примеру, двадцатидевятилетний служащий магистрата, в свое время «бравый» обер-фельдфебель, пехотинец: под Бауценом он отказался выполнить самоубийственный приказ командира-эсэсовца и контратаковать противника и предпочел сдаться в плен со всем своим взводом. Уже в июне сорок пятого он вернулся домой из пересыльного лагеря под Торгау. С тех пор он — поскольку у него коммерческое образование — работает в отделе торговли и снабжения, где, однако же, получает меньше, чем получал бы в частном секторе. Именно по этому пункту члены организации решили подробнее расспросить его. Не хочет ли он выслужиться? Впрочем, его приняли единогласно, как и всех остальных. И даже пс потому, что товарищ из окружного комитета еще раз указал на то «сколь важно проявлять доверие по отношению к молодым людям», а потому, что им предстояло решать дело Фридель Ротлуф, хотя ни один из старых членов партии — ни те, кто собирался голосовать «за», пи те, кто собирался голосовать «против» — еще не решили окончательно этот вопрос для самих себя. По лицу Эрнста, который всем своим прежним отношением к Фридель почти что проголосовал «против», по его покашливанию и неожиданным паузам в речи можно было угадать, как тяжело ему принимать окончательное решение, когда одним «почти что» не отделаешься.
Эльза предлагает, чтобы заявление Фридель зачитал старейший член организации, штукатур Пауль Герике.
— Все согласны, товарищи?
— Я не согласна, — взвилась Ханна Цингрефе. — Я считаю, что Фридель должна сама выйти и объяснить, почему она снова подает в партию. А от тебя, Эрнст, я не ожидала…
— При чем тут ожидала или не ожидала! — перебил ее кто-то из рядов. — И вообще, Ханна, не очень-то расходись: дело здесь сугубо личное и каждый имеет право отказаться. Пусть Пауль читает! Как-никак они с Фридель соседи и двадцать лет прожили под одной крышей…
Поднимается ропот. Голый свет двух лампочек, подвешенных прямо к стропилам, озаряет лица, возбужденные и задумчивые, озаряет широкий выпуклый лоб Ханны Цингрефе, и он кажется сейчас еще белей, чем при дневном свете. Но Ханну не возьмешь голыми руками, когда она отстаивает свое мнение. Там, где на быструю атаку надо ответить такой же быстрой контратакой, Ханна не станет ходить вокруг да около.
— Что значит личное дело? — немедленно парирует Ханна, — А партийные дела, по-вашему, не личные? Я еще помню, дорогой товарищ, как я к тебе приходила в тридцать седьмом, просила у тебя что-нибудь на Красную помощь и тогда ты тоже — как это ты выразился? — поспешил отказаться и только потом выложил один талер. Что, неправду я говорю?
— Не сваливай все в одну кучу, — одергивает ее Эльза Поль.
— Ля что, сваливаю? Я говорю о личных делах и о партии. И я считаю, что Фридель должна изложить свое личное дело перед партией. Рассказать все как есть. То, что она писала, можно прочесть на бумаге. Но на бумаге каш брат стесняется писать все как есть. И Фридель стесняется, и я, да и всякий постесняется. А вам подавай все к письменном виде, в письменном, только в письменном. Впору нанимать писаря в каждый курятник!..
— Вот это верно, так их, Ханна! — выкрикнула пожилая коммунистка, во время заседания вязавшая чулок.
Собрание разделилось на смеющихся и протестующих.
— Немножко соли не повредит, но пересаливать все-таки не стоит, — отбивались протестующие.
Верх взяла Эльза Поль:
— Незачем устраивать беспорядок. Ставлю вопрос на голосование. Я считаю, что Ханна выступила в прениях, только и всего…
— Вот именно, — буркнула Ханна, садясь.
Но не успела Эльза приступить к голосованию, слово попросил товарищ Герман Цумзейль из окружного комитета.
— На мой взгляд, — сказал он, — сейчас нет надобности в голосовании. Что вы хотите поставить на голосование? Какую-то деталь формальной процедуры? А после этого заявительница все равно поднимется на трибуну, чтобы изложить свою биографию и ответить на вопросы. Мой вам совет — сделайте все разом. На вашем месте я попросил бы сейчас Фридель Ротлуф выйти вперед и подробно рассказать, что толкнуло ее на известный вам поступок, а потом коротко и откровенно объяснить, почему она надумала снова вступить в партию.
Предложение было разумное. Даже Эрнст Ротлуф и тот кивнул. Когда Фридель встала, она услышала за своей спиной голос Ханны:
— Выше голову, девочка.
Эльза Поль протянула Фридель ее пространное заявление. Фридель много ночей размышляла над ним, много часов писала его. Она понимала, что ей не удалось написать все, что она перечувствовала и передумала. Начало каждой фразы давалось ей с великим трудом, словно господин учитель Куцшебаух все еще стоял у нее за спиной с ореховой указкой и обрушивал на ее голову десяток «правил для сочинений», тех самых правил, которые изуродовали не только сочинения учеников, но и самый образ мыслей у нескольких поколений выучеников кайзеровской школы. Счастье еще, что никакие холопствующие учителя не и силах надолго отучить здоровый народ от мыслей.
Фридель отбрасывает со лба белоснежную прядь и начинает:
— Вам известно, чего я добилась своим выходом из партии. Когда мой муж сидел в концлагере, я подала на развод. В свидетельстве о разводе, с текстом которого я согласилась и с которым познакомили также и его, было сказано: «Непримиримые политические расхождения между супругами». Вот что там говорилось, вот как выглядят факты…
Да, Фридель, факты выглядят именно так, и от этого не отмоет тебя никакая вода, никакие слезы. Когда ко мне в лагерь пришло свидетельство, я показал его Герману Цумзейлю. Он и там сидел рядом со мной, за одним столом, и он сказал: «Знаешь, Эрнст, если бы со мной стряслось такое, я… я, наверно, сошел бы с ума…» А теперь… теперь Фридель надела белую муслиновую блузку. Будто я не понимаю, зачем она надевает белую муслиновую блузку, когда знает, что я ее унижу. Не выйдет, можешь говорить, что хочешь, и надевать, что хочешь… Пока мои седые космы — а ведь ты тоже приложила руку к тому, чтоб они поседели, — пока мои седые космы не почернеют, я буду твердить: нет…
— Вы знаете, что моего мужа приговорили к четырем годам и он сидел в Вальдхейме. Четыре года я терпеливо ждала и не горевала, что мне приходится бегать с места на место, а по воскресеньям еще стирать белье на чужих. Ни капли не горевала. Я верила, что он выйдет на свободу в октябре тридцать седьмого. И даже смеялась, что мне выплачивают на двоих детей всего одиннадцать марок семьдесят пфеннигов и месяц. А ведь мне было несладко. На фабрику меня не брали. Очень сочувствуем, уважаемая, но… Хозяева не желали даже называть меня по имени. А что может заработать женщина в прислугах, такая женщина, которую стараются даже по имени не называть, вы себе, наверно, представляете. И когда дети приходили домой с ревом, потому что в школе их дразнили, лупили или ставили в угол, я говорила одно: «Через год и октябре вернется отец». Это помогало. Помогало и то, что ко мне изредка наведывалась Ханна Цингрефе и всякий раз совала на полочку и кухонном шкафу несколько марок. И Пауль Герике не оставлял меня в беде… Но вот надежда меня оставила. Наступил октябрь тридцать седьмого. Из Испании пришла одна добрая весть, из Вальдхейма — другая: «Заключенный Эрнст Ротлуф вплоть до особого распоряжения переслан и исправительный лагерь Бухенвальд». Вплоть до особого распоряжения… В двух домах мне отказали. Тогда я снова поклонилась старому Хенелю и попросила взять меня на работу. «Знаете что, дорогая моя, подайте на развод», — сказал он и впервые произнес слово «пожизненно». «Даже если ваш муж осужден не пожизненно — а вы должны быть готовы и к этому, — на вашем месте я все равно подал бы на развод, в конце концов, можно оформить фиктивный развод, не правда ли? И воспользуйтесь льготами по бедности», — добавил он, потому что мне надо было так и так обращаться в суд. А на случай каких-либо затруднений он даже пообещал устроить мне адвоката. Конечно, это грозит ему неприятностями, но он-де с легкой душой идет на все, потому что я как-никак всегда была одной из лучших его мастериц. Да, старый Хенель так распинался, будто он и сам против фашистов…
Фридель снова отбросила со лба мокрую от пота прядь и пробежала глазами исписанные листки, словно забыв, о чем говорить дальше. Кто-то из присутствующих решил, что она в свое оправдание хочет сослаться на двуличность Хенели. Чей-то сердитый голос выкрикнул:
— А ты и уши развесила? Ты что, только вчера познакомилась с господином Хенелем? Ты разве не слышала, как держал себя Тельман, когда к нему в камеру пришел жирный Геринг и посулил ему помилование? Мы ведь немало об этом говорили. А ты…
Но Ханна Цингрефе перебила его.
— Сперва заведи розги, а потом уже замахивайся. Дай человеку договорить…
Эрнст сидел, опустив руку на лежащий перед ним блокнот и так странно ее разглядывал и такое серое у него было лицо, словно на блокноте лежала не его собственная рука, а посторонний предмет… И откровенность тебя но отмоет, думал Эрнст.
Фридель оторвалась от своих записей.
— Когда оглядываешься назад, выходит, я действительно развесила уши, и все из-за одного-единственного слова «пожизненно». Я не поверила и но хотела верить, но оно тяготело надо мной, как страшный кошмар. Все равно, думала я, о разводе не может быть и речи, даже если нам с детьми придется подыхать с голоду…
Снова выкрик из рядов перебивает ее:
— Ну, теперь-то легко говорить…
Фридель продолжает, но голос у нее сейчас бесцветный и тусклый:
— В тридцать восьмом году Соня кончила школу. Господи, сколько я обегала всяких мест, чтобы пристроить ее и ученье. Все только пожимали плечами, только ахали да кивали друг на друга: «Ах, ах, жалко бедную девочку, не правда ли, фрау Дингскирхен?» Вы понимаете, что все это значило… Я не позволила Соне записаться в Союз немецких девушек… С этого все и началось, с этого и пошло то, что стало моей виной. Я уступила детям. Целый день я слушала, как поет и ворчит Соня: «Весь наш класс в СНД, одна я нет, что ж мне, по-твоему, идти мыть плевательницы в какой-нибудь богадельне?..» А мой сын Гейнц в один прекрасный день, не спросясь меня, вступил в юнг-фольк. Притащил оттуда черную блузу и какие-то трубочки, которые он гнул над газовой плитой, чтобы построить модель планера. Соня валялась поперек кровати и выла, как цепной пес, у нее, видите ли, нет приличного платья для выпускного вечера, а Гейнц, тот прямо сказал, что через год, когда будет кончать школу, отдаст подогнать по мерке летную форму гитлерюгенда, но обноски с отцовского плеча — перелицованный синий костюм — и не подумает надевать. Вот тут я не выдержала, тут уж и Ханна не сумела бы мне помочь, и Пауль не сумел бы, и Дора — тоже нет. Я имею в виду Дору, Ханнину сестру. И на троицу тридцать восьмого года я снова побежала к старому Хенелю и сказала ему: «Ладно, господин Хенель, я согласна на фиктивный развод, если только вы меня снова поставите к станку и дадите мне заработок».
Это она про мой синий костюм, шевиотовый… мне сегодня под вечер принесла его какая-то незнакомая женщина, должно быть, приезжая, грубоватая такая. И ничего с меня по взяла за переделку. И передала мне такой наказ от фрау Хагедорн: повесить этот костюм на плечики там, где для плечиков есть шкаф, а для шкафа есть комната… Конечно, люди судачат обо мне. Ну и на здоровье. Поговорят — перестанут. И Фридель пусть говорит, что хочет: объективно она не права, объективно она предала честь партии, оказалась неустойчивым элементом.
На скамьях поднимается шум. Шепоток идет по рядам: «Ну, если расценивать это как тактический маневр…», «Может, надо вообще пересмотреть ее выход из партии?», «Если б знать наверняка, что она хлопочет ради партии, а не ради Эрнста…» Герман Цумзейль передвинул стул, чтобы лучше видеть Фридель. Эльза Поль предлагает небольшой перерыв. Надо открыть фрамуги, а то в зале слишком душно. Разве она не знает, что окна все еще заколочены сверху донизу? Фридель очень хочется отпить воды из стакана, стоящего перед ней на трибуне. Но она не дает себе воли, она вообще не привыкла есть или пить во время работы, пока не выполнит самой себе заданную норму.
— Ну, право на так называемые льготы по бедности я не использовала. По-моему, для бедняка просить о льготах — значит пытаться примирить свою спину с палкой, ведь так? Хенель сосватал мне адвоката Бюринга, и тот все уладил. Один только раз меня вызвали в суд — между двенадцатью и часом. Вся процедура заняла три минуты. Вот и в двадцатом году накануне первого мая, тоже между двенадцатью и часом, в обеденный перерыв мы помчались и магистрат. Я только сняла передник, а Эрнст надел для торжественного случая галстук и пристежной воротничок. А когда мы вернулись, во дворе выстроилась в два ряда вся первая смена хенелевской фабрики. И красные гвоздики дождем посыпались на меня. Наверно, старый Хенель помнил про это, впрочем, к делу это не относится. Я выслушала постановление о разводе, подписалась, где надо: «непримиримые политические разногласия между супругами…» Я сделала это, я собственными руками подписала свой приговор, я не устояла, дважды, трижды не устояла. Вам известно ведь, до чего докатилась моя Соня. Она вообще перестала меня слушать, отбывала трудовую повинность, связалась с бельгийским эсэсовцем из добровольцев и вышла за него замуж. Меня они не спрашивали и на свадьбу не пригласили. Она только черкнула мне несколько строк о том, как обстоят дела, и о том, что Луи именно в ее вкусе, она, мол, всю жизнь мечтала подцепить кудрявого брюнета, такого, каким был отец…
Да, Фридель, если бы ты сберегла детей, если бы ты сдержала хоть это обещание, тогда развод был бы просто ловким ходом — и больше ничего. Когда они забрали меня среди ночи, когда они уже вытолкали меня на лестницу, мы еще раз дали друг другу это слово: «Береги детой, Фридель, хорошенько береги…» А ты крикнула мне вслед: «Положись на меня, Эрнст, положись…» Один из бандитов заткнул тебе рот, а ты вырвалась и еще громче закричала: «Положись на меня… положись». Твое обещание звучало у меня в ушах, когда я вышел из дому и начал свой долгий путь. А что стало с нашими детьми?
— Сониного мужа — об этом вы, наверно, пока не знаете — застрелили средь бела дня на главной улице Монса его же соотечественники. Соня теперь болтается, как лицо без подданства, где-то в Рейнланде. Домой она никогда не вернется — я получила от нее открытку, где опа сообщает об этом. Может, дочь пошла по рукам, потому что мать не устояла… А мальчик с восторгом записался в авиацию. И полтора года спустя его подбили над Мальтой, он до сих пор лежит где-то в госпитале, в Египте. Подробностей о своем ранении он не сообщает. Пишет только, что на костылях в состоянии передвигаться уже сейчас. Может, сын лишился обеих ног, потому что мать не устояла…
Кто это — Ханна или другая женщина вздохнула со стоном? Ибо Фридель вслух сказала о том, что и сейчас давило голову, словно железный обруч, — о той чудовищной, все еще не до конца разгаданной, дьявольской власти немецкого фашизма, которая увлекла немецкую молодежь, как некогда крысолов из Гамельна, которая увлекла даже тех детей, кому отцы и матери пытались преградить путь собственным телом… Фридель тоже не собиралась устраивать спектакль, не собиралась закрывать лицо руками, а закрыла. На миг ею овладело то глубокое отчаяние, которое требует только одного: скрыться от глаз людских. Но едва лишь ладони Фридель коснулись лица… она подняла голову, откинула со лба мокрую от пота прядь и сказала прерывающимся голосом:
— Но дети все-таки живы, оба живы, это для меня сейчас самое главное. Нить может обрываться тысячу раз, может сбиться в один клубок, все равно, пока есть нить, обрывки можно распутать, связать и ткать дальше… Только вот распутывать и связывать обрывки очень трудно. Одному человеку эта работа не под силу. Вот почему я спрашиваю вас, не согласитесь ли вы снова принять меня в партию…
Призывая собравшихся не шуметь и придерживаться установленного порядка, Эльза Поль открыла прения.
— У кого есть вопросы? Кто хочет что-нибудь сообщить или добавить?.. — Никто не поднял руки, даже Ханна не подняла. Капризы электростанции то и дело заставляли ярче вспыхивать обе лампочки. От непрерывного мигания болели глаза, и не только глаза. Потом свет погас окончательно. Пришлось спешно зажечь припасенные заранее свечи. Наконец старый Пауль Герике решился:
— Я думаю, Эрнст, что первое слово по праву принадлежит тебе.
— Верно, верно, Эрнст, — словно глухое эхо прокатилось по скамьям.
Тогда Эрнст медленно выпрямился, упираясь руками в стол, стал вполоборота к трибуне и сказал, не глядя на Фридель, как, впрочем, и пи на кого в зале.
— Помнишь, Фридель, что ты крикнула мне вслед, когда они среди ночи увели меня! «Положись на меня», — крикнула ты, и не один раз. Речь шла о детях, о них я больше всего тревожился. И я положился на тебя. Среди всех бед отрадно было сознавать, что позади осталась жена, ее стойкость, рядом — товарищи, товарищи по несчастью, впереди — Советский Союз и непоколебимая вера, что вместе с ним мы могучая сила, что вместе с ним мы сильней фашистов. И покуда заключенный чувствовал такую поддержку со всех четырех сторон, он не мог оступиться, и минутная слабость развеивалась, как утренний туман под лучами солнца. Когда мне в лагере вручили свидетельство о разводе, Герман Цумзейль сидел рядом со мной за столом, точно так же, как сидит сейчас. Он был потрясен, правду я говорю, Герман?..
Герман Цумзейль кивнул:
— Чистую правду. Я даже сказал ему, что сошел бы с ума, если бы со мной такое случилось. Но Эрнст улыбнулся, когда прочел эту бумажонку. И сказал, что знает свою Фридель лучше, чем остальные… — Тут Герман Цумзейль скупыми словами рассказал о событиях того дня. Однако все почувствовали, что он не осуждает Фридель.
Эрнст более подробно развил мысль Германа:
— Развод меня и впрямь очень мало задел. В те времена хватало других забот. Но тут в один прекрасный день — был примерно конец сорок первого — явился ко мне в сапожную мастерскую рапортфюрер Рейнебот. И когда я, как положено, вытянулся перед ним, он с гнусной ухмылкой сказал: «А известно ли вам, Ротлуф, что несколько дней назад в вашей учетной карточке проставлен жирный плюс? У нас объявился зятек. Наш камарад из Бельгии, доброволец, член «Боевых крестов». Европа берется за ум, а? Ну-с, пусть милая фрейлейн, ваша дочь, покажет ему, как надо faire l’amour[51] по-нашенски, по-немецки. Девочка уловила дух времени. Мы ведь не какие-нибудь евреи, мы не мстим за грехи отцов до десятого колена. А теперь работай дальше, вонючая сволочь, со знатной родней…» Вот тут мне показалось, будто меня хватили обухом по голове. Такое, наверно, испытываешь, когда вдруг рушится доверие или любовь. А гитлеровский вермахт уже рвался к Москве…
— Вот с того дня Эрнст стал чернее тучи, словно ему просмолили мозг в сапожной мастерской, — вмешался Цумзейль. По лицу Эрнста можно было угадать, как его раздражает чуть ли не довольный тон Цумзейля.
— Разве ты не слышал, что Фридель тоже ничего об этом не знала и уж наверняка в этом не виновата? Или ты не веришь ей? — крикнула из рядов Ханна.
Теперь Эрнст повернулся лицом к собранию. Он отвечал, и голос его звучал так резко, словно он откусывал каждое слово, прежде чем выпустить его изо рта:
— Во всем рассказе Фридель нет ни слова лжи. Все было честно, честно по существу, субъективно честно. Но мы уже хлебнули горя с этой субъективной честностью. Мы состояли и состоим в рядах революционной партии и переживаем революционную ситуацию. Вы все это знаете, товарищи. Всякую деятельность оценивают по ее объективным результатам. И когда я думаю о своих детях…
Герман Цумзейль перебил его.
— Эрнст, товарищ председатель, сосчитай до ста, а потом говори дальше…
Эрнст глянул на него сверху вниз — Герман сидел рядом. И глянув, нашел в глазах Германа то, что находил во все времена, — в них отразился чистый и надежный небосвод, в них мерцали искры бодрости, ума, доброты, ясные, светлые, как дневные звезды. Эрнст оборвал свою речь и сел… У Фридель другие глаза — карие, нежно-карие. Но разве взгляд у них не один и тот же, почти один и тот же, совсем один и тот же… Скажи мне, Эрнст, недавно спросил Герман на одной конференции, скажи мне, какого ты мнения о тех товарищах, которые стойко держались при нацизме, терпели всяческие лишения, а теперь с глазу на глаз признаются мне: ну, теперь пришел и наш праздник, теперь мы все наверстаем. Раба, который сбросил цепи, история не осуждает за то, что он пляшет карманьолу… Я могу понять этих товарищей, субъективно они правы, но объективно нашу революцию надо, по-моему, отмечать не плясками. Наша революция — это субботник; наше дело — взвалить бревно на плечо и расчистить хаос, строить новое время, создавать человека по образу и подобию человеческому, наше дело — работать и учиться, учиться и работать, использовать свой досуг на старости лет… Фридель говорила другими словами, когда приводила пример с нитью и мотком, но мысль у них одна и та же, почти одна и та же, совсем одна и та же.
Эльза предоставляет слово тем, кто давал рекомендацию, — Ханне и Паулю. А они разве не говорят почти одно и то же, совсем одно и то же?
— Я ручаюсь за Фридель Ротлуф, — говорит Пауль Герике, — я думаю, что ее неустойчивость нельзя считать предательством по отношению к партии. Враг был слишком силен. Но она не перестала взывать к совести своих детей. А дети над ней издевались. Так бывало, бывало тысячи раз. Почему же за все должна отвечать мать? Если вы подойдете ко мне с той же меркой, что Эрнст к Фридель, вам тогда придется поставить вопрос и о моем исключении. Даже сам Эрнст, так я считаю, не вправе взвалить все на одну Фридель — объективно не вправе…
Перед голосованием слово взяла Эльза.
— О наших делах, то есть о делах старшего поколения, история будет судить по нашим детям. Это касается, в частности, наших собственных детей, а в общем плане — всей немецкой молодежи. Кто из-за вчерашнего дня не видит сегодняшний, тот убивает и завтрашний день…
Разве и она не повторяет одну и ту же мысль? Разве она не говорит без обиняков: «Поди к Фридель, помоги ей и прими помощь от нее?»
Пауль Герике ставит вопрос на голосование.
— Кто за то, чтобы…
Эрнст Ротлуф поднял руку в числе последних.
Но когда он — как председатель — подал руку Фридель, он увидел, что в ее глазах вновь отражается прежний небосвод — чистый, надежный, прекрасный…
Занятно, что никто не дожидается поезда на платформе. Все больше людей набивается в зал и в буфет, они толкаются, пихают друг друга, пробиваются вперед, на ходу стирая со стен жалкие остатки грязно-желтой краски. Если верить расписанию, поезд должен скоро отойти. Поток голода, страха и острых локтей льется, извиваясь сквозь толпу к узкому проходу в загородке, останавливается, бурлит, напор угрожающе растет, хотя репродуктор без устали напоминает, что сегодня — как и всегда — поезд отойдет со значительным опозданием. Но железнодорожники, как и каждый вечер, открывают проход ровно за пятнадцать минут до отправления по расписанию. Мало ли кто на сколько опоздает — к этому приноравливаться нельзя. А надо приноравливаться к бурлящей смеси из голода, страха и острых локтей и открывать проход, как предохранительный клапан.
Общий поток вынес на платформу Руди и Хильду. Молча и угрюмо, зажав под мышкой ее рюкзак, стоит он рядом с Хильдой. Она и рада бы уйти от пего, но едва лишь начнет протискиваться сквозь толпу, он следует за ней как побитая собака и останавливается, едва лишь остановится она, молча и угрюмо, как остановился у стола, и даже не ответил на ее слова: «Я ошиблась адресом». Урсула, ее муж и молодая женщина с ребенком начали было подтрунивать над ним:…от такой физиономии жди грозы… детишки Шарахаются. Пытались как-то растормошить его и Хильду, — та тоже безнадежно замолкла.
— Ну, накричите хоть друг на друга, поссорьтесь хоть в свое удовольствие… А то давайте с нами! Иногда лучше петь на людях, чем молчать наедине… — но все без толку. И тогда Урсула сказала:
— Я его тоже знаю. Думаю, никто из вас не ошибся адресом, просто господни Руди Хагедорн временно выбыл.
Хильда тряхнула головой и решительно встала. Она хотела взять свой рюкзак, но он опередил ее и потом так и плелся за ней, словно побитая собака.
— Хильда, куда же ты все-таки?
— Туда, где я избавлюсь от тебя, а ты — от меня. Все это больше ни к чему… Тебя тянет к другой, она твоя первая любовь и бог весть что еще. Однажды ты пообещал рассказать мне все. Но я оказалась для тебя слишком глупой. А сегодня я увидела своими глазами, какие у вас отношения. Значит, конец. Я еду к Лизбет. Не надейся, что я буду сидеть там и целости и сохранности и ждать тебя, на случай если тебе снова придет охота позабавиться с твоим найденышем. А теперь пусти…
Чужим, холодным голосом отвечала ему Хильда, последние слова она произнесла так громко, что их расслышали окружающие. И взяла у пего свой рюкзак. Когда он все-таки хотел последовать за пей, перед его лицом, как шлагбаум, выросла чья-то чужая рука — рукав, пропахший нафталином. И чей-то голос прохрипел:
— Дама желает, чтоб ее оставили в покое.
Какая-то старушка умилилась:
— Наконец-то хоть один настоящий мужчина…
Руди отступил и, работая локтями, попытался пробиться к выходу, но встречный поток подхватил его, повернул вспять, увлек за собой. Руди вытянул шею, ища глазами зеленый платок, и не нашел. Тут вдруг разом погасли фонари на платформе и высокие дуговые лампы над путями. Руди застонал от досады, и стон его слился с многоголосой бранью толпы. Все краски, как по мановению волшебного жезла, уступили место серым теням надвигающейся ночи. Лишь верхушки сосен высоко над долиной еще купались в жидком смородинном сиропе заката. А в самом конце платформы, на железной мачте семафора неяркая краснота сменилась густой и темной. Там Руди и нашел Хильду. Она сняла с головы платок. Лица ее он но видел. Он узнал ее по пушистым завиткам на шее. И узнав, испугался, потому что оказался почти рядом с ней, как тогда, под прикрытием штабеля снегозаградительных щитов, и потому что биение крови, розовеющей под кожей, показалось ему холодным отсветом семафора.
— Хильда, я хочу тебе все рассказать, все, пока есть время…
За семафором не было ни души. Они отшагали еще кусок но шпалам до домика стрелочника. Домик походил на тот, в котором жила Анна, да в последние дни войны сгорел — его обстреляли с воздуха. Обугленные стропила, рухнув, завалили дверной проем, порог зарос бурьяном. Пожар, должно быть, погубил и дерево, сливовое дерево между остовом дома и каменным оголовком водоема, куда но трубочке бежала из скалы тоненькая струнка воды. Сухие, черные ветви нависли над колодцем, хрупкость их рисовалась ломкой филигранью на едва уловимой зыби жидкого свинца. Руди по стал бы здесь задерживаться, если бы Хильда не села вдруг на край водоема и не заявила, что дальше никуда не пойдет, что это место вполне ее устраивает, пусть он только говорит покороче, а то поезд, может, чего доброго, прийти раньше, чем объявлено. Когда он сел рядом, она подняла рюкзак с земли и поставила между ним и собой.
— Все началось на Дрейбрудерштрассе…
Вода бежала непрерывно, заглушая неясный шум, доносившийся с перрона, и Руди рассказал все без утайки, как хотел рассказать в тот вечер: о письмах безрассудно влюбленного Гипериона, о перистых листьях рябины и о красной ягодке — коралле в ее кудрях, о жестокой своей застенчивости, о суде духов, о своей дурацкой клятве отомстить Залигеру и о том, как скверно все кончилось, о письме своем к ней и ее — к нему, о торжестве в доме Фюслера, о Фюслере и о Хладеке, о господине ван Будене, о лестнице, которую Лея называет блоком, о том, как Лея потребовала, чтобы он помирился с Залигером, о событиях этого дня, о младшем лейтенанте, о Щелкуне, о Деппе и о Безусом, о Гансе Хемпеле, об Эрнсте Ротлуфе и Эльзе Поль, обо всех и обо всем, кроме одного: он не рассказал ей о том, откуда взялись у него на шее следы ногтей, да еще о том, что надумал уйти прочь и сложить голову под беспощадным солнцем чужбины… Хильда слушала не перебивая, лишь несколько раз провела пальцем по воде, словно хотела написать что-то. Какая-то парочка показалась на путях, они остановились, прижавшись друг к другу, жадно обнялись, потом юркнули в кусты.
Нимало не тронутая его искренне-эгоистической исповедью, Хильда без прикрас досказывает конец этой долгой истории:
— Значит, вы целую ночь мучили друг друга. Любви там не было, в этом я убедилась, пока слушала. А когда ты вернулся домой в половине одиннадцатого, ты выронил из рук кружку. Может, тебе показалось слишком тяжелым мудрое изречение на кружке. Я вымела черепки. А потом, должно быть, упала в сенях. Помню только, что очнулась я в комнате на диване. И первое, что я услышала… можешь себе представить, уж на что у тебя добрая и набожная мать, но сына своего она честила такими словами…
— Она не может этого попять, никак не может…
— Тебя вообще никто не может понять, разве что профессорская дочка, да и та не всегда… Что ты говоришь? Что я несправедлива? Ну и пусть несправедлива. Но раз ты и впрямь слишком сложная натура, такая сложная, что даже сам себя не понимаешь, не говоря уже о других прочих, у тебя никогда ничего но выйдет с Леей, никогда. Может, ты всю жизнь будешь гоняться за собственной мечтой. А может, милостиво дозволишь мне страдать от твоего сложного характера, потому что я тебя тоже не понимаю, потому что я для тебя слишком проста, слишком глупа, слишком примитивна и так далее. Помнишь, мы стояли на Катценштейне и глядели, как плывут над горой облака? Помнишь, как ты тогда смотрел на меня? Я-то помню. Но впредь я уже не буду такой дурой. Нечего сказать, хорошо бы мне было с тобой. Мне предоставили бы право усердно работать, опрятно одеваться, разыгрывать из себя добрую тетеху и вдобавок ахать да вздыхать, когда ты будешь возвращаться со своих прогулок навеселе: ах ты, мой бедняжечка, опять тебе взгрустнулось.
Все бежит, все бежит в водоем тоненькая струйка.
…Давным-давно ловили люди эту прохладную, чистую струю, пили небесную росу из мраморной чаши, пили свежую воду из крепких девичьих ладоней. А сейчас прохладная чистая струя падает, как неясное бормотание с древних, увядших губ, только и слышится: Урд — Верданди — Скульд, Урд — Верданди — Скульд… А на уроках некоего доктора Фюслера вы могли узнать, что, согласно древнему мифу, такие имена носили три норны, вершительницы судеб, которые жили у колодца Урдар и поливали Игдрасил — священный ясень, древо жизни. Великий Вотан отрядил их прясть и ткать нити судеб. И по очереди то одна, то другая, то третья занимала должность «чик-чик» и, зловеще хихикая, щелкала ножницами всякий раз, когда в мире выплеталось что-нибудь доброе. Раз щелкнет Урд, другой — Верданди, третий — Скульд… раз — мать, другой — Лея, третий — Хильда…
Из кустов донеслось фырканье, чмоканье, приглушенный визг: «Амулетик ты мой…» Хильда проглотила комок.
— До чего все мерзко, — сказала она.
Вот она сидит близко, так близко, что он даже в сумраке различает мягкие, светлые, пушистые завитки у нее на шее — различает, а дотронуться до нее не смеет. Ему бы радоваться, что девушка вырвалась из старой оболочки и устремилась в высшие сферы, что она заворожила его своей холодностью и недоступностью, которые преследуют одну лишь цель — чище, возвышеннее, прекраснее отдаться душой и телом. А он вместо того сидит, понурив голову, на каменном оголовке водоема и упивается своей порядком заношенной присказкой: «Под беспощадным солнцем чужбины, под беспощадным солнцем…» Он лишь тогда подал какие-то признаки жизни, когда Хильда завершила его неуместную исповедь столь же неуместным признанием:
— Твоя мать, — сказала она, — уложила меня без подушки, а к голове прикладывала мокрое полотенце. Мне было очень приятно. Так же приятно, как слушать ее любимое речение: «Твое «да», пусть будет «да», твое «нет», пусть будет «нет», а что сверх того, то от лукавого…» Потом вдруг она пристально поглядела на меня и… и почему-то испугалась. Приподняла мои веки, словно хотела проверить, нет ли там ячменей, и молча вышла в кухню. Я слышала, как она придвинула стул к швейной машине, видела, как она беззвучно шевелит губами. Ты и сам знаешь, как она молится про себя у своего столика. И я точно знала, какое горе заставляет ее молиться… — Тут Хильда набросилась на него с внезапной яростью: — А ты что ж, ничего не заметил?.. — Намотав на руку платок, она свирепо рванула его, но когда заговорила снова, голос у нее опять стал чужой и спокойный: — Я-то знаю уже два месяца, никак не меньше двух. А теперь я еду к Лизбет, пусть она скажет мне, как это делают. В войну она избавилась от одного — не то на третьем, не то на четвертом месяце, хинином, кажется… А матери твоей я сказала, что собираюсь на могилу к Рейнхарду. Конечно, после этого я уже не осмелюсь показаться ей на глаза. Но так по крайней мере хоть это не будет меня удерживать — она хорошо ко мне относилась.
Он вскочил, ринулся на обгорелый домик, словно хотел размозжить голову об степу, вернулся, схватил Хильду за плечи и заорал:
— Об этом не может быть и речи, слышишь, ты, но может быть и речи!.. — И поскольку она не отвечала и даже повела плечами, чтобы сбросить его руки, решил смягчить ее гнев.
— Как ты думаешь, для чего я привез муку, ну как ты думаешь?..
Издалека, еще из-за Катценштейна, донесся гудок паровоза. Сейчас поезд минует переезд у Рашбаха. При ясной погоде всегда слышен оттуда его гудок. На платформе задвигались силуэты сидящих. Громче стали голоса. Снова донеслось шарканье подметок и стук чемоданов. Из-за кустов вынырнули те двое — впереди парень, за ним с криком и воплями — женщина. Хильда вскинула рюкзак на плечо, зажала в губах заколку, подколола растрепавшиеся волосы и поиязала платок. А он без устали уговаривал ее, что теперь все прояснилось, что теперь он будет зарабатывать на троих, если надо, на четверых и что пусть она даже и думать забудет про Лею…
— Нет, Руди, не обманывай себя. Ты нечаянно сказал мне всю правду. Ты не сможешь выкинуть из головы ту, другую, даже ради ребенка. Я понимаю, ты человек высоконравственный и готов жениться ради ребенка. Но подумай, что это значит для меня. Это значит, что мне уплатили свадьбой за услуги… Я ужо обо всем подумала. Ты ничем мне не обязан, повторяю, ничем, ведь и я причастна к делу… Господи боже ты мой, да стоит ли так волноваться, может, я даже не стану говорить об этом Лизбет. Только не воображай, что ты должен как-то расплачиваться, чтобы успокоить свою чересчур сложную совесть. Я и сама на двоих заработаю, и ребенок у меня не от какого-нибудь эсэсовского жеребца, так что стыдиться мне нечего…
Хильду нельзя было остановить покаянными обещаниями, даже робкая попытка удержать ее силой кончилась ничем. Она ушла по черной тропке вдоль пути. Поначалу он стоял как оглушенный. Потом припустил за ней, загородил ей дорогу и сунул ей под нос сложенную бумажку как наглядное подтверждение своих честных намерений.
— Это анкета, Хильда, это анкета! Мне дали се сегодня в школьном отделе. Достаточно сказать «да» и заполнить ее, и меня сразу же назначат учителем. Тебя тоже могут взять учительницей, фрау Поль так сказала, правда, да поверь же мне…
Не замедляя шаг, Хильда сказала, что она может отлично устроиться и в другом место.
— Но мы могли бы работать вместе, в одной школе, так сказала фрау Поль, могли бы поехать в Рашбах, получить там квартиру — столовая, спальня, кухня, сарайчик, приусадебный участок… Можешь даже повесить на степу гитару с ярким бантом… Ну, Хильда… В конце концов, это и мой ребенок!
Она еще раз остановилась, бросила на него быстрый испытующий взгляд и с надеждой спросила:
— А любовь тоже? Скажи «да» или «нет», скажи мне правду, Рудн, во имя… — она запнулась, поглядела на свой живот. Он понял, во имя кого.
— Подожди еще немного, вот вернется Залигер и я буду знать точно…
— Ля уже знаю… — сказала Хильда и оттолкнула его.
Когда он снова поднял голову, Хильда была уже далеко. Она бежала изо всех сил и исчезла в столпотворении темных фигур, которые одичало рвались к краю платформы.
Оп крадется следом за ней, но уже не пытается отыскать ее в человеческом водовороте. Когда поезд останавливается и лавина выходящих сталкивается с потоком штурмующих, он отходит в сторонку и безучастно созерцает это неприглядное зрелище; он видит, как горлодеры выстроились вдоль края платформы, локтями и кулаками отвоевали себе два купе, как, выиграв битву, они выскакивают обратно на платформу, во всю глотку оповещают публику, что у них есть места для женщин и детей, и действительно, помогают сесть женщинам, молодым и старым, с детьми и без детей, видит, как их шайка завоевывает общие симпатии, как толпа громко величает их молодцами и славными ребятами и как они, гордые собственным великодушием, задирают нос от похвал. Видит он, как высоко над головами плывет яркий бант гитары и как те, кто, несмотря на причитания и толкотню, не сумел прорваться в вагоны, повисают на подножках, на буферах, а багаж привязывают к поручням. Этим тоже помогают горлодеры… Вот, фыркая от злости, поезд, наконец, трогается с места, а Руди все еще стоит в сторонке. И лишь углядев при свете газовой мигалки яркий бант и зеленый платок в битком набитом купе, он вскакивает на подножку следующего — последнего вагона…
За домиком стрелочника почти беззвучно падает в водоем струйка воды, под дождем искр расцветает алым цветом опаленная высохшая слива, лохматый дым поднимается над мертвой печной трубой… «Лю-ти-ки, лю-ти-ки» — выстукивают колеса по железному мосту через Пель. Город стоит под горой, лепится дом к дому, словно стадо умных, старых коров, которые спят стоя и во сне пережевывают вчерашний день и жмутся и греют друг друга своим теплом средь холодного, ночного пастбища… Остановка — Цвикау. С человеческим потоком выплеснулась тревога на широкие каменные ступени вокзала — большого, больше, чем в Рейффенберге. Поток затихает, люди спят лежа, сидя, стоя. Напрасно щелкает большая стрелка электрических часов — неумолимый погонщик минут. Хагедорн сидит среди спящих, прислонясь спиной к стене. Двумя ступенями ниже спит Хильда — голову уронила на рюкзак, лицо закрыла руками. Он сказал ей: куда бы ты пи пошла… Только другими словами. «Я не отстану от тебя, пока ты мне не поверишь…» Вот как. А она оттолкнула его другой поговоркой его матери, что он, мол, из тех, кто ухитряется служить и нашим и вашим. И опять повторила слово «мерзко», и опять сделалась недоступной. Хагедорн не может уснуть; он сидит, стиснув голову руками, и все думает, думает… Должно быть, такова природа женщин. Если женщина готовится стать матерью, а замуж еще не вышла, в ней вспыхивает ненависть к мужчине, первобытная ненависть, ненависть амазонки, ненависть, делающая из Гретхен Пентесилею.
Кто мне об этом говорил? Ах да, Залигер, в незапамятные времена. Он любил вникать во всякие болячки, к которым можно было подойти с психоанализом: он хотел стать доктором и найти тот единственный ключик, с помощью которого можно будет лечить всех женщин. Однажды он даже до такого договорился, что женскую душу, мол, надо выпотрошить заблаговременно, как рождественского гуся, иначе рискуешь в один прекрасный день наткнуться на желчный пузырь… Но почему' же и Лея отвергла меня?.. Палка — вот мой кавалер, рта нет, кишок нет. вопросов нет, воскресную шляпу с Гип-Гип-Гипериона получит мой кавалер… Мерзкие эти обороты речи у нее только от Залигера, от кого ж еще? Это Залигер испортил Лею. Если он еще раз протянет к ней свои «музыкальные» пальцы, я ему так наподдам… Но к нам это уже не относится, понимаешь, Хильда? Я, кажется, начинаю понимать: с Леей ушло от меня что-то старое, с тобой пришло ко мне что-то новое. Но старое могло быть так же прекрасно прежде, как прекрасно новое теперь. То, что было прекрасно, не уходит бесследно, оно остается прекрасным и при новой красоте. Ведь каждый новый дом возводят на старой земле. А самые красивые дома стоят вдоль железных дорог, вдоль шоссе, в таких домах жизнь кажется непреходящей, потому что мимо них она мчится на всех парах… Если бы Хильда могла понять разницу между прежде и теперь, поверить в непреходящую красоту. Но смогу ли я ей вообще что-либо объяснить?
Па минутку представить себе такое: мы живем в Рашбахе, женаты, работаем в школе, у нас ребенок, а то и двое детей… И я говорю ей: пошли, нас звали сегодня вечером к доктору Фюслеру и к Лее… Фюслер берет свою виолончель, Лея садится за рояль, они играют, а я сижу рядом с Хильдой, держу ее руку в своей и думаю о том, как прекрасно держать Хильду за руку, а слушать Лею и смотреть на нее. Как отрадно, когда прекрасное прежде и прекрасное теперь уживаются рядом, словно сестры…
И если бы даже Лея стала чьей-то счастливой женой, все равно, ничего не изменилось бы, ровным счетом ничего. Пусть только ее мужа не зовут Залигер. От Залигера я должен ее спасти… Сможет ли Хильда понять это?.. Да уж, наверно, поняла бы, если бы я умел говорить, а не только мямлить, или кричать, или завывать, если бы душа моя не была поражена немотой… «Если б грубыми перстами я касался струн неловко, я б отчаянью предался», — так, кажется, сказано где-то у старого Мерике. Старику хорошо было плакаться. Его время — безоблачный пустячок по сравнению с нашим. А вот почему у меня пальцы такие грубые и душа немая, не понимает никто, даже Лея. Это я и хотел объяснить ей в письме. А потом вытащил листок из конверта. И хорошо сделал. Все, что там сказано, я унесу с собой в могилу.
Но до тех пор мне надо делать вот что: не отставать от Хильды, вместе с ней растить ребенка, потому что ребенок принадлежит нам обоим и нас обоих когда-нибудь спросит, что мы для него сделали и чего не сделали. На худой конец выучить хоть ребенка говорить человеческим языком… Ты еще поверишь мне, Хильда! Вспомни-ка другую присказку моей матери: «Малыш — что мышь, а дом — вверх дном…» Ты еще поверишь мне, что вчера — это совсем не сегодня, что сегодня — это другой день и что разговоры у водоема о завтрашнем дне не проходят бесследно.
Секунда, единственная секунда: и поезд, следуя за извивами реки, спускается в низину. Здесь погода другая: неистовый дождь хлещет по стенам вагонов, но беднягам, которые виснут на подножках, вцепившись онемелыми руками в поручни и так высоко подняв воротники своих курток, что издали они напоминают всадников без головы. Руди догадывается, что скоро будет мост, поезд одолевает насыпь. Нескончаемая череда мокрых шпал, мокрый балласт, стремительно убегающий из-под ног, все ярче поблескивают в свете занимающегося дня. Поезд замедляет ход. Кто-то что-то кричит, должно быть, часовой на мосту. Он в плаще с капюшоном. Невеселое занятие — стоять на посту при такой собачьей погоде. Что он кричит? «Берегись», что ли? Или это грохочут колеса по стальному скелету моста? Вдоль колеи нет пешеходной дорожки. Лишь несколько шпал кинуто на стальные ребра. Хорошо хоть, что Хильда согласилась сесть на то место, которое я добыл для нее в Цвикау. А ведь сперва не хотела. И потом не сказала спасибо, да и не к чему ей было говорить. А я прицепился подальше, чтобы она не увидела меня и не стала из одного лишь сострадания выкраивать мне место в своем купе. Хорошо, что там сухо и тепло. Хильде нужно тепло, ей может стать дурно в ее положении. В сенях-то она упала…
«Берегись-берегись-берегись!» — грохочут-бормочут колеса. Грохочут по стальному скелету над рекой, что курится от дождя водяной пылью. Вот под ними уже не река, а снова насыпь, и снова они ускоряют свой бег — быстрей, все быстрей. Мокрый ветер бьет прямо в лицо.
Подниму-ка я воротник повыше. А насыпь, должно быть, длинная и пологая: вон внизу, между шпалами, все еще мелькают огни. Наверно, она длиной с ту насыпь через «мокрую яму», о которой рассказывала Анна. Эх, Анна, Анна… И тут, отуманенный сном, Руди отдается во власть ложного представления, будто это и есть та самая насыпь через «мокрую яму». Стоит выглянуть из-под куртки, и перед тобой встанет домик Анны, мирный домик у дороги, где медленно тянется время и долго живут вещи. Анна — грезит он — Анна стоит у шлагбаума со свернутым флажком, повязав косынкой свои цыганские кудри, в такую непогодь она надела сапоги, те, что я оставил ей, мягкие сапоги из телячьей кожи, Анна, свежая и ясная, стоит у шлагбаума, и от нее пахнет душистым мылом, она машет… машет, и рука ее падает. Не маши, Анна, не маши, я расскажу тебе что-то очень хорошее. Отдавшись грезам и чувствуя на себе чей-то пристальный взгляд, Руди чуть приспускает воротник своей старой кожаной куртки, что укрывает его от дождя, и видит перед собой пустынную равнину и чью-то оскалившуюся рожу под длинным, лихо заломленным козырьком, рожу, на которой недостает одной брови… Секунда, единственная недвижная, прозрачная секунда — и тут же набитый песком кусок шланга увесисто бьет его но затылку, на глаза Руди накатывается черная волна крови, у него еще хватает сил крикнуть и оттолкнуться от подножки и, отталкиваясь, подумать, что прыгать надо лицом по ходу поезда и стараться упасть на четвереньки… Ему и в самом деле удается встать на четвереньки, но он уже не чувствует, как бьет его по лицу бугристая насыпь, как, ударившись о землю, ofec перекатывается на спину и как плакучая ива, нежно склонившаяся к земле, чуть заметно вздрагивает от его грубых объятий…
Трудно сказать, кто услышал крик, кто увидел, как сорвалась с поезда и покатилась под откос чья-то тень, кто дернул стоп-кран. Прижались к колесам тормозные колодки, заскрежетала сталь по стали, колеса пошли юзом, люди в переполненных купе повалились с разгона, тесня друг друга, — пока, наконец, поезд, словно нокаутированный, не остановился, фыркая и пыхтя. С вагонных крыш нитями жемчуга свисают дождевые струн. Какой-то паренек, насквозь промокший и бледный как мел, — надо полагать, один из тех, что висели на подножках, — вырывается из кольца обступивших иву, пересекает луг, взбирается на насыпь и, выкатив от ужаса глаза, рассказывает пассажирам:
— Его грохнуло прямо о дерево. Ехать теперь ему дальше в оцинкованном ящике. А жалко парня, наверно, шофером был — куртка на нем кожаная. Как упал, так и не пикнул ни разу. Эх, жалко… — И добавляет, обращаясь к женщинам: — Лучше вам не смотреть на него…
Одна из них, в зеленом платке, бредет вниз. Это я его столкнула, это я, я, я, — молотом бухает в голове.
— Барышня еще не нагляделась на кровь, — замечает какой-то солидный господин и добавляет, что вообще-то у вагонов и промокнуть недолго…
Мужчины вшестером тащат пострадавшего на насыпь и несут к почтовому вагону. Хильда встречается с процессией на полдороге. Его несут ногами вперед, рука волочится по щебню, се поднимают. Хильда не хочет видеть его лица. В ее положении нельзя смотреть на такие лица. Но против воли она смотрит, и вдруг у нее на глазах это знакомое лицо становится маской, застывшей, неподвижной и чужой. Впрочем, он еще хрипит — значит, жив. В почтовом вагоне его укладывают на пустые мешки для писем. Она остается снаружи. В вагоне гомонят мужчины. Один заявляет, что был когда-то фельдшером и что, на его взгляд, у раненого поврежден череп, перелом ключицы и нескольких ребер. Конечно, на худой конец можно наложить повязку из подручного материала, но особого смысла это не имеет. Раненого, то бишь пострадавшего, надо как можно скорее доставить на дивизионный медпункт, тьфу, черт, не на медпункт, а в больницу, и поскорей, вероятно, потребуется трепанация черепа и дорога каждая, да, да, каждая секунда… Машинист прикидывает: до ближайшего города раза в три дальше, чем до того, который они только что миновали. Но дать задний ход он не может, на участке слишком оживленное движение, через десять минут пройдет П-87, рабочий поезд, значит, так или иначе, надо поскорей добраться до ближайшего блокпоста, до селектора… Жемчужные нити дождя повисли с покатых вагонных крыш… просачиваются сквозь платок, мочат волосы, бегут по лицу. Хильду не пускают в почтовый вагон; на вопрос, кем опа приходится пострадавшему — родственницей, женой или невестой, — она только отрицательно мотает головой. Она уходит, крики машиниста, проводницы и наконец пронзительный свисток паровоза заставляют ее подняться в вагон. Блок-пост расположен у самого начала просеки, по которой идет через лиственный лес железнодорожная ветка. Хильда опустила окно, не слушая воркотню соседей по купе, — их раздражает струя сырого воздуха, и нет у Них больше ни времени, ни охоты думать о несчастном случае. Увидев, как Руди переносят в дом, Хильда выхватывает свой рюкзак из переполненной багажной сетки и спрыгивает на землю. Какая-то толстуха с яростным грохотом поднимает раму: — Не иначе спятила девка!
Паренек с бледным, как мел, лицом зябко топчется у вагона. Он спрашивает Хильду, кто она такая, не медицинская ли сестра, и, не получив ответа, тем не менее от чистого сердца дает ей совет смелей заходить. У пострадавшего, мол, веснушки на лице, а у людей с веснушками всегда крепкое сложение и хороший характер. Как порадовался бы он, озябший паренек с бледным лицом, если бы узнал, что эта детская вера в людей на сей раз не подвела его.
Машинисту Хильда сказала, что она знает пострадавшего, они с ним из одного города и даже жили в одном доме. Машиниста это не очень занимало. Что от него требовалось, он сделал. Вот придет санитарная машина и доставит пострадавшего в ближайшую больницу. А с полицейским протоколом дело терпит, все равно не объявился ни один свидетель, даже те, что стояли рядом на подножке, слышали только крик… Ох, уж эта мне езда на подножках! Паровоз рявкнул, и машинист ушел вместе с теми, кто переносил Руди в дом. Когда поезд прогромыхал мимо, Руди застонал. Он лежал на раскладушке, куртку ему подложили под ноги, руку привязали к телу. От лба до затылка тянулась широченная ссадина, из которой все еще сочилась кровь. На одной стороне головы волосы свалялись, как пропитанный кровью войлок. Жена стрелочника, молодая женщина, подсунула ему под затылок клеенку, а Хильде велела помочь приподнять голову Руди. Потом принесла тазик с водой и полотенце. В воду она подлила немного уксуса. Хильда начала прикладывать ко лбу Руди мокрые полотенца. А когда хозяйка не видела, прижимала полотенце к собственному лицу. Ей было дурно, как утром в сенях. Стрелочник натянул дождевик и сказал, что сходит поглядеть, не повреждены ли рельсы на том месте. Ему лично кажется, что несчастье случилось из-за того, что поезд слишком раскачивало. Последние вагоны качает сильнее других, если нижнее строение полотна осело.
— Не дорога, а сплошная хвороба, ее надо было закрыть еще три года назад…
Когда стрелочник ушел, из соседней комнаты выглянули две головенки — два мальчугана в ночных рубашках. Мать снова загнала их в постели, а Хильде сказала:
— Ох, девочка, сдается мне, вы жили очень даже близко. У тебя так заострилось лицо, как у твоего больного.
Хильда ответила деловито:
— Да это когда еще было-то…
Но хозяйка не удовлетворилась таким ответом, ей захотелось узнать поподробнее — откуда родом «этот симпатичный парень», кто он по профессии, женат ли, нет ли у него, чего доброго, детей… И просила не винить ее за назойливые расспросы. В такой глуши поневоле сделаешься любопытным. Хильда рассказала, что они познакомились после войны, парень он неплохой, и между ними кое-что было, чего греха таить. А потом они разошлись.
— Так вот все и идет…
Хозяйка развела огонь в плите.
— Иногда все идет кувырком, — сказала она, — иногда человеку нужно упасть с поезда и раскроить себе череп, как яичную скорлупу, чтобы снова все пошло складно да ладно. Иногда мужчинам полезно кровопускание. Мой только тогда и остепенился, когда переболел дизентерией в Крейцнахе… — Тут она спохватилась, что ей надо выйти встретить рабочий поезд. При этом она даже не глянула на часы, да и поезда еще не было слышно. Когда поезд прогромыхал мимо, Руди на мгновение открыл глаза. Но взгляд у него был тупой и бессмысленный, он не узнал Хильду, хотя она склонилась над ним.
— По-моему, он приходит в себя, — сказала Хильда, когда хозяйка вернулась.
— А ты его окликни, — посоветовала та. — У тебя нет для него какого-нибудь имени, прозвища, чтоб знали только вы двое?
Нет у Хильды такого имени. А зовут его Руди. Хозяйка склонилась над изголовьем и шепотом окликнула Руди. Но он но открыл глаз. Он простонал, словно в глубоком сне. «Анна!» — простонал он. И при этом дрогнула на его лице застывшая маска, та маска, которую накладывает испуг пли ужас. Живая осознанная боль проступила сквозь нее.
— Ага, значит тебя зовут Анна, — засмеялась молодая женщина и, когда Хильда рассеянно кивнула, засмеялась еще громче.
— Да, теперь я вижу, как далеко от тебя живет в мыслях этот полумертвец.
Хильда смочила в тазике еще одно полотенце.
А Руди снова простонал из своего далека:
— Анна, сними матроса со стены, видишь портрет там, в углу…
Молодая женщина заметила уже с долей неодобрения:
— Ах, у вас поблизости еще и матрос живет…
Хильда переменила компресс.
— Он бредит, фрау…
— Лизбет, зови меня просто Лизбет…
Мальчишки запустили чем-то в дверь, туфлей наверно.
— Вот негодники, вот бесстыдники! — Мать вышла отругать сыновей.
Из спальни донесся ее голос — голос новой Лизбет:
— Дина, ты только полюбуйся! Ну что ты скажешь!..
Хильда заглянула в дверь и не обнаружила злоумышленников. Обе детские кроватки были пусты. Зато на родительской кровати что-то шевелилось под одеялом. Но мать не желала допускать никаких поблажек. Шлеп одного, шлеп другого, и марш но местам. Когда женщины вернулись в комнату, новая Лизбет сказала:
— Не поддавайся на такие проказы и не верь слезам, когда у тебя у самой будут дети. Раз мать сказала — значит, все. Раз отец сказал — тем более. Только не давай ему слишком много говорить, если он похож на моего. Мой или командует, или расходится как ребенок. У него семь пятниц на неделе. И смотри, зарабатывай хоть немного, не то твой господни и повелитель задерет нос.
Неужели все Лизбет говорят одинаково? А Руди бродит по-прежнему:
— Сними, выкинь… и собачий жетон тоже выкинь… и все, все…
Он задвигал пальцами свободной руки, словно хотел что-то сорвать с шеи. Хильда глянула и снова увидела глубокие царапины на его коже, раны, которые никогда не затянутся, никогда, никогда…
Но окончательные результаты всестороннего обследования Хильде суждено было узнать здесь, в строгой, но приветливой комнатке дежурной сестры. Молодая сестра из приемного покоя — существо цветущее и самоуверенное, с чуть тонковатыми икрами, но зато с вызывающе белокурыми локонами под крахмальной шапочкой, существо, щедро наделенное практической смекалкой, — сразу заметила и утомленный вид и прежде всего мокрое платье Хильды и просто-напросто увела се за собой, сюда, в симпатичную, строгую комнату, где было высокое окно и подпитые красно-желтые шторы на нем, был стол, стул и букет астр, и шкафчик для медикаментов, и аптечка, и зеркало над пузатым керамическим умывальником, и застеленная кожаная кушетка и неистребимый запах неправдоподобной чистоты, против которой бессилен даже горький аромат свежего солодового кофе. Молодая сестра не желала слушать никаких возражений, мало того, она приказала Хильде снять с себя все мокрое — жакет, пуловер, юбку, зеленый платок — и унесла в сушилку.
— А чтоб вам не смущаться, если заглянет кто-нибудь из докторов, наденьте этот халат, его все равно пора стирать.
Послушно, как ребенок, перекинула Хильда мокрые вещи через спинку стула, выслушала приказ «выпить чего-нибудь горячего и непременно лечь». Кушетка, правда, жестковата, но на жесткой постели слаще спишь, и, кроме того, это сохраняет фигуру. Застегивая на спине у Хильды пуговицы халата, молодая сестра не упустила случая всласть поболтать.
— Не беспокойтесь, вашего больного мы живо заштопаем. Вы себе даже не представляете, чего только не насмотришься в наши дни. Вчера, например, к нам доставили двадцатилетнего парня — ребеночек надумал полакомиться опарой для блинов. Сыновья теперь сплошь да рядом тащат хлеб у матерей прямо из рук. Но этого постигла неудача: муку-то брали на черном рынке, и она была наполовину перемешана с гипсом…
Поскольку Хильда не выказывала ни малейшего желания поддержать беседу, сестра, ничуть не обескураженная, продолжала:
— Моя бы воля, я пошла бы работать в полицию. Предупреждать болезнь легче, чем лечить. У меня муж служит в полиции. Ну и важничает же он, доложу я вам. Сестричка, говорит он мне, сестричка, не суй свой нос не в свое дело. Мужчины пусть работают кулаками, а женщины пусть кормят детей кашкой. Вы бы позволили вашему другу — или кем он вам приходится — так с вами разговаривать? Вот говорить комплименты — на это они мастера. Ваш больной, я думаю, тоже лицом в грязь не ударит, верно ведь?..
И тут же без всякого перехода сестричка обзывает себя балаболкой, вихрем вылетает из комнаты и возвращается с фаянсовым кофейником, достаточно объемистым, чтобы напоить целую палату. Из аптечки она достает холодные гренки и повидло. Накрывает на стол, походя сдвигает лиловые астры в сторону, поближе к свету. За высоким окном дремлет еще во всех углах и закоулках дождливое утро. В первый раз со времен своего детства Хильда ощущает неодолимое желание протянуть руки к незнакомо-родной девочке-ровеснице, почувствовать на своей щеке прикосновение чужой щеки. Но сестрица при всей своей дружелюбной заботливости держит ее на расстоянии словечком «вы». Пусть это «вы» звучит по-дружески, не повелительно — знай, мол, свое место, — как звучало оно раньше у всяких унтер- и обер-фюрерш «женской службы трудовой повинности» — Хильда предпочитает сунуть руки в глубокие карманы халата. Тут сестричка поворачивает ее перед зеркалом раз, другой и восклицает:
— А вам идет! Если бы ваш больной увидел вас в таком наряде, он решил бы, что попал на седьмое небо и что перед ним взаправдашний ангелок!..
Сестричка рассмеялась, перекинула через руку мокрые вещи Хильды, заметила в кармане жакета кошелек и письмо без конверта, выложила то и другое на стол и велела Хильде позавтракать и лечь наконец спать — все равно, пока больного отвезут на рентген, наложат гипс да сделают перевязку, пройдет немало времени. Здесь ее никто не потревожит. В это время во всех отделениях немыслимая горячка.
— Утренний час ждет с градусником нас, — пошутила сестричка. На пороге обернулась и строго предупредила: Ну, смотри у меня…
Дверь захлопнулась. По коридору раскатился заливчатый смех.
И под этот смех Хильде почудилось, будто с нее второй раз сняли часть тяжкого груза под названием нерешительность, груза, навалившегося на ее плечи в ту самую минуту, когда бледный пареное принес недобрую весть. Какую-то часть уже сняла новая Лизбет. Хильда почувствовала, как к ней возвращается уверенность, которая уже помогла ей однажды принять решение на черной тропе вдоль колен: она всегда будет помнить о том, до чего смогла наконец додуматься — про вечную зависимость Руди от Леи. Сострадание и смутное чувство вины впредь не увлекут ее. «Я должна быть непреклонной, — сказала она себе, — иначе мука станет еще горше». И однако ж ее но радовало столь твердое решение. Ее мучил и смущал вопрос: почему именно женщины — и новая Лизбет, и сестричка — укрепили ее в принятом решении, хотя обе они по существу вступились за Руди. Как могло получиться, размышляет Хильда, что я, несмотря ни на что, сейчас чувствую себя уверенней, чем прежде? Но и этот вопрос тоже не принес ей радости. Если она до сих пор дожидалась окончательных результатов обследования, то потому лишь, что считала это своим долгом по отношению к родителям Руди. Она сегодня же напишет им, что Руди стал жертвой несчастного случая и что дело могло кончиться плохо, но сейчас, к счастью, жизнь его вне опасности, раз даже врач, прибывший с санитарной машиной, сказал, что, хотя парень весь в переломах, жить он будет. Да, да, она напишет, что дело могло кончиться плохо. Этим она подковырнет фрау Дору: ты, мол, выставила его за дверь, как зачумленного, но, к счастью… Да, да, так и напишет: «к счастью»… Правда, пока она еще не знала, что напишет именно так. Пока она еще стояла среди этой приветливо-строгой комнатки и ломала голову над загадкой: как могло получиться, что сердечное отношение других людей к Руди обернулось у нее бессердечностью? Впрочем, не питая от природы особой склонности к рассуждениям и размышлениям, она скоро оставила загадку в покое.
Непривычная белизна одежки с чужого плеча заставила Хильду еще раз глянуть в зеркало. При этом она обеими руками взбила мокрые, слежавшиеся волосы. Она и полюбовалась на себя в чужом наряде, и устыдилась своего тщеславного любования, и попыталась заглушить чувство стыда тем невинным любопытством, когда человек, любуясь и восхищаясь, вдруг забывает себя, потому что сделал счастливое открытие, все равно, великое или ничтожное. Впрочем, счастливое открытие Хильды было достаточно великим: сохранив по молодости лет резвое девичье тщеславие, Хильда вдруг обнаружила, что, если станет носить этот белый халат по долгу службы, она будет очень даже недурно выглядеть. Счастливое открытие сопровождалось твердым убеждением, что она, Хильда, способна на большее и на лучшее, нежели просто лицевать старую одежонку и вынашивать детей. Свою уверенность она выразила в словах негромких и гневных:
— Так вот, мой дорогой Руди, раз ты до сих пор сам не догадался, — сказала Хильда, адресуясь к своему новому отражению, — изволь запомнить, что я тоже кое-что значу. А если ты со своими треснувшими ребрами сейчас погонишься за мной на край света и будешь ползать передо мной на коленках, ты сделаешь это только ради ребенка, которого я ношу под сердцем. Но мне этого мало, мой дорогой Руди… Я тоже кое-что значу, — и Хильда, облегченно вздохнув, села за стол.
Конечно же, если эта девушка по имени Хильда захочет с полным правом радоваться и гордиться собой, ей понадобится нечто большее, чем «свет мой, зеркальце». Несравненно более четкое и крупное зеркало мира, зеркало вещей и отношений понадобится ей, и сверх того способность постигать разумом вещи и отношения, способность видеть пути счастливых перемен и самоперемен, способность, которую в конечном счете можно смело наззвать истинной свободой, когда она служит на благо человека. Но не только девушке по имени Хильда понадобится эта способность. Не меньше понадобится она и Руди Хагедорну, — тому в данную минуту просветили рентгеном обритую голову, причем его тут же вырвало. Не меньше понадобится она и Лее Фюслер, — та в данную минуту спит тяжелым сном в своем алькове, и на лбу у нее по-прежнему выступает холодный пот. Не меньше понадобится она и Армину Залигеру, — тот в данную минуту находится в Ганновере, тщательно намыливает руки душистым американским мылом и с нетерпением ждет почты, — да, ничуть не меньше, если только он вообще хочет стать человеком. И многим, очень многим миллионам молодых немцев она тоже понадобится не меньше. Да, бог ты мой, разве только молодым? Путь к истинной свободе человека с незапамятных времен был в Германии узкой, огороженной с обеих сторон тропой. Всякий раз, когда народ хотел получше проторить ее, он натыкался на хитроумные препоны, возведенные правящей силой, на барьеры из кафедр и алтарей, на отечественную трясину, расстилавшуюся вокруг королевских и княжеских дворов, вокруг цейхгаузов, на гражданскую честь и верность суррогатных республиканцев, на непроглядный туман тысячелетнего рейха, окутанного ореолом трескучих фраз, на штыки, виселицы и эшафоты и неизменно во все времена натыкался он на хитроумнейшую уловку правящей власти — на свой собственный звериный голод, на «пряник» для так называемых прилежных и на кнут братоубийственной вражды, к которому народ, ослепленный голодом и духом злоречия, прибегает в конце концов, чтобы бичевать самого себя на потеху хитроумным властям. Но если заглянуть в зубы этому раскормленному духу — конь высок, на нем, спесиво развалясь, скачет всадник, власть, — угадаешь древний возраст его, древность страха человеческого. Отнюдь но сильные мира сего выдумали страх, но именно они использовали страх искуснейшим образом, они взлелеяли и вскормили его в тысяче обличий. Немецкие фашисты более других привнесли в воспитание нации методы конного завода, миф страха они скрещивали с идеальным по виду, а на деле варварски кровожадным мифом двадцатого столетия, случали и скрещивали, скрещивали и случали, до тех пор пока апокалиптические — читай империалистические — походы не были наконец полностью обеспечены лошадиным поголовьем и лошадиными мозгами. Но с теми молодыми немцами, которым удалось бежать апокалипсиса, мы возобновляем традицию немецкой демократической школы. Какая бездна надежд…
Таковы вкратце предвосхищенные нами соображения, которых профессор доктор Фюслер как бывший и нынешний директор школы имени Гёте еще только коснется в начале октября, открывая учебный год торжественной речью. Заметим, что Фюслер, как человек, привыкший рано вставать, уже сейчас набрасывает текст своей речи, но пока лишь вчерне, он еще кое-что отшлифует и кое-что обсудит с ван Буденом, и Эльзе Поль еще придется его уговаривать, чтобы он, по меньшей мере в скобках, назвал апокалиптические походы империалистическими.
Итак, Хильда со вздохом облегчения села за приветливо-строгий квадратный стол, налила из вместительного кофейника чашку горького солодового кофе, нехотя съела гренок и послушно легла бы спать, не окажись искушение прочесть то самое письмо без конверта сильнее, чем вновь обретенная твердость. Это письмо без конверта — три сложенных, густо исписанных листка выпали вместе с бумажником из кармана кожаной куртки, когда в доме стрелочника Руди перекладывали на носилки санитарной машины. Хильда подняла упавшее, узнала почерк Руди, уже при беглом взгляде ее кольнуло слово «Лея», и она тут же почувствовала сильнейшее искушение прочесть письмо. В конце концов, разве она не имеет права — она считала, что это черновик письма к Лее, — сунуть его себе в карман? Разве Руди не обещал еще раньше дать ей прочесть это, так долго им вынашиваемое, письмо? Но каждая страница, через которую Хильда пробиралась с большим трудом, так как чернила расползлись от сырости, была перечеркнута крест-накрест, словно письмо уже было отменено и ничего больше не значило. Хильда читала, наморщив лоб; чтобы лучше видеть, отодвинула в сторону вместительный кофейник и букет лиловых астр. Вот какое признание, утаенное даже от Леи, содержало это письмо:
«Я взываю к Вам, Лея, как Иаков к ангелу господню: не отпущу тебя, пока не благословишь меня. Я взываю к Нам с предельно возможной на земле искренностью и потому не могу знать, какого приговора заслуживаю я и та история, что разыгралась между нами. Сейчас, когда я с превеликим трудом выжимаю из себя строки этого письма, я в муках постигаю или, вернее, полупостигаю свое состояние, которое могло бы свести с ума всякого другого человека, не столь флегматичного. Я подыскиваю нужное слово, чтобы обозначить это состояние, и не нахожу. Возможно, его когда-нибудь и подыщут, но оно непременно должно быть словом немецкого языка. Ибо — льщу себя надеждой — другим народам чуждо это унизительное состояние. Лучше уж вместо недостающего слова опишу вам само состояние, покамест лишь полупостигнутое — да, да, всего лишь полупостигнутое. Итак, слушайте: я говорю и мыслю на двух немецких языках, связанных между собой только общей грамматикой да значительной частью словаря. Один из них — это изувеченный язык нацистов, язык ландскнехтов, язык единого и неделимого рейха, другой — по-прежнему прекрасный язык, которому научила меня старая немецкая литература, научил доктор Фюслер и, конечно же, моя мать. Мне хотелось бы — и не без оснований — назвать его «старонемецким» языком. Как видите, пока здесь нет ничего необычного. В нашей стране такое состояние характерно нынче для множества людей. Что до меня, то я на собственном примере убедился, сколь неистребимо въелся в меня язык нацистов, до того неистребимо, что «старонемецкий» иногда представляется мне мертвым языком, и потому я, будучи правоверным филологом, прибегаю к нему лишь ради хитроумных языковых вывертов, и потому все, что я пишу Вам, кажется мне донельзя старомодным, и потому я едва ли способен теперь к предельной искренности, ибо милый и прекрасный язык, на котором единственно и может быть выражена искренность, вызывает у меня горькую усмешку. Если я захотел бы поведать Хильде о прежнем Гиперионе, о вас, нашей «Вселенной», — а я искренне хочу этого, — я не смог бы обойтись без «старонемецкого», без языка, который один дает ход делу и не только делу. Предположим даже, что девушка, подобная Хильде, либо благоговейно выслушает меня, либо столь же благоговейно заснет на середине рассказа. Во всяком случае, она примет в расчет мое несколько более высокое образование и скажет в конце: «У тебя язык заплетается, словно ты горячую картошку во рту держишь…» И тогда я почувствую себя, как бы пораженным немотой и вместе с «новонемецким» языком, которым я не овладел, утрачу поистине счастливые отношения с этой милой девушкой. Но, конечно же, она громко высмеяла бы меня, если бы я сунулся рассказывать ей что-нибудь подобное.
Продолжая разговор о том, что касается Вас и меня, я не могу умолчать об убожестве, еще более тягостном, нежели непередаваемая словами немота языка и мысли, которую уподоблю летнему утру без росы на цветах: я подразумеваю полнейшую утрату способности к более высоким речам и мыслям, унизительное, собачье вилянье перед сапогом, который уже пинал нас и намерен пинать впредь. Поскольку вам трудно понять без пояснений страшную сущность этой утраты, приведу вам одни эпизод из моей «героической» жизни: по прохождении курса начальной боевой подготовки я за оскорбление действием начальника был предан военному трибуналу. Уже находясь в маршевом батальоне, я без свидетелей и вне стен казармы обозвал живодером одного унтер-офицера, который так же люто ненавидел меня, как и я его, а кроме того, — поскольку он был пьян и тотчас схватился за оружие — сбил его с ног ударом кулака. Суд состоялся в Везеле-на-Рейне. Он занял не более пятнадцати минут. И какую же лихую выправку продемонстрировал перед судьями ваш покорный слуга — доброволец и восторженный приверженец национал-социализма, как глубоко, как искренне раскаивался он в попытке подорвать мощь немецкого вермахта! Словом, меня помиловали. Я отделался чрезвычайно мягким дисциплинарным взысканием — шесть недель строгого ареста. Один юнкер, обвинявшийся в подобном проступке и подвергшийся еще более мягкому наказанию, выйдя из здания суда, бросился под первый же трамвай. А я отсидел все шесть недель секунда в секунду на хлебе и воде, только раз в три дня мне давали миску горячего супа; сидел я в одиночной камере военной тюрьмы, в Дюссельдорф-Дерендорфе. На исходе второй недели я попросил для чтения… нет, не библию, а «Майн Кампф» (двумя этими книгами выбор и ограничивался). В «Майи Кампф» я и прочитал об извечных походах германцев, которые отныне будут направлены не на юг и не на юго-восток, а прямиком на восток. И о евреях, составляющих-де наше национальное бедствие, прочел я в этой книге. И все заново подверг сомнению, чтобы тем глубже уверовать заново.
Мы не ходили гуськом по кругу, а маршировали в строю. А как лихо я печатал строевой шаг по команде «Ша-агом марш!», сил нет, как лихо! Как громко и покаянно горланил я вместе с остальными по команде «За-апе-вай!»: «Бог, что сидит в небесах — эх любит верность и юных солдат!» и другую: «Знамя осеняет молодую нацию, павшие герои шагают впереди, и следят за нами доблестные предки…» Перед зарешеченными окнами тюремной пекарни отдавалась команда «стой!», чтобы колонна могла насладиться запахом свежей солдатской черняшки. Голодны мы были, как волки. Называлось это «привал в малом аду». После чего я снова ревел в общем хоре: «Германия, отечество, мы готовы в бой…» Один раз, один-единственный раз настала такая минута, когда я швырнул на пол библию гитлеризма и начал топтать ее ногами. А все потому, что за окном была весна, весна сорокового года. И я вспомнил Вас, Лея, Вас и Ваше появление в мастерской, где я работал, и суд духов, и горькие часы, которые я провел после суда у себя в каморке. Чем, по сути дела, отличалась та крохотная каморка под старым каштаном на улице Вашлейта от зарешеченной камеры-одиночки? Разве все мы, начиная с тридцать третьего, не жили в исправительной колонии? В тот единственный раз я хотел докопаться до правды, по крайней мере, до правды о себе самом. Может быть, я и докопался до нее. Я старался как мог, чтобы на «старонемецком» записать эту родившуюся из сопоставления «вчера» и «сегодня» правду огрызком карандаша на клочке бумаги. Может быть, у меня получились стихи. Но это не стихи, ибо с точки зрения «старонемецкого» их нельзя назвать иначе, как глумлением над поэзией. Я передаю вам написанное без поправок, в свободной «камерной» форме тысяча девятьсот сорокового года: «Посвящается Лее… За крестом оконного переплета встает передо мной твое милое, истерзанное лицо. Рот мой, израненный осколками кирпича, исторгает слова надежды— он исторгает крик: «Я сберегу тебя…» Старик-каштан стоит перед моим окном, мой старый верный пес завыл опять: свиньи распяли в лесу дубовом мальчика-подпаска. А пастухи беседуют спокойно… На кресте окна висит моя распятая рожа. О нет, то не распятое лицо. Мой рот, рассеченный крестом окопной решетки, способен лишь ублюдков порождать, кричать способен: я за себя боюсь…»
Но не подумайте, что следствием этого было просветление или очищение. Ничуть не бывало — уже на утро я орал во всю глотку: «Германия, отечество, мы готовы в бой…» А еще через день я опять читал об извечных походах германцев. Когда я отсидел свой срок в этой дыре — незадолго до нападения на Францию, — мне дали трехдневный отпуск. Написанное было у меня при себе, но я был не прочь от него избавиться. Дома, в своей каморке, я заложил его между листами школьного издания «Гипериона» — и в этом столь мало немецком хранилище древненемецкого духа я сочетал свои записи с тем местом, которое гласит:
…Ведь человек — это бог, лишь только он стал человеком. И если он бог, он прекрасен.Да, вот что я еще хотел сказать: только сейчас, собравшись писать Вам, я случайно наткнулся на эти наброски. Оказывается, я начисто все забыл…»
На этом слове строка обрывалась немыслимой закорючкой, чернильной петлей, которая переходила в целую строку непонятных значков — сплошь вертикальные палочки, раздвоенные книзу, точно могильные руны — пропись древненемецкой старины.
Глава семнадцатая
Хильда отодвинула письмо в сторону, откинулась на спинку стула. Вот оно, перед ней, черным по белому — объяснение и скрытое под объяснением ты-меня-не-пони-маешь… Ты не понимаешь меня. В стекле вазы с лиловыми астрами дробились и множились картины; искаженные временем, искаженные расстоянием, они вздувались и лопались, как мыльные пузыри, двойные, тройные. Ей мучительно недоставало сейчас прохладного полотенца, смоченного в уксусе. Три вывода из письма боролись и мешались в ее мыслях. То, что даже от профессорской дочки Руди не ожидал своего ты-меня-понимаешъ, наполняло ее удовлетворением. То, что он назвал ее, Хильду, «милой девушкой», оскорбляло ее. Так позволительно говорить только старикам. И, наконец, то, что он подкрепил скудоумие, заложенное в этом письме, словами «способен лишь ублюдков порождать», наполняло ее смятением, внушало отвращение к нему и к себе самой…
Я еще раньше, когда мы жили на чердаке, поняла, что он таскает за собой какой-то хвост. Как он рявкнул, когда у меня не растапливалась печь, прямо как зверь какой-нибудь. А и рявкать-то было не с чего… И утром набросился на меня словно бешеный. Я уж думала — вот оно блаженство, вот оно счастье, вот она любовь… Кажется, ото было в воскресенье, утром… Как это сказала мама, когда мне стукнуло восемнадцать? «Лучше троих на шее, чем одного на совести. Блюди себя» — вот как она сказала. «А что понесешь в любви, то и выноси с любовью. И все будет хорошо…» Не будет хорошо, ничего не будет, все обернулось несчастьем, несчастье гнездится во мне, хочет расти, пускать корни глубже, порождать ублюдков, как написал Руди. Несчастье притаилось за каждым углом, сочится из каждого колодца… Посмотри на развалины за лиловым букетом астр, повсюду развалины, одни развалины… Мать погибла во время бомбежки… Дом сгорел, все сгорело… Поди домой…
Хильда вскочила. Четкий квадрат стола перекашивается перед ее глазами, дружелюбное зеркальце туманится от веселого смеха сестрички, кружится пол — чертово колесо, с которого один за другим срываются разные предметы, лишь шкаф из металла и стекла остается на месте, кружась медленно и величаво в центре колеса. Шкаф заперт, но его можно открыть, в нем торчит ключ. Открой теремок, — сказал ей Руди в то воскресное утро… Я пришел к тебе, мой свет, только ключика-то нет… Он и обманывает-то на старонемецком. Ключ торчит. Хинин гидрохлорикум — вот как называется «ключик» по-латыни, взять его и повесить ребенку на шею, чтобы он мог открыть дверь и вовремя бежать от праха и несчастья… А если он и меня прихватит с собой, что с того? Право же, что с того? Я тоже кое-что значу: сирота… жалкий червячок…
Она берет стеклянную трубочку… Трубочка уже наполовину пуста… она высыпает в чашку все, сколько есть, наливает кофе из вместительного кофейника и залпом выпивает нестерпимую горечь. Прежде чем лечь, она снимает с себя белый халат и вешает его на плечики… Я тоже кое-что значу. Серое одеяло мне больше к лицу. А того лучше — жесткая грязно-зеленая плащ-палатка.
Руди отвезли на рентген, перевязали и уложили в постель. В бурливом тумане бреда он видел, как величественно плывут иад горой облака, как поднимается дымок над домиком Анны, видел рядом дерево, обгорелую сливу, покрытую буйным красным цветом, видел, как Хильда, сложив ковшиком ладони, хочет поймать струйку воды, слышал, как звенит ее голос, заглушая говорок иорн, различимый в журчании струи: «Вам надо помыться…» И в счастливом забытье понял: «вам» — значит, тебе и ребенку, потому что оба вы еще покрыты кровью и слизью. Чудилось ему, будто должна прийти его мать и окрестить дитя в водоеме и еще должны прийти кумовья — Урсула, и Фюслер, и еще Лея — и организовать музыку для крестин, смычковую, щипковую, органную, гитарную музыку для крестин, громкую, отчаянно-веселую, чтобы прекратился вечный бег облаков над горой и чтобы та, одна-единственная секунда была вот сейчас, именно сейчас.
Сестричка вернулась очень довольная — с сухими вещами и добрыми вестями. «Какая милая девушка, — подумала Инесс-сестричка, — послушная: поела, попила и легла спать. Поела и попила…» И тут же увидела пустую стеклянную трубочку на столе, мучнистый осадок в чашке, письмо, строку, испещренную могильными рунами, услышала короткое, прерывистое дыхание. Сухне вещи упали на стул, Инесс начала трясти спящую.
— Ты что наделала?
Трясти приходилось грубо, кричать приходилось громко:
— Эй, ты, что ты наделала?!
Эх, сестричка, сестричка, где тебе это понять…
— Ты сколько приняла? А ну, отвечай!..
Хильда снова погружается в забытье.
— Оставь меня, я хочу спать, там и половины пс было…
— Вот так удружила! Спятила ты, что ли? Да и я хо роша — не вынула ключ! А ну, вставай, кому говорю! Вставай, надо встать…
Она обвила рукой шею Хильды, подняла ее, испугавшись еще сильней при мысли, что в шкафу могли находиться более страшные яды. Слава богу, среди снотворных лежит непочатая пачка веронала. Если бы эта особа наглоталась веронала… «Как хорошо, что сестричка протягивает ко мне руки, что я чувствую прикосновение ее щеки, хотя она совсем мне чужая…»
— А сейчас ты будешь глотать кишку, сумасшедшая девчонка. Да не висни ты так на мне, вставай. Ну как же тебя угораздило, здоровья-то у тебя на двоих хватит!
Неужели сестричка плачет?..
Вдруг Хильда выпрямляется сама, без помощи, и говорит жалобно:
— Я не хотела причинять вам беспокойство. Я думала, это не так скоро подействует…
— Молчи, сумасшедшая, пойдем глотать кишку, и поживей, не то я потащу тебя за космы.
«Милая девушка» весьма нетвердо держалась на ногах, когда сестричка надевала на нее черную юбку и черный пуловер. Затем сестричка поспешно сунула ключик в карман, ключ от теремка, от железного, от стеклянного, и сказала мимоходом встреченному в коридоре белому халату:
— Опять та же история: наелась какой-то дряни, должно быть, муки с примесями.
Когда пытка кончилась и Хильда снова легла на жесткую кушетку, Инесс сказала, что дня два надо все-таки понаблюдать за ходом «болезни». В палатах навряд ли сыщется свободное место. Но можно все устроить иначе: понаблюдать за Хильдой возьмется и отец Инесс, он практикующий врач, а Инесс вместе с мужем и сыном живут у него. Хильда, измученная нравственной пыткой еще больше, чем физической, сказала, что она и так причинила слишком много беспокойства, что у нее достанет сил ехать дальше, что она уже во всем раскаивается и что, не увяжись она за пострадавшим, ничего бы не произошло…
— Поверьте, сестричка, я вовсе не собиралась устраивать ничего подобного. Это навалилось на меня как… ну как усталость в знойный день, что ли. Мне не следовало поддаваться любопытству, не следовало читать письмо, которое вовсе не мне адресовано…
Но теперь уже все позади, и большое, большое спасибо, но только она хочет уйти и не желает даже перед уходом навестить своего «больного». Все это Хильда говорила так, словно еще и еще раз извинялась за беспокойство. Но молоденькая сестра достаточно знала людей, чтобы понять, что все это лишь попытка «милой девушки» расставить ширму стыдливости и спрятать за ней свое горе.
— Скажи хоть, как тебя зовут, сумасшедшее ты существо? — спрашивает сестричка, присаживаясь на кушетку в ногах у Хильды, — Хильдой? Брось, какая из теб:! Хильда? Такое имя подобает носить закованной в броню валькирии… — Инесс вскакивает, становится в позицию, словно держит щит перед могучей грудью и потрясает копьем: — Вот как должна выглядеть настоящая Хильда, а тебя в ту пору, когда всех германцев окунали в источник, чтоб они обросли дубленой кожей, сверху донизу покрыл липовый листок. Да что ты сидишь сама не своя! Мпе тоже не подходит мое имя. Меня зовут Инесс, целомудренная. А я уже оттрубила двадцать одну весну с половиной, сынишке пошел четвертый, и это меня ничуть не печалит…
— А какой у тебя муж? — расхрабрилась Хильда.
— У моего мужа — у хвастунишки Бретшнейдера — есть один большой недостаток: чем бы он ни похвалился, он всегда сдержит слово. Захотел на мне жениться — сдержал слово, да еще как сдержал. Захотел вернуться с войны целым и невредимым — сдержал. В сорок третьем он, так сказать, невольно-добровольно сдался в плен, это его старый Бретшнейдер настропалил, папаша. И — ты только подумай! — он даже сдержал свое слово хранить мне верность. Ты только подумай! Ей-богу, я того не стою. — Тут Инесс рассмеялась так звонко, как смеялась тогда в коридоре. И продолжала стрекотать с видимым удовольствием: — Он еще, того и гляди, сдержит слово и поладит с моим отцом. Мой дорогой старичок терпеть не может мундиры, а мой дорогой Гансик служит в Народной полиции и обязан по долгу службы препоясывать чресла, как он выражается. Вчера он заявил мпе, что наступает время, когда даже бедняк сможет на любом углу купить вволю горячих сосисок с булочкой. Вот какой он у меня фантазер, мой Гансик, — Инесс придвинулась ближе и погрозила пальчиком. — Но упаси тебя бог стрелять в него голубыми глазками, когда ты будешь у нас. Предупреждаю: мой хвастунишка Бретшнейдер может быть и дамским угодником… — Приставив ко рту ладошку, Инесс нагнулась к Хильде и таинственно зашептала: — Видишь ли, он у меня очень чувствительный… — Хильда даже улыбнулась слегка, но вымученно, ах до чего же вымученно, как маленькая девочка, когда у нее болят зубы, а старшая сестра вертится перед ней, и так, и эдак лишь бы отогнать боль. — Значит, решено, — сказала Инесс, — ты переберешься к нам, отец тебя еще разок осмотрит, а потом я откажу тебе все добро, которое мне уже не годится: платьишко трехлетней давности — мне оно широко, а тебе будет в самый раз, и звание трехлетней давности — мне оно не подходит, а тебе… Ну так как, сестричка?..
Хильда покачала головой:
— Нет, Инесс, я понимаю, что ты хочешь мне добра, но…
Тут раздался стук в дверь, и в комнату вошел еще один белый халат, тот самый, которому Инесс сочинила историю о муке с примесью. Это был человек лет сорока. Хильде он показался вылитым опереточным тенором. Высокий, стройный, элегантный, красивые черные волосы рассыпались в художественном беспорядке. И в лице тоже какая-то смесь беспорядочности, дряхлости и гениальности. Лицо было худое и вместе с тем казалось обрюзгшим, одутловатым, несмотря на прямой нос с красиво очерченными ноздрями. Пепельная бледность кожи придавала блестящим карим глазам колючее выражение. При виде этого человека Хильду охватило смешанное чувство собственного ничтожества, сожаления, растерянности, которая граничила с испугом. Даже в речи его была та же беспорядочность, опустошенность, колючесть.
— Уважаемая фрейлейн, я принес вам отличный подарок, — сказал этот человек, обращаясь к Хильде, — снимок головы вашего возлюбленного, вернее, самого важного, что в ней есть, — снимок костей. Вы только поглядите, уважаемая фрейлейн… — в руках у него два рентгеновских снимка. Он подходит к окну и рассматривает на свет первый снимок — фасный.
— Перед вами классическая форма головы — яйцевидная — ovis, яйцо с тупого конца, — поучает он. — Человеческая красота неизменна ab ovo. Скажите, сестра, можете ли вы обнаружить какой-нибудь дефект в этой черепной коробке, какую-нибудь трещинку, а?
Инесс отвечает с неожиданной резкостью:
— Я бы попросила вас, доктор Кольберт, в порядке исключения рассчитывать на нормальное человеческое восприятие. — И добавляет с профессиональной уверенностью, что в черепной коробке повреждений нет. Доктор опустил руку со снимком и, словно устыдясь, начал бормотать какие-то извинения. Потом он взял со стола второй снимок и тут заметил письмо, которое лежало все там же, где его оставила Хильда. Он вгляделся попристальнее и ткнул пальцем в строчку отвесных, раздвоенных книзу палочек, — могильные руны, частокол старонемецкой тоски, то, чем Руди завершил крик своей душни отделив его от естественного «поймешъ-ли-ты-меня».
— Ага, — сказал этот человек, — я опять угадал, — и он посмотрел на свет второй снимок — профильный. — А вот классическая форма асимметричной груши. Все человеческие пропорции предвосхищены природой. Венец творения лишь бессовестно компрометирует природу. Какой позор… — Он заметил предостерегающий взгляд Инесс, оборвал на полуслове.
— А теперь, любезные дамы, видите ли вы трещинку между скуловой костью и теменной? — задал он вопрос и тут же сам на него ответил: — Вам так же трудно увидеть здесь трещину от удара чем-то тупым или чем-то острым, как мне трудно не увидеть ее. — И, подняв на свет оба снимка, сказал: — Зато вы так же, как и я, способны увидеть здесь классическое строение черепа первобытного быка — бизона среднеевропейского, это чистопородный скот, он живет и здравствует, он…
— Доктор Кольберт! Постарайтесь вести себя прилично.
Но Кольберт вел себя именно так, как предписывала ему его внешность. Скороговоркой, выпуская давно накипевшую злость, он проповедовал дальше:
— …он живет и здравствует, он жрет, он размножается и сам себя изничтожает в цивилизованных странах, как при наличии культурной среды, так и без оной. Его признаки можно отыскать у каждой расы, во всевозможнейших проявлениях, он несокрушим в своей царственной тупости…
— Еще одно слово, доктор, и я выставлю вас за дверь, — не выдержала Инесс.
Хильда решительно не могла понять, как это Инесс позволяет себе так разговаривать с врачом и почему он вздрогнул от ее окрика и снова пробормотал какое-то извинение. Она подумала, что, должно быть, этот человек заливает вином тяжкое горе, ио его смирение казалось ей необъяснимым. Пропойцы, которых она знала на своем веку, были лпбо бешено вспыльчивыми, либо холодными садистами. Вот, к примеру, Хеншке-Тяжелая Рука или гестаповец в кожаном пальто, тот, что, удобно развалясь на стуле, смотрел, как избивают Лизбет. От него несло сивухой на всю комнату. А от доктора пахнет зубной настой, мужским одеколоном, лекарствами, и он совсем не кажется таким пропащим, хотя он и несправедлив к Руди, конечно же, несправедлив, раз сравнивает Руди со скотом. После бурного монолога и пристыженных извинений доктор вдруг сказал вполне деловым тоном, что теменная кость пострадавшего рассечена — повреждение, типичное для удара резиновой дубинкой, но по характеру рапы, а также на основе имеющихся данных невозможно установить, откуда она взялась, об этом умалчивает и сам герой. Память у него в настоящее время работает с точностью смесителя. Самое недавнее прошлое вращается где-то но периферии гаснущего сознания.
— Насколько я мог уразуметь, — врач зажимает рентгеновские снимки под мышкой, — в центре его мозговой деятельности возрастает некое деревце. Кроме того, он безумно рад, что кто-то сидит под этим деревцем, — доктор высоко поднимает темные брови и окидывает Хильду пристальным взглядом, — и что его деревце шумит и шелестит, размягчая кору головного мозга…
— Доктор Кольберт!
— Ведь не святой же Губерт выстрелил в него вишневой косточкой. Все может быть. Все, даже самое невероятное. Даже то, что внутри у бизона среднеевропейского помещается некий предмет, который мы назовем предположительно anima liominis, другими словами, душонка… — Снова взлетели кверху темные брови и взгляд блестящих глаз кольнул Хильду: — А вы, уважаемая фрейлейн, что себе позволяете? — Он еще раз достал оба снимка и ткнул пальцем в томное, похожее на желток вещество мозга под светлой черепной коробкой. — Как все оно там выглядит ото, пожалуй, не наше дело, верно ведь? — и, опережая выговор Инесс, добавил: — Сердечный привет супругу. Я бы посоветовал ему заняться этой раной в служебном порядке. Надо выяснить причину, но так ли? Причину, причину, треклятую причину…
— И это врач? — спросила Хильда, когда за ним закрылась дверь.
— Редких способностей, — ответила Инесс, — сумасшедших способностей. А вот что его погубило, вот в чем причина: он потерял в бомбежку жену и детей — сгорели. Война, война. Сегодня на него опять нашло. Как-то раз в ночное дежурство я видела своими глазами, что он на четвереньках залез под стол и визжал там, словно собака, лишь бы ему сделали укол, который… — Инесс испуганно осеклась, проклиная свой длинный язык, и начала умолять Хильду: — Забудь, что я тебе говорила, забудь. — Увидела, как судорожно глотнула Хильда, и постаралась ее успокоить.
— Я знаю женщину, с которой он близок сейчас, она медицинская сестра, примерно наших лет. По утрам она его силком выгоняет на работу и изматывает его своей любовью. Медицина не знает более действенных средств, чем эти два: работа и любовь… — Инесс приложила ладонь ко лбу Хильды, — Вот доберемся домой, подумаем, какие средства подойдут для твоего больного и чем больна ты, сестричка…
Хильда не сдавалась:
— Ах, Инесс, если бы ты прочла это письмо, может быть, кто знает, может быть, ты хоть немножко поняла бы меня…
— Значит, я должна заглянуть в душу твоему бизону, — со смехом вздохнула Инесс.
Дежурство Инесс кончалось сразу после обеда. Хильда села вместе с ней в дребезжащее такси, и они поехали домой. Она все-таки глянула перед уходом на Руди, но увидела только марлевый кокой на голове, перевязанное плечо, широкий нос, чуть приоткрытый рот, мисочку для мокроты, приставленную к подбородку, несколько веснушек на щеках — сейчас на бескровной коже они казались темными, как родинки. Она вспомнила детскую мудрость бледного паренька, но сочла себя более разумной.
Инесс ввела ее в большой старинный дом с массивным эркером. Дом стоял на широкой улице, почти не пострадавшей от войны, аллея густых акаций надвое рассекала ее. В этом большом старинном доме царила строгая тишина. Стены вестибюля и просторной лестничной клетки были почти до высоты человеческого роста выложены темно-зеленым кафелем. На втором этаже Инесс сказала: «Вот мы и пришли!» и ключом открыла дверь. Хильда успела заметить на дверях овальную фарфоровую табличку, извещавшую, что здесь проживает практикующий врач, доктор медицины Фридрих фон Глессин, а приколотая чуть пониже табличка сообщала, что здесь же проживает Ганс Бретишейдер. В этом тихом старинном доме Хильде стыдно стало за свой сшитый из одеяла рюкзак — его тащила на спине Инесс. Вытирая ноги о проволочный коврик с выложенной из белых шариков надписью «милости просим», она подумала, что вообще-то лучше всего повернуться и уйти.
Добрых три дня провела Хильда в этом старом тихом доме, где пульс жизни бился не менее сильно, а у людей было не больше времени и умения жить и умирать, чем под любым кровом из тех, что принято именовать мирными. Добрых три дня, или вернее, три добрых дня гостила Хильда. И когда на четвертый день Хильда распростилась, наконец, с гостеприимными хозяевами, она и на самом деле была — как это говорится — в счастливом ожидании. А сейчас ничто не могло быть для нее важнее.
— Укреплять жизнь, милое дитя, — так сказал ей доктор Глессин. — значит, уже в материнском чреве разумно питать ее живительными соками. Опыт учит, что духовная сила и спокойствие матери — результат человеческой разумности, но менее благотворны для вынашиваемого плода, чем богатая витаминами пища и прогулки на свежем воздухе. Нет, нет, пока еще плоду ничто не повредило. Но если вы, дорогое мое дитя, не найдете в себе силы и спокойствия, не найдете в себе собранности и радости для встречи новой жизни, то есть самой прекрасной, самой естественной из всех человеческих радостей, — это может рано или поздно повредить ребенку. Впрочем, на что дана нам воля и разум, как не на то, чтобы жить разумно?.. — Закончив беседу с Хильдой, доктор провел ее через «вечно переполненную» приемную прямо на кухню, где Инесс как раз бранила маленького Петера, — ах ты, черномазый, ах ты, замарашка, — и «чистила его с песочком».
— В саду, наверно, поспела бузина, — сказал доктор, — значит, на ужин можно бы сварить фруктовый суп.
Хильда попросила, чтоб ей позволили хоть немного пособить на кухне пли постирать, или, наконец, сшить что-нибудь.
— Делай что хочешь, если у тебя руки чешутся, — сказала ей Инесс точно таким же тоном, каким отчитывала маленького Петера. Но прежде всего пусть «беспокойная гостья» напишет родителям своего подопечного, чтобы ее письмо пришло раньше официального извещения. Люди пугаются при виде официальных извещений.
С этой целью Хильду препроводили в глессиновские апартаменты. Здесь все, вернее, почти все, было выдержано в глессиновском духе. Комната Бретшнейдеров выглядела иначе — светлей, просторней. Правда, она служила одновременно и спальней для супругов, а в настоящий момент туда еще поместили маленького Петера «играть и быть послушным мальчиком». У Глессина же вещи производили впечатление такое же тихое, старинное и значительное, как и весь дом — тяжелая мебель резного дуба, лампа под шелковым абажуром, бронзово-желтые обои, ложный камин, окантованные фотографии на каминной доске, черное пианино с подсвечниками, закапанными воском, письменный стол с вольтеровским креслом и мраморным чернильным прибором, с телефоном и оскаленным черепом, застекленная полка с книгами, среди которых Толстой. Ромен Роллан, Штифтер; и в довершение ковер, заглушающий шаги. Лишь две большие картины придавали этой комнате и этому пасмурному дню яркие краски. Над камином висел Каналетто, копия, но такая хорошая, что казалось солнце на картине озаряет живым светом старинную Дворцовую площадь Дрездена. На противоположной стене — репродукция менцелевского «Железопрокатного завода», в простой самодельной раме, подарок зятя, единственный неглессиновский предмет во всей комнате. Да и то, будь жива фрау фон Глессин, она не допустила бы даже таких поблажек. И не позволила бы по причине каких-то там уплотнений низводить эту комнату, кабинет самого хозяина, до уровня общей комнаты. В жизни своей Хильда еще не сидела за таким столом и в таком кресло. От этого и письмо, которое предстояло написать, вдруг показалось ей чрезвычайно важным, и она добрых пятнадцать минут потела над тремя строчками, хотя два слова текста — «к счастью» — были ей известны заранее. Инесс засмеялась, увидев произведение Хильды и великую ее растерянность. А почерк у этой девочки совершенно как у школьницы.
— Ох, и дуры же мы с тобой! — сказала Инесс. — Ну зачем ты пишешь, когда можно позвонить? Есть же там у кого-нибудь по соседству телефон — у пекаря, у мясника, у любого частного лица из соседей.
Хильда тотчас смекнула: рейффенбергскнй бургомистр, вот кто. Насмешка Инесс, что, конечно, лицо более частное трудно было сыскать, не смутила ее.
— Понимаешь, — сказала Хильда, — по-моему, бургомистр будет только рад, если ему представится случай, после того, как он послал Хагедорнам повестку о выселении, оказать им любезность. И вообще он в долгу перед матерью Руди и передо мной за одну услугу.
Вот как получилось, что Хильда второй раз за сутки говорила с Эрнстом Ротлуфом, и на сей раз «переселенка» не показалась ему грубоватой. Напротив, она держалась так решительно и так толково обо всем рассказала… Впрочем, может, это синий шевиотовый костюм, надетый впервые за двенадцать лет, сделал Ротлуфа более снисходительным. Как бы то ни было, Ротлуф пожелал Руди скорейшего выздоровления и благополучного возвращения домой и обещал подробно известить обо всем «Дору и Пауля»: «…Конечно же, в подобающей форме, за кого вы меня принимаете!..» Было бы несправедливым умолчать, что Хильда, согласись позвонить Ротлуфу, действовала не без задней мысли. И в результате ее невинной хитрости фрау Дора в тот же день произнесла слова о «горе, которая идет к Магомету», а Пауль Хагедорн в тот же день не мог удержаться от восклицания: «Вот тебе и на — пирог прямо в рот катится».
Когда Хильда положила трубку, торжественная изысканность обстановки уже не так подавляла ее. Любое средство хорошо, если оно служит добрым целям и хоть немножко увеличивает меру добра, как, например, ее невинная хитрость. Даже череп на письменном столе, череп, который Инесс называла проклятым пылесобирателем, выглядел теперь приветливей. Просто надо помнить, что под этой костяной чашей в те времена, когда она была невредима и полна жизни, тоже тянулись к небу деревья, взрастали, шелестели листвой, если на них налетал ветер… Не меняется только одно, мой дорогой Руди: «да» или «пет», никаких уверток, никаких Лей, никаких Залигеров, никаких отсрочек, никаких скидок, «да» или «нет». И так до конца наших дней, покуда не погаснет небо под этой хрупкой чашей…
Хильда спустилась в сад с маленьким Нетером — набрать бузины к ужину. Лишь редкие ягоды висели на кустах вдоль забора.
— Все ребята сперли, — сказал малыш.
Хильда сделала ему замечание, потом рассказала, что в горах, где много деревьев и высокие скалы, бузина еще не поспела, что в горах эти ягоды называют пусторыл и что, если отварить их с сахаром и съесть, у человека станет больше крови и больше силы. А про себя Хильда тем временем думает: у нас в Рашбахе за школой тоже будет расти пусторыл, гуще, чем здесь, куда гуще. И маленький Рейнхард будет точно так же, как Петер, поднимать вверх корзинку и просить, чтобы ему позволили самому рвать ягоды.
— Петер, Петер, карапуз, хочешь, на руки возьму? Да или нет?.. Да или нет?..
После дневных трудов, а точнее говоря, после ужина, доктор Глессин, если не случалось вызова к больному или к роженице, требовал от своих домочадцев беспрекословного подчинения «снисходительному деспотизму домашнего уюта». Стол в кабинете Глессина и стулья с негнущимися спинками отодвигались в сторонку, перед ложным камином выстраивалась более удобная мебель для сиденья: покойное дедовское кресло из спальни доктора, банкетки, которые Бретшнейдер собственноручно смастерил для семейного гнездышка, а Инесс собственноручно снабдила мягкой обивкой, и, когда гостей ожидалось много, — гарнитур тяжелых кожаных кресел, которые по причине уплотнения перекочевали в приемную доктора (узнай об этом фрау фон Глессин, она перевернулась бы в гробу). Сегодня принимали одного-единственного гостя — Хильду, хотя еще вчера никто в этом доме не был с ней знаком. Но, помимо большого великодушия и человеколюбия, Инесс была еще наделена, как и всякая женщина, невинной женской хитростью: сестричке лучше отсидеться здесь, чем в больнице, — смекнула она. Подержать ее несколько дней могли бы, конечно, и там. По вдруг кто-нибудь опять забудет спрятать ключ…
Хильду торжественно усадили в вольтеровское кресло, и, хотя это была далеко не самая удобная мебель, она, избавившись от смущения, поняла, какая ей оказана честь. Обретенная уверенность но многом объяснялась присутствием Бретшнейдера, к которому она с первой минуты, вернее уже после рассказов Инесс, почувствовала полнейшее доверие. Бретшнендер, подчиняясь снисходительному деспотизму доктора Глессина, явился в форменных брюках, домашних туфлях и вязаном жилете, придвинул Хильде кресло и с улыбкой сказал:
— Не соблаговолит ли девушка из замка…
Должно быть, он назвал ее так потому, что из окна был виден стоящий высоко на порфировой глыбе замок, если не весь, то по крайней мере его толстая башня и высокие крылья с множеством маленьких окошечек в массивных стенах, кое-где уже освещенных. Быть может, там, за маленькими окошками в массивной стене, новые обитатели замка, большей частью переселенцы, тоже садятся сейчас в кружок для задушевной беседы на непривычную для них мебель. Быть может, за этими окошками женщины стирают единственную смену белья. А за этим темным пока окошком, быть может, какая-нибудь пара приумножает величайшее достояние страны в радостной уверенности, что подарит миру не доброго князька, а обычного гражданина. Быть может, кто-нибудь за освещенными окошками свертывает сейчас сигары из дешевого табака. Некоторые переселенцы устроились здесь по специальности: днем ходят на табачную фабрику, а вечером подрабатывают дома, но уже без помощи машин — и все для обмена, для обмена. Быть может, там играют в скат, в тарок или в очко. Недаром же в этом городишке колода карт — по знакомству, конечно, — стоит дешевле, чем где бы то ни было. Род козырных валетов оказался на поверку куда долговечнее и чем приверженцы дам и королей, и чем республиканцы и даже чем Му и Зау[52] — короли саксонский и тюрингский тысячелетнего рейха. А новые «девушки из замка», как выразился Бретшнейдер, который и открыл этим замечанием традиционную «беседу» (он произносил «безеда») у саксонско-тюрингско-глессиновского камина, новые девушки уже представили в ходе истории достаточно доказательств, что их род древней и долговечней, чем род валетов, имеющих всего полтела, или жирных тысячелетних королей.
Тем самым Бретшнейдер положил начало теме, совершенно неизбежной в этот вечер: теме всемирной и всевременной, теме великой и здоровой долговечности нашей жизни, которая не способна множиться на благо сущему иначе, как под мирными звездами нашего прихода, пребывания, ухода. Доктор Глессин попутно занимался своим любимым делом. В белой рубашке без пиджака, сером жилете и зеленом фартуке сидел он в своем старомодном кресле и что-то вырезал из биллиардных шаров слоновой кости. Присущая ему обычно некоторая невзрачность сегодня придавала его облику что-то от старческой мудрости китайца.
В своей одинокой спальне вдовец отвел целую стену под предметы, составлявшие его страсть, — прежде всего под цветы и безделушки, а также под различную столовую утварь, выполненную слишком художественно для повседневного употребления. Но после того, как внучек явился на свет и вошел в тот возраст, когда на слова «пе трогай» не обращают никакого внимания, старик отдал свое терпение и мастерство, свой ножик и долото кукольным головкам, которые вполне могли быть использованы по прямому назначению.
В кукольном театре маленького Петера эти поделки отличались на ролях характерных героев, ибо с честью выходили из самих драматических столкновений. Разумеется, речь идет только о положительных героях, остальные же погибали несколько раз на дню.
Тема не менялась. Бретшнейдер, сидя на банкетке подле тестя, с завидным оптимизмом пытался сделать из двух старых, никуда не годных велосипедных покрышек одну новую. Сшивая разрывы полосками свиной кожи, он заверил собравшихся, что после «шорной обработки» новая покрышка прослужит месяца три, а то и больше, если только Инесс немного укротит свой необузданный темперамент. Инесс, сидевшая рядом с ним и занятая чисткой яблочных паданцев, усомнилась в том, удастся ли ей хоть один раз доехать до больницы после всех усовершенствований… Правда, нужно отдать Гансу должное: он уже много чего обещал в своей жизни и всегда держал слово. Конечно, она уже завтра сможет сесть на велосипед. Даже наверняка. А ездить на велосипеде — значит экономить полчаса времени ежедневно, не считая подметок… Тема не менялась. Хильда укорачивала платье Инесс — она была ростом чуть поменьше. И резиновую вздержку надо было обновить. Инесс встала, сняла с каминной доски одну из стоявших там фотографий, показала ее Хильде. Угол фотографии — как и у всех остальных — был повязан черным крепом.
— Мой двоюродный брат Гёц, — сказала Инесс, — для краткости Г. ф. Г. — Гёц фон Глессин. Красивый парень, верно? И романтик вдобавок… Вернулся с войны целым и невредимым и погиб всего три недели назад. Трагически, как нам сообщили. Не знаю, правда ли это. Я могу показать тебе его последнее письмо, где он подписался так: «Ваш племянник, брат и рыцарь печального образа». А ниже нацарапан тот самый знак — могильная руна, или черный ангел, как называл его Гёц.
Не поднимая глаз от работы, доктор заметил, что до сих пор ему кажется невероятным нарушением всех традиций, как это он, именно он, черная овца в роду, пацифист, отпрыск саксонских Глессинов, живым выбрался из такой заварухи. Согласно традиции, должен был уцелеть не он, а какой-нибудь воитель. Ганс Бретшнейдер, не хуже любого шорника орудовавший шилом и двумя иглами, не переставая сучить дратву, попытался рассказать о своей семье: он справедливо опасался, что, начав повествование о саксонской ветви дома фон Глессинов, тесть заведется надолго…
…Прусский ротмистр Готхельм фон Глессин потерял под Росбахом глаз, под Кунерсдорфом три пальца правой руки, а под Торгау чуть не умер от медвежьей болезни; загадочным образом поумнев от этих передряг, он под Фрейбергом в правление принца Генриха вышел в отставку и женился на девице аристократического происхождения. По счастливому стечению обстоятельств родные братья вышеупомянутой девицы оттягали у нее наследное поместьице, и почтеннейший Готхельм, будучи человеком одноглазым и беспалым и не желая умереть с голоду от королевских щедрот, начал подыскивать какое-нибудь прибыльное занятие. За время пребывания в лазаретах Готхельм кое-чего понабрался у фельдшеров, а потому, как тарлатан по призванию, если можно так выразиться, провозгласил себя хирургом и не без труда положил начало саксонской ветви, ветви медиков, каковая в лице своего последнего представителя, то есть в моем лице, пережила прусскую ветвь — военную — и будет продолжаться впредь, но уже не в Глессинах, а в Бретшнейдерах, не в блюстителях здоровья, а в блюстителях порядка…
Больше всего Бретшнейдер опасался, как бы последний из Глессинов не вздумал, чего доброго, развивать перед слушателями свою безумную идею, согласно которой вся немецкая история, точнее естественный ход ее, была бы несравненно более благоприятной, если бы государственная власть сосредоточилась не в Пруссии, а в Саксонии.
— В нашей семье, — удалось наконец вставить Бретшнейдеру, — можно различить целых три ветви, как-то: столяров, наборщиков и табачников. Выпадали периоды, когда все эти три ветви сливались в единую ветвь безработных. Но и тогда семья но была монолитна, ибо большая часть ее — увы! увы! — принадлежала к ветви ревизионистов… Впрочем, ты прав, тесть: традиции действительно нарушены. В нашем роду, например, ревизионисты вымирают — такова отличительная черта его развития. Словом, я считаю, что нашим семьям есть чем гордиться.
Доктор промолчал и подумал: «Сделаю-ка я школяру, чья голова сейчас у меня в руках, нос крючком, точно такой, каким украшено лицо моего любезного зятя».
Инесс снова поставила фотографию на камин.
— Гёца я не дам в обиду, — сказала она. — Он был славный парень. Вот только история с Лизелоттой доконала его. Он не смог все это пережить, ему это было не по плечу. Вот ты способен себе представить, — она повернулась к мужу, выказывавшему явное неодобрение, — что испытывают люди, которые слишком поздно узнали, где правда? Тебе хорошо говорить — у тебя есть твой отец, у меня есть и мой отец и твой. А кто был у Гёца? — И не дожидаясь ответа на свой вопрос, обратилась к Хильде: — А кто есть у Руди, у твоего больного? Что представляет собой его отец?
И Хильда принялась рассказывать о Пауле Хагедорне. Из нескончаемых домашних разговоров она знала, что послужило причиной разлада между Паулем Хагедорном и Эрнстом Ротлуфом.
Но предоставим слово оратору по имени Теперь, и пусть он расскажет о том, чего еще не знает Хильда. Ибо теперь, в настоящую минуту, Пауль Хагедорн говорит нежданному гостю Эрнсту Ротлуфу:
— Уже в конце тридцать второго я потерял всякую надежду. Мы голодали, я лишился пособия; ходил на городские работы, дробил камни и получал меньше двадцати марок в неделю, а Дора ждала третьего в конце января — начале февраля. Да тут еще рождество на носу. К рождеству мы всегда придерживали про запас талоны и кое-что покупали со скидкой в потребительском кооперативе. Но на этот раз мы пх использовали за месяц до рождества. Крысы дрались у нас под столом из-за крошки хлеба. У соседей, у дочери Пауля Герике, крыса отъела ухо грудному ребенку. Ты ведь помнишь, в какой дыре мы тогда жили…
— А мне, думаешь, было лучше? Разве я не за ту же плату, не при той же погоде дробил камни? Правда, жилье у меня было поприличней, чем у тебя, это верно. Да разве только в жилье дело? На ноябрьских выборах в рейхстаг мы отобрали у нацистов два миллиона голосов, стало быть, тридцать четыре мандата. Единый фронт мог доделать остальное, если бы, эх, если бы…
— Я всегда голосовал за красный список, Эрнст, и в тридцать втором тоже. Твоя правда, вы получили тогда сто мест в рейхстаге, но ведь у нацистов-то все еще оставалось сто девяносто шесть…
— Зато сколько было бы у нас вместе с социал-демократами, а, Пауль? Да от нацистов бы мокрого места не осталось, если бы, эх, если бы… Твой голос немало значил в профсоюзе, на тебя глядели рабочие всего города, ты был не из тех, кого можно подкупить, был — до того дня…
— Это произошло в субботу за две недели до рождества. Дора вернулась от доктора Хольцмана. Доктор Хольцман, член магистрата от социал-демократов, просил меня зайти к нему в понедельник, до приема или после.
— И предложил тебе место помощника дорожного смотрителя и казенный домик. Тридцать семь марок в неделю и старую развалюху.
— Все лучше, чем наша дыра…
— А что Хольцман потребовал взамен?
— Ну, не так уж напрямик, как ты думаешь. Хольцман был не такой уж дурак, чтобы с места в карьер потребовать: саботируй, мол, Единый фронт, и все тут. Он просто хотел оказать мне любезность. Даже не столько мне, сколько Доре. А про Единый фронт он вообще ни словом не обмолвился. Он сказал только, что Гпнденбург терпеть по может этого богемского ефрейтора. И что, если Гитлер заберется все-таки на канцлерское место, обнаглевшие нацисты в два счета опозорятся. Месяца не пройдет, как они прогорят по всем статьям и утратят последние крохи авторитета. Вот что сказал мне Хольцман…
— А то, что втолковывал тебе я, ты забыл, начисто забыл… Попался на удочку, как миленький… Первого мая тридцать третьего сбегал с утра пораньше на демонстрацию, а после обеда принялся белить свой дом и с тех пор был тише воды, ниже травы. Дора, та хоть о Фридель заботилась. А ты и здоровался-то с ней сквозь зубы. Вот и докатился в сорок первом: всегда голосовал за красный список, а поклонился в ножки коричневым. Не понимаю, Пауль, не понимаю и никогда не пойму, как ты мог вступить в нацистскую партию… Что они из нас из всех сделали!
— Кремер, нацистский бургомистр, однажды вызвал меня к себе и сказал, что раз я держусь молчком, стало быть, я разлагающе действую на рабочих коммунального управления. А ты понимаешь, что это значило в те времена?!
— А что сейчас делает его отец? — спрашивает Ганс Бретшнейдер. — Теперь-то он хоть разобрался, что к чему?
— Пока еще нет, — ответила Хильда, — но, вероятно, скоро разберется, а пока он по возможности избегает встреч с новым бургомистром. О политике и слышать не желает. Он бы опять устроился чулочником к Хенелю.
Эрнст Ротлуф предлагает:
— Если хочешь, Пауль, можешь снова устроиться рабочим коммунального управления, в отдел канализации. Вода и всякая жижа что ни день бьет из-под землн в двадцати местах. Разве ты не видишь? Эх ты, дорожный смотритель.
— А как насчет дома, бургомистр?
— Лучше скажи, согласен или пет?
Дора, молча слушавшая до этой минуты, больно пнула мужа ногой под столом. Сегодня к ним приходила Фридель рассказать про Руди, но ее сообщение никого не встревожило, уж очень у нее был возбужденный и сияющий вид, словно она пришла пригласить их к себе на свадьбу. Дора была от всей души благодарна Эрнсту. Потому и Пауль молча кивнул и потер ушибленное место.
На письменном столе резного дуба с «пылесобирателем» зазвонил телефон. Просили не доктора — доктор и данную минуту проводил сравнение между собой и своими рейффенбергскими коллегами и был вынужден, да, да, вынужден сделать некоторые сравнения не в пользу последних. Просили Бретшнейдера. Ему звонили со службы.
— Где. где? В Стендале? Что ж, тогда можно завтра устроить очную ставку. Ну пока, Фриц, спасибо!..
Бретшнейдер побывал у Руди еще вчера. Ему удалось напомнить пострадавшему, который лишь урывками приходил в сознание, об ударе дубинкой и получить достаточное описание примет преступника: «…белобрысый такой, над правым глазом нет брови… в «Веселом чиже»… дубинка…». Тот белобрысый не был для полиции таинственным незнакомцем. Вчера Бретшнейдер не стал ничего рассказывать. Он не любил говорить дома про «текущие» дела. Но сейчас сказал, что, должно быть, в дело замешана банда «Перелетные птицы» — это продувные бестии, спекулянты и жулье, а при случае они не брезгуют и разбоем. Когда он перечислил приметы, Хильда даже шитье уронила на колени: нет, нет, едва ли к этому приложил руку белобрысый из «Веселого чижа».
— Он же совсем еще ребенок, ему от силы пятнадцать-шестнадцать лет! Руди показалось. Стычка у нас с ним, правда, была, это точно. Он обозвал нас предателями и хотел со своей бандой наброситься на нас. Но Руди его просто-напросто усадил на землю. Это ведь парнишки из детского дома…
Бретшнейдер снова взялся за шило и дратву.
— Видно, у мальчика отец был нацистом, — сказал он. — Подростки, у которых родители были закоренелыми нацистами, доставляют сейчас больше всего хлопот.
— Мои родители научили меня старым песням, — сказала Хильда. — Мы с братом пели их даже после тридцать третьего. А что толку? Осталась я одна на свете. А старые песни, много старых песен просто вылетело из головы…
Бретшнейдер навощил очередную пить и сказал Хильде:
— У нас в Германии сложилась такая обстановка, что детям надо попристальнее вглядеться в своих отцов…
А еще я вырежу своему школяру рот до ушей, как у моего любезного зятя, — думает доктор. Инесс трогает мужа за руку, в которую он зажал нить. Она прекрасно видит, какое кислое лицо у доктора и как низко склонила голову над шитьем Хильда. Бретшнейдеру не понравилось, что жена словно бы урезонивает его. Тем не менее он покорно съел кусок яблока, который она сунула ему в рот. И тем не менее он сказал ей:
— Когда ты впервые положила ко мне на руки нашего малыша, я пообещал ему вот что: «Мой мальчик! Даю тебе слово, что смогу прямо смотреть тебе в глаза, когда мне однажды — надеюсь, это будет в мирное время — придется выйти из игры». Быть может, мой отец обещал мне то же самое. Во всяком случае, он до сих пор не нарушил своего слова… Учеником наборщика я поступил в вечернюю школу, кончил ее, побывал и в гитлерюгенде и, однако же, ухитрился не забыть, где лево, где право, и знал, куда мне надо идти, когда попал на Восточный фронт. Этим я обязан своему отцу. Но я, как видно, в числе исключений. Когда я слышу рассказы о твоем двоюродном брате, Инесс, или о вашем приятеле, Хильда, это проходит мимо меня, будто я слушаю какие-то средневековые притчи. Мне и на службе часто говорят, что меня слишком заносит. А я отвечаю: это у меня, товарищи, от отца и от матери, это они произвели меня на свет и даровали мне жизнь, да еще по крайней мере два года лишку. Ведь я уже в сорок третьем сам себе вручил дар свободы. — Ганс вдел навощенную нитку в игольное ушко и, прищурив глаза, продолжал: — Вообще-то говоря, свободу измеряют не но часам и не по календарю. Ее нельзя измерить, ибо свобода наших дней чересчур насыщена, чересчур бурлива и прекрасна. Я отвечаю товарищам: чего вы, собственно, хотите, ведь два года — это шестая часть «тысячелетнего» рабства. Если исходить из такого расчета, я обскакал вас на сто шестьдесят шесть лет. А вы говорите, что меня заносит. Только мне позарез надо обзавестись надежным укрытием, иначе меня вместе с моим стошестидесятишестилетним преимуществом того и гляди прихлопнет шальная пуля, папка для бумаг, картуз, бумажное ядро…
И еще я вырежу своему школяру прищуренный глаз, школяры хитрый народ, любят забегать вперед своего времени и подглядывать из-за угла. Уж они-то знают, что хорошо и что плохо, и осведомлены о расположении Элизиума не хуже, чем мы, врачи, — о курортах для сердечников.
— Видишь ли, зятек, — начал доктор, — я уже достаточно стар, чтобы без зависти наблюдать, как ты с завидным умением, петляя, продвигаешься вперед… — Он отложил работу, очки поднял на лоб и устремил на зятя пророческий взгляд подслеповатых глаз, — Вот уже тридцать лет, — продолжал доктор, — я причисляю себя к поколению немецких потомков Кассандры. Не спорю, нашим тихим зовам в ночи не удалось породить сколько-нибудь заметное историческое эхо. Но даже теперь, когда забрезжило утро, когда наш брат отчетливее видит, до чего мы все поросли мхом, и слышит, как люди, подобные тебе и твоему отцу, распевают гимны в честь утра свободы над Германией, Кассандре еще рано умолкать. О вы, строители нового, не забывайте про полнейшую внутреннюю опустошенность людей. О ней свидетельствует судьба нашего Гёца, о ней свидетельствуют такие документы, как это, будем надеяться, и в самом деле перечеркнутое письмо. Обузданное и заточенное чудище воины даже сквозь решетку камеры изрыгает свой яд в лицо уцелевшим. И вот молодые люди, будущее поколение отцов, начинают откапывать давно погребенные и забытые представления о гуманистических ценностях жизни и просвещения. И что же? Откапывают и, увидев, отворачиваются, ибо перед ними — гниль.
Бретшнейдер поспешил предупредить грозящую паузу, тягостное молчание Кассандры.
— За время учебы в антифашистской школе я не обнаружил никакой гнили. Порой они там слишком вдавались в философию, норой мне приходилось изрядно попотеть, но сам предмет всегда оставался прекрасным и свежим, как в первый день творения…
Доктор решил не сдавать позиций слепого прорицателя.
— Существует опасность, — вещал он, — что те, кому ударит в нос и в голову запах мнимой гнили и которые притерпятся к нему — число их, с исторической точки зрения может быть весьма значительно, — либо впадут в безобидную дурь снобизма, либо, как истые немцы, забьются в глухие закоулки своей обиды, где пронзительней, чем хреном, разит мифами, кровью и порохом. Мы уже прошли однажды через все это.
Бретшнейдер возразил с жаром:
— Это только ты так думаешь, дорогой тесть. Я допускаю даже, что ты прав со своей точки зрения. Но я моложе тебя годами и моложе исторически. И я считаю, что у нас достанет свежих ценностей, чтобы без угрызения совести замуровать древние катакомбы просвещения…
— Ох, зять, зять! Что подумает о тебе ребенок… — доктор снова насадил очки на нос, поднял за уголки фартук, закатал туда инструмент, обрезки, недоделанную голову школяра из слоновой костп и встал.
Инесс распустила завязки у него на спине и сняла фартук вместе со всем добром. В своей обычной резковатой манере она сказала, что пусть лучше Ганс ищет надежное укрытие среди своих товарищей по работе и не воображает, будто такие выходки сойдут ему с рук дома. Хильда видела, как Бретшнейдер быстро глянул на жену и безропотно проглотил ее по-кошачьи свирепый взгляд. А доктор подошел к книжному шкафу.
— Мне хотелось бы сделать небольшой презент автору письма. Или — назовем его подобающим ему именем — отцу вашего ребенка, — сказал доктор Хильде. Затем он распахнул стеклянные дверцы, высокие и узкие, и обратился с речью к книгам. — Не хлебом единым жив человек. Избавиться от страха — значит взять на себя ответственность. Страх пригибает человека к земле, под грузом ответственности крепнут его плечи. Человек, который берет на себя ответственность, ходит распрямив спину…
Он извлек толстый том из аккуратного ряда книжных корешков, придвинул к письменному столу стул с высокой негнущейся спинкой, не спеша снял колпачок с авторучки и сел, чтобы сделать надпись на книге. Бретшнейдер попросил Инесс, которая между тем занялась уборкой, включить электрическую печь, стоящую в топке ложного камина. Чтобы у «деда» не озябли ноги. Инесс повиновалась, но доктор, не вставая из-за стола, пробормотал, что, мол, спасибо, не стоит. Затем он вручил книгу Хильде «в собственные руки». Это был высоко им чтимый Ромен Роллан — «француз до мозга костей, друг человечества вообще и даже немцев — в частности».
— Я написал отцу вашего ребенка несколько слов по-латыни. Надеюсь, он поймет их и переведет вам и вашему ребенку на обиходный немецкий. Это очень старое изречение. В одном-единствениом слове я позволил себе несколько схитрить ради большей ясности. — Доктор улыбнулся. — Скоро ему разрешат читать. А если это не подействует, ткните его носом — так у вас и пойдет: слово за слово, зуб за зуб.
Зять попросил доктора еще немного посидеть с ними. Но последний в роду Глессинов лишь улыбнулся мудрой улыбкой старого китайца и перекинул через плечо узелок с недоделанным школяром. Пожелав всем доброй ночи, он вышел, и в кабинет донеслись слова детской песенки, которую он не то пропел, не то пробурчал себе под нос: «…он встряхнулся, встрепенулся и мешочек сбросил с плеч…»
Хильда долго разглядывала посвящение и, разумеется, не поняла ни единого слова, кроме написанных по-немецки: «…от незнакомого вам доктора Фридриха фон Глессина». Инесс заглянула ей через плечо, но тоже не сумела с ходу перевести латинскую фразу. Она оказалась далеко не такой простой, как фраза типа ora et labora — молись и трудись — и тому подобные, общеупотребительные и по большей части стершиеся истины, к которым охотно прибегает полупросвещенная развязность, чтобы прослыть вполне просвещенной. Инесс взвалила перевод на мужа, а чтобы он не сопротивлялся, решила подольститься к нему.
— Я же помогала тебе в латыни, когда надо было, а ты меня наставлял в немецком, «честном и ясном», как ты выражался. Разве ты не пообещал мне еще тогда, дорогой Гансик, что отныне и впредь будешь помогать мне в «честном и ясном»?
Бретшнейдер, словно пораженный бумерангом, кряхтя и стеная, взялся за нелегкий труд, хотя логические построения Инесс и оставляли желать лучшего. Пришлось потревожить «старого Георга» — школьный словарь латинского языка — и даже заглянуть в грамматику. Бретшнейдер стонал, Инесс хихикала:
— Это и называется вскрывать замурованные катакомбы.
— Между памп, девушками, кто такая эта Лея, которой адресовано письмо? — поинтересовалась Инесс.
Без неприязни и без трепета рассказала Хильда все, что о ней знала. Но, рассказывая, ни на йоту не отступила от того, до чего «смогла, наконец, докопаться».
— Можешь мне поверить, он до конца своих дней будет бегать за этой Леей и не сводить с нее глаз. Я не стала бы возражать, не будь я уверена, что он бегает за призраком. — Эту мысль Хильда смогла развить очень толково. — Ведь она вернулась задолго до нас. И даже не спросила о нем ни разу. Если б это была настоящая любовь… Вот ты скажи мне, Инесс, разве ноги сами не привели бы тебя к тому, кого ты любишь, к тому, о ком ты думала на чужбине?..
Инесс с ней согласилась, однако не могла удержаться от упрека:
— Если между мной и тем человеком, которого я люблю, встанет какое-то препятствие — ну, скажем, другая женщина, — я для начала припру Гансика к стенке и потребую: «А ну-ка, ответь, что мы пообещали друг другу и чего я, я не выполнила?» Не ответит, пойду к той, другой, чтобы узнать, чего я, я не выполнила. Если и от нее не будет никакого ответа, кроме слов ревности, я возьму детей, а его со всем барахлом выгоню из семейного храма. Тогда вина будет на нем, правда ведь?
— Кошмар, — простонал Бретшнейдер.
— Почему ты не пошла к этой Лее и не поговорила с ней честно и ясно, без всяких антимоний, как это водится?
— Я?.. Да разве я…
— Видишь ли, сестричка, я так и думала, что поставила правильный диагноз. У тебя одно из опаснейших для женщины заболеваний — ты тихоня, уж поверь мне… — Хильда отпрянула словно от удара, а Инесс продолжала наседать на нее еще беспощаднее.
— Ты, видно, считаешь себя хуже других? И до сих пор думаешь, что среди людей существуют высшие и низшие. И до сих пор чувствуешь себя батрачкой. Золушкой, одушевленной подстилкой? Эх ты, Хильда, сестричка…
Хильда проглотила слезы и спаслась на единственный надежный островок среди этого половодья слов:
— Пусть он скажет «да» или «нет». Он должен знать, чего он хочет. «Да» или «нет». Вот как я думаю, Инесс.
Там, возле разбомбленного домика, островок был надежным и прочным, но дождливое утро поколебало его прочность; под кустом бузины из него пробились всходы неясных желаний. А теперь волны упреков заливали его берега.
— Вот как я думаю, — тихо повторила Хильда.
— То-то и оно, что слишком долго женщины думали по-твоему. Откуда же взяться счастливой любви, счастливой семье, если женщины чувствуют свою зависимость от мужчины? Ворожат и так и эдак, а толку чуть. Поначалу все как будто идет гладко. Через семь лет совместной жизни наступает критический момент, муж начинает считать себя вьючным ослом, который вывозит на себе весь груз ответственности, жена, естественно, чувствует себя погонщицей, а счастья нет как нет. Мне же нужен муж, чтоб любить его, а не осел, чтоб его погонять. И скажу тебе… — Инесс вплотную придвинула свою банкетку к вольтеровскому креслу, в котором томилась Хильда, и шепнула ей на ушко: — Скажу тебе по секрету: иногда мне хочется почувствовать его силу… — и совсем уже неслышным шепотом: — А ему мою…
Ну к чему были Хильде эти доверительные, эти счастливые признания? Ей они только причиняли боль.
— Я могла бы стать учительницей рукоделия, — сказала она. — Как ты думаешь, я бы справилась?
Бретшнейдер застонал и передразнил Хильду:
— Как ты думаешь, я бы справилась?
Инесс и Хильда решили, что это латынь заставляет его стонать и что он уже готов сдаться, недаром же он захлопнул учебники и, подойдя к ним, стал против Хильды.
— Девушка из замка! — воскликнул он. — Девушка из замка! Ты грешить перед отцами своими. Хильда! Да кто же ты, наконец? Кто мы все? Мы — освобожденные люди, вот мы кто… — Он больно схватил ее за плечи. — Девушка из замка, рабочая косточка! Пойми, наконец, кто ты такая!.. Боже милостивый!.. Ну перестань же смотреть в одну точку, девочка!..
Кто-то уже сказал это однажды? Герберт Фольмер сказал это еще тогда, на чердаке, у Лизбет. Но глаза у него были другие… Нет, точно такие же… Ясный, надежный небосвод раскинулся над Хильдой, самый человечный небосвод — доверие.
А Инесс смеется-заливается:
— Говорила я тебе, сестричка, не стреляй глазами в моего Бретшнейдера — в моего хвастунишку, в дамского угодника, а то он сразу расчувствуется…
Ганс отпустил Хильду и схватил жену за руку.
— У, в-ведьма, я еще поговорю с тобой в другом месте! — грубым рывком, как и положено настоящему полицейскому, он притянул к себе хохочущую и сопротивляющуюся жену… по не поцеловал. И Хильда увидела, как Инесс заливается жарким румянцем до корней своих вызывающе белокурых волос. Бретшнейдер смутился и стал оправдываться:
— Уж и пошутить человеку нельзя, тут все свои…
В этот вечер они еще долго разговаривали. И, право же, совсем неплохо отзывались о том, кто все время незримо присутствовал в их разговоре, об авторе письма, об отце ребенка, из честности не говорящем ни «да», ни «нет». Кстати, Бретшнейдер одолел заданный ему перевод и сказал, что его любезный тесть не более как старый и мудрый плут и что достаточно хорошенько поскоблить его, чтобы обнаружить под верхним слоем «строителя нового».
Много позже, когда Хильда собралась погасить лампочку над своей постелью, ой снова вспало на ум посвящение доктора. Хильде постелили в комнате Петера. Мальчик лежал в своей кроватке и спал крепким, безмятежным сном, как снят все мальчики его возраста, лежал на боку, зарывшись щекой в подушку, кулачки разжал, словно уже во сне протягивал руки к грядущим светлым дням. И прежде чем погасить лампу, Хильда шепотом повторила слова доктора:
«Храни везде и всюду лик жизни, и ты не так уж плохо кончишь свои дни…»
Да, но какой лик жизни он имел в виду?
Глава восемнадцатая
«Как мне увенчать мой мир?» — спросил поэт. «Придай форму своему миру», — ответил гончар.
Дольше обычного горел в эту ночь свет у Ярослава Хладека в Праге. Хладек писал Лее Фюслер:
«Возможно, я остался в долгу перед тобой. Мы не допели наш разговор до конца. И это прежде всего моя вина. Я принадлежу к числу тех людей, до которых самое главное доходит лишь после того, как они, выйдя из дому, захлопнут за собой дверь и присядут на скамейку. И поскольку ты все равно считаешь меня чудаковатым шутом, я позволю себе все знаки Морзе, которые дошли до меня за это время, слить в единую шутовскую мажорную тему и слегка поимпровизировать. Итак, дорогая Лея, я хотел бы в нескольких словах воспеть немецкое это — прекрасное, поэтическое словцо, которое во всем своем многообразии присуще лишь немецкому языку и на котором немцы с незапамятных времен замешивают свой хлеб. Такова приятная сторона моих наблюдений. Но я не позволю себе умолчать и о большей, неприятной стороне, не позволю себе удержаться от неприятных сравнений. Особливо со времен немецкой романтики прекрасное, поэтическое словцо в буквальном или переносном смысле носится в воздухе, подобно бацилле, возбуждая такие духовные недуги, как двусмысленность, красноречивый сумбур в головах, насморочное косноязычие. И в этом своем обличье оно дорого обошлось немецкому народу, который его, с позволения сказать, вожди пре-про-вожд-али к духовному оскудению. Не без помощи этого словца, принимаемого бездоказательно и, стало быть, на веру, значительную часть немецкого народа совершенно оглупили. В переводе на воровской жаргон гитлеровцев словцо это означает: провидение. И как своего рода религиозное миропонимание, оно поразило также и тех, кто никогда не был и никогда не будет хорошего мнения о господине Гитлере. Да ты и сама обыгрывала это словцо, когда стояла у окна: это к нам… это не к нам…
Я мог бы умножить число примеров. Но какой смысл вкладываешь в словцо ты, я так и не узнал. Я могу только строить предположения. Почему ты так часто выходишь из рамок? Почему ты обратила в бегство этого паренька, этого Руди? Почему вдруг принялась чернить память Коры? Разве ты не была всем сердцем предана ей, как младшая сестра старшей? Я уж испугался было: а вдруг и ты, и другие молодые немцы настолько духовно оскудели, что ваша надежда, ваша любовь, ваше доверие к людям навсегда обескрылели? Я уж испугался было: а вдруг вы отчаялись в надеждах, возненавидели любовь, усомнились в доверни? Я уж испугался было: а вдруг вы все поголовно считаете себя последним сбродом? Но теперь, вызывая в памяти наши разговоры, я прихожу к выводу, что и у тебя и у других все это не так страшно, как кажется и как вы сами намерены представить. Я наблюдал стремление противоречить всему тому, что внесено в вас бездоказательной философией зауми. Наблюдал это стремление и у тебя: цветы горошка над листьями ириса, кокетливая пола и разговоры о диких грушах, ненависть к палке-ходилке, палке-вздыхалке, то есть видел за твоей неопределенностью вполне реальные предметы и понятия: Москва и Париж, допотопный автомобиль, на котором разъезжает прошлое, самолет, несущий атомную бомбу. Реальные вещи ближе тебе, чем нереальная заумь. И когда я вижу это здоровое противоречие, я надеюсь: придет день, и ты поймешь, что предметы — вещи, о которых ты так много рассуждаешь, — существуют не «в себе», а для нас.
Немало повидал я в теперешней Германии людей, на чьих лицах можно прочесть страшную надпись: все это не имеет больше никакого смысла. И немало людей, которые своим видом говорили: все это еще может хорошо кончиться. Я видел противоречие…
В Дрездене я случайно встретился еще раз со старшим лейтенантом Гришиным. Мы долго толковали с ним о подавленности немцев и об их противоречиях. Он сказал, что читает на множестве юных лиц, как они изголодались по хлебу, по работе, по доверию. Нужно только сорвать с этих лиц въевшуюся в них маску — высокомерную маску, под которой таится их духовное оскудение. Другими словами, надо сперва досконально разобрать каждого немца всеми пятью чувствами, а потом уже судить о нем разумом. И он процитировал — как мне показалось, с горечью — мысль, высказанную чуть не сто лет назад: «Пора уже коммунистам перед всем миром открыто изложить свои взгляды, свои цели, свои стремления и сказкам о призраке коммунизма противопоставить манифест самой партии». Вот где противоречие: это написали немцы, за это боролись немцы, боролись, избирали себе в удел подполье, колючую проволоку, эмиграцию, смерть. И если ты сейчас внимательнее приглядишься к тем силам, которые оберегают тебя, ты увидишь, что и для тебя еще не все потеряно.
Но поскольку я нс рассчитываю, что ты одним махом произведешь меня из разряда примитивов в разряд знатоков, я позволю себе разыграть маленькое скерцо в тон же мажорной тональности, прежде чем перейти к коде. Итак, позволь мне отослать тебя к весьма своеобразному немецкому мыслителю, которому были особенно близки все предметы и явления, пусть даже на озорной лад. Речь идет о рожденном в земле Саксония, в горах Эльм, в деревушке Кнейтлинген от Анны Вибекен великом супротивнике беспредметной немецкой эстетики, величайшем знатоке жизни, о Тиле Уленшпигеле. Надеюсь, ты еще не забыла, как он явился в Прагу и объявил себя великим мастером отвечать на такие вопросы, каких другие великие мастера, сбитые с толку словцом это, даже уразуметь не могли.
…И вот на другой день, как рассказывают, собрались все магистры и прочие ученые. Пришел и Уленшпигель и привел с собой трактирщика, да несколько добрых собутыльников, да несколько горожан — на случай нападения со стороны студентов.
И ему велели забраться на кафедру и отвечать на предложенные вопросы. И ректор задал ему первый вопрос. Уленшпигелю предстояло не только ответить на него, но и доказать, что ответил правильно.
— Сколько это в море воды?
Если же он не сумеет понять вопрос и дать на него правильный ответ, то его ославят и покарают как неуча и осквернителя науки.
Но Уленшпигель ответил, не моргнув глазом:
— Почтеннейший господин ректор! Повелите остановиться водам, которые со всех сторон бегут в морс, и и вам это живо измерю и докажу, что говорю правду, дело это нехитрое.
Конечно же, не во власти ректора было остановить воды, и потому ректор отказался от своего вопроса, а Уленшпигелю не пришлось мерить поду.
И ректор задал ему второй вопрос:
— Скажи мне: сколько это дней от Адама и до нашего времени?
Уленшпигель ответил без запинки:
— Всего семь дней, ибо пройдут одни семь дней, начинаются семь других. И так это будет до конца света.
И ректор задал ему третий вопрос:
— Середина земли — где это находится?
И Уленшпигель ответил:
— Да это же здесь! Мы стоим как раз на середине земли. А чтоб вы поверили, что это правда, прикажите измерить землю с помощью бечевки, и если окажется, что это не так, значит, я не прав.
Но ректор ничего не стал измерять, он поспешил отказаться от своего вопроса и в превеликом гневе задал ему четвертый:
— Далеко ли это от земли до неба?
— Близехонько! — ответил Уленшпигель. — Когда на небе разговаривают или кричат, на земле все слышно. Вот вы поднимитесь на небо, а я вам крикну, и вы это услышите. А если нет, значит, я опять не прав.
Ректор удовлетворился ответом и задал ему пятый вопрос:
— Велико ли небо?
Уленшпигель отвечал:
— Небо имеет тысячу саженей в ширину и тысячу локтей в высоту, никак не меньше. А если вы не верите, что это так, снимите с неба звезды, солнце, луну и перемерьте сами. Тогда вы увидите, что я прав, хоть это вам и не по вкусу.
Ну что тут было отвечать? Уленшпигель на все давал толковый ответ, пришлось ученым мужам признать, что он прав. Впрочем, одолев их хитростью, он не стал мешкать. Он знал, что магистры ему это не простят и отделают его по-свойски. И потому он снял длинное до пят облачение и потихоньку да полегоньку отправился в Эрфурт.
Так мудро повел себя в Праге сын Анны Вибекен, когда Прагу населяли «добрые христиане», как говорится в легенде.
В ответ на все заумные вопросы Уленшпигель предлагал измерить это, чтоб это можно было доказать. И не только здесь проявилась его мудрость: он смылся, чтобы добрые христиане не вздумали отомстить ему за это. Для своего времени он был поистине умный и мужественный человек! И отнюдь не догматик.
Кора, моя милая плутовка, знала всего Уленшпигеля наизусть по-немецки, как Швейка — по-чешски. Она чуть было не убедила и меня, что разъяренных кабанов можно обратить в бегство звуками кларнета. Она говорила, что против гитлеровских и генлейновских фашистов нет оружия лучше, чем шутовская погремушка. Переубедить ее не было возможности. И как дорого она за это заплатила, как дорого! Я долго не решался рассказывать вам и другим людям про крестный путь Коры. Только Франциске я рассказал то, о чем сам узнавал порой из первых, порой из вторых рук. Чувство стыда за себя самого мешало мне говорить об этом. Если бы я сумел хоть немного, хоть самую малость отучить мою милую плутовку от ее невинно-лукавого простодушия, все могло кончиться иначе. Когда гитлеровские орды с шумом и громом вступали в I[рагу, она высунула в окно грязную швабру. И даже мой коллега, Давид Гольдбаум, у которого мы снимали тогда комнату, смеялся над моей тревогой. Я взял ключ от нашей двери и с тяжелым сердцем ушел из дому — так это было договорено с товарищами. Давида забрали всего через три недели и бог весть где бесчестно убили, хотя он четыре года «с честью» прослужил в рядах королевской и кайзеровской армии. А его жена и дочь Мирьям остались, хотя им пришлось нашить на платье желтые звезды. И моя плутовка оставалась там, в большой квартире на улице Юнгманновой. Сколько кабаны ее ни выспрашивали обо мне, она твердила одно: «Он поехал в Эрфурт, он говорил, что собирается в Эрфурт, а больше я ничего не знаю». Дикие кабаны, ничего не добившись, подсадили в дом шпика, на случай если я «вернусь из Эрфурта». Ключ я так и носил при себе. Однажды непроглядной дождливой ночью я отправился к моей плутовке, я больше не мог выносить разлуку, но мне велели не делать этого, меня предостерегли. И это был Карел. Я все равно пошел, но по дороге закинул ключ в Молдову. Это было разумно. Приди я домой, моя плутовка но сумела бы это скрыть. Она выдала бы себя, пусть не словами, но она пела бы и щебетала и насвистывала весь день. А уж шпик бы не просвистелся. У кабанов были свои методы. Когда Кору вызвали на регистрацию и спросили о ее происхождении, она, говорят, ответила, что мать у нее но достоверным сведениям была немкой. Тут уж ничего не попишешь. Сама же она внебрачный ребенок, да будет это известно господам регистрирующим, и до самой свадьбы носила имя своей матери Блей. Очень может статься, что отцом ее был какой-нибудь цыган-лудильщик пли еврей-галантерейщик. Поскольку ее мать, фрау Блей, всегда испытывала живейшее сострадание к этим бедным людям. Но немцы на это не поймались и заорали, как рассказывают соседи-очевидцы, что они не позволят всякому там чешскому и коммунистическому ублюдку их разыгрывать. Мою дорогую плутовку отправили в Германию на принудительные работы. Ее передали какому-то крестьянину — действительно в окрестностях Эрфурта, чтобы поглядеть, не прилетит ли упорхнувшая птичка проведать ее. Там Кора была в безопасности. По кабанья хитрость сократила эту разлуку. Вскоре моя плутовка вернулась домой. В порядке «трудовой повинности» се обязали каждый вечер выступать в казино, куда имели доступ только немецкие офицеры и определенная категория чешской публики, с ариями из оперетт, а также немецкими народными и солдатскими песнями. В эту пору она как будто притихла. А часто прятался по ночам в переулке возле казино. Я видел, как она выходит оттуда. Как она проходит мимо меня. По-моему, я видел даже тени, преследовавшие ее. Как-то раз я угадал в этой тонн жирного немецкого майора, который увязался за Корой и приставал к ней. Я сказал себе: ты не смеешь вмешиваться, не лезь, ты не смеешь, но… нахлобучил шляпу поглубже на глаза… и полез. Слишком поздно: Кора выскочила из своих туфелек и упорхнула босиком. В бессильной злобе распалившийся толстяк принялся топтать ее туфли. Вот тут я испытал, какая это мука — смотреть на кабана, не имея права прикончить его. Нельзя по личным мотивам подвергать опасности себя и остальных товарищей. Эх, будь у меня тогда при себе ключ… С той ночи мы учредили для Коры незримый конвой. Все это взял на себя Карел, подручный пекаря. Не знаю, перекинулся ли он с ней за все время хоть одним словом. Тогда он мне ничего не рассказывал, а спросить у него уже нельзя. Карел любил повторять, что у сорвиголовы нет завтрашнего дня… Но мне кажется, что он с поп все-таки говорил. Дело в том, что однажды я увидел Кору, мою плутовку, в загородном кинотеатре, где подвизался тогда под видом Антона Сивека, киномеханика. Я сразу увидел ее в смотровое окошечко, между двумя аппаратами, поскольку на дневных сеансах бывало очень мало народу и во всем зале я насчитал от силы человек десять. В тот день я крутил, согласно предписанию, их слезливо-лживую стряпню — «Золотой город».
Она села на дешевые места и., когда я выключил свет, сняла с головы шляпку, маленькую шляпку с пером, которую я подарил ей в день ее тридцатилетия. Это было четыре года назад. Я стоял у окошечка, отделенный от пе «кирпичной стеной, стеклом и двадцатью метрами зала, h глядел на нее. По ее волосам, но ее каштановым волосам скользил мерцающий свет «Золотого города». По и нацистский кинообъектив не в силах был оккупировать свет и небо над нашим городом, свет и небо остались при нас. И я видел ее — ее волосы, плечи, родинку, озорную усмешку, морщинки на переносице, когда она, смеясь, морщила нос, ее глаза до краев полные невинно-лукавого простодушия, глаза, которые умели находить великую радость в каждом пестром камешке, ее ноги, которые так любили босиком шлепать по луговым тропинкам. Никогда еще мои глаза не воспринимали ее так отчетливо, как в этот час. Никогда еще она так крепко не прижималась ко мне, никогда еще мои руки не ласкали ее так нежно, кап и тот час. Милый старый Ярош — называла она меня. Если бы холодная стена, подавшись под моим лбом и моими руками, обратилась вдруг в ее живое тело, это меня ничуть не удивило бы в тот час. Но потом я счел бы все это игрой расходившихся нервов, не будь кончики моих пальцев до крови ссажены о стену, не будь обломаны мои ногти. Я думал только об одном: не показывайся ей, ты не смеешь засыпаться, может, ее заставили пуститься по твоему следу… Почему я не зашел к ней в ту ночь? Стоило мне только вздохнуть перед нашей дверью, и она услыхала бы меня… У сорвиголовы нет завтрашнего дня, сказал мне Карел в гот вечер.
Через несколько недель прикончили Гейдриха. В витрине на площади Венцеля было выставлено его разодранное пальто, пальто гаулейтера. Рассказывают, что, проходя мимо, Кора плюнула на витрину. Впрочем, этому я как раз не верю. Зато мне точно известно, что тогда начался массовый угон еврейского населения и жертвами его оказались фрау Гольдбаум и Мирьям. В тот день, когда забрали обеих женщин, моя плутовка должна была петь перед гуннами немецкие народные песни. Я узнал об этом от пианиста, который по вечерам аккомпанировал ей. Я выпытал у него все до мельчайших подробностей. Ибо с этого вечера наша разлука стала неотвратимой, как смерть. Кора вышла на эстраду в черном платье с желтой розой в руках. Свое выступление она должна была начать с песенки «Лили Марлен». И она запела, прижав розу к груди и не дожидаясь аккомпанемента. Она запела, моя дорогая плутовка:
Не знаю, что это такое, печалью душа смущена…
Жирный майор выхватил пистолет. Ах, если бы этот болван не был жалким комедиантом, если бы он не выстрелил мимо, вереща, как старая баба, страдания ее кончились бы на полгода раньше и не у красной кирпичной стены в Терезиенштадте.
Я выпытал у пианиста все, что мог. Он не хотел отвечать, он сгорал со стыда, ибо не успел сыграть те несколько тактов, которые могли ему стоить жизни. Его униженные мольбы о пощаде вызывали у меня омерзение.
В мае я побывал в Терезиенштадте, я повторил путь, по которому в последний раз прошла моя Кора и ее товарищи. Этот путь ведет через глубокий туннель каземата. Там из камер тянет гнилью, словно от проросшего картофеля. Как жадно она, должно быть, вдыхала этот запах. Когда у нас в Карлсбаде, в подполе, весной начинал прорастать картофель, она спускалась вниз и перебирала его. Маленьким ребенком она ходила с матерью работать к крестьянам… Как выйдешь из туннеля, по правую руку будет дверь, стальная дверь в стене, окружающей место расстрела. Там она и увидела страшное, фашистское это в неприкрытой наготе — пулеметы под деревянным навесом, чтобы палачи не промокли, если пойдет дождь… Да, это пришла смерть в обличье живодера из фашистской Германии.
Я не вернулся назад дорогой смерти. Вместе с моей плутовкой я пошел вперед по луговой тропинке, которая начинается сразу за выходом из туннеля и поднимается на холм; она любила ходить босиком по луговым тропинкам, и щебетала, и заливалась, как жаворонок. Разве все мы не любили бродить в мае по луговым тропинкам — Кора, ты, Тео и я? И разве ты не щебетала и не заливалась вместе с Корой? А помнишь, как Тео, мой дорогой наставник, не мог сдержать себя, останавливался посреди дороги и, от восторга подбрасывая шляпу, восклицал:
Трепещет каждый На ветке лист, Не молкнет в рощах Веселый свист. Как эту радость В груди вместить! Смотреть! И слушать! Дышать! И жить![И. В. Гёте. Майская песня. Перевод В. Глобы.]Ах, Лея, если бы ты вновь сыскала путь к прекрасному и четкому немецкому «это», образец которого являет нам природа! Когда ты вместе со всей немецкой молодежью добьешься этого, небо, и земля, и все предметы вновь покажутся вам надежными…»
В конце письма Хладек просил Лею передать привет «гадкому Генриху» и незнакомой ему девушке, «младшей Лизе», которая все потеряла в войну и которую привез в свой дом «гадкий Генрих». Кроме того, Хладек писал, что не станет возражать, если Лея при случае исполнит для Руди и его девушки этюд на заданную им тему.
Когда Ярослав Хладек отложил перо, было уже далеко за полночь — занималось утро первого сентября тысяча девятьсот сорок пятого года.
Здесь было бы уместно для начала прервать наше многоплановое повествование. Ибо то, что следовало сообщить о главных героях для начала, уже сообщено. Двое из них, Хильда и Руди, — хотя об этом нигде прямо не сказано, но это нетрудно предугадать, — достигли того перевала, за которым начнется для них что-то новое и устойчивое. Однако поведать о новом нельзя, не поведав о сотне новых отношений с новыми людьми, о сотне новых обстоятельств и новых связей. В эго утро, когда Хильда, как обычно, зайдет проведать Руди, он первым делом спросит у нее, не может ли она одолжить ему немного денег, потому что у него не осталось ни пфеннига, а он заполнил анкету и хочет ее отправить: «Ты ведь знаешь куда, Хильда?..» Хильда даст ему денег и услышит, как смеется Инесс, и сама отправит письмо на имя Эльзы Поль; а от себя, раззадоренная шуточками Ганса Бретшнейдера, припишет в конце несколько слов. И больше она не станет требовать от Руди окончательного «да» или «нет»! Она сядет на стул у постели и скажет, что, если это будет мальчик, пусть его зовут Рейнхард. Но оба почувствуют, что это по последнее начало в их жизни, что им предстоит начинать снова к снова. А пока Хильда уходит из старого тихого дома и от больничной койки в счастливом ожидании. А это сейчас для псе всего важней.
Для начала она поселится в Рорене у Лизбет и матушки Фольмер, потому что оттуда вдвое ближе до больницы, чем от Рейффенберга. Ведь она намерена бывать у Руди два рапа в неделю. Возле постели Руди она застанет в один прекрасный день все рейффенбергское семейство: мать Руди, отца, младшего брата и сестру, с которыми она еще не знакома, так как Дора Хагедорн, когда настали «тяжелые времена», отдала их в работники по крестьянам. К своему великому удивлению, встретит она в больнице и Эльзу Поль и, дав ей твердое согласие, получит от нее столь же твердое обещание.
А спустя две недели она увидит в руках у Руди письмо Хладека и прочтет его и так же, как и он, вычитает кое-что для себя между последними строчками. Этому письму суждено окончательно извлечь ту занозу, которая еще торчит у нее в сердце. Инесс уже выговаривала ей за то, что она все оттягивает встречу с Леей. И она прочтет собственноручно написанное Леей послание, где та сообщает, что Армии Залигер вернулся в Рейффенберг, что он «ведет себя, как человек, понаторевший в скромности и приличных манерах», прочтет, что сама Лея со своим отцом ван Буденом, «вероятно, на каких-нибудь несколько месяцев» уезжает в английскую зону и что она глубоко раскаивается в своем требовании, «чтобы вы, дорогой мой Гиперион-Варварнон, помирились с Армином Залигером». Теперь он может поступать, как знает. Но Хильда (в отличие от Руди) воспримет это известие весьма хладнокровно. Она решит, что ей этого Залигера опасаться нечего. Его возвращение в советскую зону — так решит она, так решат остальные — говорит лишь в его пользу. Видно, в деле с Гербертом Фольмером совесть у него чиста.
А в конце сентября Руди заедет за ней в Рорен. В доме матушки Фольмер он прочтет, что написал Хладек о «своей милой плутовке». Это письмо прибавит сил матушке Фольмер. Прибавит сил даже Лизбет, которая за это время получила землю из переселенческого фонда и нашла работящего мужа, нигде и никогда не выпускающего изо рта носогрейку. И Руди испытает при чтении какие-то неожиданные, непривычные чувства. Герман Хенне и его жена тоже придут послушать. Хенне больше не думает, что Руди был заодно с капитаном Залигером. Но Залигера, по его словам, он подозревает, как и прежде, и советует, чтобы Руди — в интересах справедливости — держал ухо востро.
А потом Руди и Хильда отправятся в обратный путь по длинному прямому шоссе на Эберштедт. Рука у Руди все еще на перевязи, на нем коричневый костюм Герберта Фольмера, а на Хильде пестрое платье Инесс Бретшнейдер. Там, где сложены штабелем снегозаградительные щиты, они на мгновение остановятся, потрутся лбами, как ягнята, и скажут: «Вот здесь у нас все началось…» А на полях между тем вызрел первый послевоенный урожай. Они подумают про ребенка и пойдут дальше…
Прямое длинное шоссе приведет их на сей раз в актовый зал, где будут вводить в курс дела начинающих учителей. Группа антифашистской молодежи будет петь вместе с Урсулой Богнер. Эрнст Ротлуф произнесет речь о «воспитании истинно демократического, прогрессивного и свободного духа во всех школах и учебных заведениях», Эльза Поль скажет о доверии, которого начинающие ждут от старых учителей и старые от начинающих, о доверии, необходимом, как воздух, как ясное солнце над мирной Германией. Однако кой у кого из старых учителей останутся некоторые опасения, а кой-каким из них в свою очередь не по вкусу придется перспектива работать рука об руку с «людьми, подобранными на улице».
И уже в самом конце профессор Фюслер опишет рукой свободный полукруг, как бы желая пририсовать эпохе грудь кормилицы, и скажет: «Какая бездна надежд…»
WIR SIND NICHT STAUB IM WIND
ROMAN EINER UNVERLORENEN GENERATION
MAX WALTER SCHULZ
Halle 1962
МЫ НЕ ПЫЛЬ НА ВЕТРУ
РОМАН О НЕПОТЕРЯННОМ ПОКОЛЕНИИ
МАКС ВАЛЬТЕР ШУЛЬЦ
ПЕРЕВОД С НЕМЕЦКОГО
ИЗДАТЕЛЬСТВО «ПРОГРЕСС» Москва 1964
Перевод Наталии Ман и С. Фридлянд
Предисловие П. Топера
Редактор И. Каринцева
М. Шульц
МЫ НЕ ПЫЛЬ НА ВЕТРУ
Художник В. Алексеев
Художественный редактор А. Купцов
Технический редактор Г. Каледина
Сдано в производство 1/X-1964 г. Подписано к печати 14/X1-1964 г. Бумага 84×1081/32. Бум. л. 7,9. 25,8 печ. л. Уч. — изд л. 27,3. Изд. 12/2532. Цена 1 р. 52 к. Зак. № 2557. Темплан 1964 г. изд-ва «ИЛ» пор. № 276
ИЗДАТЕЛЬСТВО «ПРОГРЕСС» Москва, Зубовский бульвар, 21.
Типография «Красный пролетарий» Политиздата, Москва, Краснопролетарская, 16.
Примечания
1
Гёте, Сонеты. Перевод С. Шервинского.
(обратно)2
Убирайся к черту, проваливай (лат.) — формула приговора к смертной казни через повешение.
(обратно)3
Мертв (лат.).
(обратно)4
Помни о смерти (лат.).
(обратно)5
Спокойной ночи (исп.).
(обратно)6
Ищите женщину (франц.).
(обратно)7
О, опасно (франц.).
(обратно)8
Наших товарищей (франц.).
(обратно)9
Бог мой (франц).
(обратно)10
Давай, Робер (франц.).
(обратно)11
Смысле (франц.).
(обратно)12
Счастливого воскресения (франц.).
(обратно)13
Бронзовое изваяние (франц.).
(обратно)14
Равнина в Шампани, где в 451 г. римский полководец Этиус разбил войска Аттилы (по названию деревни Каталаунум).
(обратно)15
Военно-воздушные силы (англ.).
(обратно)16
Солдаты (англ.).
(обратно)17
Завтрак (англ.).
(обратно)18
«Аромат любви» (франц.).
(обратно)19
Чепуха (англ.).
(обратно)20
Шесть месяцев назад… госпиталь… понял? (англ.)
(обратно)21
Покажи руки! (англ.)
(обратно)22
Я не кровавая собака, понял? (англ.)
(обратно)23
Огонь! (англ.)
(обратно)24
Подарок ваших товарищей (англ.).
(обратно)25
Одна из благотворительных церковных организаций.
(обратно)26
Разрешения (англ.).
(обратно)27
Современный человек (франц.).
(обратно)28
Джон-праведник (англ.).
(обратно)29
Здесь: на высоте (англ.).
(обратно)30
На ножах (англ.).
(обратно)31
Несносное дитя (франц.).
(обратно)32
Известная американская фирма.
(обратно)33
Следы на песке времени (англ.).
(обратно)34
Человек, обязанный всем себе самому (англ.).
(обратно)35
Сын (лат.).
(обратно)36
Медленно, но не слишком (итал.).
(обратно)37
С богом и и час добрый (лат.).
(обратно)38
Убивать с наслаждением (франц.). Перифраз выражения faire l’amour — любить. — Прим. автора.
(обратно)39
Из бездны (лаг.).
(обратно)40
Идеал калокагатии (греч.) — идеальное воспитание, ставящее своей целью как физическое, так и духовное развитие личности. — Прим. автора.
(обратно)41
Специальное разрешение (англ.).
(обратно)42
Этот господин — ваш друг (англ.).
(обратно)43
Прошу, джентльмены (англ.).
(обратно)44
Мир вам (лат.).
(обратно)45
Даю, чтобы ты дал (лат.).
(обратно)46
Обмолвкой (англ.).
(обратно)47
Пока! (англ.)
(обратно)48
Б. Брехт, Песня солидарности. Перевод С. Болотина.
(обратно)49
Там же.
(обратно)50
Б. Брехт, Песня солидарности. Перевод С. Болотина.
(обратно)51
Любить (франц.).
(обратно)52
Гитлеровские гаулейтеры Мутшман и Заукель. — Прим. автора.
(обратно)
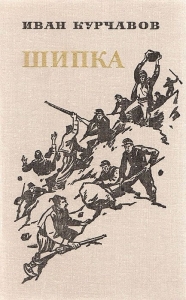


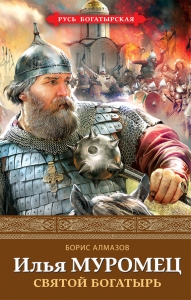

Комментарии к книге «Мы не пыль на ветру», Макс Вальтер Шульц
Всего 0 комментариев